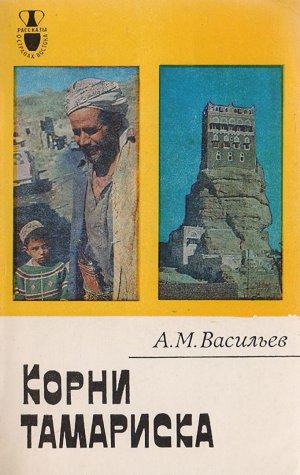
*Редакционная коллегия
К. В. МАЛАХОВСКИЙ (председатель), Л. Б. АЛАЕВ,
Л. М. БЕЛОУСОВ, А. Б. ДАВИДСОН, Н Б ЗУБКОВ,
Г. Г. КОТОВСКИЙ, Р. Г. ЛАНДА, Н. А. СИМОНИЯ
Ответственный редактор
О. ГЕРАСИМОВ
Рецензенты
Е. П. ГЛАЗУНОВ, Р. Г ЛАНДА, П. В ПЕРМИНОВ
© Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука», 1987.
В пустыне на юге Аравии повстречал я деревце тамариска. Низкорослое, неказистое, с мелкими серо-зелеными листьями, оно укоренилось в расщелине между растрескавшихся скал. Я потрогал его теплый ствол и огляделся. Ни малейшего признака воды не было вокруг — лишь черные камни, желтый песок и белесое, словно выцветшее от жары, небо. Но крепок и живуч оказался тамариск, пустивший глубоко в землю в поисках влаги мощные, разветвленные корни. Он не только жил и рос назло мертвой силе пустыни, но и цвел нежно-фиолетовыми цветами.
И я подумал: «А не сравнить ли с тамариском многих людей, к судьбам которых я прикоснулся во время своих путешествий? Они крепки, жизнестойки и могут победить страдания, гнет, нищету, если корни их характеров уходят в толщу народа. Пусть же скромный и непобедимый тамариск будет символом, пусть он станет названием моей книги путешествий по странам Азии и Африки».
ОТ ХАНОЯ К СЕМНАДЦАТОЙ ПАРАЛЛЕЛИ
Многие считают, что Северный и Южный Вьетнам до их объединения разделяла условная линия, совпадающая с семнадцатой параллелью. Это не совсем так. Рубеж проходил по извилистой реке Бенхай. На несколько километров в обе стороны от нее лежала нейтральная зона. На севере к «ничейной» зоне примыкал округ Виньлинь.
Пожалуй, трудно было назвать другой район в Северном Вьетнаме, который подвергался бы столь же яростным бомбежкам американской авиации. Я немало читал и слышал о Виньлине. И мне казалось, что, побывав там, можно лучше прочувствовать и понять великие и трагические события, происходившие во Вьетнаме. Вскоре после приезда в феврале 1967 года в Ханой на корреспондентскую работу я подал заявку в отдел печати МИД ДРВ[1] с просьбой разрешить поездку к семнадцатой параллели.
В начале июня мне сообщили: местные власти и военное командование Виньлиня согласны принять советских корреспондентов.
— Можно ли добраться туда на автомашине? — спросил я своего переводчика товарища Тьена, побывавшего в Виньлине год назад.
— До Донгхоя наверняка. А дальше, несколько десятков километров, скорее всего пешком.
Когда днем я вышел на улицу под убийственное июньское солнце, такая перспектива меня несколько смутила. «Ну ладно, — подумал я, — где наша не пропадала. В конце концов для пеших прогулок есть ночи».
После долгих поисков и хлопот в нескольких транспортных конторах Ханоя удалось добыть два «газика». Один из них, в легковом варианте, предназначался для нас, двух советских журналистов (моим спутником был корреспондент «Известий»), сопровождающего — сотрудника Отдела печати МИД ДРВ Чан Тиен Кана и переводчика. Второй «газик» предполагалось загрузить продуктами, бочками с бензином и другими необходимыми вещами. Неделя на сборы — обязательная каска, термосы, два дорожных костюма, запасная пара обуви, фонарики, батарейки, фляжки, транзистор, фотоаппаратура, «вспышка», записные книжки, москитник. В отдельном ящичке — индивидуальные пакеты, марля, вата, набор медикаментов: различные антибиотики, специальные капли для очистки глаз, мази против всевозможных кожных раздражений, средства против желудочных заболеваний, йод. С собой приходилось брать много провизии и три ящика с минеральной водой — на случай непредвиденных ночевок или, точнее, дневок.
Тьен не смог нас сопровождать в этой поездке — у него разыгрался ревматизм, и нам подыскали другого переводчика.
Два «газика» пока без зеленых ветвей или пальмовых листьев, но уже затянутые маскировочной сеткой; над ветровым стеклом — козырек, чтобы не было отблеска от света луны. Хором тянем песню «От Москвы до Бреста нет такого места…». Уже вечер. Шесть часов тридцать минут. Пора.
С ярко горящими фарами едем по полутемным улицам Ханоя. Редкие трамваи, последние велорикши, тысячи горожан, все так же неутомимо и неспешно вращающих педали велосипедов, неяркие электрические лампочки, мерцающие у входа в магазины. Кимлиен — несколько корпусов гостиницы; здесь сегодня волейбол — наши специалисты против посольства. Каменные дома сменяются бамбуковыми, редкие скверы — рисовыми полями, огородами, и вот уже развалины ханойского пригорода Вандьема, смутно различимые в темноте.
Дорога номер один, пронизывающая Вьетнам с севера на юг, — железнодорожная и шоссейная ось страны.
Фары вскоре пришлось погасить. При тусклом свете подфарников мы увидели город-призрак. Развалины и развалины. Это Фули. Поворот, перекресток. Здесь когда-то был центр города: кинотеатр, кафе, пагода. Сейчас нет ничего. Впрочем, во Вьетнаме руины не остаются долго для всеобщего обозрения. Их затягивает буйная тропическая растительность.
За эту поездку я не видел ни одного уцелевшего города.
Скоро мы свернули с приличного асфальтированного шоссе. Машины медленно шли по дамбе, где участки Дороги без какого-либо специального покрытия затвердели, образовали ребристую поверхность с ямами и ухабами. Стоит немного прибавить скорость — и начинается «езда верхом». Изо всех сил цепляешься за ручку на спинке переднего сиденья, чтобы не швырнуло в сторону, не ударило сильно головой о верх, не вытряхнуло из машины на неожиданном ухабе. Надеваешь пробковый шлем. Удары становятся мягче. На следующий день на плечах и лбу все равно синяки, на голове — шишки.
Неожиданная пробка из десятков автомашин. Эх, если налетят американцы! Я посматриваю на автомашину, груженную снарядами, впереди нашего «газика» и тяжелый бензовоз сзади. Пробка понемногу рассасывается. Трогаемся дальше. Снова «езда верхом» — и снова пробка. Понтонный мост громыхает под колесами, рядом — рухнувшая одним концом в воду чугунная ферма старого моста. Десяток километров сравнительно приличной дороги. Из темноты появляется девушка-ополченка, по-русски повязанная платком, с измученным лицом, но улыбающаяся. Она сигналит фонариком, указывая, что надо остановиться. Перед будкой КПП — красный флажок: движение по новому понтонному мосту открыто с той стороны. Урчат встречные машины. Падает красный флажок, мы трогаемся. Посреди моста, на одном из понтонов, почти под колесами проходящих грузовиков две девушки-ополченки, не обращая ни на кого внимания, уплетают рис из белых тряпочек, положенных в конические шляпы, и весело болтают. Вряд ли можно придумать более универсальный головной убор, чем эти шляпы, плетенные из рисовой соломки. Они спасают от дождя и солнца. Ими можно зачерпнуть воду и напиться, в них можно положить тряпочку с рисом и перекусить. Их используют в жару как веера. Девушки очень кокетливо перевязывают подбородок шляпной ленточкой.
Навстречу идут колонны автомашин, как правило пустых. Они побиты, с измятыми крыльями, покрыты слоем пыли, замаскированы ветками. Иногда нам приходится посторониться и пропускать технику — ракеты, тяжелые орудия, зенитки, радары, кухни. Дороги Вьетнама живут только ночью, днем на них не увидишь автомашин.
Проезжаем мимо тихих деревень, где перед рассветом дороги наполняются легким топотом сотен ног. Женщины и — реже — мужчины в конических шляпах с двумя корзинами на бамбуковом коромысле идут танцующим шагом. Как-то раз пришлось взять это коромысло на плечо, и я удивился: в корзины клали килограммов по сорок-шестьдесят груза, а когда прошелся с ним, понял: коромысло пружинит в такт пружинящему шагу.
Вот и старый знакомый — мост Хамжонг. Я побывал здесь месяца два назад. Снова он показался мне живым, со стальными повязками бинтов, с ранами размером от копеечной монеты до большого блюда. Одна из «кал, клыков «Пасти дракона» (перевод слова «Хамжонг»), между которыми он повис, лопнула от мощного взрыва. Куски больших камней отброшены на сотню-полторы метров. Опрокинутые тела паровозов, искореженные вагоны. Но по мосту идут машины. И это после двух с половиной лет бомбежки!
Въезжаем в Тханьхоа. У какого-то небольшого дома шофер остановил «газик» и выскочил.
— Семья у меня тут, я на несколько минут.
— Если жена, оставайтесь на ночь, мы сами доберемся до гостиницы.
— Нет, жена в эвакуации, здесь одни старики.
Несколько минут в тихом-тихом, как будто совсем безлюдном городе. Я уже бывал здесь. Город стал одноэтажным. Больших каменных зданий почти не осталось. Видим рухнувшее от взрыва тяжелой бомбы крыло госпиталя с явно различимым знаком Красного Креста; расколотый надвое слон валяется перед входом в пагоду Двух слонов.
Прибегает шофер, заводит машину. Едем уже не с подфарником, а с фонариком, спрятанным под мотором. Он освещает дорогу метра на два. Сажусь рядом с водителем и пытаюсь с таким же вниманием вглядываться вперед, в кромешную тьму. Через несколько минут глаза начинают болеть. Вдруг рывок — и машина останавливается в метре от зазевавшейся крестьянки с бамбуковым коромыслом и двумя корзинами огромных грейпфрутов. Как ее шофер успел различить, трудно представить!
Перед рассветом прибываем в так называемый «центр приемов», «гостиницу» под Тханьхоа. Несколько строений под соломенными крышами, сверху неотличимых от обычных крестьянских хижин, чистые постели, тазики с водой, мыло, чистые полотенца, по-европейски приготовленные обеды. Здесь работают те, кто раньше были официантами, поварами, администраторами гостиниц в городе Тханьхоа, сейчас разрушенных.
Отдыхать можно в сравнительной безопасности. В провинции Тханьхоа еще есть деревни, которые не подвергались бомбардировке. Тем не менее под каждой койкой сделан неглубокий окопчик, а во дворе видно несколько входов в бетонированное бомбоубежище.
Вечером снова в путь. Переправа с воронками на берегу, совсем свежими. Небольшой объезд. На некоторых пересечениях дорог установлены указатели, иные даже с подсветкой, невидимой сверху.
Наш шофер Тинь Мань Фунг великолепен: энергичный, выносливый, спокойный, но с мгновенной реакцией. Он постоянно следит, чтобы не отстал второй «газик». В полночь остановились перекусить на траве у дороги: консервы, колбаса, хлеб, чай, вода. Потом по какому-то наитию погасили фонарики, завернутые в зеленый лоскуток парашютного шелка. Через минуту над дорогой пророкотал американский самолет. Первый за поездку. Снова тишина, прерываемая криком обезьян, громким стрекотом цикад, какими-то таинственными ночными звуками. Лягушки квакают низкими, утробными голосами. В темноте над дорогой, над бесформенными кустами вспыхивают искорки светлячков. Из-за облака вышла луна и залила серебром невидимые ранее прямоугольники рисовых полей, покрытых водой. Фунг несколькими ударами тесака рубит крупные ветки и ловкими, натренированными движениями маскирует ими машину, затем вторую. Теперь сверху два «газика» кажутся движущимися кустами или холмиками.
День пока еще не настал, но он придет внезапно — здесь почти не бывает сумерек. Участки хорошей дороги, ожидания на переправах, гонка за уходящей ночью. Сейчас рассветет. Через несколько минут ехать будет нельзя. Скорее…
Различаешь поля. Июнь. Рис почти весь в снопах. Конические, аккуратные желто-серые снопы. На бетонированных токах люди впрягаются в каменные катки и возят их по грудам рисовой соломы — молотят. Женщины, мужчины, дети таскают снопы с полей на тех же бамбуковых коромыслах. Иногда кажется, что идут два больших снопа, человека не видно. Рисовая солома во всех дворах. Пальмы без плодов, тоненькие, в струнку, с веером листьев, которыми здесь кроют крыши, вольно разбежались по полям, холмам, вдоль дороги. Их много в деревнях. Они растут вместе с более коренастыми Кокосовыми пальмами, возвышаются над бамбуком, бананами, грейпфрутовыми, апельсиновыми деревьями. Издали крестьянские хижины почти неразличимы в густой растительности. Если деревни не на склоне холма, то на рассвете, особенно в тумане, они кажутся кудрявыми островками, плывущими над зеленой гладью рисовых полей.
Приходит рассвет, появляется солнце, а вместе с ним немедленно душная, гнетущая жара.
Мы останавливаемся в деревне, где, как нам сказали, в 1940 году было восстание против французов.
Рядом с нарами, покрытыми циновкой, растет хлебное дерево. Можно протянуть руку и потрогать его большие пудовые плоды с шершавой кожурой, свисающие со ствола. А когда повернешься на другой бок, увидишь пять пар черных, любопытных, восхищенных глазенок. Подмигнешь им — в ответ расплываются довольные улыбки.
Во дворе старой деревенской пагоды под навесом из сухих пальмовых листьев мы пьем крепкий зеленый чай и беседуем с очень симпатичным, широколицым, веселым человеком. Он даже производил бы впечатление балагура, если бы не зоркие, внимательные глаза. Это член провинциального бюро партии и член провинциального административного комитета.
— Давайте я расскажу по порядку о положении в провинции, а вы задавайте вопросы.
Мы соглашаемся.
— Нгеан, одна из самых больших провинций Вьетнама, имеет площадь шестнадцать тысяч четыреста квадратных километров и полтора миллиона населения, — рассказывает он. — В ней помимо вьетнамцев около пятнадцати национальных меньшинств. На протяжении трехсот восьмидесяти километров она граничит с Лаосом. Через провинцию проходят дороги номер один — Север — Юг, номер пятнадцать — тоже в меридиональном направлении, номер семнадцать — связывающая Нгеан с Лаосом. Магистраль номер пятнадцать — очень важная артерия в условиях войны, расположена в глубине территории, поэтому она не подвергается обстрелу орудиями седьмого флота США.
— Как отразилось на сельском хозяйстве провинции затруднение транспортных связей?
— Прежде всего нужно было обеспечить население своим продовольствием и не полагаться на поставки из других районов. Мы уменьшили посевы некоторых технических культур, предназначавшихся на вывоз. Максимум площади отдали под рис. Построили плотины в верховьях рек, установили движки для подачи энергии насосным станциям. Сейчас пьем собственный чай и кофе со своим сахаром. До войны все это ввозилось…
Следующий вопрос касался промышленности.
Многие сравнительно крупные для Вьетнама заводы эвакуированы в горы и пущены в ход в огромных пещерах, там, где раньше ночевали черные рыси и гнездились летучие мыши.
В Нгеане сократилось рыболовство, многие суда были потоплены американцами. Уменьшилось производство и рыбного соуса нык-мама — этой необходимой приправы во вьетнамской кухне. Нык-мам делают из особым образом заквашенной и перебродившей рыбы, у него острый, специфический запах, свой, особый, ни с чем не сравнимый вкус. Кажется, нык-мам имеет и большое профилактическое значение. Говорят, он убивает болезнетворные бактерии, которыми изобилуют влажные тропики. Сейчас взамен нык-мама начали делать соус из арахиса, нык-чам. Прежде большая часть арахиса шла на изготовление масла.
Слушая рассказ вьетнамца, я невольно думал о том, что, несмотря на все усилия американцев, экономическая жизнь страны не парализована. Конечно, выпуск предметов первой необходимости на мелких, полукустарных предприятиях гораздо дороже по сравнению с крупным, механизированным производством. Однако минимум предметов первой необходимости жители Вьетнама получают.
— Какие периоды были самыми сложными у вас? — спросил я вьетнамца.
— Пожалуй, очень трудно было в самом начале войны — в апреле — июне шестьдесят пятого. Мы знали, что война приближается. Мы к ней готовились. Но война, особенно с таким сильным, жестоким противником, принесла много неожиданностей. У нас были колоссальные трудности, связанные с эвакуацией населения и предприятий, с транспортом, с организацией службы быта на местах после эвакуации. В первый же год мы провели массовое рассредоточение жителей. Вы знаете, что население города Виня — центра провинции — уменьшилось примерно в семь раз, а всего около двухсот двадцати тысяч человек переселились в горы и предгорья.
Мой собеседник замолчал и начал наливать в чашки свежий чай. Затем он продолжал.
Второй тяжелый период наступил в начале шестьдесят седьмого. Осенний урожай шестьдесят шестого года был плохим из-за нашествия сельскохозяйственных вредителей, болезней риса. Мы ввели жесткую экономию продовольствия, строжайшее распределение. Каждые десять дней бюро партии провинции собиралось, чтобы обсудить проблемы продовольствия. В это же время начался обстрел побережья и дороги номер один кораблями седьмого флота США. С самолетов американцы стали кидать в реки плавучие мины. Это было внове, усложняло обстановку. Однако мы выкарабкались из трудностей…
Когда удлинились тени и чуть спала жара, мы направились к автомашинам. Красное, раскаленное солнце не успело скрыться за пальмовой рощей, а мы уже выбирались с проселочной дороги на шоссе. Едем на юг.
Переправа через большую реку. Наши мандаты и настойчивость сопровождающих пробивают дорогу даже впереди артиллерии. Узнав, что мы — советские журналисты, артиллеристы приветливо машут. Маленький катерок прилепился сбоку к парому. Слева, на борту парома, стоит сапер и руками подает сигналы мотористу буксира. Приготавливаю фотоаппарат и с разрешения начальника переправы делаю несколько снимков со вспышкой.
Спокойно. Налетов вроде не предвидится. Берег. Паромщики соскакивают прямо в воду, закрепляют цепи, поднимают подвижной мостик с парома на берег. Короткий свисток, и машины одна за другой сползают на дорогу. Не медля, идут встречные грузовики. Если завтра этот паром разбомбят, начнет действовать новый.
По дороге из Нгеана в Хатинь мотор машины заглох, и мы остановились, не доехав несколько десятков километров до «гостиницы». Прикрывая фонарики плащами, светим шоферам, копающимся в двигателе. Два часа было потеряно, и, когда стало сереть небо, свернули в первую же попавшуюся деревушку, которая виднелась за прудом, за прямоугольниками рисовых полей, где конические шляпы жнецов и жниц мелькали среди конических снопов риса. Полчаса ушло на поиски местных властей и вот нам уже предоставлены циновки в лучшем доме деревни.
Нары приткнулись прямо к алтарю предков, где в чашечках еще курятся благовонные палочки. На потемневших деревянных досках хорошо различимы вырезанные иероглифы — какие-то изречения или молитвы. На плетенной из бамбука стенке висят семейные фотографии, портреты бравого юноши в морской форме, девушки в белой кофточке. На снимках все улыбаются. Рядом несколько грамот, вырезки из иллюстрированных журналов и таблица Менделеева. У очага хлопочут хозяева, чтобы чем-то угостить внезапно приехавших гостей. Посмотреть на нас собралась вся деревня.
Пришли местные руководители, партийные и административные, старики достали бамбуковые трубки, в которых катыш табаку кладется на одну затяжку, а дым проходит через слой воды. Потекла беседа. Нам рассказывали об урожае риса, о французской оккупации, о недавно сбитом в уезде американском самолете, о делах в школе и больнице, о работе на шоссейных дорогах. Спрашивали «последние ханойские и московские новости». Потом, смущаясь гостей, деревенские девушки что-то пели.
Снова дорога номер один. Иногда ровная, нетронутая. При полной луне машина мчит до сорока километров в час. Но так бывает считанные минуты. Вокруг воронка на воронке метров по семь-десять диаметром. Вздыбленная земля. Некоторые переправы разнесены начисто. Иногда вокруг пятиметрового мостика через ручей можно насчитать несколько сот воронок. Объезд.
После того как миновали только что наведенный понтонный мост, нас остановили. Подбежал юноша в каске, сказал с вежливой улыбкой несколько слов. И вот мы не едем, а скачем по жуткой, ухабистой дороге. Шофер включает свет и выжимает из «газика» все, на что тот способен.
Вцепившись руками в скобу, Кан кричит нам:
— Зона бомб замедленного действия. Их ищут — не могут найти. Они ушли глубоко в землю, их засыпали новые взрывы. Другого пути нет.
Некоторое время спустя я встретил одну из тех, кто выполняет эту смертельно опасную работу, — молодую крестьянку.
— Мы сидели в хорошо оборудованном блиндаже, — рассказывает женщина о своем нервом знакомстве с бомбами замедленного действия, — когда увидели, как на дорогу около моста через ущелье упали пять бомб. Ни одна из них не взорвалась. Бомбежка кончилась, участок дороги был разрушен, а за поворотом беспомощно стояла колонна автомашин. Нужно было выходить работать, но какая-то сила держала нас в убежище. Мне стало стыдно. Я вышла из блиндажа и сделала первый шаг к бомбам… Потом второй. Третий. Бомба пока не взрывалась. Сердце колотилось. Руки дрожали. Но я увидела, как следом за мной вышли еще три девушки. Мы приблизились к бомбам, попытались сдвинуть одну из них с места. Не удалось. Потом бамбуковыми палками перекатили ее на носилки и унесли.
Мы беседовали в небольшой хижине за чашкой зеленого чая, который так хорошо утоляет жажду. За открытой дверью можно было видеть, как на поле с рисовой рассадой четыре женщины ритмично черпали воду из канала. На четырех веревках болтались два ведерка, и женщины забрасывали их в воду, а затем выливали на поле.
А недавно где-то неподалеку четыре другие женщины положили на носилки начиненные смертью бомбы и оттащили их в сторону.
…Мы собираемся уже заворачивать в деревню, где нас должны встречать, как вдруг машину останавливает вынырнувший из темноты человек и что-то тихо говорит нашим сопровождающим. Кан, обернувшись к нам, сообщает:
— «Дом для приемов» прошлой ночью разбомбили. Хорошо, что мы запоздали. Едем в запасную «гостиницу».
Еще полтора десятка километров.
Нас встречают, куда-то ведут в темноте. По лицу хлещут ветки. За одежду цепляются колючки. Дальше тропинка вьется по рисовому полю. Лунный свет, тишина. Издалека доносятся взрывы, и снова тишина.
…Товарищу Нгуен Тоатю, заместителю секретаря уездного комитета партии, сорок семь лет. В прошлом бедный крестьянин, он стал кадровым партийным работником. У него семеро детей, старшие служат в армии. Одет, как и большинство партийных работников, в форменные брюки и куртку, на голове пробковый шлем, на ногах сандалии из автопокрышки, в руках потертый портфель.
Товарищ Тоать рассказывает, улыбаясь, о жизни уезда, вытянувшегося вдоль моря с юга на север. Его бомбят уже два с половиной года.
Нередко бомбы сбрасывают на площади, и гибнет мирное население. Вначале люди спрашивали себя: а можно ли выжить, можно ли продолжать работу в этих условиях? И решили, что можно. На дорогах, мостах, плотинах создали дежурные группы, ударные роты, которые обеспечивают восстановление поврежденных объектов.
По уезду проходят пятьдесят четыре километра дороги номер один, на ней несколько десятков мостов, больших и малых. Некоторые мосты многократно подвергались бомбежкам. Однако движение транспорта не прерывалось. Жители уезда построили много новых дорог — одни из них идут параллельно морскому побережью, другие связывают их вместе. Проложены специальные тропки для пешеходов и велосипедистов. Рядом с большими мостами в замаскированных траншеях заготовлены новые фермы или понтоны. Уезд крепко прошит дорогами, и разорвать их невозможно.
Над этим уездом частями ПВО было сбито несколько десятков американских самолетов. Неразорвавшиеся бомбы и обломки самолетов используются ремесленниками. Мы умывались из дюралевого ведра, сделанного из куска крыла американского самолета. На суку хлебного дерева висел корпус бомбы. По нему стучали палкой, объявляя тревогу или собирая людей на собрание.
Я поинтересовался, как живет семья Тоатя, часто ли она собирается вместе.
— Все работают. Последний раз собирались у цветущего персикового дерева во время праздника тэта в шестьдесят пятом году. С тех пор старших сыновей не видел.
….Дорога из Хатиня в Куангбинь. Сухие горы покрыты кустарником, безлесные холмы. Пейзаж при свете луны чем-то напоминает наш Крым.
Новая дорога, старая дорога, объезды. Пересекаем речки по специально насыпанным каменным кладкам. Воронки справа, воронки слева.
Деревень нет, есть сотни больших и малых кратеров. Самые маленькие — метра три в диаметре, большие — метров до тридцати. Видимо, падали полуторатонные бомбы.
В течение пятнадцати минут пытаемся обогнать грузовик, он не уступает Дороги. Глотаем пыль, кашляем Фунг злится, сигналит, дает гудок, переключает свеч, пренебрегая запретом, сопровождающий нас сотрудник органов безопасности провинции Хатинь свистит. Лишь на одном из поворотов удалось обойти лихача. На его голову обрушился град ругательств. Я даже улыбнулся. Оказывается, и у вьетнамцев есть недисциплинированные водители; оказывается, невозмутимые, сдержанные, вежливые вьетнамцы могут выходить из себя.
Справа, километрах в пятнадцати, повисают осветительные ракеты. Их спускают на парашютах. Один самолет бросает пару «светильников», а вслед за ним летит другой и высматривает, кого убивать при свете этих ракет. Ярко-белый, немного мерцающий, зловещий свет. Рев реактивных двигателей. Машина резко тормозит, и мы бросаемся в первое попавшееся убежище. Звонко стукается о притолоку каска. Душно, жарко, невыносимо жарко. Вылезаю через противоположный вход. Рядом чье-то жилище, оно кажется необитаемым.
Вдалеке глухие, нестройные и какие-то нестрашные пока взрывы. То приближается, то удаляется рев самолетов. Выходим на шоссе. Около нашей машины стой; один из тех, кто отвечает за переправу.
— Вас сегодня не пропустим, — говорит он.
Мы подчиняемся, возвращаемся назад. Рев моторов уже ближе, снова осветительные ракеты. Бомбят за нашей спиной. Останавливаемся. Я выхожу из машины, как был в каске, опускаю рукава куртки, сажусь на траву и незаметно для себя засыпаю. Сколько сплю, не знаю — минуту или час. Будит крик:
— Камарад Алешка! Камарад Алешка!
Это переводчик Кан. Только он мог звать меня на таком франко-русском языке.
Вскакиваю, километрах в двух — частые вспышки по пунктиру: шариковые бомбы. Два километра, несколько секунд лета. Бегу в ближайший блиндаж, влезаю, включаю электрический фонарик. Две девушки спят на нарах, прижавшись друг к другу. Они жмурятся от внезапного света фонарика, поворачиваются на другой бок и снова засыпают.
За шиворот заползают крупные, твердые, кусачие муравьи, хочется сорвать с себя одежду. В это время команда:
— Вперед, быстрее, быстрее!
Оказывается, сопровождающие выяснили, что в деревне есть более надежное убежище, и решили перевести нас туда. Выскакиваем на воздух, перебегаем поле, прыгаем в глубокую траншею.
Командный пункт региональных войск[2]: два стола, три лавки, люди в военном и гражданские.
Команда:
— В убежище!
Кидаюсь в узкий проход, ведущий в блиндаж. Лезу, согнувшись вдвое, и громкие хлопушки шариковых бомб подгоняют меня.
Два метра земли над головой. Мигает коптилка. На циновках лежат люди. Они освобождают немного места. Снимаем обувь, ложимся. Человек у телефона, завернутый в кусок зеленого, в пятнах парашютного шелка, что-то кричит:
— Вы меня слышите? Американцы ведут беспорядочную бомбежку. Беспорядочную, говорю.
Жарко. В воздухе плавает табачный дым. Вьетнамцы обмахиваются веерами. Немного ветерка, еще немного ветерка. Пот уже не капает крупными каплями, а течет ручейками, каждый глоток чая из фляжки выступает влагой на коже.
Рев самолетов. Ближе, ближе! Серия взрывов. Вторая.
— Бом-би! — комментирует сидящий в углу вьетнамец. Вот как во вьетнамскую жизнь проникло французское слово «бомб а бий» — шариковая бомба.
Тяжелый взрыв. Кажется, что рушится потолок. Только кажется. А на самом деле сыплется струйкой песок. На наше убежище упала всего лишь шариковая бомба и взорвалась, оставив лунку сантиметров тридцать диаметром. Утром мне ее покажут.
Кто-то потянулся к лампе прикурить и погасил слабое пламя. Вспыхивают электрические фонарики. Снова зажигают коптилку.
Где-то рядом взрывы, отблеск пожара. Сквозь грохот пробивается тоненький детский голосок. Сидящая рядом женщина вскочила, ударилась головой о балку, бросилась к выходу с возгласом:
— Тхань! Тха-ань!..
Следом за ней двое мужчин. Через минуту они вносят девчушку, маленькую, худенькую. Она бежала к матери. Шариковая бомба разорвалась в воздухе. Изранены руки, грудь. Девочку перевязывают. Она стонет.
Рев самолетов на время удаляется. Вылезаю из блиндажа. На востоке небо расцвечивается взрывами зенитных снарядов.
В некотором отдалении пикирует самолет. Маленькими пучками пламени вспыхивают разрывы шариковых бомб в одну линию. Летчик открыл одну трубу с «ананасами». Невольно вспомнил: а в Ханое швыряли целый контейнер шариковых бомб другого типа, похожих на апельсины.
Рев раненого буйвола. Он бросается вскачь по полю, попадает в траншею и не может из нее выбраться, бьется и жутко ревет. Кто-то бежит туда. Выстрел из пистолета. Завтра мы будем есть жесткую жареную буйволятину.
В блиндаже невысокий человек, как потом выяснилось — заместитель секретаря парторганизации общины Чан Хыу Кхе, проводит оперативное совещание, Лыонг переводит:
— Товарищи! По поступившим данным, в деревнях убитых нет. Несколько раненых. Перевязки сделаны. Ополченцы на своих местах.
В блиндаж врывается мальчик лет четырнадцати с вымазанным сажей лицом:
— В нашей деревне пожар! У соседей тоже.
Сейчас собран рис, во дворах скирды соломы. Пламя может перекинуться с одного дома на другой. Ответственный за пожарную команду уходит вместе с несколькими мужчинами. Возвращается часа через два.
— Пожары потушили. Молодежь и ополченцы. В последний момент с самолетов по людям у горящих домов стали стрелять реактивными снарядами. Несколько раненых.
Тянется ночь. Мерцает коптилка. Приходят и уходят люди. Запекшиеся губы раненой девочки скривились от боли. Мать с окаменевшим лицом обмахивает ее веером. Четверть часа сна — и снова просыпаемся. Брезжит рассвет.
Пока мы коротаем день на лавках и циновках под навесом, нам рассказывают о жизни общины (это что-то вроде нашей волости).
Община награждена тремя орденами, из них один — за успехи в производстве. Оказывается, крестьяне, которые раньше не обеспечивали себя полностью продовольствием, теперь начали сдавать некоторое количество риса государству. «Это тоже наш выигранный бой».
Мы прошлись по ничем не примечательной вьетнамской деревне. В тени густой растительности тесно и беспорядочно стоят крестьянские бамбуковые хижины: несколько столбов и балок, легкие, плетенные из полосок бамбука стены, одна из которых днем снимается или открывается, крыша из пальмовых листьев или рисовой соломы. Между хижинами лоскутки огородов и садов с бататом, маниокой, перцем, бананами, цитрусовыми, съедобными травами; на решетках из бамбука — плети с метровыми кабачками и полуметровыми огурцами. Между домов бродят небольшие черные свиньи, куры, утки. Повсюду маленькие пруды, в них выращивают зеленое удобрение — болотную чечевицу, ее урожай снимают примерно раз в неделю. У крестьян нет ничего, за исключением самого необходимого для поддержания существования. По дорогам на юг страны идут машины, груженные боеприпасами, оружием, мукой, техникой.
В ту ночь американцы не вели прицельный огонь. Они не смогли обнаружить ни одной автомашины и стреляли беспорядочно. В каждом из кооперативов общины — бригады пожарных, в основном молодежь. По ходам сообщений бросались туда, где вспыхивало пламя: гасить пожар, спасать людей, помогать раненым и выносить имущество. Остальное население спало.
К вечеру нас предупредили:
— Машины пойдут отдельно, вы будете переправляться сами. Мы не можем подвергать вас излишнему риску.
Шесть часов вечера. Выходим. Лунки сантиметров в двадцать пять — тридцать (бом-би, бом-би) встречаются каждые пять метров вдоль дороги. Сады, бананы, хлебные деревья, сгоревшие дома. Буйволы с мощными рогами. На берегу реки воронки, старые позиции зениток, поросшие травой. Закат над рекой, какой закат! Облака, желтые и розовые, опаловые и лиловые, невысокие горы на горизонте. Огромный черный лопух банана на фоне розового неба. Лодка-сампан метров десять длиной. В ней стоя гребут три девушки. Одна из них — миловидная, ладная — смущается от вспышки фотоаппарата.
Гладь, изумительная гладь розовой воды под розовым небом. Вспыхивает и гаснет шальная мысль: по ной реке промчаться бы в розовых брызгах за мощным катером на водных лыжах.
У берега сампан уткнулся в отмель, выходим прямо и воду.
— Скорее, скорее!
Почему они спешат? Самолетов нет, наши машины еще не прошли через переправу. Так хочется посидеть и холодке. Стучит мотор рисорушки. Тихая деревня, негромкие мужские и женские голоса, мальчик лежит на спине буйвола, буйвол щиплет траву, мальчик выводит очень приятную мелодию. Траншеи, женский смех. Людям хорошо в этот вечер, когда внезапно спала жара.
— Скорее, скорее!
— Зачем?
Проходим холм, по ходам сообщения попадаем в лес, пролезаем, согнувшись, по подземным галереям, оказываемся у подножия другого холма. Видим замаскированные ветвями автомашины. Рядом с ними на корточках сидят солдаты, курят в кулак и переговариваются.
Энергичный сержант охрипшим голосом отдает приказания. Блиндаж. У входа трещит телефон.
— Не уходите дальше чем на пять метров. Десять минут… Двадцать минут… Осветительные ракеты. Много. Рев самолетов. Первая волна, вторая.
— В блиндаж!
Блиндаж в виде буквы Z. Там душно, песок на зубах. Лежим или сидим, согнувшись в три погибели. Снова короткие взрывы, снова знакомые слова.
— Бом-би, бом-би.
— Ро-кет, ро-кет.
Кто-то у входа считает:
— Третья волна, четвертая…
Потом сбиваемся со счета. Грохот не прекращается. Яркий свет ракет проникает даже в блиндаж.
Но вот становится тихо. Выходим.
На западе, в километре от нас, полыхает деревня. Это та тихая деревня, где пел мальчик, лежа на спине буйвола, щипавшего траву. Пламя охватывает все новые дома. Фосфорные бомбы заливают огнем траншеи. Невольно представляешь себе, как в убежищах задыхаются, корчатся, умирают люди.
Новая волна налета. Очереди из пулеметов. Треск зенитных орудий. Ракеты, шариковые бомбы, двадцатимиллиметровые снаряды против тех, кто покидает пылающие убежища.
Пламя расползается, Языки огня бьют на десятки метров вверх, с треском ломаются бревна. Несколько взрывов — это бочки бензина рядом с рисорушкой. Летчики могут донести, что уничтожен склад горючего: видели вторичные взрывы. Пламя. Эх, как сухо! Хотя бы дождь, грозу, тайфун! В деревнях в каждом доме стога рисовой соломы, на гумнах сохнет рис…
Телефонный звонок:
— Будьте готовы, ваши машины уже переправились.
Снова тянутся минуты. В темноте тихо сигналят машины. Наши. Прыгаем в них на ходу. Сзади пожар, переправа. Впереди горы лес, в лесу можно заметить несколько очагов пожара.
Нас встречает высокий красавец, подтянутый, широкоплечий, одетый в бежевую форму, с пистолетом на боку. Гибкий и сильный, он был похож на леопарда. Рядом со мной садится солдатик с автоматом и полным подсумком гранат. Мне показалось, что ему лет пятнадцать. Днем я увидел, что он старше. Опасность позади.
Очередная «гостиница». Три часа утра. Нам предлагают: хотите выкупаться? Я помню строжайшие наказы врачей, не купайтесь в реках, у вас нет иммунитета против всякой микробной дряни, которая водится в тропических пресных водах. Однако после долгой дороги красная пыль, смешанная с потом, облепила коростой тело. Устоять невозможно.
Над водой плывет легкий туман. В речке полощутся склонившиеся над водой ветви кустарников и деревьев, как в Курской области или на Суре. Раздеваюсь, бросаюсь в воду, и с удивлением обнаруживаю, что вода — теплая. Она нагрелась за день, да так и не остыла. Купание почти не освежает.
Возвращаемся в «гостиницу». Ночные поездки уже выработали некоторые условные рефлексы: машинально выключаем фонарики, на секунду осветив дорогу, прячем огонек зажженной спички, лишний раз стараемся не ходить по открытому месту.
Утром и днем мешает спать то близкий, то далекий рев самолетов. Но в глубокой трехметровой бетонированной яме спокойно. Четыре кресла, стол, две постели с циновками, москитники, рядом глубокие бункеры, три слоя бетона.
Дают отличный, по-французски приготовленный суп, жареных цыплят, креветки, вареные и запеченные в тесте. Для нас постарались.
— Повар мог бы стать украшением любого ресторана.
— А он и был им. До войны, в гостинице Донгхоя.
Отыскивается бутылка отличного французского «перно», тоже из довоенных запасов. Добавляешь в него сразу же мутнеющую воду и пьешь, чувствуя запах анисовых капель.
— Будьте здоровы, товарищи!
Пот, стоячий воздух, стены, крутые ступени. В воздухе ревут «джонсоны». Полсотни километров до Виньлиня, шестьдесят километров до американцев. Американские летчики в своих самолетах с искусственным климатом возвращаются на авианосцы или на базы тыла. Они делают деньги, готовы на любой риск. Чем они занимаются, пилоты понимают, лишь попав в плен. А пока не попали — зарабатывают. Правда, риск все время растет. Но после полетов они возвращаются к чистому белью, бару, кондиционеру, холодному пиву или виски. Телевизор, отдых, развлечения, заезжие певички, бордели. Ну а американские пехотинцы? В шестидесяти километрах отсюда? Униформа, ботинки, автомат, гранаты, патронная сумка, каска, пулемет, перебежки, окопы, пыль, палящее солнце, рукопашный бой, колючая проволока, мины, волчьи ямы. Бегом на высоту, бегом с высоты. Мрачные джунгли, чужая, ненавистная, непонятная страна. Инстинкт самосохранения твердит: бойся всех вьетнамцев — мужчину, женщину, ребенка — они могут убить… Против высокорослых американцев сражаются худенькие, но выносливые люди, которым дьявольски тяжело и которые обходятся без виски, душа, чистой постели, горячих бифштексов, зарплаты, бара. Потому что они защищают свой дом. Потому что они ненавидят. Они очень храбры и еще более упорны. Они уминают, но идут убивать вас, пришельцы, враги, убийцы интервенты. Это чужая для вас страна, это — Вьетнам, это — Азия, и вам здесь нет места. Только вьетнамский Вьетнам, только на таких условиях возможно будущее.
Рев самолета… Бом-би… Ро-кет…
Куангбинь — особая провинция. Я не помню минуты, проведенной здесь, чтобы близко или далеко не слышался рев самолетов. Здесь нет ни одной деревни, которая не подверглась бы бомбежке. Здесь уничтожено больше всего американских самолетов по сравнению с другими провинциями Северного Вьетнама. Куангбинь держит первенство также по числу самолетов, сбитых ночью, по различным категориям самолетов, по числу подбитых американских кораблей.
Днем я вышел прогуляться за деревню. Пейзаж, который ночью казался мне лунным, стал земным. Вокруг кратеров от бомб зеленели саженцы бананов. Это было удивительно и в то же время понятно. Земля, пригодная для обработки, не должна пропадать. Провинция Куаигбинь, как и Пгеан и Хатинь, продовольствия из центра не получает.
Через несколько минут мы с Лыонгом очутились на берегу реки и увидели плывущий плот. Фигурка человека маячила на нем. Внезапно приблизился рев самолета. Мы прыгнули в окопчик, где уже сидело двое крестьян. Истребитель-бомбардировщик вошел в пике и выпустил два реактивных снаряда. Они взорвались недалеко от плота. Самолет сделал второй заход.
— Сейчас, наверное, сбросит шариковые бомбы, — сказал Лыонг.
Как будто предчувствуя это, человек на плоту нырнул в воду. Три линии мелких разрывов шариковых бомб перечертили плот и воду. Прошли две минуты. Человек больше не показывался, и плот скрылся за изгибом реки. Я не знал, что вскоре увижу плотогона и смогу пожать ему руку. Это произошло уже на обратном пути в одном из рыболовецких кооперативов. Плотогон оказался рыбаком. Его звали Хо Тиен Куок.
Его загрубевшее под тропическим солнцем и морским ветром лицо было как будто выточено из куска красного дерева.
Куок родился в рыбацкой хижине, задымленной, насквозь пропахшей рыбой, где чашка с рисом была нечастым блюдом на столе. С шести лет ходил с отцом в море, а в тринадцать стал плавать и нырять лучше всех в деревне. В пятнадцать он ушел добровольцем в партизаны и считался смелым и удачливым разведчиком. После победы вернулся в родную рыбачью деревню.
В феврале 1965 года здесь был сбит один из первых американских самолетов. Это был «Скайхок». Пилот катапультировался, но парашют не сработал. Летчик и самолет упали в море, километрах в двух от берега.
Из Ханоя пришел приказ: любой ценой достать обломки самолета и тело летчика. Нужны немедленные доказательства успешных действий противовоздушной обороны. Американское командование объявило, что погибший пилот вернулся на базу, но потерпел аварию при посадке.
Десять дней и ночей работали рыбаки, чтобы достать обломки самолета. Не было ни скафандров, ни масок. Дул сильный ветер. По два дня работы выдерживали лучшие ныряльщики кооператива (глубина семнадцать метров). Куок продержался до конца. Больше двух минут он мог находиться под водой, привязывая к обломкам самолета крепкие веревки из пальмовых волокон. Под конец он свалился с кровотечением из носа и ушей. Но дело было сделано. И самолетные обломки, и тело летчика, и уцелевшие карты и документы были извлечены на поверхность.
Шла война. Одна за другой были потоплены врагом большие моторные лодки — гордость кооператива. Рыбаки снова выходили на промысел на парусных джонках. На каждую из них брали большие буи, привязанные веревками. В случае опасности люди прыгали в воду, держась за буи. Если джонки тонули, рыбаки обрубали веревки и добирались до берега. Далеко не для всех промысел кончался благополучно, но рыба, хотя и в меньшем количестве, поступала на рынки и в магазины Куангбиня.
Для постройки джонок, установки сетей, починки домов не хватало бамбука. Собрали деньги. Зашив их в карман, Куок отправился в верховье реки, купил несколько возов бамбука, соорудил плот и погнал его вниз. На одном из участков этого пути мы и застали бесстрашного рыбака.
— Я нырнул, держась за веревку, бомбы взорвались на поверхности, меня не задело. — сказал он.
И опять, уже в который раз, здесь, во Вьетнаме, в этих спокойных словах снова я не заметил ни тени рисовки…
В тот день в «гостиницу» прибыл музыкально-драматический ансамбль провинции Куангбинь. На маленьких сампанах, на велосипедах, пешком с рюкзаками за плечами, в которых помещались и костюмы, и декорации, и музыкальные инструменты, они проделали по своей провинции тысячи километров. Они пели и плясали перед дорожными рабочими, пограничниками, горцами и рыбаками, в окопах, джунглях, пещерах, среди развалин. Есть очень талантливые артисты. Может быть, мир еще услышит и увидит их.
— Уезжаем ровно в семь вечера. Не опаздывать.
Мы уже знаем, что опаздывать нельзя, надо пошевеливаться. Слава богу, не придется топать пешком.
«Газики», замаскированные свежими ветвями, луна, дорога, кратеры-воронки, пыль, плато, смолистый запах тропических сестер наших сосен, крошечная хижина начальника переправы в лесу. Рядом дверка убежища, телефон, разговор вполголоса.
Снова машины переправляются отдельно. Проходим через деревню, до боли напомнившую ту, что вчера горела, застилая дымом полнеба.
Быстро к переправе. Песок у реки. Ждем. Тихо подплывает сампан.
— Каски надеть!
Залезаем под крышу из плетеного тростника на лодке, и сампанщики, на этот раз трое мужчин, быстро гребут. Рубашки расстегнуты, пот струится по груди. Лица повернуты к небу. На небе — ни облачка, луна и звезды. Вдалеке зажигается ракета. Она быстро падает. Парашют раскрывается только над самой землей. Следом за ней — другая, еще две. Странное чувство безопасности, когда у тебя на голове каска. Причаливаем к берегу и выпрыгиваем прямо на отмель.
Знакомая команда:
— Скорее!
Две минуты ходу. Рев самолета. Ближе. Ближе! Ближе!!! Ничком на землю, под прикрытие куста. Хоть бы какая-нибудь траншея, хоть бы какой-нибудь окопчик! Рев вдавливает в землю. Хищные обводы истребителя-бомбардировщика над головой на высоте не более полутораста метров. Единственная мысль пульсирует у виска: если слышен рев, значит, самолет пролетел. Это мне говорили на прощание советские военные специалисты в Ханое.
На той стороне реки, у деревни — пах, пах, пах! — рассыпаются хлопушки. Видны кажущиеся отсюда игрушечными взрывы шариковых бомб. Второй самолет уже с большой высоты пускает три ракеты. Оставив трассирующий след, они падают в деревне. Следом летят фосфорные бомбы.
Мы бежим. Пот заливает глаза. Я зацепился за корень и падаю. Ко мне бросаются вьетнамцы.
— Ничего, побежали дальше!
Дорога через поля с аккуратными грядками рисовой рассады. Свинарник, рядом бомбоубежище. Свинарник тоже окопан валами.
Глубокий бетонированный блиндаж. Только теперь чувствую, что разодрана в кровь нога. Быстро закатываю штанину и заливаю рану йодом. Перевязку делать некогда. Появились наши машины. Бежим, прыгаем, трогаемся, едем. Опять «скачка верхом». Дорога, кратеры, снова лунный пейзаж, пересохшие русла ручейков.
Нам тяжело, но как должно быть тяжело шоферам… Более шестисот километров ночной дороги. Иногда едем над такими обрывами, куда упасть можно только один раз. То и дело, над кратерами-воронками, куда тоже не рекомендуется падать. По краям этих воронок стоят рейки с прибитыми к ним белеющими дощечками — по ним только и может ориентироваться шофер. За время десяти-двенадцатичасовой поездки мы так уставали, что еле держались на ногах, а наши шоферы? Они подъезжали к месту стоянки, заводили машину в укрытие и, едва выключив зажигание, тут же роняли голову на руль и засыпали.
….Едем уже пять часов. Пробка, и самое неприятное, что можно придумать, — две осветительные ракеты: первая в голове колонны, другая в хвосте. Одна надежда на то, что все машины замаскированы кустарником. Сверху не видно. Наш сопровождающий одним мягким прыжком бросается вперед, что-то выкрикивая, устанавливает порядок на дороге. Оттаскивают в сторону грузовик, у которого испортился мотор. Царапая кузовом о кузов, разъезжаются машины. Наши «газики» пролезают, буквально пролезают между грузовиками.
Рев самолета. Мы не останавливаемся и, пользуясь светом ракет, выжимаем до восьмидесяти километров в час. Откуда-то сбоку, из-за замаскированных машин, выскакивают шоферы и что-то громко кричат. Последняя осветительная ракета остается за спиной. Проскочили!
Приближаемся к округу Виньлинь. Развалины города Хоса ясно различимы при лунном свете. Каждые несколько секунд где-то вдалеке ухают разрывы снарядов. Нас встречают, и мы долго кружим на машинах в густых зарослях, которые иногда смыкаются над головой. Прыгаем в траншею, ощупью по ступенькам спускаемся вниз.
Подземный «отель» — три метра земли и несколько слоев бетона над головой. На столе — лампа-молния. Рядом — дверь в еще более глубокое убежище.
Утром осматриваюсь. Над «отелем» посажены какие-то деревья с листьями, как у лимона, и ананасы.
Разветвленная сеть глубоких, в рост человека, траншей.
Большую часть времени в Вииьлине мы провели под землей.
Одна из целей поездки — добраться до реки Бенхай, разделяющей Север и Юг. Уверенности, что это удастся, не было. Но к нашей встрече, оказывается, хорошо подготовились.
И вот мы идем к реке, к мосту Хиенлыонг, последнему, который тогда еще уцелел на семнадцатой параллели.
Красная земля, пересохшая от жажды. В этом году в Центральном Вьетнаме дождливый сезон не оправдывает своего названия. Дорога в ложбине, сюда не попадут снаряды. Сотни убежищ, они встречаются на каждом шагу.
Изредка останавливаюсь, снимаю — ребятишек, плотников, женщину, погоняющую хворостиной гусей. Повсюду тщательно обработанные поля. Мужчины и женщины, спрятав от солнца под коническими шляпами лица, работают. В полях, садах, во дворах. Мирная картина, если бы не воронки, если бы не отдаленная канонада.
Пограничный пост, глубокая землянка, большие, хотя и потертые, кресла. («Из местной гостиницы», — объясняют нам.)
Вход в еще более глубокий бункер. Шкаф с книгами, портреты Ленина и Хо Ши Мина. Три-четыре километра до моста.
С возвышенности видна плоская долина, а вон блестит за кустарником изгиб реки. Американские самолеты пикируют по ту сторону реки, затем взмывают вверх. Взрывы поднимают клубы дыма и пыли. Это километрах в десяти от нас.
— «Джонсоны» бомбят расположение частей Армии освобождения Южного Вьетнама.
Хватаюсь за аппарат с телеобъективом и жадно фотографирую, не знаю, что эти взрывы можно будет снимать целый день и все равно получатся невыразительные кадры — всего лишь столб дыма над кустарником.
Выходим на шоссе. Последние километры трансвьетнамской дороги номер один на земле ДРВ. Поля. Крестьяне сажают рисовую рассаду, не поднимая головы. На буйволах, утопающих по брюхо в жидкой грязи, вспахивают поля. За рекой Бенхай слышны взрывы.
Верстовой столб с надписью: 37 километров до Куангчи. (Куангчи — это уже Южный Вьетнам.) Десятки воронок. Развалины.
Вдруг за поворотом возникает нереальный в своей огромности красный флаг с желтой звездой посередине. Он развевается на флагштоке в несколько десятков метров высотой. Мост Хиенлыонг. Ничем не примечательный железный мост длиной метров сто. (Через несколько месяцев мост будет взорван.) На том берегу тоже вьетнамская земля, там тоже живут вьетнамцы. Здесь лозунг: «Да здравствует Хо Ши Мин!» На той стороне видны какие-то здания, бродят солдаты, а флага нет.
Хотелось бы сказать, что я сел на берегу реки Бенхай, посмотрел на ту сторону и предался глубоким и важным мыслям о судьбах Вьетнама, о войне, о мире. Но я не сел на берегу Бенхая и не предался глубоким мыслям. На бегу отщелкав две пленки, возвращаюсь назад. Снова работают условные рефлексы, и при каждом отдаленном разрыве глаза невольно останавливаются на ближайшем убежище — норе, окопчике, куда можно было бы прыгнуть в случае опасности.
Самолеты разворачиваются над нами и вновь бомбят какие-то районы на той стороне. Жажда. Глотки тепловатой воды из фляжек. Рисовые поля. Люди работают, не обращая внимания на бомбежку и взрывы. Им надо сажать рис….
Опять землянка пограничников. Вернулись из дозора молодые, подтянутые ребята.
— Что на том берегу?
— Небольшая неурядица. Наши «коллеги» с Юга поссорились с крестьянами. Пришлось проводить воспитательную работу.
На всем правом, южном берегу Бенхая сохранился лишь один пограничный пост марионеточной администрации у моста Хиенлыонг, да и тот живет лишь «по политическим соображениям». Остальная территория — освобожденные районы. Южновьетнамские пограничники редко выходят из своих казарм. Сегодня, не получив продовольствия и порядком проголодавшись, они занялись промыслом рыбы. Здесь это делается просто: озерцо тщательно отгораживают от других водоемов, вычерпывают воду и со дна собирают рыбу. Труд большой, зато улов верный. Потрудившись целый день, сайгонские стражи начали собирать рыбу. Появились крестьяне и предложили им убираться, так как это озерцо предназначалось трем семьям из пограничной деревушки. Еле-еле южновьетнамские пограничники уговорили крестьян оставить им часть улова, за «труды».
— Так что же они вам говорили? — поинтересовался командир.
— Жаловались, что им не дали половину.
— А вы?
— Учили уважать крестьянскую собственность и быть вежливыми, а главное — перестать служить американцам.
В наш подземный «отель» возвращаемся, как домой. Нам приготовили бадейку воды. Можно вымыться с головы до ног. Отлично. Ужин. Все довольны. Программа выполнена, советские гости целы. И у меня удачный день. Перезаряжаю еще три пленки.
На той стороне, в десяти-двенадцати километрах от нас, идут бои…
В Виньлине мы спали ночью. По вечерам иногда выдавалось несколько свободных часов. Я листал записные книжки, заносил дневные наблюдения.
Округ Виньлинь, находящийся на самом юге ДРВ, составлял часть провинции Куангчи. После установления демаркационной линии между Южным и Северным Вьетнамом он вошел в состав ДРВ. Его центр — город Хоса. Этот округ с населением более шестидесяти тысяч человек существует в ДРВ на правах провинции и непосредственно подчиняется Ханою. От его северной границы до моста Хиенлыонг через реку Бенхай примерно двадцать километров. В округ также входит остров Конко, расположенный километрах в тридцати от берега. В горных районах Виньлиня шесть общин, в прибрежных — семнадцать.
Виньлинь — самый бедный район в самой бедной провинции Вьетнама, Куангчи. Мне рассказывали, что при французах большая часть населения могла позволить себе блюдо из риса раз в три дня. Меню большинства жителей состояло главным образом из сладкого картофеля — батата и клубней маниоки.
Стойкость к невзгодам, готовность пойти на лишения, иногда кажущиеся сверхчеловеческими, — эти качества вырабатывались у жителей Виньлиня еще в те годы. Нам рассказывали, что один из старых революционеров, секретарь общинной партийной организации Ле Тиен, прятался днем в подземном убежище, а ночью выходил «на работу» — и так в течение семи лет…
Нужно было и обеспечить безопасность Виньлиня (с той стороны проникали многочисленные группы диверсантов), и превратить округ в образцовый. Жители с той стороны Бенхая должны были видеть результаты деятельности народной власти. В Виньлине строили мосты, каналы, плотины, водохранилища, обеспечивая водой для двух урожаев рисовые поля. Был заново возведен административный центр округа — город Хоса. Сейчас в нем нет ни од ж. о целого здания. Но даже по развалинам видишь, какой приятный, чистый, уютный городок был здесь до войны.
В Виньлине появились электростанция, фабрика по переработке маниоки, оснащенные советским оборудованием больницы, чайная фабрика, лесопилка, механические мастерские. Когда я вернулся в Ханой, корреспондент «Комсомольской правды» и ТАСС Сергей Афонин рассказал, что несколько лет назад он, тогда студент Ханойского университета, ездил в Виньлинь, чтобы вместе с другими студентами строить фабрику по производству крахмала из маниоки.
Все дети пошли в школы; затем — взрослые. Строились клубы, библиотеки.
Приближалась война. В том, что война будет тяжелой, в том, что она коснется Виньлиня, никто не сомневался. Нужно было готовиться. После августовских бомбардировок 1964 года (напомню, что американские воздушные налеты на Северный Вьетнам начались не в феврале 1965 года, а еще в августе 1964 года) война пришла в Виньлинь. Тогда-то и началось строительство этого чуда — системы подземных укрытий и траншей.
Люди закопались в землю. Под каждым домом, подчеркиваю, под каждым без исключения домом были вырыты глубокие, в несколько метров, убежища. Из месяца в месяц они укреплялись, из горных районов доставлялся бамбук, строили блиндажи в четыре-пять накатов, подземные ходы протянулись от одного дома к другому. За три года — полторы тысячи километров траншей. Полторы тысячи, в среднем по полтора метра глубиной! Траншеи бегут от деревни к деревне, от хижин к колодцам и скотным дворам, из деревень — на поля. Были вырыты подземные убежища не только для людей, но и для скота. В ложбинах и оврагах строились новые дороги, по которым могли двигаться машины даже днем. Дороги всех видов обсаживались с южной стороны высоким кустарником. Делалась обваловка домов и дорог с южной стороны — оттуда мог начаться обстрел. Под землю ушла радиостанция с несколькими запасными центрами. В бункерах работают парикмахерские, больницы, типографии, административные учреждения, магазины, швейные мастерские, медицинские пункты.
Все школы открыты. Они «децентрализованы», рассредоточены, каждый класс разбит на несколько частей и запрятан в убежище. Нагрузка учителей возросла вдвое, втрое, вчетверо, но занятия продолжаются, дети учатся. Люди спят, читают, устраивают собрания, играют в карты, учатся, готовят пищу, едят, рожают под землей. В траншеях собираются поболтать кумушки, назначают свидания влюбленные.
Виньлинь превратился в подземную крепость.
Партийный комитет округа тоже децентрализован. Его члены регулярно проводят совещания, но большую часть времени находятся в общинах, к которым они прикреплены. Отдельным общинам предоставляется значительная степень автономии.
В 1965 году американские военные корабли вторглись в территориальные воды Виньлиня. На округ упали первые тяжелые снаряды корабельной артиллерии. Обстрелы с моря стали практически ежедневными. Весной 1967 года американцы установили батареи дальнобойных орудий на возвышенностях в нескольких километрах к югу от реки Бенхай. С тех пор по Виньлиню выпущены многие десятки тысяч снарядов и бомб.
Иногда я видел тридцатиметровые кратеры. Бомбы весом меньше пятидесяти килограммов даже не учитываются, так же как небольшие ракеты и двадцатимиллиметровые снаряды. Здесь трудно пройти полсотни метров, не встретив воронки.
Уже после нашего отъезда американское командование послало на Виньлинь тяжелые бомбардировщики «В-52». Они прилетали не только из Таиланда или с Гуама, но даже с Окинавы и били по площадям, осуществляя «ковровые бомбежки», нередко сбрасывая за сутки тысячи тонн бомб. Если они применяли тяжелые бомбы, то даже хорошие укрытия вместе со спрятавшимися там людьми в случае попадания смешивались с землей. Иногда «В-52» использовали контейнеры с шариковыми бомбами, тогда на площади в несколько квадратных километров не оставалось даже живых птиц, потому что птицы не догадывались прятаться в убежища. В шестьдесят шестом году из зажигательных средств американцы отдавали предпочтение напалму. Годом позже они перешли на фосфорные бомбы. Горели деревни. Сожженные дома восстанавливались, снова сжигались, снова восстанавливались, опять сжигались и опять восстанавливались.
Вместе со строительством подземных сооружений шло обучение всего населения военному делу. В Виньлине вооружены все — мужчины и женщины, подростки и старики. Когда крестьяне отправляются работать в поле, вместе с мотыгой или серпом они берут винтовки и автоматы. Как и в других районах Вьетнама, но здесь в особенности, оружие стало составной частью жизни. Возвращаясь с поля, крестьянин на один крюк вешает серп, на другой — связку гранат, на третий — автомат. Быт, повседневность.
С начала войны противовоздушная оборона Виньлиня укрепилась необычайно. И апофеозом усилий вьетнамских дивизионов ПВО было уничтожение нескольких американских самолетов «В-52» весом около двухсот тонн каждый. Они несут тридцать тонн бомб. Хочется напомнить, что «летающие крепости» второй мировой войны брали по шесть тонн взрывчатки — столько же, сколько современные истребители-бомбардировщики.
«В-52» — довольно неуклюжие машины, во сбить их непросто. Каждая из них начинена радиоэлектронным оборудованием для создания помех радарам и отвода ракет. И все же несколько современных «летающих крепостей» было уничтожено над Виньлинем.
Недолго продолжался и безнаказанный обстрел Виньлиня с моря и суши. Заговорила первая береговая батарея, за ней еще несколько, и вот уже подбиты два десятка американских кораблей. Меньше чем через месяц после начала обстрела округа через семнадцатую параллель на юг за реку Бенхай полетели тяжелые снаряды вьетнамских дальнобойных орудий.
…Подъем в четыре утра, и мы едем прямо на красное небо наступающего дня. Где-то рвутся снаряды. Бананы, маниока, папайя, ее плоды, похожие на дыни, свисают прямо со ствола. Запах пепелищ. Деревенька, блиндаж. На гвоздях висят автоматы. Два десятка человек под землей. Крестьянка склонилась над колыбелью. Не по-детски серьезные крохи семи-восьми лет убирают посуду, что-то приносят, уносят, чистят столы, смотрят на нас спокойно, без детского любопытства.
От траншеи к траншее бежим фотографировать береговую батарею. Наблюдательный пункт на берегу моря. Какой здесь пляж! Но никто не купается: километрах в семи-восьми от берега виден силуэт американского корабля.
Идем к орудиям. Вдруг грохот, взрывы. Четыре самолета. Где бомбят — непонятно.
Обед на свежем воздухе, под навесом, ветерок с моря, прохладно, хорошо. Спать идем в подземелье. Здесь следят за чистотой, мух нет.
Беседую с артиллеристом младшим лейтенантом Лыонг Динь Зи. Он рассказывает об учебе и быте бойцов, об артиллерийских дуэлях. Первое десантное судно его батарея потопила 1 февраля 1965 года, затем повредила или потопила еще восемь кораблей.
Через несколько часов нас приглашают снимать батарею дальнобойных орудий. Мы подходим к ним вплотную и лишь только тогда замечаем их.
Беседа в блиндаже командира батареи. Неизменный зеленый горячий чай, прямо с костра. Политработник Май Ван Занг рассказывает:
— Мы занимались на одном из полигонов далеко отсюда, когда узнали об обстреле американскими агрессорами Виньлиня через семнадцатую параллель. Тогда же поняли: скоро выступать. Приказ пришел вечером. Для жителей Виньлиня появление нашей техники, конечно, не осталось незамеченным. Но американцы так ничего и не узнали. Днем девятнадцатого марта офицеры батареи провели рекогносцировку. В координатах стрельбы они были уверены: южновьетнамские партизаны сообщили расположение американских орудий с точностью до метра. Ровно в полночь с девятнадцатого на двадцатое марта мы получили приказ занять огневые рубежи. Нервы напряглись до предела. Командиры вынуждены были приказывать подчиненным спать. Пришел день. Над нами кружили самолеты-разведчики, но ничего не обнаружили. Огонь мы открыли в восемнадцать часов двадцать минут. Американцы явно не ожидали такого удара и понесли большой урон. Это был первый и самый памятный бой.
…В семь часов вечера возвращаемся в подземный «отель». Узнаем: шариковые бомбы, высыпанные с самолетов наобум, рвались у самых дверей нашего бункера. Несколько человек убито и ранено. Заломленные в отчаянии руки жены повара нашего подземного «отеля»: у них погиб сын.
— Скажите, а не лучше ли было бы эвакуировать население в горы, чтобы не подвергать его излишнему риску? — спросил я назавтра секретаря партийной организации кооператива «Намхо».
— Мы думали об этом. Но что люди будут есть в горах? По дорогам сейчас перевозятся только важнейшие грузы. Для нас бесценна человеческая жизнь, но рис, маниока, кукуруза — это тоже человеческая жизнь. Наша задача сейчас — свести к минимуму жертвы путем строительства новых убежищ и организации активной обороны. Мы должны глубже зарыться в землю, но остаться. Это нормальная жизнь.
Я ходил по траншеям, нырял в низкие подземные ходы, слушал, как по радио передавали специальную музыкальную программу по заявкам крестьян «Намхо». Неуклюже плясал с гибкими девушками из самодеятельного ансамбля. Вместе с крестьянами смотрел известный советскому зрителю художественный кинофильм «Укротительница тигров». В библиотеке беседовал с читателями. Познакомился с юношей и девушкой, которые на следующей неделе готовились отпраздновать свадьбу…
За несколько дней до нашего приезда в Виньлине побывал с группой вьетнамских операторов голландский режиссер Йорис Ивенс, сухощавый, с седой шевелюрой, немного печальный. («Становится грустно, когда оглядываешься кругом, — и стольких людей, с которыми жил и работал, уже нет в живых», — говорил он.) Я встречался с ним в Ханое довольно часто.
— Я никогда не видел такой степени участия народа в войне, всех слоев населения: интеллигентов, крестьян, детей, стариков, женщин! — воскликнул он, когда мы встретились после возвращения. — А ведь я снимал немало войн.
Он делал фильмы о строительстве Магнитки и гражданской войне в Испании (вместе с Хемингуэем), снимал эпизоды антияпонского сопротивления в Китае, конвои судов союзников через Атлантику во время второй мировой войны; Индонезию и Кубу…
Ивенс смог уговорить вьетнамцев отвезти его к семнадцатой параллели. Для него, старика, это был подвиг. Своей силой духа он заслужил глубочайшее уважение всех, с кем имел дело. Ивенс сделал потрясающий полнометражный фильм. Он был откровением для западного зрителя.
— Весь смысл фильма заключается в том, чтобы показать нормальную жизнь людей в ненормальных условиях, их спокойствие в чрезвычайных обстоятельствах.
Вечером перед отъездом председатель административного комитета Виньлиня устроил для нас торжественный прием. Ярко и жарко горели лампы-молнии. «Зал приемов» административного комитета находился в глубоком бункере, совсем недалеко от нас. Мы жили от него в нескольких сотнях метров и не замечали ничего. Подземные ходы и траншеи соединяли бункер со всем округом. Теплые тосты за успех поездки, за дружбу, за победу.
В путь. При возвращении, особенно в Куангбине, пришлось еще раз познакомиться в той или иной мере с теми же ощущениями, что и во время поездки на Юг. Дорога по Хатиню и Нгеану после всего увиденного и пережитого уже не казалась особенно опасной. Когда год спустя я снова посетил эти места, уже после так называемого «ограничения бомбардировок» Северного Вьетнама, все налеты американской авиации были сосредоточены южнее девятнадцатой параллели и достигли невиданной интенсивности. Нгеан зарылся глубоко в землю, и в этот приезд он стал удивительно похож на Виньлинь.
А тогда мы уже потеряли способность что-либо замечать: с каждым перегоном наваливалась свинцовая усталость. С откровенным восхищением смотрел я на шоферов.
На последнем перегоне свернули с дороги номер один и, как это нередко бывает, заблудились. От Ханоя было недалеко, но шоферы вымотались настолько, что не могли вести машины. Они выходили, падали на тепловатую землю и лежали в забытьи минут двадцать. Потом садились за руль, проезжали километров пятнадцать и снова падали. Нам отдать руль они не хотели.
Вот и мой дом. Водители уехали. Дома! Груда советских газет в кабинете корпункта. И кровать с чистой простынью. Однако уснуть оказалось невозможным. Вышел на улицу в четыре часа утра. Прошелся около озера Возвращенного меча, мимо бомбоубежищ — невысокие продолговатые холмики поросли травой. Ханой просыпался. Начали продавать цветы. Лотосы. Их особенно почитают вьетнамцы. Лотос — символ красоты, чистоты, любви во вьетнамской поэзии.
Какой негромкий народ вьетнамцы! Когда разговаривают девушки, в самом деле кажется, будто они щебечут. Автобусы в зеленых пятнах, с козырьками из веток. Столовые и кафе наполняются людьми, вьетнамцы орудуют своими палочками, едят рис с какой-то приправой.
Знакомый книжный магазин недалеко от площади Оперы.
По всему городу объявления о числе сбитых американских самолетов и сообщения о ходе военных действий в Южном Вьетнаме.
Изломанные траектории полета летучих мышей над озером.
Радио сообщает о приближении американских самолетов. И вскоре о том, что они улетели. Тревога не объявляется.
На афише на красном фоне женщина с печальным и суровым лицом. Опера композитора Нгуен By «Земля весны». Театр, рядом с ним — бомбоубежище.
Ханой — островок среди моря разрушений и пепелищ, островок, прикрытый зенитно-ракетным щитом. Город был уверен в себе. Городу еще предстояло пережить августовские, октябрьские, ноябрьские, декабрьские и другие налеты, новую волну эвакуации. Однако он жил почти нормальной жизнью.
Я вернулся к обычным журналистским хлопотам. Но где бы я ни был потом, вновь и вновь вспоминал людей, с которыми судьба столкнула меня за двадцатидневную поездку к семнадцатой параллели. Тех шоферов, которые по двадцать, тридцать, пятьдесят раз преодолевают маршруты, подобные нашему или гораздо более опасные. Бойцов, стоящих у дальнобойных или береговых орудий. Крестьян, обрабатывающих поля риса и маниоки, изрытые воронками. Саперов, обеспечивающих переправы, сто раз разбомбленные, но вновь и вновь восстановленные. Юношей и девушек из ударных строительных отрядов, благодаря крови и поту которых пульсируют транспортные артерии Вьетнама. Крестьянок, баюкающих детей в колыбелях в подземных норах.
1967–1968 гг.
РАКЕТЫ НАД ЦВЕТКОМ ЛОТОСА
Ханой по утрам наполняется не урчанием автомашин, не дребезжанием трамваев, а шорохом велосипедных шин. Вьетнамская столица расположена в плоской дельте Красной реки. Подъемов и спусков, которые препятствовали бы использованию велосипедов, нет. В городе тихо: ни раздражающего шума, ни грохота, ни металлического лязга, а заодно и сизого тумана от выхлопных газов.
Горожане едут на работу к шести, или к половине седьмого, или к семи. Час пик. По главным улицам несутся большие потоки, к ним стекаются ручейки из боковых улиц, на перекрестках образуются водовороты велосипедистов. Немного городов в мире, где улицы специально отводились бы только для велосипедного транспорта. А на улицах висят знаки: проезд других видов транспорта, кроме велосипедов, запрещен. Колесом к колесу, плечом к плечу едут велосипедисты и велосипедистки. По тому, как вьетнамцы крутят педали, можно определить темперамент. Сразу увидишь «лихача», который, так сказать, «создает угрозу безопасности движения».
С десяти до одиннадцати — снова час пик: рабочие и служащие разъезжаются на обед. До без четверти два город спит. С двух до пяти или половины шестого опять работает.
Можно перефразировать известное выражение и сказать: «Велосипед — не развлечение, а средство передвижения». На велосипедах ездят на работу и в гости, подсаживая на багажник жену, или приятеля, или знакомую девушку. Впрочем, нередко можно видеть, как педали крутит девушка, а сзади сидит молодой человек. На велосипедах устраивают свидания. Если юноша не нравится, ему говорят: «Катись отсюда!» В парке «Единство» или у Западного озера молодые люди гуляют и ведут за руль свой велосипед или сидят на скамейке, а двухколесная машина — рядом.
Нередкое зрелище в Ханое — семейство на велосипеде: муж на седле, жена на багажнике, в руках у нее ребенок, хозяйственная сумка. Иногда можно видеть за рулем маму, на багажнике в специальном плетеном креслице сидит малыш. На багажник или же к раме прикрепляют всякую всячину — дрова, продукты, бамбуковые палки. Однажды я увидел, как велосипедист вез саженец банана метра два высотой.
Ханойцы очень заботятся о легкости хода своих двухколесных машин. Раза два я прокатился на вьетнамском велосипеде и не почувствовал нагрузки — как на хорошем гоночном. И все же поездки на велосипеде в тропическую жару — не последняя причина стройности вьетнамцев и вьетнамок.
Купить велосипед — мечта каждого, у кого его нет. Ведь для велосипедиста расстояние из одного конца города в другой (а Ханой сложился довольно компактно: десять-пятнадцать километров в диаметре) — не проблема. Поэтому велосипед здесь берегут. Его не оставят на улице, не заперев предварительно на замок.
Есть в городе и велорикши: впереди — кресло для пассажиров на двух колесах, сзади хозяин крутит педали. Сейчас рикш больше используют для перевозок кое-каких грузов вроде бочонков с пивом, льда, газет…
В других городах думают о проблеме парковки автомашин. В Ханое у мест скопления публики делают стоянки велосипедов.
В обоймы из железных прутьев вставляется переднее колесо, и так, очень аккуратно, десятки, а иногда сотни велосипедов выстраиваются у кинотеатров или крупных магазинов. В местах, где поменьше пароду, обоймы рассчитаны на меньшую «парковку».
Относительную тишину ханойских улиц обеспечивают, впрочем, не столько велосипеды, сколько сами вьетнамцы. Как правило, они говорят негромко. Выкриков в полный голос почти не услышишь. Демонстрации, скандирование на митингах — да, но повышать голос в обиходе считается неприличным.
С первых дней надо было вживаться в обстановку. Я долго беседовал с нашими старыми «ханойцами», выясняя тонкости взаимоотношений с вьетнамцами: как вести разговор, как ненароком кого-нибудь не обидеть, какие здесь обычаи, чем отличаются от наших. Вьетнамцы не любят фамильярности — похлопывания по плечу, по спине, по коленке, — особенно со стороны европейцев. Такие жесты допускаются лишь между родственниками и близкими друзьями.
Привык я постепенно и к местному церемониалу. Не помню случая, чтобы мы пришли к кому-нибудь на прием, даже короткий, сугубо официальный, и нас не угостили бы крепким зеленым чаем, который хорошо бодрит, особенно в жару. Чай предлагали даже на боевых позициях, в подземных убежищах деревень южных районов. Неторопливость вошла в плоть и кровь вьетнамцев, и мы с нашим убыстряющимся темпом жизни, всегда спешащие, считающие минуты, с трудом привыкали к необходимости «терять» несколько минут на церемонии. Но в «чужой монастырь со своим уставом…»
Улыбка на лице вьетнамца, когда он разговаривает с тобой, — обязательна. Это демонстрация вежливости, доброжелательности. Раньше я слышал, что вьетнамцы должны улыбаться даже врагу, что это, мол, тоже акт вежливости. Мне объяснили, что улыбка вьетнамца, обращенная к врагу, — свидетельство самообладания, превосходства над противником: вот, мол, ты мой враг, но я тебя не боюсь, я улыбаюсь.
Истинный вьетнамец привык скрывать свои чувства, быть сдержанным, поэтому обычна улыбка, даже если он сообщает о беде или смерти близкого. Это вовсе не бесчувствие, о котором писали некоторые расистски настроенные специалисты по Востоку, а акт высшего самообладания и вежливости: «У меня горе, но я улыбаюсь, чтобы своим горем не расстроить вас…»
Есть мнение, что вьетнамцы совсем не пьют. Опять-таки неверно. Они не прочь и выпить, и повеселиться; их рисовая водка не уступает по градусам нашей, но вьетнамец не покажется пьяным на улице — это оскорбление для других, потеря своего лица.
Но еще несколько слов о велосипедах. Массовое средство транспорта требует соответствующей ремонтной базы. На слиянии велосипедных потоков и струй выросли «мастерские» — ящик с нехитрым набором инструментов, клея, кусков шин, насосов, гаек. Можно подремонтировать велосипед, залатать шину, подкачать камеры. У большинства велосипедистов насосов почему-то нет. Взрослых «механиков» почти не осталось, их роль играют мальчишки, женщины, девушки.
Не раз наблюдал я за велосипедным мастером, расположившимся на углу недалеко от моего дома. Лохматого, чумазого ханойского Гавроша можно было видеть на перекрестке с раннего утра до позднего вечера. Он не покидал своего поста и в гнетущую жару, и в зимний сырой холод, укрывался от непогоды циновкой, оставался на месте и в спокойное время, и в дни бомбежек, спал где-то неподалеку. Рядом с ним было сделано обычное индивидуальное убежище — бетонный цилиндр, врытый в землю. Когда объявляли воздушную тревогу, поток велосипедистов замирал, люди рассыпались по укрытиям. Мальчишка тоже забирался в свой цилиндр. Если вокруг не грохотало, он выглядывал, смышлеными черными глазенками изучая обстановку: появились самолеты или нет. Если раздавался треск и грохот, мальчик закрывал свой цилиндрик цементной крышкой. Затем он где-то раздобыл «каску» — широкополую шляпу, сплетенную из туго скрученных жгутов рисовой соломы, которая тоже должна была защищать от осколков и шариковых бомб.
По приезде в Ханой я тщетно искал на лицах людей следы «военной» озабоченности, что-либо особенное, если хотите, героическое в их поведении. Были признаки войны — развороченное депо в Заляме и остов вагона, валявшийся метрах в двадцати от него, убежище в городе, щиты с цифрами сбитых самолетов, плакаты и лозунги. Но горожане отнюдь не ходили день и ночь с винтовками и, видимо, не говорили особенно много о войне, тем более что в феврале — марте 1967 года разведывательные облеты города были нечасты. Правда, в потоке велосипедистов встречалось немало людей с белой повязкой на голове — традиционным знаком траура. Большинство вело себя обыденно. Ханойцы могли и посмеяться, и перекинуться шуткой. Позднее я понял, так и должно быть. Никто не забывал, что шла война, но люди должны есть, пить, спать, работать, любить даже во время жестоких налетов.
Корпункт «Правды» находился в правобережной части Ханоя, на небольшой тихой улочке, названной именем знаменитой поэтессы XVIII века Хо Суан Хыонг.
В правобережном Ханое выделяются район городской цитадели, старый вьетнамский город и новые «французские» кварталы. Вокруг этих трех районов и разросся Большой Ханой. Центральные улицы, широкие, чистые, тенистые, не имеют особого национального колорита. Новый город вырос к югу от знаменитого озера Возвращенного меча, с которым связана одна из самых красочных легенд. Ее пересказывают многие из тех, кто писал о Ханое, но трудно отказаться от удовольствия вновь повторить ее, вернее, один из ее вариантов.
Давным-давно на Вьетнам напали с севера китайцы. Во главе сопротивления стал Ле Лой. Однажды он гулял по берегу маленького озера в Ханое и размышлял, как разгромить врагов. Из озера выплыла черепаха с мечом в зубах. Ле Лой взял этот меч и победил врагов. Когда он вернулся, со дна озера вновь появилась черепаха, выхватила у него меч и скрылась в воде. Ле Лой понял, что меч предназначался только против тех, кто вторгается в его страну. С тех пор озеро и называется озером Возвращенного меча.
Ле Лой обратился к своему народу с призывом защищать независимость:
В Ханое кварталы нового города выходят к дороге, проложенной вдоль дамбы у Красной реки. По ту сторону дамбы — деревни в городской черте, бамбуковые хижины. Им грозит затопление в случае высокой воды. По эту сторону — великолепные здания Музея революции, государственного банка, городского оперного театра, по архитектуре напоминающего Парижскую оперу. К западу от озера Возвращенного меча — католический собор Сент-Жозефа.
Старый город к северу от озера Возвращенного меча, стиснутый между цитаделью и Красной рекой, частично сохранил прежнюю живописность — одно- и двухэтажные старые дома, узкие улочки, когда-то защищенные укрепленными воротами, тысячи лавок, принадлежавших раньше китайским и вьетнамским торговцам. Как и в средневековой Западной Европе и в России, некоторые улицы сохранили названия ремесел: Шелковая, Сахарная, Рисовая, Весовая, Конопляная, Шляпная… Лавки стали государственными, кооперативными или смешанными. К началу 1967 года большую часть эвакуировали. Центральный крытый рынок в годы войны бездействовал. Торговля небогатой снедью производилась в прилегающих переулках.
От прежней ханойской цитадели остались кое-какие степы, крепостная башня, ставшая эмблемой города… Недалеко от советского посольства расположен знаменитый храм литературы, а совсем рядом со зданием, в котором размещается аппарат экономического советника посольства, — изящная пагода на одной колонне, памятник XI века. Дальше к городу примыкает Западное озеро, отделенное плотиной от небольшого озера Чукбать. Городская электростанция на его берегу вскоре стала объектом жестоких бомбардировок.
Город разросся, с пригородами накануне войны он насчитывал больше миллиона жителей. На месте болот и свалок, недалеко от улицы Хо Суан Хыонг, появился нарк Тхонгнят с видом на современное здание Политехнического института, построенного с помощью Советского Союза.
Железнодорожный и шоссейный мост Лонгбьен длиной несколько более полутора километров соединяет Ханой с его левобережной частью — Залямом. Он был построен в 1902 году.
При первом же знакомстве с городом гость столицы замечал бомбоубежища. Они заросли травой, а кирпичи потемнели. Это были старые убежища, построенные еще в 1965 году, когда ожидали налетов на Ханой. Но бомбардировки начались в 1966 году. Эти бомбоубежища были не очень удобные и не особенно прочные. Затем стали строить или глубокие бетонированные бункеры, или индивидуальные «цилиндры», а также щели, траншеи.
Индивидуальные бомбоубежища, врытые в землю бетонные цилиндры в два-три кольца, подобные тому, в который прятался «велосипедный мастер», встречались каждые пять-шесть метров. Иногда они располагаются в два ряда. Сверху на каждом была крышка. Такие же убежища рыли во дворах магазинов и жилых домов, в цехах заводов, иногда прямо в хижинах. В нескольких мастерских города изготовляли бетонные кольца.
Горожан приучили к дисциплине, к соблюдению чистоты в укрытиях. Бомбоубежища, траншеи, или, как здесь принято говорить, «пассивная оборона», стали составной частью военных усилий Вьетнама, его быта, жизни. Нам рассказывали, что на каждого ханойца приходится четыре-пять убежищ различного типа. Больших трудов стоило не только построить их, но и поддерживать в приличном состоянии в условиях тропического влажного климата. Ведь дождь вмиг заливал до краев весь цилиндрик, воду нужно было вычерпывать, иначе она зацветала, гнила. Убежища снова заливало, и воду снова вычерпывали.
Город был забит всевозможной техникой. Вдоль улиц стояли автомашины, катера, орудия, контейнеры со станками, передвижные электростанции. Ремонтировались машины, вернувшиеся с юга, помятые, побитые, почерневшие, вернее, покрасневшие от грязи, с разбитыми фарами.
Когда я только приехал в Ханой, в городе не объявляли воздушных тревог. Радио, однако, изредка прерывало передачи и делало предупреждения: «Граждане, внимание, граждане, внимание! Американские самолеты приближаются к Ханою. Расстояние — семьдесят километров». Затем — «…пятьдесят километров», «…тридцать». Служба оповещения была поставлена хорошо. Я сначала не понимал этих объявлений по-вьетнамски, а затем, как и все наши, жившие в Ханое, выучил несколько фраз, предупреждавших об опасности. Когда опасность проходила стороной, по радио объявляли: «Американские самолеты улетели» («Май бай ми да бай са»), Это вот «да бай са» наши окрестили «два бойца».
— Ну вот и «два бойца», — говорили мы, вылезая из бомбоубежищ, — можно выходить.
На предварительные объявления люди поворачивали головы, прислушивались, но поток велосипедов даже не замедлял движения, рабочие и служащие не покидали своих мест. Затем раздавалось: «Американские самолеты в тридцати километрах!» Ханойцы уже поглядывали на ближайшие щели, цилиндры, примеривались, куда прыгнуть в случае тревоги. Потом включались сирены. Их вой звучал то громче, то тише. Сирены начинали с низкой ноты, поднимаясь, вкручиваясь в ханойскую тишину все выше и громче, затем снова низкая нота и вновь высокая. Сирены перекликались по всему городу, их установили так, чтобы было слышно всем. Вой сирен выворачивал наизнанку, будто просверливал тебя насквозь. Малоприятная музыка воздушной войны.
Затем мы научились определять нюансы: если выли сирены, но не было слышно грохота канонады, это означает, что американские самолеты, проникнув в радиус действий ханойской ПВО, сам город обходили стороной. Если же самолеты шли на город, будь то просто разведчики или бомбардировщики, то, как правило, стрельба начиналась, когда еще не затухали последние завывания сирен.
Трудно даже подсчитать, сколько раз за два года, даже со всеми отлучками из Ханоя, слышали мы этот отнюдь не ласкающий уши вой. Бывали дни, когда сирены звучали по 15–18 раз в сутки, сначала при объявлении тревоги, а затем гораздо чаще. Все это означало огромную нервную нагрузку для ханойцев и тех, кто провел с ними эти годы.
Несмотря на внешнюю обыденность существования, все, кто жил в Ханое, ощущали нависшую над ними опасность. Хотя, впрочем, и это ощущение тоже стало обыденным.
В 1967 году война шла по восходящей. В Южном Вьетнаме американцы пытались проводить крупные наступательные операции. Первые недели после новогоднего перемирия по лунному календарю: обстрел территории ДРВ из дальнобойных орудий через демилитаризованную зону, начало обстрела морского побережья ДРВ кораблями седьмого американского флота, первые мины, сброшенные в реки южных провинций Северного Вьетнама, бомбардировки Хайфона, металлургического комбината в Тхайнгуене, электростанции Вьетчи. Тень воздушной войны после четырехмесячного перерыва вновь нависла над Ханоем.
…25 апреля 1967 года. Первый на моей памяти налет. Бомбят Залям. В домах дрожат стекла от взрывов. Грохот стрельбы из всех видов оружия. Самолеты, кажущиеся издали игрушечными, ныряют за Красной рекой. Американские летчики где-то рядом с тобой, мчащиеся со скоростью сотни километров в час, натренированные, обученные, крепкие. Над Залямом поднимаются столбы дыма. Небо в оспинах разрывов. Белый след ракет. И радостный, хриплый возглас из тысяч пересохших глоток:
— Бан жой! (Сбит!)
Разваливаясь на части, над Залямом падает самолет.
Первый налет. Потом полтора месяца бомбили то Ханой, то его окрестности.
В Кимлиене — гостиничном городке, где жило тогда большинство наших специалистов, — дисциплина соблюдалась весьма условно. Бомбежки шли где-то рядом, и Кимлиен был эвакуирован к осени 1967 года, когда ожидали налетов на железную дорогу, городской вокзал. И то, что в Ханое среди наших не было убитых и раненых, объяснялось чистым везением.
Опасность осколков мы почувствовали в первые же налеты. Цокот падающих осколков от зенитных снарядов был отчетливо слышен во время боя. Иногда они падали густо, иногда редко — при налете лучше было сидеть в укрытии. По тому, как после сирены вел себя человек, можно было сказать, давно или недавно он приехал в Ханой и был ли он или не был еще под бомбами. Если наш товарищ, хотя и не бежал в укрытие, а стремился остаться под каким-либо навесом, это означало, что он старожил. Если же, демонстрируя храбрость, он лез на открытое место и гордо и, может быть, даже действительно безбоязненно озирался вокруг, изучая грохочущий небесный свод, то было ясно: это новичок.
Помню, как однажды мы обедали в нашей столовой. Собралось довольно много народу. Был посол Илья Сергеевич Щербаков (который, к слову сказать, провел во Вьетнаме всю войну). Завыла сирена. Начался налет. Все остались под навесом, и не зря. Зацокали осколки по асфальту. Их было не так уж много, но, когда один из дипломатов прошелся через несколько минут по улице подле столовой, он набрал десятка полтора искореженных, еще теплых кусочков металла. Каска во время бомбежки не была лишней.
19 мая, в день рождения президента Хо Ши Мина, американцы совершили один из самых ожесточенных' налетов на Ханой. Утром я выехал из города и окружными путями по понтонным мостам направился к приятелям геологам, жившим неподалеку. Мы устроили небольшой пир, попросив зажарить лягушек: наши тогда увлекались местными блюдами. В разгар дружеской беседы воздух задрожал от рева самолетов. Где-то далеко били зенитки. Мы выскочили из хижины. Десятки самолетов пикировали на Ханой. Самолеты заходили парами, бросались вниз, взмывали вверх, а с земли поднимались столбы дыма. Вдруг навстречу самолету понеслась ракета. Мимо? Нет. Оранжевое облачко разрыва. Под бурные возгласы крестьян и геологов упало несколько самолетов.
Пробиваясь через многочисленные КПП, мы вернулись в Ханой. По улицам мчались куда-то автомашины — пожарные, санитарные, грузовые. В нескольких местах дымились развалины. Я заскочил к Евгению Кобелеву, корреспонденту ТАСС, выяснить подробности дневных налетов. Между его домом и посольством угодила ракета «шрайк». Затем метрах в ста от посольства свалился подбитый американский самолет. Евгений! бросился его фотографировать, в сплошном дыму ему все-таки удалось сделать один незабываемый снимок. Полиция оттеснила собравшихся, так как самолет грозил взорваться. В пламя были направлены струи воды.
Вновь прозвучал вой сирен вперемежку с грохотом канонады. Кобелев, его жена и я сели в машину и понеслись к дому помощника военного атташе, расположенному в нескольких кварталах от корпункта ТАСС, взбежали на крышу, откуда открывался хороший вид на город. Вьетнамские фотокорреспонденты во время налетов постоянно дежурили на бетонированных площадках высоких зданий, в различных секторах города. Поэтому у них были удачные снимки горящих и падающих американских самолетов.
Раскаленная, как кухонная плита, крыша. Прямо на нее вываливаются огненные ветки местной тропической акации. Французы ее называют «фламбуаян» в переводе — «пылающая». В мае она покрывается с ног до головы ярко-красными, с морковным оттенком цветами, листьев почти не видно. Факелы фламбуаянов украшают ханойские улицы, отражаются в глади озер, поражают богатством красок. Жаркий, морковно-красный цвет деревьев рядом с раскаленной черепичной крышей. Каски, к которым нельзя притронуться. Насквозь мокрая от пота одежда. Пикирующие с ревом истребители-бомбардировщики, грохот стрельбы, толчки взрывов тяжелых бомб. В небе раскрывается купол парашюта, американский летчик приземляется где-то недалеко от нас.
Потом на несколько минут наступает тишина — до сирены отбоя. Впрочем, это не тишина — разноголосый звон цикад настолько силен, что, когда говоришь друг с другом шепотом, не разбираешь слов.
По Ханою после налетов с торжеством, под грохот гонгов и барабанов, возят обгоревшие остовы сбитых самолетов.
Через два дня бомбили городскую электростанцию. Спустя несколько недель мы читали, что американцы применяли при этом ракеты с телеглазом, но неудачно. Весь район, прилегающий к озеру Чукбать, с востока и северо-востока был выкрашен в темно-серый цвет. Позднее, при новых налетах, около электростанции зажигали дымовые шашки, и все покрывала пелена дыма. По самолетам вели огонь не только артиллерия и ракеты, но и множество зенитно-пулеметных установок на бронетранспортерах, создававших вокруг угрожаемых объектов завесу огня.
Городскую электростанцию Ханоя американцы так и не разбомбили ни в мае, ни летом, ни осенью, а потеряли при этом десятка полтора машин.
Однако 21 мая то ли сама электростанция была несколько задета, то ли оказались перебитыми силовые кабели, но большая часть города, за исключением дипломатического квартала, осталась без света.
…Днем было сорок градусов в тени. Ночью температура немного упала, но влажность повысилась до девяноста восьми процентов. Кондиционер у меня был сломан и раньше. А теперь не крутился вентилятор, приделанный к потолку.
В дом перестала поступать вода, так как она подавалась маленькой электропомпой. У меня остались заранее заготовленные два кувшина с водой. Не было ни ветерка. Весь город как будто затаил дыхание в неподвижном, жарком, влажном воздухе. Я пытался заснуть под пологом москитника, но дышать было нечем. Без полога заели комары. Вышел на улицу. Была ночь.
Город плохо спал после нечеловеческого напряжения. Многие вьетнамцы покинули свои дома с неостывшими стенами, постелили циновки на берегу озер и прудов, в парке. Матери склонялись над малышами, обмахивали их веером. Оказывается, и для вьетнамцев такая жара невмоготу.
Следующая ночь и еще несколько ночей ничем не отличались от этой. После этого я заказал в Москве движок, чтобы у корпункта была своя электростанция.
О тропической жаре писали много. О вьетнамской — тоже. Для наезжих гостей со здоровым сердцем трехнедельное пребывание в местной парилке было лишь испытанием выносливости, волнующим, будоражащим эпизодом, но тем, кто жил здесь месяц за месяцем, приходилось тяжко.
Как правило, вьетнамцы — и мужчины и женщины — носят свободные, максимально облегченные одежды. Они спят на циновках, и в этом есть смысл — ты лежишь на твердом, тебе не так жарко. Если ложишься на мягкую постель, опа охватывает, согревает, и возникает такое чувство, будто на тебя наложили влажный, горячий компресс.
Влажность… Всегда влажны ладони. Даже когда нег жары, кажется, что купаешься во влаге. В воздухе висит водяная пыль. Если стираешь и вывешиваешь сушить одежду и нет солнца, она так и останется влажной, протухает, киснет. В платяных шкафах постоянно горит электрическая лампочка — для просушки воздуха. Покрывается плесенью оставленный кусок хлеба, всегда влажны соль, печенье.
Налеты на Ханой продолжались. В газетах была информация из Южного Вьетнама: репортажи о героизме, постоянно меняющаяся цифра сбитых американских самолетов, фотографии бойцов на позициях, пожаров, пленных летчиков, падающих, горящих самолетов, заметки, как хранить муку, рекомендации по оказанию первой помощи раненым, призывы укреплять дамбы против тайфунов и наводнений, сообщения о соревнованиях пловцов в Ханое…
Газеты повторяли крупным шрифтом высказывание президента Хо Ши Мина: «Ханой, Хайфон, так же как и некоторые другие города и предприятия, могут быть разрушены, но вьетнамский народ не запугать. Нет ничего дороже независимости и свободы. Когда придет день победы, наш народ восстановит страну и украсит ее более величественными и более прекрасными сооружениями!»
Мне не раз задавали вопрос и дома, и в других странах: «Ну, как там Ханой, что от него осталось?» От Ханоя осталось многое. Центр города американские пилоты, как правило, трогать не решались, хотя и электростанция и мост тоже были расположены у центра.
В Северном Вьетнаме шла особая война, и выбор объектов диктовался не только военными, но и политическими соображениями. Как мне казалось, большей военно-политической глупости, чем бомбардировки Ханоя, нельзя себе представить. В конечном счете бессмысленными были все бомбардировки Северного Вьетнама, но Ханоя — в особенности. Воевала страна, а не один город, в этой стране американцы давно уже бомбили то, к чему они приступили в Ханое, и без результата. Зачем же было совершать налеты на Ханой, откуда были эвакуированы и промышленность и население? Но дело, вероятно, в том, что американские генералы, те, которые сидели в теплых или прохладных (по сезону) кабинетах, пили в жару прохладительные напитки, а в холод — согревающие, ложились в стерильно чистые постели и каждый день принимали душ, а в жару Несколько раз не совершали таких поездок и не представляли себе реальной обстановки во Вьетнаме. У них происходило психологическое смещение в оценке значения и эффективности тех или иных действий.
Возможно, американцы думали: «Вот мы разбомбим электростанцию, водопровод, оставим их без воды и света. Как они будут страдать от жары — ужо им! Туг-то они и капитулируют, тут-то и будет оказано военное, моральное и политическое давление на правительство ДРВ…» Но… давайте отвлечемся на мгновение от колоссальной силы, которая таится в социалистическом строе, от престижа партии и правительства республики, от потока помощи, который шел в Северный Вьетнам из Советского Союза. В условиях Вьетнама обладание электричеством, вентилятором, краном с водой было исключением, а не правилом. Этим постоянно пользовались лишь несколько сотен тысяч человек из семнадцатимиллионного населения. Эти блага пришли во Вьетнам недавно и не стали еще непременной частью быта, потеря их не означает трагедию. В ряде районов Вьетнама жили наши специалисты, они жестоко страдали от жары, но выдерживали и не рвались домой. Но мы же северяне, а вьетнамцам не привыкать. Я уж не говорю о патриотическом подъеме, накале ненависти к захватчикам.
С психологической точки зрения бомбардировки Ханоя не принесли США никаких преимуществ, а наоборот — моральный ущерб. Кроме того, каждая бомбардировка города стоила больших потерь. С такой мощью противовоздушной обороны, как в Ханое, американцы никогда в истории не сталкивались. Это признавали даже в Вашингтоне.
В самые свои черные дни американская авиация теряла по десятку самолетов из сотни, полутора сотен, участвовавших в налетах.
Как я уже говорил, американцы бомбили Ханой выборочно. Пытаться разнести центр города на виду у всего мира, у дипкорпуса, у журналистов, иностранных делегаций американцам было политически невыгодно. Они ограничились очень жестокими бомбардировками окраин, пригородов, Заляма, некоторых объектов в центре, но не приступили к тотальному уничтожению Ханоя, как они в свое время сделали с Пхеньяном.
Несмотря на известную «выборочность» бомбардировок, Ханой все Же сильно пострадал. Гибли люди под всевозможными видами бомб.
Несколько пояснении об оружии, применявшемся американцами во Вьетнаме.
Шариковые бомбы. Это «новое поколение» шрапнельных бомб времен второй мировой войны. Первая разновидность этого оружия — так называемые «ананасы». Бомбы цилиндрической формы, желтого цвета, размером с граненый стакан, закладываются штук по восемнадцать — двадцать пять в специальные трубы. Двадцать труб, в свою очередь, помещаются в контейнер. В воздухе у этой шариковой бомбы раскрывается стабилизатор — хвостовое оперение, отсюда и сходство с ананасом. «Ананасы» могут выталкиваться из контейнера как все сразу, так и из одной трубы, оставляя внизу разрывы в линию, по пунктиру.
Вторая разновидность — шарообразные «апельсины». Они закладываются в большие контейнеры по полтысячи штук в каждом. Одна бомба свободно умещается на ладони. Темная поверхность ее ребриста.
Шариковые бомбы предназначены исключительно для убийства людей. В них примерно триста шариков, которые не пробивают даже толстой доски, но опасны для человека. Они входят в тело и движутся там по сложной траектории, затрудняя оперирование. Шарик оставляет маленькую ранку, снаружи крови мало, но происходит внутреннее кровоизлияние. Применение этих бомб было очень велико. Во Вьетнаме находили их целые контейнеры.
Управляемая ракета «булпап». Начинена 113 и 450 килограммами взрывчатки.
Весь арсенал фугасных бомб до трехтысячефунтовых включительно.
Десятитысячефунтовые бомбы. Впервые были сброшены в Южном Вьетнаме в конце 1968 года, а затем их стали применять и на Севере.
Американские ракеты «шрайк». Использовались в основном против ракетных и зенитных дивизионов, вернее, против их радарных установок. Радар на расстоянии засекает самолет. Когда он входит в зону действия радаров наведения, его приборы регистрируют облучение, и он на луч радара выпускает «шрайк». Операторы станций наведения научились «обманывать» «шрайки» и заставлять беспорядочно падать эти серые сигары длиной около трех метров. В каждом «шрайке» 23 килограмма взрывчатки и несколько тысяч стальных кубиков.
Для того чтобы сообщить журналистам о последних событиях в стране, о новых бомбардировках, в Ханое устраивались пресс-конференции. Как правило, они проходили в так называемом Международном клубе. Это небольшое одноэтажное здание с кинозалом, баром, бильярдом. Вечером здесь можно увидеть одного-двух иностранцев. Сад изрыт бомбоубежищами. Иногда сотрудники нашего посольства, аппарата экономического советника или торгпредства приходили играть в волейбол, по тревоге бежали в бомбоубежища, затем продолжали игру.
Чаще всего пресс-конференции организовывала комиссия по расследованию американских преступлений во Вьетнаме. Ее представители зачитывали соответствующие заявления.
На стендах вывешивались фотографии разрушений, пожаров, убитых, раненых, иногда вещественные доказательства преступлений. Нередко на пресс-конференции приводили раненых — женщин, детей, стариков. Они рассказывали, при каких обстоятельствах происходили налеты, как они были ранены, кто у них в семье погиб.
В Ханое работали корреспонденты «Нойес дойчланд», Польского телеграфского агентства, Чехословацкого телеграфного агентства, венгерской «Непсабадшаг», несколько японцев из «Акахаты» и с телевидения, представители «Юманите» и Франс Пресс, Пренса Латина и советские журналисты от ТАСС, радио, «Известий», АПН, «Правды», журналисты других стран. Пресс-конференции посещало много вьетнамских журналистов. Сюда же приглашали представителей иностранных посольств и миссий. На столах стояли бутылки с лимонадом и пивом. Стрекотали киноаппараты, вспыхивали блицы.
Иногда в Международный клуб приводили американских летчиков. Нередко только что сбитых, очумевших, словно попавших на другую планету, не способных ни толком соображать, ни держаться. Они не говорили. Их показывали. Иногда прокручивали их заявления, записанные на пленку. Американская пропаганда жаловалась, что, мол, «бесчеловечно» выводить пленных летчиков на пресс-конференции, это, мол, «негуманно». А ведь они только что убивали, где-то еще стонали люди, раненные ими, где-то дымились сожженные ими дома.
Летом 1968 года мне устроили встречу с капитаном ВВС США Расселом Эдвином Темперли, который участвовал в налетах на Ханой.
Он носил тюремную куртку и бриджи; в другой одежде его можно было бы принять за коммивояжера, инженера, средней руки бизнесмена, наконец, за обычного гражданского летчика.
— Знаете ли вы, что являетесь преступником? Знаете ли вы, что в Соединенных Штатах за убийство женщины, ребенка, старика или другие тяжкие преступления полагается тюрьма или электрический стул?
— Э-э-э… ммм. Да, я знаю все это…
Темперли родился в 1935 году в городе Ньютоне, штат Массачусетс, холост. Служил в 496-й эскадрилье 388-го полка тактической авиации, базирующейся на Корат (Таиланд), личный номер 59025.
— Вы христианин?
— Да я протестант.
— Что вы знали о Вьетнаме перед тем, как прибыли сюда?
— Я знал очень мало о Вьетнаме и вьетнамском народе. Примерно за десять месяцев до прибытия в Юго-Восточную Азию мне дали небольшую брошюрку, в которой содержались общие сведения… о Южном Вьетнаме. В ней ничего не говорилось о войне или о причинах этой войны. В ней не было ничего о Северном Вьетнаме, его населении. Это была очень общая брошюрка. В ней было мало сведений о вьетнамском народе и обо всем районе….
— Что думали ваша мать и друзья о вашем участии в этой войне?
— Моя мать? Ах, да… Моя мать старая женщина, и я был единственным сыном в семье. Естественно, она не хотела, чтобы я уезжал. Она была против этого. Она молилась за меня, беспокоилась за меня.
— Я прибыл на базу в Корате шестого июля шестьдесят седьмого года, — продолжал рассказ Темперли. — Это было мое первое путешествие в Юго-Восточную Азию. Я получал примерно семьсот двадцать пять долларов в месяц. Столько же, сколько другие капитаны ВВС. Каждый месяц нам давали надбавку за участие в военных действиях. Все пилоты получали по сто долларов надбавки. Более опытные летчики — несколько больше. Я получал сто двадцать пять долларов. Затем военная надбавка — шестьдесят пять долларов… Я знал, что Северный Вьетнам имеет мощную противовоздушную оборону. Я думал о себе и волновался, потому что мне надо было летать в зоне особенно мощной ПВО. Я не могу отрицать, что действительно боялся…
— Как проходил ваш последний вылет?
— Я поднялся с базы в Кооате двадцать седьмого октября на своем самолете «Эф-сто пять» — «Тандерчиф», имея шесть бомб, каждая по пятьсот фунтов. Я должен был бомбить цели примерно в двадцати милях к юго-западу от Ханоя. Когда я повел самолет на цель, разорвался зенитный снаряд. Двигатель остановился почти мгновенно. Самолет был тяжело нагружен бомбами. Он начал сразу же терять высоту. Я должен был катапультироваться. Я катапультировался на небольшой высоте и надеялся, что местные жители меня не заметят… Примерно через пять минут после приземления появились люди. Я успел снять парашют и избавиться от снаряжения, когда увидел двух крестьян. Они шли ко мне. У одного был автомат, у другого — нож. Большой нож. Они взяли меня в плен. Обезоружили, забрали одежду… То есть не одежду, а снаряжение… Я испугался… Затем появились еще двое, и меня повели к деревне. Может быть, в пятистах метрах от меня. Я не видел ее, когда катапультировался.
Темперли остановился, вытер со лба пот рукавом, выпил воду из стакана. Затем продолжал:
— Только мы пришли в деревню, как появилось несколько наших самолетов, которые летали вокруг того места, где я приземлился, пытаясь разыскать меня. Местные жители увидели эти самолеты и быстро увели меня в большую траншею. Я испугался. Люди были возбуждены, наблюдая за самолетами. А я лежал в траншее. Думал, что они собираются убить меня — пристрелить или зарезать. Самолеты вскоре улетели. Летчики не могли связаться со мной. Крестьяне вывели меня из траншеи. Ждали, когда увезут. В это время я думал: «Они обозлены! Собираются пытать меня, чтобы получить информацию, а потом наверняка убьют». Затем прибыл транспорт, и меня увезли.
— Как с вами обращаются в лагере для американских летчиков?
— Со мной обращаются нормально. Я думаю, что это хорошее обращение. Раньше я думал, что в плену условия жизни будут очень плохими — питание скверное, никакого медицинского обслуживания… Все это оказалось не так. У нас даже есть газеты и журналы. Обращение с пленными удовлетворительное как в духовном смысле, так и в физическом. Да, я считаю, оно удовлетворительное.
— Что вы думаете о разрушительной войне, которую Соединенные Штаты ведут против Северного Вьетнама?
— Действительно, мне кажется, что война в целом ошибочна… Происходят встречи в Париже… Я думаю, что США прекратят бомбардировки и другие акты войны против ДРВ. На Юге… В конце концов мне кажется, что представитель США встретится с представителем Национального фронта освобождения и вместе они выработают решение для урегулирования войны на Юге. Начнутся переговоры. Я думаю, что иностранные войска будут выведены, эвакуированы из Южного Вьетнама, отдадут территорию южновьетнамскому народу и предоставят ему возможность самому решать собственные дела.
— Если бы когда-нибудь вы оказались на свободе, какую бы избрали профессию?
— Если вьетнамский народ когда-либо предоставит мне свободу? Я не намерен оставаться в ВВС. Я хотел бы уйти с военной службы. Нет, я не хочу снова быть замешанным в войне….
Однажды вечером в конце апреля нас пригласили в Министерство иностранных дел. Нам сказали, что под Ханоем сбит американский самолет и взят в плен летчик. Пресс-конференция пройдет прямо у обломков самолета. Дело было уже к вечеру. Со мной в машину поместились «безлошадные» коллеги — Жак Моалик от Франс Пресс, его переводчик и венгр Ласло Сабо.
Мост Лонгбьен миновали благополучно, а когда помчались через Залям, завыли сирены, послышались разрывы. «Туши свет!» — закричал Жак. Видимо, где-то пролетала группа американских самолетов. Мы вышли, спрятались в развалинах. Там были вырыты неглубокие щели.
Вскоре мы тронулись дальше. Но километров через пятнадцать пришлось свернуть на проселочную дорогу, которая в дельте Красной реки обязательно проходит по дамбам. Десять сантиметров от колеса до обрыва, ухабы, грязь иногда до мотора, справа и слева метра в три скат на рисовое поле, горбатые мостики без перил, нос машины задирается так, что ты видишь звезды, но не видишь дороги. Какие-то повороты. Пути назад не было. Мотор глох, чудом заводился, проржавевший кузов скрипел. Сначала ехали без фар, опасаясь самолетов, потом я все-таки включил свет. В такие моменты бывает какое-то дополнительное чутье, неожиданно верная реакция, и мы добрались благополучно.
Начиналась пресс-конференция. Ее вел представитель военного командования. На стене висела карта бомбардировок Ханоя и его окрестностей. Рядом со столами на полотне лежало имущество американского летчика — надувная лодка, пистолет, деньги, кое-какие продукты, личная карточка, кинжал. Сам летчик уже умер. Он был тяжело ранен при катапультировании, а затем его подобрали вот эти три крепкие крестьянские девушки со старенькими винтовками за плечами. Сельский фельдшер оказал ему первую помощь, но было поздно. Затем мы направились в поле, чтобы посмотреть на обломки самолета. Я подобрал кусок на память.
Мы тронулись обратно часа в три ночи. Сказалась усталость, я угодил в яму, и «Волга» зависла над рисовым полем. На счастье, сзади ехал «газик» с сопровождающими нас вьетнамцами. Они сходили в соседнюю деревушку, пригласили крестьян и дружными усилиями с помощью длинных бамбуковых палок и кольев вытащили машину. В Ханой приехали часов в пять утра.
Ханою жилось трудно в то лето 1967 года. Я случайно попал в зоопарк. Зверей почти не было. Клетки опустели. Как мне объяснили, самых ценных обитателей эвакуировали. В одной из клеток лежали на полу два орла. Я подошел, щелкнул пальцем по мощному клюву птицы. Орел встрепенулся, вскинул голову, в его глазах на мгновение вспыхнул огонек, затем он бессильно опустил шею. Он умирал.
Людям, ведущим нечеловечески напряженную борьбу, было не до птиц. Все силы, энергия, воля, ресурсы нации были брошены на войну. Нужна была железная дисциплина во всем, и в особенности в контроле за продовольственными ресурсами. Государство пошло на строжайшее рационирование продовольствия и всех предметов широкого потребления. Волыним успехом Северного Вьетнама в этом плане было установление единых норм выдачи риса по твердым цепам, а затем, в связи с увеличением поставок муки из СССР, также хлеба и мучных изделий.
Кое-какие овощи, фрукты, продававшиеся на многочисленных маленьких рынках в переулках или на перекрестках, в общем-то были доступны населению. Изредка продавали связки лягушек, мелких креветок, ракушек. Люди стояли в лавках за рисом, тканями, за мукой, в жару за пивом. Но длинных очередей не было. Действовала неплохо налаженная система распределения, контроля. Почти в каждом дворе в Ханое росли бананы или папайя. Все предприятия и учреждения создали подсобные хозяйства.
По карточкам выдавали ткани, мыло, керосин, дрова, бумагу, зубную пасту, чай, сигареты, кофе. Их доставляли прямо на заводы и учреждения и там распределяли или продавали через магазин по карточкам. Самые дефицитные товары распределяли на общих собраниях населения, в учреждениях или на предприятиях.
Оценивая усилия страны, можно сказать, что с помощью поставок из СССР и других социалистических стран Вьетнам избежал голода и удовлетворил минимальные потребности населения. Пережить годы войны вьетнамцам помогло и то, что уровень потребления для основной массы жителей и в прошлом был невысоким. Вьетнамский народ в целом часто недоедал. И до войны в обиходе были карточки. Вьетнам знал катастрофы, стихийные бедствия, войны. Сжимать свои потребности со сравнительно невысокого до низкого уровня для вьетнамцев не было в новинку. В жарком тропическом климате большую часть года люди не нуждаются ни в теплой одежде, ни в прочных жилищах, ни в отоплении. Многие вьетнамцы говорили мне, что, несмотря на военные трудности, они жили лучше, чем в период первого Сопротивления.
Перед поездкой во Вьетнам я думал, что влажный тропический климат способен обеспечить круглогодичное изобилие овощей и фруктов, но обнаружил, что в начале лета в Ханое пропадали помидоры, огурцы, большинство фруктов. И для тех, кто ориентировался на вьетнамский стол, оставался один «овощ» — проросшая фасоль. Очищенные и приправленные уксусом ростки были вполне съедобны. На второй год жизни во Вьетнаме я открыл для себя незрелую папайю — ее мякоть по вкусу напоминала капусту кольраби или кочерыжку обыкновенной капусты. С арахисом и луком это было неплохо. Картошка в разгар сезона стоили в пять-десять раз дороже апельсинов и считалась роскошью. Лук был всегда мелкий — с ноготок.
Раз в неделю или в две, иногда реже по маршруту Сайгон — Пномпень — Вьентьян — Ханой и обратно курсировал самолет Международной комиссии по наблюдению и контролю. Однажды американцы под его прикрытием пытались бомбить Ханой, а ПВО вынуждена была молчать и открыла огонь лишь тогда, когда самолет коснулся посадочной дорожки. Последовали энергичные протесты, и американцы больше таких «экспериментов» не делали.
Июль 1967 года, когда я вернулся из поездки к семнадцатой параллели, полз томительно медленно. Обычные две-три тревоги в день не меняли ритма жизни.
В августе начались новые бомбардировки. 11 августа после нескольких предварительных объявлений по радио во второй половине дня завыли сирены, а с ними вместе загрохотала канонада, навис рев самолетов. В этот день основной удар пришелся по мосту Лонгбьен и Заляму. Я выбежал на порог балкона и увидел, как самолеты пикировали в районе Красной реки. Там поднимались столбы черного дыма. Прошла первая волна налета. Выждав минут пятнадцать, я вскочил в «газик», и вместе с переводчиком мы поехали к реке. Поднялись на дамбу. 1ам уже были люди. Они смотрели в сторону Заляма. Левобережная часть Ханоя горела.
И вот мы уже мчимся к мосту. Он еще не оцеплен. Оставив машину на берегу, бежим вместе с подоспевшими корреспондентами вьетнамской кинохроники по мосту. Метрах в двухстах пылает бензовоз. Несут раненых. Это дежурные, остающиеся на месте даже во время тревоги.
Еще дальше грязно-желтое пламя бьет во все стороны — горит бензовоз. Провал с левой стороны. Мы перелезли на правое полотно. Еще несколько десятков метров — снова провал на мосту. На нас смотрит помутневшими глазами случайно уцелевший вьетнамец, Его перекрученный велосипед валяется по другую сторону провала, сам он жадно курит и повторяет, видимо, бессознательно: «Жаль велосипед… Жаль велосипед…»
Опасаясь, что налет может повториться, мы быстро возвращаемся обратно. Навстречу бегут бригады ремонтников с написанными от руки сейчас, а может быть, и заранее заготовленными лозунгами «Отстоим Лонгбьен!».
Мост перестал действовать. Его бомбардировка, подобно многим другим, не привела, однако, к желаемым для американцев результатам. Да, эшелоны не переправлялись некоторое время через Красную реку. Да, возить грузы поездами гораздо экономичнее, чем автомашинами. Но во Вьетнаме на земле в отличие от неба была не война минут, а война месяцев и лет. Если груз запаздывал, орудия не стреляли несколько дней, потом получали снаряды и начинали стрелять снова. Люди терпеливо ждали подвоза товаров, а если он задерживался, ситуация в целом менялась мало. Положение изменилось бы, если бы на несколько недель был парализован весь транспорт. Но этого американцам никогда не удавалось достигнуть.
В тот же день начали действовать первые паромы через Красную реку. Несколько дней у причалов выстраивались громадные очереди автомашин и велосипедистов: у местных служб не было опыта в организации движения. 12 августа во время нового налета мы заметили, как в Заляме упал американский самолет, и попытались переправиться, чтобы сфотографировать обломки. Это заняло несколько часов. Когда пристали к левому берегу, сгущались сумерки, фотографировать было нельзя, мы вернулись обратно тем же паромом.
Потом появились понтонные мосты, один, два, три, специальные паромы для велосипедистов, переправа начала действовать ритмично. А понтонный мост, ну, предположим, разбомбят, ну, утопят два-три звена, остальные уплывут вниз по реке или останутся здесь на якорях. Их соберут, соединят — и снова пошли машины.
Примерно через месяц после первой бомбежки Лонгбьен восстановили. Американцы его снова разбомбили. Затем его опять восстановили. Так три раза. Составы и автомашины шли мимо обрушившихся в воду ферм, перекрученных балок. Трудно было сооружать новые быки на самой стремнине, но и с этим справились.
Возможно, противник рассчитывал, что удар по мосту в августе — месяце гроз, тайфунов и высокой воды — будет особенно ощутимым. Хлестали тропические ливни, но паромы не переставали работать.
В Ханое зрелище грозы было бесподобным. Лиловые тяжелые тучи надвигаются быстро. Они закрыли небо и придавили воспаленный от зноя город. На несколько минут стало нечем дышать. Потом небо раскололось могучими молниями, и с него водопадами забила вода стеной. Водосточные трубы захлебнулись. Потоки низвергались с крыш. Улицу рядом с нашим домом затопило. Вода поднималась выше щиколоток. У нас залило двор, гараж.
Набухали ханойские озера, но ливень не кончался. Казалось, давно бы пора прекратиться ливню, а он все хлестал. Вода прибывала. Некоторые улицы превратились в реки. Машины шли по ним, как катера. Площадь Бадинь стала озером. Мутная Красная река тяжело вздымалась, била в подножие плотин, защищающих город. Там дежурили тысячи людей. Грязно-красные волны бросались на штурм дамб. Правда, мне рассказывали, что Ханою наводнение в нормальные, невоенные годы не страшно. Если возникала угроза, что вода вот-вот перехлестнет через городские дамбы, открывали шлюзы в других районах. И вода затопляла большие площади рисовых полей, но сам город удавалось спасти.
После бомбардировки моста и Заляма ожидали новых налетов. Жители спешно эвакуировались. По тому, каким редким стал поток велосипедистов даже в часы пик, можно было утверждать наверняка, что в столице осталось меньше половины населения.
Как-то я прошелся по Шелковой улице, что ведет от озера Возвращенного меча к центральному рынку. В сплошных торговых рядах было открыто четыре-пять лавчонок.
21 августа 1967 года. Почти непрерывные объявления по радио о том, что «май бай ми» близко от города. Вой сирен. Небо раскалывается от грохота. Налет. Массированный. Короткое затишье, снова рев, снова в воздухе мелькают хищные дюралевые птицы. Горят дома, снуют туда и сюда пожарные.
Около часу возвращаюсь домой, набрасываю план репортажа в надежде, что, когда вызовут, буду диктовать. Прошло полчаса, час, полтора. Связи нет.
Мы долго пытались «прорваться» в Москву через Пекин, затем выяснили, что телеграфной связи тоже не было.
Вечером мы направились есть мороженое в ресторан «Бохо». Там сидел новый корреспондент Франс Пресс Бернар Кабан, ел лягушек, запеченных в тесте, запивая их болгарским вином. Он в этот день оказался «коммуникабельным» и смог послать короткую телеграмму о налетах на Ханой то ли через Гонконг, то ли еще как-нибудь.
Вся жизнь корреспондента, вся работа за границей (да и в любом другом месте) зависит от связи. Зачем ты здесь живешь, бегаешь, что-то узнаешь, чем-то рискуешь, если не сможешь передать материал в редакцию, и именно сегодня, а не завтра, потому что завтра любой твой репортаж, не читая, могут бросить в корзинку как устаревший.
Сколько было помех при передачах… Москву слышишь с трудом, сквозь шум, треск, хрип, пиликанье, пищание эфира. Тебя не могут разобрать, и какое-нибудь простое слово читаешь по буквам, а название, вроде Тханьхоа, повторяешь по нескольку раз: «Татьяна, Харитон, Анна, Николай, мягкий знак, Харитон, Ольга, Анна, повторяю: Татьяна, Харитон, Анна…» Тебя спрашивают: «Что? После Харитона — Иван?» — «Да нет, не Иван». — «А почему Ольга?» — «Повторяю снова!» Теряли терпение одни стенографистки, отказывались принимать материал, их место занимали другие, срывались, мы, кричали в трубку, упрашивали. И снова диктовали — и так каждый день!
…На следующий день рано утром я брился. Было примерно семь часов. Тихо. Вдруг загрохотали орудия, где-то совсем рядом ухнули взрывы. В корпункте вылетели стекла, покосились двери, тяжелая волна ударила в уши. Я нахлобучил каску, выглянул из окна. Самолеты уже улетели. Дым клубился метрах в трехстах от корпункта. Пылали дома. По развалинам поливали из брандспойтов. Кричали женщины. С яростными, залитыми потом лицами работали ополченцы, растаскивая развалины. Тлела школьная тетрадка. Из-под кучи пыльного щебня откопали мужчину, он слабо стонал. Подбежали санитары с носилками. Откопали второго. Он не шевелился. Дома рухнули прямо на трамвайную линию. Оборванные провода. Густое облако пыли. Через четверть часа пришли экскаваторы и бульдозеры. Еще в нескольких кварталах от нас дым окутал трикотажную фабрику. В марлевых масках и касках пожарные надвигаются на пламя.
Бомбардировкам подвергались и другие районы города.
Связь в этот день работала как часы, и я не отрываясь диктовал репортаж:
«Вчера Ханой пережил, возможно, самые ожесточенные бомбардировки американской авиации за всю войну. С самого утра радио прерывало передачи, и слышался суровый голос диктора: «Граждане, внимание! Американские самолеты приближаются к Ханою!» Люди покидали свои рабочие места, женщины с детьми и стариками пододвигались поближе к индивидуальным укрытиям или бомбоубежищам.
Затем — вой сирен воздушной тревоги, выстрелы зениток, дробь зенитно-пулеметных установок, тяжелый грохот ракет, устремившихся в небо. Облака разрывов. Из одного вываливается горящий американский самолет, пораженный ракетой. Корреспонденты успевают сделать несколько снимков.
«Тандерчифы» проходят над городом на высоте двести — триста метров, другие пикируют. Улицы опустели. Лишь полицейские в касках и дружины ополченцев остаются на перекрестках.
Наибольшего накала бой достигает к полудню. Бомбардировкам подвергаются одновременно центр города и окраинные районы, городская электростанция, мост, паромы на реке; левобережный район Залям окутывается дымом. Столбы пыли, дыма и пламени поднимаются в южных районах столицы. Отбой. Снова тревога. Снова отбой. Снова тревога. По улицам несутся санитарные и пожарные машины. Бешеными темпами население ликвидирует последствия налетов.
Вскоре после очередного отбоя я посетил районную больницу, расположенную рядом с городским католическим собором Ханоя около озера Возвращенного меча. Ракета типа «шрайк» попала в поликлинический корпус больницы. В нем находились раненные во время предыдущего налета. На счастье, их удалось своевременно эвакуировать в бомбоубежище. Flo трое медицинских работников убиты, трое ранены. Осколками поврежден католический собор. Деревья и стены соседних домов иссечены сталью. Директор больницы рассказала о том, что в госпитали и больницы Ханоя поступаю! десятки раненых.
Сегодня в семь часов утра жители центральных районов города были разбужены ревом самолетов, летящих на бреющем полете. Они вынырнули из низко стелющихся туч и сбросили управляемые фугасные ракеты, вес которых достигает двухсот сорока килограммов, на жилые дома и промышленные предприятия. Ракеты взрывались примерно в двухстах пятидесяти метрах от корреспондентского пункта «Правды». Сразу же после налета мне удалось посетить пострадавшие районы. Разбиты многие жилые дома, аптека, трикотажная фабрика. Под руинами одного из зданий были завалены около двадцати женщин и детей. Их жизнь была спасена в результате самоотверженной работы ополченцев и специальных отрядов по борьбе с разрушениями. Я имел возможность наблюдать, как бульдозеры, специальные крапы, пожарные машины ликвидируют последствия пожаров, растаскивают разрушенные дома и спасают погребенных под руинами людей. Однако десятки мирных жителей — женщин, детей и стариков — были убиты и ранены.
Среди населения не наблюдается никакой паники. В перерывах между тревогами люди возвращаются на свои рабочие места. Торгуют магазины, открыты кафе, на улицах продают цветы.
Ханой агрессорам не сломить! Ханой дает отпор агрессорам! Ханой, 22 августа».
Через несколько дней административный комитет города принял решение о новой массовой эвакуации населения. В нем говорилось:
«Не исключено, что враг вновь попытается бомбардировать внутренние районы города. Армия и население столицы должны срочно готовиться к борьбе, чтобы наказать агрессора и нанести ему еще более тяжелые потери. Однако для защиты жизни людей и имущества следует предпринять ряд мер. Части, обороняющие столицу, должны сражаться еще более решительно, поднять свой боевой дух, постоянно совершенствовать свою тактику, стрелять более точно и уничтожать большее количество самолетов США.
Все слои населения столицы должны серьезно выполнять задачи гражданской обороны, провести массовую эвакуацию, с тем чтобы сохранить жизнь и имущество и предоставить возможность вооруженным частям с успехом защищать город…»
Августовские бомбардировки Ханоя были такими же жестокими и бессмысленными, как и предыдущие. Новые налеты отличались от уже описанных большей или меньшей интенсивностью, но носили в общем тот же характер, разве что американцы начали применять бомбы замедленного действия. Решимость сражаться и сила духа вьетнамцев не поколебались. Но жертв было много.
В конце августа я зашел в центральную ханойскую пагоду Куан Ши. Там в дыму благовоний можно было видеть десятки фотографий, приклеенных на узорчатую бумагу, — старые и молодые лица, мужчины и женщины. Перед ними в плоских чашках лежали букетики цветов, стояли пузырьки с рисовой водкой, фрукты. Верующие поминали недавно убитых родственников. Дата смерти — 11, 12, 21, 23 августа…. Видимо, завтра появятся новые фотографии…
Из-за войны в дни национальных праздников вьетнамцы не устраивали ни парадов, ни демонстраций. Приближался День независимости — 2 сентября 1967 года. На заводах проходили немноголюдные митинги. Газеты давали праздничные «шапки». По радио звучала музыка.
Последний день августа. Суровый Ханой. Защитного цвета. Усталый после жестоких налетов. Обезлюдевший. Жаркий. Душный. Со шрамами войны. Но не потерявший своей привлекательности.
Ожидали новых бомбардировок. Должен был состояться митинг, потом правительственный прием. Были приняты специальные меры предосторожности. Пригласительные билеты прислали только часа за три до начала митинга. Мы подъехали к Международному клубу. Оттуда нас проводили во дворец Бадинь. Видимо, место проведения митинга определилось в последний момент, хотя там все уже было готово. В президиуме появились руководители Партии трудящихся Вьетнама, правительства, Отечественного фронта. В зале сидели бойцы, партийные работники, рабочие. Речь произнес премьер-министр Фам Вац Донг.
Затем представителей дипкорпуса и журналистов пригласили на прием в президентский дворец.
Год спустя этот праздник прошел по тому же ритуалу, но с чувством облегчения, оптимизма, уверенности. К тому времени американцы вынуждены были ограничить бомбардировки девятнадцатой параллелью, и в Париже дело шло к договоренности о полном их прекращении.
1967–1968 гг.
СИРИЯ, ОКТЯБРЬ 73-го
О начале военных действий на Ближнем Востоке я узнал 6 октября 1973 года в тот момент, когда находился в Анкаре, и сразу послал в редакцию телеграмму с просьбой направить меня в какую-нибудь из арабских стран. Через два дня пришло распоряжение выезжать в Сирию. Граница между Турцией и Сирией была открыта, и я решил добираться до Дамаска на автомашине. Визовые и другие формальности задержали отъезд еще на сутки. Далеко за полдень 9 октября удалось оставить Анкару.
Дорога, пролегавшая по степному плато, была пустынной. Мусульмане отмечали рамадан — месяц строгого поста, когда верующие от восхода до заката солнца не едят, не пьют, не курят, поэтому шоферы во второй половине дня предпочитают не садиться за руль на голодный желудок. Чтобы выиграть время, я гнал до Ак-сарая, не соблюдая ограничений скорости. Наступила темнота. В приветливом придорожном кафе я перекусил и снова отправился в путь. Километров сто шоссе петляло в горах. Теперь навстречу шло много машин с дальним слепящим светом. К часу приехал в Искендерун. Остановился в гостинице, пыльной и с тараканами, которая почему-то называлась «Палас» (Дворец). Поспал всего часа четыре — сказывалось напряжение шестисоткилометрового пути. Поковырял вилкой брынзу и маслины с хлебом, выпил пару чашек крепчайшего кофе и выехал.
Радио в машине я не выключал. Эфир наполняли сообщения о ходе военных действий. Египетская армия форсировала Суэцкий канал. Сирийцы вели бои на Голанских высотах. Израильтяне бомбили Дамаск, где якобы погибло около трех десятков советских людей. Я не знал тогда, что эта информация была ложной и американского корреспондента, передавшего ее, выслали из Сирии. Бывший начальник военной разведки Израиля генерал Герцог комментировал события по иерусалимскому радио: «До сих пор борьба была весьма тяжелой и кровавой; я не сомневаюсь, что предстоящая борьба не будет легкой».
Радио Дамаска передавало марши и военные сводки.
Бак автомашины мне наполнили бензином на последней турецкой заправочной станции. Но до Дамаска могло не хватить, и я решил заехать в Халеб.
Долины Сирии окутывала утренняя дымка. Крестьяне шли на поля. На холмах и на невысоких горах паслись стада овец. Все, казалось, дышало миром и спокойствием. Не верилось, что где-то недалеко сталкиваются танковые армии, дыбится и горит земля, умирают люди.
В Халебе у городской цитадели, возведенной во времена крестоносцев, скучали торговцы сувенирами, поджидая туристов. Я не увидел в городе ни войск, ни патрулей, ни зениток.
Советское консульство успело за несколько ночей благополучно отправить на родину тысячи полторы наших женщин и детей — главным образом с Евфратской стройки. На заправочной станции по специальным талонам мне налили полный бак бензина. Теперь со спокойным сердцем можно было добираться до Дамаска.
У бензоколонки бурлила очередь взбешенных людей, оставшихся без горючего.
— Как тебе не стыдно не давать мне бензина? Мне же надо ехать по делам, — уговаривал пожилой благообразный сириец рабочего паренька.
Тот смущенно мялся:
— Есть приказ…
— Какой приказ? Ведь ты сын моего брата! Позор на его седую голову!..
В глазах юноши стояла тоска. Недели через три, возвращаясь в Турцию, я снова увидел его. Он посуровел, его лицо стало непроницаемым. Никакие уговоры на него не действовали. Он выполнял свой долг. В сирийский военный быт входила дисциплина, обязательная для всех, независимо от родственных и племенных связей.
Гостеприимство, доброжелательность, приветливость — черты сирийского характера. В глубине души сириец считает, что проверить документы у гостя, особенно у друга, — значит оскорбить его подозрением, даже во время войны. Я проехал от границы до Дамаска, и меня не остановил ни один патруль, хотя мой голубой «фордик» с турецким номером явно привлекал внимание. В первые дни слова «советский корреспондент» служили паролем, и на липах вспыхивали улыбки. Но ведь за рулем мог сидеть и израильский агент. К концу войны мои документы изучали более или менее тщательно, прежде чем выказать дружеские чувства.
Из Халеба на юг вело отличное шоссе. Мелькали километры, проносились редкие глинобитные селения, оливковые рощи. Ровно гудел мотор. Все внимание было на черной полосе дороги. Я не замечал ни красок, ни запахов, ни пейзажа.
Над Хомсом высоко в небо поднимался столб густого черного дыма. Горел нефтеперегонный завод. Несколько часов назад израильские самолеты бомбили город. Куда-то лихорадочно спешили люди. Но ото была именно спешка, а не паника. Население тушило пожары. В Хомсе дорожные указатели запутали меня, и я попросил пожилого курда, вооруженного старой винтовкой, и с пулеметными лентами крест-накрест на груди показать дорогу. Он стоял на посту на перекрестке, но охотно вызвался помочь.
За Хомсом дорога превратилась в прекрасную пятиполосную автостраду без пересечений. Она пролегала через горы и пустыни. Когда я подъехал к Дамаску, то увидел рядом с дорогой нефтехранилище. По вьетнамскому опыту я знал, что они — верный объект для бомбежки. и нога до упора выжала акселератор. Скорость достигла 170 километров в час. Ветер тонко свистел в щелке бокового стекла. Показатель количества оборотов подошел к красной черте. Предосторожность была нелишней. На следующий день это нефтехранилище подверглось бомбардировке.
Мелькнули первые запыленные фруктовые деревья. Пахнуло ароматом желтеющих листьев и апельсинов. Я въехал в оазис Гуту, где лежит Дамаск, снова сбился с дороги и некоторое время плутал.
Говорят, что основатель ислама Мухаммед отказался посетить Дамаск. «Я не хочу попадать в рай до того как умру», — будто бы сказал он. Шумные столичные улицы без перехода превращаются в зеленые тоннели, образованные переплетенными кронами деревьев. Оросительная система оазиса загадочна, запутанна и полна причудливых деталей. Не холодный расчет инженера, а крупные и мелкие события, забытые историей, споры определяли план Гуты. «В каждом уклоне канала, в каждом его повороте, в трепете каждой его струйки проявляются и человеческая воля, и осуществленный замысел, и обманутые надежды», — писал французский исследователь сирийской деревни Велере.
В знойные летние дни дамаскинцы предаются отдыху в тени деревьев оазиса, у арыка и пыхтящего самовара. Сейчас под кронами деревьев стояли танки, выкрашенные в грязно-желтый цвет пустыни. Я прислушался к разговору. Иракский акцент танкистов удивил меня. Я еще не знал, что эта была первая иракская бронетанковая бригада, которая совершила тысячекилометровый бросок на помощь сирийцам. Через сутки она вступит в бой, чтобы вместе с сирийскими войсками отстоять Дамаск.
Подросток лет пятнадцати вызвался показать дорогу в посольство. Но сначала он привез меня к советскому культурному центру, разбомбленному накануне. Его охранял патруль военной полиции. Рядом валялись искореженные автомашины. Чудом уцелела доска объявлений с расписанием курсов русского языка.
У Дамаска довольно правильная планировка, здания южноевропейского типа, с бесчисленными балконами и лоджиями. Мужчины и большинство женщин одеты по-европейски. Очарование Дамаска — в багрянце ползучего виноградника на стенах домов, в приветливых улыбках людей, в тихом уюте небольших скверов и крохотных кафе, в копьях минаретов на фоне голубого неба. Но в тот момент уже чувствовалось, что Дамаск стал прифронтовым городом. Было введено затемнение. На одном из перекрестков мальчишки выкрасили синей краской фары моего «фордика». По улицам шагали вооруженные люди и в форме, и в гражданской одежде. Автомашины уступали дорогу бронетранспортерам и военным грузовикам.
Я представился послу, который кратко ввел меня в курс дела. В эти дни на сирийский фронт израильтяне бросили основные силы и несколько потеснили арабов. Обе стороны несли тяжелые потери.
Внизу у дежурного зазвонил телефон. Меня вызывала Москва, редакция. Попросили через час передать первую корреспонденцию.
Ночевал я у нашего дипломата, моего друга еще со студенческих времен. Он только что эвакуировал свою семью, и квартира сразу приняла холостяцкий вид. У него поместились «погорельцы» — директор нашего культурного центра и атташе посольства. По счастливой случайности за полчаса до бомбежки они уехали из центра по делам. Из советских людей в здании оставалась лишь преподавательница русского языка Александра Петровна Калинычева. Она прошла Отечественную войну, была награждена орденами и медалями и вот погибла на сирийской земле от израильской бомбы. Были убиты также сотрудник центра Мухаммед Амин, его жена и дети. Я встречал Амина в прошлый приезд в Дамаск. Он был симпатичный, обязательный человек, всегда готовый прийти на помощь.
Наши дипломаты разбирали пыльный исцарапанный чемодан с документами. После бомбежки они облазили развалины, откопали сейф, взяли этот чемодан, деньги, составили акт о «наличности и списании имущества» и поехали заверить его у консула. Бомба замедленного действия взорвалась у них за спиной.
Мы слушали по радио выступление помощника начальника генштаба вооруженных сил Израиля генерала Ярива: «Летчики доложили о точных попаданиях по целям в Дамаске». Через несколько дней израильское правительство официально заявило, что оно «полностью уважает и будет впредь уважать положения международного права, которые запрещают нападение на гражданских лиц и гражданские объекты», а в Дамаске израильские самолеты якобы бомбили сирийский штаб…
На следующий день меня представили в министерстве информации, откуда направили в сирийское информационное агентство (САНА). В военных условиях оно фактически превратилось в главный центр внешнеполитической пропаганды. Здесь толпились иностранные корреспонденты, трезвонили телефоны, стучали телетайпы, бегали вооруженные курьеры. Директор САНА работал и спал здесь же, поддерживая связь с иностранцами и выполняя одновременно роль цензора. Мы мгновенно перешли на «ты», которое, к слову сказать, в арабском языке предполагает меньшую степень интимности, чем в русском.
— Нужны ли какие-нибудь фотографии, документы? — спросил я его.
— Нет, сейчас не до этого.
— Как насчет цензуры?
— Мы тебе доверяем. Если ты сам в чем-то сомневаешься, позвони мне.
— Договорились. Есть еще одно дело. Ты мог бы организовать для меня поездку на фронт, в ракетное подразделение ПВО или к летчикам?
Директор пожал плечами.
— Это дело министра информации.
— Там сейчас никого не найти.
— Я позвоню министру, но ничего не обещаю.
В этот день в Дамаске тревоги почти не прекращались. Израильтяне бомбили дамасский аэродром, заводы, нефтехранилища, пригород Меззу. Сирены выли вместе с грохотом зениток и залпами ракетных установок — шла современная война, война секунд и мгновений, знакомая мне по работе в Ханое. Если ты слышал рев самолета, значит, он уже пролетел. Если слышал взрывы, то мог не беспокоиться: ты уцелел. Гак же как и во Вьетнаме, на позициях у мерцающих экранов радара сидели в полной тишине операторы и наводили ракеты на цель. Ракеты устремлялись навстречу самолетам, в небе появлялось облачко взрыва, из которого вываливались обломки. Успешные действия ракетчиков оказывали огромное воздействие на боевой дух населения. По-английски ракета «земля — воздух» называется СЭМ (по первым буквам термина «сэрфис-эйр миссайл»). В сирийских больницах новорожденных, и мальчиков и девочек, начали называть Сэмами. А в Израиле распространилось выражение «грозный генерал Сэм».
На этот раз (в отличие от 1967 года) израильтянам не удалось установить господство в воздухе. Поэтому к Дамаску без потерь подходили иракские части. Но на фронте обстановка становилась все тревожнее. Усталые сирийские войска начали отступать. Вечером 11 октября иерусалимское радио передало: «Израильские вооруженные силы на Голанских высотах начали наступление на сирийские оборонительные позиции. Пехота и бронетанковые войска прорвались сквозь позиции противника, углубились на территорию Сирии… и продолжают наступление в направлении Эль-Кунейтра — Дамаск».
Фронт был прорван. «Я думаю, что сирийские вооруженные силы практически разгромлены», — надменно заявил Даян. Но сирийское командование бросило в бой новые резервы, а изрядно поредевшие бронетанковые подразделения пополнили иракцы. Обстановка стабилизировалась и уже принципиально не менялась до конца воины.
Возможно, что даяновские офицеры уже готовили парадные мундиры в надеялись смаковать в Дамаске блюда сирийской кухни и предаваться кейфу в Гуте. Сколько их осталось лежать в сухой сирийской земле… А дамаскинцы взяли в руки винтовки и автоматы, чтобы вылавливать летчиков со сбитых самолетов. Ослепленные прошлыми победами, израильские генералы считали, что несколько бомбовых ударов превратят сирийцев в пугливое стадо. Они встретили стойких бойцов.
С первыми лучами солнца над Дамаском вновь поплыл вон сирен и загремели взрывы. Шел седьмой день войны. И девушка из цветочного магазина рядом с гостиницей «Новые Омейяды», погасив утреннюю улыбку, сурово посмотрела в небо. На ее плече висел автомат, а к поясу была прикреплена противотанковая граната. Ее брат находился на фронте, и она не знала, жив ли он. В Дамаске она тоже была бойцом, не учтенным в расчетах даяновского штаба. Впрочем, как и старик пекарь, который перед входом в свое заведение выставил мешки не с песком, а с мукой. Чтобы все видели: мука есть, хлеб будет — и не беспокоились понапрасну. Старик даже на ночь не убирал своих мешков, прикрытых полиэтиленом от дождя. Никто их не трогал.
В кафе и лавках Дамаска расклеили плакаты. Языком рисунков и лозунгов они призывали граждан соизмерять свое поведение с требованиями обстановки: «Сохраняйте порядок и спокойствие. Если надо стоять в очереди, строго соблюдайте свое место. Прячьтесь в бомбоубежища во время налетов. Помогайте захватывать в плен вражеских парашютистов и сохраняйте им жизнь. Боритесь против распространителей слухов». Это была азбука поведения во время войны. Во Вьетнаме я видел народ, который в искусстве жить на войне мог считаться гроссмейстером. Сирийцы осваивали лишь низшие разряды, но делали это с жаром.
Во время октябрьских событий была достигнута невиданная ранее мобилизация нации. Тысячи ремесленников, студентов, торговцев, крестьян вступали в отряды гражданской обороны. Взяв лопаты и кирки, они ремонтировали дороги'. Торговцы не подняли цен, не стали укрывать товары. Не успел сложиться черный рынок, который, к слову сказать, немедленно появился в Израиле.
Агрессивность Израиля, его террор служили катализатором процессов, происходящих в арабских странах, ускоряли созревание арабских пародов, укрепляли стремление сбросить старую, полуфеодальную скорлупу и в социально-экономической структуре, и в психологии. Политика Израиля была вызовом для независимого существования соседних стран. Чтобы ответить на этот исторический вызов, арабское общество должно было ускоренным темпом трансформироваться, «осовремениться». Процесс обновления, хотя и не завершился, все же продвинулся достаточно далеко.
Как-то раз я зашел в сирийское министерство культуры, расположенное в небольшом аккуратном особняке. В одной из комнат сидел человек, черты которого показались мне знакомыми. Я вспомнил, что видел его портрет в одном советском издании. Мы познакомились. Это был Ханна Мина, крупный сирийский писатель. Лет двадцать пять назад в журнале «Ат-Тарик» появился его первый рассказ — об отце, который, спасаясь от нищеты, продал свою дочь. Молодой тогда литератор приобрел известность.
Ханна Мина родился в семье рыбака в портовом городе Латакия. Работал матросом на судах, чернорабочим, поденщиком. И сейчас по виду его можно принять за мастера судоремонтной верфи.
— Я никогда не ходил в школу, — сказал он. — Я всегда писал нутром. Мне бы образование…
— Для Горького университетом была жизнь, — возразил я.
— Для него университетом была великая русская литература.
Ханна Мина — человек большого ума и глубокой культуры, хотя и приобретенной отнюдь не в стенах учебных заведений. Его роман «Парус и буря» переведен на русский язык. Он рассказывает о человеческой стойкости, которая побеждает бурю и невзгоды.
— Как война влияет на духовную жизнь народа? — спросил я писателя.
— Самая главная наша победа — над самими собой. Мы преодолели психологический барьер страха и неуверенности. В наших условиях выигрывает войну не тот, кто захватывает больше земли, а тот, кто сохраняет боевой дух и готовность сражаться.
Вошла женщина с медными волосами, немного полная, одетая в яркое, модное платье. Мина представил ее:
— Наджах аль-Аттар, переводчица и литературный критик.
Отец аль-Аттар, мусульманский богослов и судья, поэт и большой знаток арабского языка, придерживался либеральных взглядов. Его дочь получила хорошее образование. Она росла в атмосфере культа арабской литературы. Может быть, во всей Сирии сейчас нет человека, который столь тонко чувствовал бы арабский язык, как она. Аль-Аттар занималась литературой, растила детей. Ее муж — главный врач крупнейшего военного госпиталя. Во время войны она почти каждый день писала для газет и правила английские переводы правительственных заявлений.
Аль-Аттар прислушивалась к нашей беседе и кивала головой в знак согласия с Ханной Миной.
— Для нас эта война — второе рождение — сказала она. — Мы несколько дней действуем — и стали взрослыми.
У сирийцев встречаются черты характера, выраженные словами «маалейш» — «авось пронесет, наплевать, ничего» и «иншалла» — «если пожелает Аллах». Невыполненное задание, незаконченное дело, не отремонтированный вовремя механизм — «маалейш». Но беспечность в условиях войны может стать преступлением. Обещание сделать что-либо сопровождается «иншалла» — легкий способ снять с души ответственность: дескать я не виноват, на то высшая воля. В этих выражениях — фатализм и смирение Сирии вчерашнего дня, феодальных пережитков и застоя. Но сирийский народ познавал навыки организованности, к нему приходило чувство ответственности, необходимое для революции и современной войны. Офицеры не могли говорить «иншалла», обещая артиллерийскую поддержку пехоте или танкам. Механик не должен был произносить «маалейш», готовя к вылету боевую машину своего товарища пилота. Современная война должна была рождать современных людей.
Сирийцы начинали понимать, что война — не минутная вспышка героизма, самопожертвования, что помимо ратного подвига есть ратный труд — тяжелый, кровавый пот войны.
Мне удалось встретиться с генеральным секретарем ЦК Сирийской компартии Халедом Багдашем — ветераном коммунистического движения. Он довольно хорошо говорил по-русски.
— Товарищ Багдаш, какова сейчас обстановка в Национальном прогрессивном фронте? — спросил я.
— До войны в рамках фронта мы достигли единства действий коммунистов, баасистов, социалистов-юнионистов. В условиях войны оно укрепилось.
— А прежние разногласия?
— Если и были разногласия, то сейчас они забыты. Все наши усилия направлены на спасение родины.
Мы сидели за чашкой чаю у открытого окна, в перерыве между тревогами слушали разноголосицу Дамаска, вспоминали прежние встречи.
В тот же день меня принял член общеарабского руководства Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ) Фавваз Саяг. После полутора десятков переворотов и «полупереворотов», которые пережила Сирия со времени завоевания независимости, к власти пришло левое крыло этой партии. Руководство ПАСВ заявило о намерении идти по пути социалистической ориентации провело реформы, укрепило отношения с Советским Союзом. Ее союзниками по Национальному прогрессивному фронту стали другие партии и организации, в том числе коммунисты.
Фавваз Саяг — человек небольшого роста, с кобурой! на боку — встретил меня в своем кабинете в помещении общеарабского руководства партии. Здесь же стояла раскладушка, покрытая серым солдатским одеялом.
— Что вы можете сказать о единстве политических сил в условиях войны? — спросил я.
— Весь сирийский народ ведет борьбу против сионистской империалистической агрессии. В ней участвуют все партии и организации.
— Вы имеете в виду ваших союзников по Национальному прогрессивному фронту?
— Не только их, но и профсоюзы, студенческие, женские, крестьянские организации. Первый раз в современной арабской истории каждый гражданин, если он патриот, может найти свое место в борьбе — на фронте или в тылу.
— Сейчас вы уверены в ваших бойцах?
— Несомненно. Раньше наши враги сеяли сомнения в боеспособности наших солдат и относительно качества советского оружия. Сейчас мы доказываем, что наш солдат — хороший солдат и у него прекрасное современное оружие.
День проходил за днем. Все мои попытки съездить на фронт или встретиться с сирийскими ракетчиками и летчиками ни к чему не приводили.
Налеты на Дамаск продолжались, но стали гораздо менее интенсивными, чем 11 и 12 октября. В юсишалях не хватало кровяной плазмы, хотя посылки с консервированной кровью приходили из многих стран. Круглосуточно работали донорские пункты. Около университета я зашел в один из них. В комнате на койках лежали чистые простыни, пахло медикаментами, громко тикали часы. Деловитые медсестры кипятили инструменты. На улице стояла очередь желающих сдавать кровь — домашние хозяйки, торговцы, две студентки филологического факультета.
Может быть, эту самую кровь я увидел на следующий день в больничной палате госпиталя «Мезза», где лежал в числе многих своих коллег сбитый израильский летчик Херц Hoax, которому ампутировали ногу. Несколько дней назад он был молодым, сильным, абсолютно здоровым мужчиной. Сейчас он слабым’ голосом просил передать в Израиль беременной жене, что жив и хочет вернуться домой. «Со мной обращаются хорошо. Ко мне относятся гуманно. Я думал, что встречу здесь зверей», — повторил он несколько раз.
Херц Hoax прилетел бомбить Дамаск. Он полагал или делал вид, что полагает, будто здесь живут дикие разбойники с ножами в зубах. Их можно и нужно было убивать. Разве это не позволено? Его сбили. Жизнь Ноаха спас сирийский хирург Генри Зааза. Он с трудом стоял на ногах, проведя несколько суток у операционного стола. Каждый день он приходил проведать сбитого летчика. Hoax для него был просто раненым.
Генри Зааза — интеллигент, с тонкими чертами лица, бакенбардами, нервными и сильными пальцами хирурга. Он говорит по-французски без акцента, по-русски с небольшими ошибками. Зааза любит вспоминать сиреневые сумерки Парижа и пожар заката на Ленинских горах. Он учился в Москве и в Париже. Он немного старомоден, хирург Генри Зааза, и классику предпочитает современным авторам. Поэтому на его книжной полке стоят рядом Таха Хусейн, Ромен Роллан, Антон Чехов и Шолом Алейхем.
Зааза спас жизнь и другому израильскому летчику, у которого осколок засел в легком. Во время операции начался налет, и бомбы упали на госпиталь и рядом с ним. Прервать операцию значило подписать смертный приговор раненому. Все медики остались на своих местах. Рядом с хирургом находилась пожилая медсестра Лютфия Бусейри. Когда она мыла руки после операции, ей сказали, что у ворот госпиталя убит ее семнадцатилетний сын Салях. Он был изрешечен израильской шариковой бомбой. Люгфия потеряла сознание.
Она продолжала работать в госпитале. «Все раненые — мои дети», — сказала она.
Госпиталь «Мезза» не раз подвергался бомбардировкам. Его лечебные корпуса хранили следы попаданий бомб и ракет. Рядом с госпиталем валялись обломки «фантома». Среди раненых находились не только бойцы с фронта, израильские летчики и мирные жители Дамаска, но и медицинский персонал — около двух десятков работников госпиталя. Вместе с сирийцами, иракцами, саудовцами в госпитале трудились советские хирурги. Они прилетели в Сирию, когда на Дамаск уже падали бомбы, и через несколько часов сменили у операционных столов усталых коллег.
Херц Hoax заплатил страшную цену за свою слепоту — у него ампутирована нога. Он и многие другие наконец поняли, что в мире нет «сверхчеловеков» и «недочеловеков», но есть люди, с их добротой, болью, мечтами, слабостями, достоинствами. Понимали ли это те, кто посылал израильских юношей на смерть или на убийства?
Вечером 15 октября я заряжал фотопленки в кассеты и лег поздно. Вскоре меня разбудил грохот выстрелов. Стреляли со всех сторон. Израильский десант? Или израильтяне пытаются ворваться в Дамаск? Не было слышно лязга гусениц, значит, не танки. Видимо, просто десант? «Бу-бу-бу» — било что-то тяжелое. Пулемет? Нет, скорее, пушка. «Тиу-тиу-тиу» — свистели пули. Пулеметные и автоматные очереди, одиночные выстрелы, сирена автомашины, какой-то грохот — все сливалось в ночную какофонию. Какой уж тут сон!.. Снова раздался грохот совсем рядом. Кто-то стучал в дверь ногами, а может быть, прикладами? Но эта мысль была уже иронией над самим собой. Чертыхаясь, я встал. В дверях меня ожидали два наших корреспондента.
— Выступил президент Асад. Сейчас будут повторять его речь. Поедем в посольство. Может быть, услышим что-нибудь новое.
Оделся. На всякий случай схватил сумку с фотоаппаратами: а вдруг не вернусь в гостиницу? По коридорам, освещенным керосиновыми лампами, бродили полуодетые корреспонденты.
Через стреляющий, стрекочущий, взрывающийся город помчались в посольство. Там никто не спал. Два дипломата играли в шахматы. По радио передали призыв президента беречь патроны для боев. Оказывается, сторонники Асада и многие полувоенные формирования отчаянной стрельбой в воздух выражали свое одобрение речи президента. Ее вновь повторили в записи на пленку. Асад говорил с пафосом, но взвешенно: «Вы знаете, что на войне бывают обстоятельства, которые не позволяют сообщить всего. Мы не думаем, что путь к победе будет легок… За свободу и достоинство нужно платить, и платить немалую цену».
На следующий день в агентстве САНА меня предупредили, что иностранным корреспондентам будут показывать большую группу израильских пленных. К двум часам дня мы все собрались у агентства, и нас повезли вдоль горы Касъюн куда-то на север Дамаска. Стая машин — новые желтые «доджи», потрепанные «пежо», «газики», «джипы» — неслась по улицам города. Автомобили были наполнены длинноволосой, бородатой, лысой, очкастой толпой журналистов. Странное впечатление оставляли многие мои коллеги, следующие моде хиппи, в городе, который с каждым днем все более принимал вид аскетичной военной столицы.
На пыльной земле сидело человек тридцать пленных, по виду пехотинцев. Некоторые из них, захваченные врасплох, были в домашних туфлях. Они сидели, скрестив ноги, на земле, положив на шею руки, завязанные шпагатом в запястьях, опустив голову. Эти позы военнопленных кровавыми письменами горели в сердцах всех арабов, переживших горечь унижения в 1967 году. Именно так израильтяне сажали захваченных арабских солдат и офицеров во время той войны. Фотографии арабского поражения обошли западную печать. Но снимки израильских пленных в «объективной» американской и европейской прессе почти не появлялись. Зато в Израиле многие с истеричной надеждой настраивали телевизоры на станции соседних арабских государств: а не мелькнет ли на экране среди пленных лицо родственника, объявленного без вести пропавшим?
Коммандос в пятнистой форме завязали пленным глаза платками, усадили их в грузовики и увезли.
— Не слишком приятное зрелище. — ворчал какой-то длинноволосый француз, сидевший со мной в автомашине.
— Война вообще не зрелище.
— То, что мы видели, — это пропаганда.
— А мы с вами чем занимаемся, разве не пропагандой?
— Я только объективный репортер.
— Ну и передавайте объективно.
Спустя некоторое время нас пригласили в госпиталь, где лежали раненые — жертвы недавних налетов.
Не раз задумывался я над этикой работы корреспондента, в частности с кинокамерой. Я видел, как операторы наводили слепящий свет на страдальческие лица раненых, ловили «естественные позы» человеческой боли, бросались, расталкивая друг друга, к бойцам гражданской обороны, которые раскапывали трупы в развалинах после бомбежки. Цинизм? Но ведь живой кино-или телекадр, снятый другом, может вызвать «симпатию к делу арабских народов, пополнить ряды сочувствующих им, сыграть положительную политическую роль. А каково раненому, которого страдания из мужчины превращают в ребенка? Где грань между допустимым и недопустимым, этичным и неэтичным в работе оператора, хотя бы в этой узкой, но такой важной области человеческих взаимоотношений? Как найти гармоничное сочетание целей и средств кинооператору, выполняющему свою миссию, пусть даже с лучшими намерениями?
Большинство иностранных корреспондентов газет, радио и телевидения жило в «Новых Омейядах» — отеле, построенном много лет назад по образцу провинциальных гостиниц для французских буржуа. Кормили весьма посредственно, не лучшими блюдами французской кухни. В баре и вестибюле висели картины с букетиками, с пейзажами Нормандии и Бретани, обнаженными красотками.
Журналистская братия была разной. У одних под «хипповой» внешностью скрывались благородные сердца, прогрессивные убеждения. Другие слетелись в надежде снять парад даяновских войск в изнасилованном Дамаске. Они не скрывали своего разочарования. В третьих уже по характеру вопросов можно было угадать работников специальных служб.
В холле гостиницы постоянно сидел пожилой ливанец, с низким лбом, густыми усами, большим носом, одетый в темный двубортный костюм. С утра до вечера он читал газеты и лишь изредка поднимал тяжелые веки, чтобы оглядеть вновь прибывших. Молодые корреспонденты острили, что в кинофильмах тридцатых годов так выглядели матерые шпионы с умными глазами. Однажды старик исчез, и распространился слух, будто его арестовали и будто он действительно был шпионом, то ли израильским, то ли американским.
Когда фронт стабилизировался, в гостинице начали появляться девицы в брюках или в коротких платьях. Их выписали наиболее расторопные из наших западных и ливанских коллег. Некоторые представительницы «древнейшей профессии» приехали сами. Впрочем, вели они себя не очень вызывающе, шумных сцен не устраивали. «Новые Омейяды» дорожили маркой «респектабельности». Днем девицы слонялись по вестибюлю или спали, вечером тянулись к бару.
Среди приехавших журналистов у меня оказалось немало знакомых. Мы собирались за столиком, угощали друг друга пивом или вином, обменивались впечатлениями, спорили.
— Накануне войны израильский генерал Шарон заявил: «Израиль — сверхдержава… За одну неделю мы можем завоевать весь район от Хартума до Багдада или Алжира». Интересно, как это воспринимается сейчас? — заводил я своих коллег.
Маститый французский журналист, большой знаток ближневосточных дел, отвечал:
— В Израиле рушатся все основы. Двадцать пять лет они строили свою политику на военном превосходстве, на «сверхкомпетентности» своих руководителей. Сейчас военного превосходства в старом смысле слова нет. Наверняка в правящей верхушке все передрались. Какой-нибудь Сапир из числа «голубей» стучит кулаком по столу на заседании правительства и кричит Даяну: «Я уже говорил вам!»
— Но ведь в целом население в Израиле убеждено, что ведет «оборонительную войну», — пыхтел трубкой американец, приехавший на Ближний Восток сравнительно недавно.
— Уязвимое пропагандистское клише, — возражал я. — Хороший способ «обороны» — захватывать чужие земли, устраивать поселения на чужих территориях.
— Есть понятие «безопасные границы», — не сдавался американец.
— Конечно, населению внушали, что для «безопасности» страны ей нужны «естественные» границы по Суэцкому каналу и Голанским высотам. Экстремисты кричали о «естественных» границах по Нилу и Евфрату.
Но сейчас не восемнадцатый век. В эпоху ракетной техники для безопасности государства важны не горы, каналы и реки, а добрая воля соседей и мирное сотрудничество.
— Я согласен с мосье Васильевым, — поддержал меня француз. — Недавно я был в Израиле. Один из генералов, выигравший шестидневную войну, — сейчас профессор в университете. Я спросил его, какую из захваченных территорий он считает жизненно важной для безопасности Израиля. Что же он ответил? «Никакую». — «Как никакую?» — «Да так. Даяну нужны Голанские высоты для защиты израильских поселений в Галилее. Но завтра для защиты новых киббуц на Голанских высотах потребуется захватить новые участки сирийской земли. И так до бесконечности. Логика милитаристской психологии».
— Ну а вы спрашивали насчет Шарм-аш-Шейха?
— Да, спросил. Бывший генерал ответил: «Конечно, говорят, будто для безопасности мореплавания в Индийском океане нам нужен контроль над Шарм-аш-Шейхом. Но завтра потребуется контроль над Баб-эль-Мандебским проливом».
— Кстати, я слышал по радио, что арабы блокировали Баб-эль-Мандебский пролив, а значит, и весь Израиль со стороны Индийского океана.
— Возможно. Чтобы не пропустить транспортных судов, достаточно старого эсминца. А у «фантома» просто не хватит горючего долететь туда и обратно.
— Вы слишком проарабски настроены, — не уступал американец. — Израиль же должен выжить.
— О-ля-ля, но сейчас ясно, что, даже одержи Израиль военную победу, она ничего не решит, — отвечал француз. — Где уверенность, что не будет и пятой и шестой арабо израильской войны? Может ли Израиль существовать на таких условиях и в такой ситуации? Не забудьте и про нефтяной фактор…
Когда я вернулся в Москву, я смог прочитать мнение о войне, высказанное израильскими коммунистами. «Можно ли было предотвратить несчастье возобновления войны?» — писал генеральный секретарь ЦК Компартии Меир Вильнер в статье, опубликованной в нескольких израильских газетах. — Безусловно, да… Можно было давно положить конец возникновению военных действий, восстановить справедливый и прочный мир между Израилем и арабскими странами. Выдвигались различные мирные предложения, но все их сорвало правительство Израиля. Эта война ведется не за обеспечение существования и безопасности Израиля, а за… территориальную экспансию, за господство Израиля над сирийскими Голанскими высотами и египетским Синайским полуостровом, за глобальные интересы американского империализма. Кто агрессор в этой войне, являющейся продолжением июньской войны 1967 года? Агрессор тот, кто захватил территорию других государств. Борьба против чужеземной оккупации — не агрессия. Говорят о безумии. Безумен тот, кто разглагольствует о захвате Дамаска и Каира, об уничтожении «раз и навсегда» вооруженных сил арабских государств и навязывании им израильской оккупации. Ведь в 1967 году Израиль одержал военную победу. Но разве это была победа «раз и навсегда?» Разве она решила какие-либо проблемы и обеспечила безопасность? Мы, израильские коммунисты, руководствуясь искренней заботой за судьбу народа и родины, с глубокой болью за каждого гибнущего еврея и араба, с полной национальной ответственностью говорим народу: выход есть. Необходимо прекратить кровопролитие, положить конец оккупации, политике аннексий, необходимо установить справедливый и прочный мир».
За последние годы чувства национальной гордости и патриотизма в Сирии обострились. Но сирийцы отличались терпимостью к людям другой национальности и других убеждений. Большинство населения в стране — арабы-мусульмане. Однако в Сирии есть сотни тысяч арабов-христиан. Их можно встретить во всех областях жизни. Среди торговцев, врачей, технической интеллигенции немало армян. Вкрапления турок и курдов встречаются во многих городах и селениях даже в Южной Сирии. Среди армейских офицеров много черкесов. Евреи занимались торговлей и ремеслами в Дамаске в течение столетий. Политика Израиля отравила атмосферу. Однако тысячи еврейских семей остались в Сирии, и у них, во всяком случае, меньше ограничений, чем у арабов в Израиле.
Святыня Дамаска и его архитектурная жемчужина — мечеть Омейядов. В ней самой как бы отразились характерная для сирийцев терпимость, взаимопроникновение религий, синтез верований. Она воздвигнута на месте византийской церкви, которую построили на фундаменте храма Юпитера. В первые века ислама в ней вместе молились христиане и мусульмане, и до сих пор в мечети сохранилась гробница Иоанна Крестителя. Напомню для тех, кто не занимался специально историей мусульманства, что и Иоанн Креститель, и Иисус Христос включены исламом в сонм своих пророков под именами Яхья и Иса, как и иудейский пророк Моисей, которого арабы называют Муса. Недалеко от мечети Омейядов туристов и паломников привлекает гробница Салах ад-Дина (Саладина европейских хроник), который изгнал крестоносцев из Иерусалима.
Возле мечети раскинулся дамасский базар. Он велик, знаменит и славен. Даже во время войны базар кипел, хотя некоторые лавки и были закрыты. С неизменным упорством зазывали покупателей торговцы инкрустированными столиками и оружейники, ковроделы и медники. По крытым галереям, отчаянно крича, проносились на велосипедах подростки, перевозящие не очень тяжелые товары. Ослики и мулы трусили рядом с крестьянами, одетыми в рубахи до пят. Разносчики прохладительных напитков мелодично позванивали стаканчиками, предлагая пепси-колу. Впрочем, большинство утоляет жажду просто из кранов. Дамаск снабжается водой из горных озер. Ни в какой другой стране Ближнего Востока не пил я воды вкуснее.
Враг стоял в полусотне километров от Дамаска. Поэтому стоило прерваться музыке, доносящейся из транзистора, как вокруг него собирались люди, чтобы послушать последние известия.
Я забрел на улицу медников. Они превращают тупую болванку металла в блюда с замысловатыми узорами и кофеварки, в кувшины, похожие на девушек с тонким станом, и увесистые люстры. Сейчас они ковали кинжалы для десантников и мотали рулоны с колючей проволокой.
В одном из домиков у древней византийской стены, покрытой бронзовым плющом, жили трое — дряхлый старик, перебирающий четки, старуха с татуировкой на подбородке и молодая женщина, которая была беременна. Мне рассказали, что четвертого, ее мужа, с ними нет. Он славился огромной силой, любил играть многопудовыми слитками меди. Он женился на девушке из семьи беженцев из Эль-Кунейтры с Голанских высот. Их семью любили на улице медников, но это не мешало многим добродушно подтрунивать над жизнью молодоженов. Свекровь заставила невестку носить черную чадру, хотя и совсем прозрачную, а та В отместку надевала модную дерзкую юбчонку. Мужчина ушел на фронт, и женщины помирились. Накануне в дамасский госпиталь «Аш-Шарк» поступил раненый товарищ молодого медника. Он рассказал, что почти треть взвода, в котором они служили, полегла ври защите освобожденного Дже-бель-Шейха на Голанских высотах. Он не знал, среди живых или мертвых теперь бывший медник.
Когда приблизился вечер, две женщины в черном, старая и молодая, поспешили к мечети. Они прижались лбом к холодному мрамору и забормотали скорбные и гневные слова.
Еще один день закатился осенним медным светом за зубчатый гребень Касъюна.
Числа с пятнадцатого в небе Дамаска израильские самолеты почти не появлялись. В это время пришел в движение синайский фронт. Кроме того, сказывались тяжелые потери израильской авиации. Летчики — элита израильской армии. Чтобы подготовить начинающего пилота, нужно четыре года. Потери в машинах восполнялись Соединенными Штатами, а гибель людей воспринималась в Израиле очень болезненно.
За первые дни войны израильская авиация разрушила нефтеперегонный завод в Хомсе, нефтехранилища в Латакии, Тартусе, Баниасе, тепловые электростанции в Дамаске и Хомсе, Латакии и Тартусе. Для всех было ясно, что эти бомбардировки служили прежде всего целям устрашения. Их непосредственный военный эффект практически равнялся нулю. Сотни бензовозов шли из Ирака, Кувейта, Ливана, чтобы восполнить потери Сирии. Остановилась сирийская легкая промышленность, лишенная электроэнергии, но это опять-таки не оказало воздействия на ход военных операций.
Конца войны еще не было видно, а в министерстве экономики собрались хозяйственные руководители — министры энергетики, планирования, коммуникаций, внешней торговли, финансов, общественных работ. Вел заседание заместитель премьера Мухаммед Хейдар. В соседнем помещении сидели вооруженные телохранители. Наверху в сквере стояли зенитки. Хозяйственники, мыслящие сухими цифрами и диаграммами, были полны человеческих эмоций. Они обсуждали планы, как организовать тыл на случай затяжной войны. В выступлениях сквозила мысль, что страна недостаточно подготовилась к войне. А я думал о том, что сирийцы набираются зрелости, учатся переносить страдания, терпеть навязанные им лишения, проходить через разруху и вновь возрождать свою страну.
Журналистские дела вынудили меня на короткое время съездить в Бейрут.
Город встретил редкой для октября влажной жарой, но море было прозрачным, ласковым, великолепным. Если плыть с пляжа Сен-Симон, уставленного белыми кабинками, мимо изъеденного прибоем скалистого островка, то за мысом постепенно открывался Бейрут. Он появлялся сначала одним мини-небоскребом, потом другим и вырастал над волнами изящными ломаными линиями. Но когда я гулял по его улицам, то удивлялся, до чего же бестолково застраивался город: видно, к нему не применялся принцип единого планирования. Индивидуализм частного предпринимательства был доведен до крайности… Рядом с элегантными пятнадцатиэтажными домами — свалки, на бейрутском «Бродвее» — улице Хамра чувствовался запах сточных канав. Я уж. не говорю об автомобилях, которые неслись, не соблюдая правил, заставляя пешеходов прижиматься к стенкам узких улочек. Добавьте рев самолетов над головой из-за того, что трасса взлетов и посадок проходила над центром ливанской столицы…
Земля Ливана с финикийских времен была как бы торговыми воротами Ближнего и Среднего Востока… Традиции посреднической торговли сохранились. Будь это трижды банально, но я сошлюсь на шофера такси, который сказал мне: «Здесь люди поклоняются лире — ливанскому фунту, а лавка менялы для них — храм». Этот же шофер не преминул меня обсчитать. Погоня за лирой стала движущим стимулом для многих ливанцев. Страна превратилась в главный банковский центр и курорт Арабского Востока, а легальная проституция — в прибыльный бизнес. В Ливан вкладывали деньги нефтяные шейхи Персидского залива, и процветание Бейрута в конечном счете было отражением нефтяного бума на Ближнем Востоке. По через Ливан сюда проникали и идеи со всего мира. В Бейруте находились сильнейшая полиграфическая промышленность и самые богатые книжные магазины Арабского Востока.
Я бродил по центральным улицам Бейрута, над которыми буйствовала реклама, устроенная на американский манер. Видел одетую по последней моде публику, полные кафе и сияющие витрины магазинов. Заходил в кинотеатры, где на экранах, как правило, не было намека на искусство, а господствовали секс и мордобой. Когда я соприкасался со всем этим фасадом «сладкой», «красивой» жизни, то невольно думал, что вокруг Бейрута сотни тысяч человек живут если не в хибарах, то, во всяком случае, в бедных домах. Для них роскошь, «сладкая жизнь» были недоступны. Недовольство рождала не нищета абсолютная, а нищета относительная. Мастеровые с бейрутских окраин, обездоленные палестинцы, неустроенные арабские иммигранты невольно хотели взять автомат, садануть по зеркальным окнам, а что будет дальше — неважно. Автомат достать было нетрудно — ливанское общество вооружилось почти поголовно. Правда, социальную напряженность ослабляли довольно быстрое экономическое развитие, приток капиталов, возможность эмиграции, но взрывоопасного материала скапливалось все больше. Яне рассказываю здесь о кровавой ливанской трагедии, которая началась спустя два года и продолжается поныне, а просто передаю свои впечатления о Бейруте тех дней.
Война занимала умы бейрутцев, хотя воспринималась, конечно, не так, как в Дамаске. Израильская авиация бомбила ливанские радары, артиллерия обстреливала ливанскую территорию. В небе в смертельной карусели кружились сирийские «миги» и израильские «фантомы». Столичный порт, живущий транзитом, опустел. Ливанские госпитали принимали раненых. Шли сборы пожертвований в пользу воюющих арабских стран. Бейрут всегда был фабрикой слухов, а во время войны и подавно. Их подхватывали газеты, раздувало телевидение, и распространяли по всему миру тысячи корреспондентов, которым не удалось попасть в воюющие страны.
Не обошлось и без трагических происшествий. 18 октября пятеро вооруженных людей вошли в здание отделения «Бэнк оф Америка» и взорвали в помещении бомбу. Несколько служащих и посетителей получили ранения. Началась перестрелка с полицией. Налетчики, которые удерживали полсотни заложников, заявили, что они принадлежат к некоему ливанскому социалистическому движению. Они потребовали гарантировать им неприкосновенность, выплатить 10 миллионов долларов «на нужды борьбы арабских народов», а также освободить из ливанских тюрем всех палестинцев. Руководство палестинского движения сопротивления категорически отмежевалось от налетчиков. Переговоры не привели к результатам. Начался штурм, сопровождавшийся перестрелкой. Два налетчика погибли, остальные сдались. Среди полицейских были раненые. Дня на два «террор на улице банков» вытеснил с первых полос газет сообщения о ходе военных действий на фронтах.
Я вернулся в Дамаск. Вечером ко мне подошел сирийский офицер.
— Меня прислали из политического управления армии. Вы просились на фронт?
— Да.
— Завтра утром за вами заедут. Вам разрешено находиться в боевых порядках атакующей бронетанковой бригады.
Утром, когда я спустился в ресторан отеля, чтобы позавтракать, американцы с соседнего столика, прильнувшие к транзистору, крикнули мне:
— Скорее сюда! Сообщение из ООН…
Передавали резолюцию Совета Безопасности, принятую по предложению Советского Союза и США. Она призывала прекратить огонь и все военные действия в течение двенадцати часов с момента принятия решения.
За мной, естественно, никто в то утро не приехал.
Все ждали реакции сирийского руководства. Египет и Израиль согласились с резолюцией. По дамасскому радио по-прежнему передавали только патриотические песни и военные коммюнике. Вечером по радио объявили о решении Совета Безопасности, о заседании национального и регионального руководства ПАСВ, Прогрессивного национального фронта — и ничего больше. На следующий день стало известно, что израильские войска, воспользовавшись перемирием и нарушив собственное обещание прекратить огонь, бросились в наступление на западном берегу канала в направлении города Суэца. Обстановка во всем районе накалилась. Совет Безопасности принял новую резолюцию, требуя прекратить все военные действия на Ближнем Востоке.
Мы не отходили от радиоприемников. Никаких сообщений о том, как сирийское правительство реагирует на резолюцию Совета Безопасности, по-прежнему не было. Настала «ночь предопределения» — кульминационный пункт месяца рамадана. В эту ночь, по мусульманской легенде, Аллах послал с архангелом Гавриилом на землю Коран. По радио передавали молитву из мечети Омейядов и проповедь главного муфтия. Само сочетание слов «ночь предопределения» с боями на фронте электризовало толпу. В мечети и вокруг нее собрались десятки тысяч человек. Слышались вздохи и выкрики. Голос проповедника звенел: «А кто даст тебе знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев… Она — мир до восхода зари».
Бои на Джебель-Шейхе достигли апогея. На головы отборных сирийских подразделений были сброшены лучшие израильские десантники. Схватки дошли до рукопашной. А в воздухе сшибались десятки самолетов с той и с другой стороны. Большую часть Джебель-Шейха арабы удержали до перемирия.
Наконец сирийское правительство приняло решение Совета Безопасности. Ирак не согласился с ним, но начал отводить свои войска с сирийско-израильской линии перемирия.
Моя работа в Дамаске закончилась.
По знакомой автостраде мимо сгоревшего нефтехранилища я поехал в Хомс, откуда свернул на Латакию — главный сирийский порт. Навстречу двигались только что выгруженные танки, грузовики с боеприпасами. В душной Латакии я остановился в гостинице «Джеляль». Ее содержал старый сириец-христианин. Он старался создать в небольшом старом доме семейную обстановку. Работали в нем в основном родственники. Жена хозяина готовила, а взрослые дети, вернувшись с дежурства в отряде ополчения и повесив автоматы на крючки, надевали белые фартуки официантов. Старик подсел ко мне и долго рассказывал, как его брат пятьдесят пять лет назад учился в русской православной школе в Палестине, а также о том, какие именитые гости жили в его заведении. «О бездушие современных отелей, — думал я, — о уют и человечность старых гостиниц со скрипучими половицами…»
Утром я отправился в порт, побывал на нескольких наших судах, познакомился с сирийскими рабочими. Грузчик Халид Таляти показался мне одним из героев произведений Ханны Мины. Коренастый, крепкий, острый на словцо, любитель посидеть в кофейне, поиграть в нарды, но когда надо — хваткий и злой в работе. Его племянник был в армии. Грузчики работали, не выходя из порта по нескольку суток. Горели нефтехранилища, и грязно-желтое пламя освещало затемненный город. На внешнем рейде торчали из воды надстройки японского и греческого судов, потопленных израильтянами. Советские транспорты входили в порт с раздраенными трюмами и подъемными механизмами наготове. Их сопровождали эсминцы нашей Средиземноморской эскадры. Экипажи транспортов трудились бок о бок с сирийцами. Суда, которые раньше разгружались за две недели, во время войны загружаются за одни сутки.
В самом начале военных действий израильские катера подбили тремя ракетами советское транспортное судно «Илья Мечников» в порту Тартус. Два других советских корабля подошли к горящему «Мечникову», и три команды несколько часов пытались потушить пожар. Когда создалась угроза взрыва, «Мечникова» выбросило на мель. Последовало известное заявление ТАСС. После этого ни одно советское судно не подвергалось нападению израильтян.
Накануне отъезда из Дамаска я встречался с министром планирования Мустафой Халляджем, экономистом и немного поэтом.
— Израиль хотел бы отбросить Сирию назад, законсервировать бедность и отсталость, — говорил он.
— За какое время вы надеетесь восстановить разрушенное?
— Сейчас трудно сказать. Наша надежда сейчас — гидроузел в Табке.
Редакция дала мне задание после окончания военных действий посетить строительство гидроузла на Евфрате. Время у меня было, и по дороге в Табку я завернул в город Хаму, чтобы посмотреть знаменитые нории.
Я вышел из автомашины и остановился около заросших тиной гигантских водоподъемных колес. Древность оставила нам затянутые песком развалины, ломкие манускрипты, идеи, измененные до неузнаваемости. Но редко где можно встретить механизмы, которые трудились бы на человека уже два тысячелетия. Через сирийский город Хаму прошли римляне, византийцы, крестоносцы, мамлюки, турки, французы, а эти нории все скрипят и скрипят и подают по акведукам воду на поля.
Я вслушался. В плеске падающей воды кто-то, может быть, услышит победный клич древнего изобретателя этих механизмов. А мне в тележном скрипе норий почудился вечный стон истосковавшейся сирийской земли: «Воды, воды!..» Ведь нории не могли утолить ее жажды.
Час за часом ты мчишься на автомашине по сирийской пустыне, и лишь ветер закручивает пыль в одинокие смерчи. Воды не хватает. О ней мечтает кочевник, которого в мареве пустыни манят миражи тенистых пальмовых рощ и озер. И не только он. В обширных районах на западе и севере Сирии под весенним дождем грязно-рыжие просторы покрываются сочной зеленью, и здесь возможно богарное земледелие. Но крестьянин, бросая в землю зерно, никогда не знает, чем отплатит поле за его труд: обильным ли урожаем, полными ли закромами или же сгоревшим от зноя колосом.
Нехватка воды тормозит развитие сирийской экономики. Без орошения невозможно добиться устойчивых урожаев, поднять сельское хозяйство, уровень жизни. А на севере протекает полноводный, хотя и капризный Евфрат. Много раз ставился вопрос о строительстве плотины на реке во времена, когда страной, как своей колонией, управляла Франция. Много раз обращалось к Западу за помощью правительство независимой Сирии. Ответа не было.
Сирийскому народу протянул руку помощи советский человек.
Гидроузел на Евфрате, сооруженный при сотрудничестве с Советским Союзом, устранил угрозу наводнений, создал возможность удвоить площадь орошаемых земель Сирии, в несколько раз увеличить производство электроэнергии.
Раньше селение Табка нельзя было найти на мелкомасштабной карте. Едва ли двести душ жило в двух десятках глинобитных хижин. Я видел, проезжая через северные районы Сирии, эти крестьянские домики, которые встречаешь в широкой полосе пустынь от Сирии до Афганистана: над обычной мазанкой надстраивается яйцевидный купол, деревня издалека напоминает груду поставленных торчком яиц. Купол дает прохладу в жару и защищает от редких ливней.
Там, где на тощих пастбищах паслись овцы, сейчас раскинулся молодой город. Я ходил по озелененным улицам Табки, вслушивался в говор молодой и веселой толпы. Спускался по звенящим под ногами железным лестницам на дно котлована, где в путанице железной арматуры искрились огни электросварки. Забирался в кабины машинистов подъемных кранов, садился рядом с водителями самосвалов и бульдозеров, беседовал с советскими и арабскими рабочими, инженерами.
После начала военных действий на стройке оставалось около тысячи наших специалистов и более двенадцати тысяч сирийских инженеров и рабочих. Сотни квалифицированных рабочих, особенно шоферов, монтажников, электротехников, были мобилизованы. Несмотря на пост во время рамадана и нехватку людей, стройка жила. Но ход работ оказался под угрозой…
На первый взгляд ракетный обстрел «Ильи Мечникова», разрушение электростанций были лишь актами устрашения. Я уже говорил, что никакого влияния на ход военных действий они не оказали. Однако когда складываешь воедино факты, то обнаруживаешь и другое. На «Мечникове» находилось оборудование для пуска первых трех агрегатов Евфратской гидростанции, необходимая документация и козловой кран. Разбомбленная электростанция в Хомсе раньше давала энергию в Табку.
Советские и арабские специалисты разработали «блуждающий график» снабжения энергией важнейших объектов, приостановили самые энергоемкие производства — земснаряды и компрессоры. На стройке была своя небольшая электростанция, немного энергии давал Халеб, включили в сеть движки земснарядов. Поэтому строительно-монтажные работы на тех участках, которые обеспечивали пуск первых трех агрегатов, не прекращались.
Генеральному директору строительства Субхи Кахали было шестьдесят два года. Но выглядел он подтянуто и моложаво. Он учился в Турции и США, работал в Западной Европе и некоторых арабских странах, растрачивая талант инженера и руководителя на чиновничью суету, на что-то второстепенное, незначительное. Гидроузел на Евфрате — цель и смысл его жизни.
— Мы в Табке держали второй фронт против Израиля, — сказал он в беседе со мной.
— Чем вы объясняете успех на этом «втором фронте»?
— Советские специалисты и мы, арабы, жили и трудились, как одна семья. Это, пожалуй, главное. Кроме того, наша стройка воспитывает нового сирийца. Здесь рождается новый гражданин, с чувством собственного достоинства, ответственности перед страной.
Сварщику Хусейну Шехуду было около сорока лет. Он вырос в семье крестьянина, который владел клочком земли, но лишь по большим праздникам у него на столе появлялось мясо. Маленькая нория — не такая большая, древняя и знаменитая, как в Хаме, подавала на несколько бедняцких полей воду. Ее хозяин брал за это с крестьян половину урожая. С четырнадцати лет Шехуд батрачил, ходил по Сирии, чтобы заработать на лепешку и маслины. Он уехал в Ливан и нанялся грузчиком на цементный завод в Бейруте. Однажды вечером Шехуд забрел на улицу Хамра, мерцающую бешеной рекламой, поймал брезгливые взгляды чистых господ, брошенные на его заляпанный цементом костюм, и почувствовал себя бездомной собакой. Он вернулся на родину, женился и снова стал батрачить за горький кусок хлеба. Наконец Шехуд пришел в Табку.
Он сидел передо мной, этот бывший крестьянин, с лицом, рано покрывшимся морщинами, но на нем не было выражения забитости или униженности. Это было гордое лицо человека, который знает свое место и свое дело. Каждый раз, надевая маску и беря в руки сверкающий огнем аппарат, Шехуд чувствовал себя человеком. В нем проснулось достоинство.
Его обучил русский. Этого он никогда не забудет, хотя честно признался, что сохранил в памяти лишь имя своего учителя — Иван.
Узкая асфальтированная дорога привела меня к сирийско-турецкой границе. Солнце клонилось к закату. В долинах густели тени. Воздух был легким и свежим. Сирийские пограничники проверили мои документы, пожали руку и подняли шлагбаум.
1973 г.
ПУТЕШЕСТВИЕ В «АРАБИА ФЕЛИКС»
Теплый, влажный ветер с моря почти не освежал. На волнах у причала бились катера и шлюпки. На рейде прерывистой цепочкой светились огни крупных судов. Море, слегка фосфоресцируя, ласково плескалось.
Ко мне подошел неопрятно одетый европеец. Он оказался голландским матросом, который пропил на берегу все, что у него было, отстал от судна и теперь искал денег, чтобы выпить еще. Голландец спросил меня, не такой ли я матрос-горемыка, как он, и, получив отрицательный ответ, потащился прочь. Два японца, на лицах которых формально вежливое подобострастие давно сменилось выражением превосходства над всеми окружающими, спросили меня на ломаном английском языке, где можно «повеселиться». Я ответил, что не знаю.
Причал опустел. Хотелось долго-долго стоять, слушая плеск волн, и вдыхать ветер с океана.
Пробили часы на городской башне, построенной по подобию лондонского Биг-Бена. И хотя часы показывали неточное время, они напомнили мне, что пора возвращаться в гостиницу, чтобы не пропустить ужин. Я прошел мимо лодки — копилки общества помощи слепым и очутился в районе Адена, который при англичанах назывался Стимер-пойнт, а сейчас Тавахи. За линией лавок улица резко поднималась вверх, и по ней карабкались жалкие хибарки, слепленные из старых ящиков, ржавых железных листов. Такие жилища в Адене можно встретить повсюду на склонах гор.
Лавки излучали транзисторно-магнитофонное изобилие беспошлинного города-порта. В их дверях стояли скучающие торговцы. Туристов было мало. Тогда, в 1969 году, Суэцкий канал был закрыт, он постепенно затягивался песком, и в Аден заходило в пять раз меньше судов, чем до 1967 года. Местные жители почти не покупали фотоаппаратов, часов, радиоприемников, магнитофонов, проигрывателей, биноклей, духов. Стимер» пойнт разорялся. Многие лавки слепо глядели закрытыми ржавыми жалюзи.
Торговцы, уловив каким-то чутьем, что я русский, кричали: «Эй, бадходи, басмотрим блаш, бальто для мадам хотшешь?..»
Плотное, горячее дыхание Адена осталось за дверьми гостиницы «Амбассадор», и лицо овеяла прохлада кондиционированного воздуха. За стойкой администратор регистрировал прибывших, отвечал на звонки, гонял вверх и вниз коридорных.
К выходу вслед за своими модными чемоданами важно прошествовал богатый кениец в живописных оранжевых одеждах. Бодрящаяся старушка американка, наверняка член какого-нибудь благотворительного или религиозного общества, о чем-то кудахтала со своей спутницей. Они купили «местный» сувенир японского или египетского производства и теперь делились впечатлениями. У стойки бара тянула пиво накрашенная танцовщица Сюзи, приехавшая на гастроли. Она уже не первой молодости, из тех, что «вышли в тираж» в Каире или Бейруте. Около нее увивался ливиец в тесном костюмчике — торговец сушеной рыбой. Казалось, будто, переступив порог гостиницы, ты на другом континенте, а не в раскаленном Адене.
Утром за мной заехали друзья, и мы отправились осматривать Аден, называемый арабами «Глазом Йемена».
Когда-то на месте, где он сейчас стоит, вскипела вода и чудовищная подземная сила выбросила потоки раскаленной лавы. Зыбучая масса застыла гигантской вулканической скалой. Впоследствии песчаная коса соединила ее с Аравией.
Угрюмые скалы Адена породили мрачные легенды: арабы утверждают, что именно здесь похоронен братоубийца Каин. Ибн Баттута, арабский путешественник, сообщал, что в Адене не было ни воды, ни деревьев. Его современник Ибн Муджавар утверждал: «Климат Адена таков, что вино за десять дней превращается в уксус». Киплинг назвал Аден «раскаленной печкой в казарме».
В окаменевшей, потрескавшейся лаве Адена есть что-то от застывшей смерти. Но какие бы неприятные слова ни говорили о нем, нельзя отрицать его суровой выразительности. Из океанских глубин возникает башня высотой более пятисот метров, сужающаяся к пику Шамсан. Издалека, со стороны моря, не видны здания у подножия голой скалы, и она кажется мрачной и непреклонной. В зависимости от времени дня цвет скалы меняется: ее ущелья, выступы, утесы становятся синими в свете утра, голубыми и серыми под облаками, когда дуют муссонные ветры, сияющими киноварью и малиновым цветом, всеми оттенками красного и бордового — во время заката. Цвет, наиболее подходящий к этому остывшему вулкану, можно наблюдать как раз на закате, когда пурпурные тени сливаются с черной высокой скалой.
Районы города рваными лоскутами притулились с разных сторон к вулканической горе. Скалы стискивают город, и он наступает на них. Вековое соперничество человека с безжизненными скалами придает динамизм облику этого города, который на первый взгляд может показаться непривлекательным. Англичане строили его как порт, как военную базу, и многие его районы до сих пор не избавились от уныло-казарменного вида. Только в Кратере — самой старой части Адена — можно увидеть пеструю толпу на узких улочках, живописные базары, ремесленников.
Аденцы в большинстве одеты по-европейски — в брюки и рубашку, но многие предпочитают в жару удобную клетчатую юбку. Женщин на улицах мало, и они, как правило, закутаны с ног до головы в длинное черное покрывало из легкой ткани. В Кратере можно встретить арабов в белых рубахах до пят — моряков с судов, приплывших из Эмиратов Персидского залива. Но меня особенно поразил бедуин из бывшего султаната Фадли. Он гордо вышагивал среди автомашин, держа за поводок верблюда. Кочевник был обнажен по пояс, и верхняя часть его тела отливала синевой втертого в кожу индиго. Тюрбан также был выкрашен в темно-синий цвет, поверх голубой юбки повязан многоцветный шарф, а на нем — пояс с патронташем и серебряными бляхами. Чеканное лицо бедуина с прямым «римским» носом и пушистой бородкой было почти черным. На этого спокойного, гордого, мускулистого человека было приятно смотреть.
С площади через широкие ворота можно попасть на продуктовый рынок, заполняемый толпой с пяти часов утра. Сюда приезжают грузовики, разрисованные разноцветными узорами, украшенные лентами. Продают живых коз и баранов, разделанные туши, вяленое акулье мясо, рыбу, финики, мандарины, помидоры, огурцы, разную зелень. В тени стоят полные корзины со свежими листьями кустарника ката, сладковатыми и вяжущими на вкус. Они обладают легким наркотическим свойством, поднимают настроение. Кат в Йемене жуют довольно часто, во время дружеских и деловых встреч, на семейных торжествах. Его чрезмерное употребление снижает аппетит, вызывает тошноту и головную боль, оглупляет человека, снижает потенции.
От центральной площади, забитой оранжевыми обшарпанными такси, расходятся торговые улочки. В лавках выставлены на всеобщее обозрение горы тканей, обуви, различных безделушек, утвари, ювелирных изделий. Ты можешь бродить здесь целый день, нырять в затененные закоулки, выходить на слепящее солнце и вдыхать запах жареной рыбы, кофе. В плотном тяжелом воздухе ты можешь уловить нежный и сладкий аромат — следуй за этим запахом, и ты попадешь в грязную лавку, где в беспорядке свалены мешки с ароматической смолой. Ладан! Лишь тень блестящей истории в суетливом сегодняшнем дне Кратера… Лишь воспоминание о древней «дороге благовоний», которая вела из «Арабиа Феликс» — «Счастливой Аравии», как называли эти края римляне, — в Переднюю Азию.
Лавки в Кратере предназначены для самих аденцев, и здесь упадка в торговле незаметно — не то что в Стимер-пойнте, хотя, глядя на сонмище торговцев, всякий раз удивляешься, каким образом удается им сводить концы с концами в этом сравнительно небольшом городе. В аденских лавках в то время можно было найти товары со всего мира — от японских транзисторов и швейцарских часов до индийских тканей и кенийских болванчиков. Для маленькой страны положение, казалось бы, естественное. Абсурдно было бы предполагать, что она сама сможет производить все необходимые ей товары. Международное разделение труда — великий фактор прогресса. Но мировой рынок, ворвавшись в Южный Йемен, смял национальные ремесла и оставил лишь производство, удовлетворяющее местные потребности в циновках и шляпах, кинжалах, некоторых ювелирных изделиях. Даже широкие йеменские пояса с кармашками и мужские юбки-фута — гонконгского происхождения.
Для меня символом нашествия иностранных товаров стали свалки ржавых консервных банок даже в отдаленных городишках и оазисах. Почему обращаешь внимание именно на это? Потому что в Южном Йемене четыре пятых населения пасут скот, возделывают землю и ловят рыбу. И эта сельскохозяйственная страна не может прокормить себя. Найти свое место в международном разделении труда для маленькой страны — задача сложнейшая…
Вы садитесь в машину, и она мчит по шоссе, прорубленному в скале, мимо стен, рвов и бастионов старой крепости, вынося вас на другую сторону полуострова. Далеко впереди открывается искрящееся море, а прямо перед вами, за улицей Маалла, — пристани, около которых суетятся мелкие суда. Местные парусники — одно из самых увлекательных зрелищ в Адене. Англичане называют их «доу», а арабы — «займа», «буггалло», но чаще всего «самбуки». Океанские самбуки бывают до четырехсот тонн водоизмещением. Линии их прекрасны. Некоторые из этих судов напоминают португальские каравеллы, и в стилизованной резьбе на носовой части иногда угадываются латинские названия. На Маалле еще можно увидеть остатки верфей для строительства самбуков, а аденцы будут вас уверять, что именно здесь был построен Ноев ковчег. Теперь верфи переместились на так называемый «Остров рабов» в Аденском заливе.
На борту парусника может быть любой груз — персидские ковры и иракские финики, таиландский рис и цейлонский чай, керосин или запасные части к автомобилям. Они также перевозят гуммиарабик, слоновую кость, жемчуг, опиум, акульи плавники, раковины каури, заменявшие деньги в некоторых частях Африки, кожу, перламутр, черепашьи панцири. Небольшие размеры и относительная дешевизна самбуков помогают им выдерживать конкуренцию.
Коммерция в этой части аденского порта в том, 1969 году еще сохранила восточный колорит. Однажды одноглазый торговец из хлопкового района Абияна — Али аль-Яфаи, воспылавший ко мне симпатией после того, как я привез из Кувейта весточку от его брата, привел меня на причал.
На самбуке была навалена куча туркоманских ковров яркой окраски, с геометрическим узором. Мой новый знакомый подмигнул мне своим единственным глазом.
— Они хороши, — прошептал он мне, а затем сказал капитану громко — Что за ерунду ты сегодня привез?
— Это ерунда?! — воскликнул капитан, бронзовый, полный араб в белой рубахе до пят. — Может быть, тебе нужны не туркоманские, а исфаханские или керманские ковры? Они бы стоили раз в десять дороже.
Али аль-Яфаи даже бровью не повел:
— У тебя нет чего-нибудь получше?
У капитана не было ничего получше.
— Сколько ты хочешь за эту пару?
— А сколько ты даешь за нее? — спросил капитан.
— Так торговаться нельзя… Ты скажи свою самую низкую цену.
— Ну хорошо, сорок динаров.
Али презрительно засмеялся:
— Это больше, чем я заплатил за четыре гораздо лучших туркоманских ковра из Пакистана всего лишь день назад, пусть Аллах лишит меня последнего глаза, если я лгу.
Я спрятал улыбку, так как знал, что одноглазый торговец ничего не покупал последнее время.
— Я бы дал тебе пятнадцать динаров за эти два, хотя они, конечно, не стоят таких денег. Никогда не видел таких жалких ковров.
Теперь настала очередь капитана засмеяться презрительно, и он сделал вид, что хочет свернуть ковры и унести.
— Я думал, что ты пришел сюда заниматься бизнесом, а ты, очевидно, пришел шутить.
— Семнадцать динаров, и ни кырша больше.
— Тридцать пять динаров — моя самая низкая цена, или я совсем лишусь прибыли.
— Ну хорошо, двадцать. Ты нигде не получишь такой цены.
Капитан рассмеялся, потом сказал:
— Только ради тебя я согласен на тридцать.
— Двадцать пять — и с этим покончено, — сказал одноглазый и отодвинул ковры в сторону.
— А как с этими четырьмя? — спросил он.
Спор разгорелся с новой силой. Наконец Али уверенно произнес:
— Даю полторы сотни за все шесть, и по рукам?
— Клянусь Аллахом, я не продам их за такую цену, я сам уплатил за них сто шестьдесят динаров в Бендер-Аббасе.
Али сторговал все шесть ковров за сто шестьдесят пять динаров. Теперь сердитые слова были забыты, и мы присели, чтобы выпить чашечку кофе. Покупка ковров доставила мне редкое удовольствие. Точно так же шла торговля в Адене и на Занзибаре, в Бомбее и Басре и сто, и тысячу лет назад. История ожила для меня.
В Стимер-пойнт дорога ведет через улицу Маалла, образованную двумя рядами пятиэтажных зданий, хорошо продуваемых бризом. В них раньше жили англичане, и Мааллу называли «милей смерти», потому что из боковых грязных улочек в проходившие английские машины кидали гранаты.
Немало домов в Адене тогда сохранили следы уличных боев — выщербленная пулеметными очередями штукатурка, пробитые пулями жалюзи. На стенах видны лозунги недавней борьбы за независимость. Колючая проволока огораживала целые кварталы, иногда поднимаясь на четыре-пять метров.
До тех пор, пока Аден не стал отдельной колонией в 1937 году, он подчинялся английской администрации Индии. В городе строились здания в бомбейско-викторианском стиле, в арабский язык проникали слова из английского языка и урду. Административная власть находилась в руках англичан. Правители «независимых» арабских государств из внутренних районов Южного Йемена были связаны с англичанами договорами, составленными по моделям соглашений с индийскими князьями.
Большинство арабского населения Адена составляли иммигранты из Северного Йемена или протекторатов. Некоторые из них открыли лавчонки или кофейни, кое-кто разбогател. Но большинство приезжих были кули, чернорабочими в порту на военных базах или в английских домах. Они приходили сюда на заработки и возвращались в свои селения, так и не став пролетариатом в полном смысле слова Но постоянные рабочие — портовики, транспортники, нефтяники — представляли собой вполне сформировавшийся рабочий класс и создали сильные профсоюзы. В Аден приезжали и сомалийцы, чтобы пополнить ряды чернорабочих и кули. Крупный по местным масштабам бизнес держали в руках индийцы или европейцы Несколько сот англичан и других европейцев составляли верхушку административной власти и торговцев. Коренных жителей было меньшинство, и они подвизались в мелкой торговле, служили у англичан переводчиками или мелкими чиновниками.
Европейцы в Адене, отгороженные от арабов стеной высокомерия, были не хуже и не лучше, чем европейцы в других колониальных странах. Они нанимались сюда на несколько лет из других колоний, затем уезжали. Пассажиры, которые знали, что Аден — лишь полустанок в их длинном колониальном путешествии, не чувствовали к арабам пи привязанности, ни симпатии. Чиновник, который оставался в этой колонии надолго, чтобы выучить арабский язык, был исключением.
Со времени открытия Суэцкого капала Аден стал важнейшей бункерной станцией на пути из Европы в Индию и на Дальний Восток, а в пятидесятых годах нашего столетия превратился в главный английский форпост «к востоку от Суэца». Еще в 1956 году лорд Ллойд, заместитель министра колоний в парламенте, высокопарно заявлял: «Правительство Ее Величества хочет сделать ясным для каждого, что важность Адена для Содружества как в стратегическом, так и в экономическом отношении такова, что оно не может предвидеть какого-либо существенного ослабления своей ответственности за эту колонию». В переводе на доступный для всех язык эта тирада означала: «Мы отсюда не уйдем, чего бы нам это ни стоило».
Объяснение такой решимости дает в своей книге «Имперский пост — Аден» англичанин Кинг: «Политика Соединенного Королевства основана на признании того, что нефть Персидского залива должна быть защищена любой ценой, если необходимо — силой». Центром средневосточного командования и главной из аравийских военных баз Англии, призванных защищать ее нефтяные компании в Персидском заливе, был Аден.
Итак, стояла задача удержаться на юге Аравии. Но как? Арабский вождь, один из героев Александра Дюма, говорил: «Англичане расходуют абсурдно большие деньги, чтобы сделать арабов своими союзниками. Время от времени они находят среди них предателя, но никогда друга». В начале шестидесятых годов нашего века английские колониальные чиновники действовали способами, которые вызывали усмешку у французского романиста еще сотню лет назад. Из сравнительно развитого города Адена и двух десятков полуфеодальных княжеств они пытались создать Федерацию Южной Аравии, надеясь закрепить привилегии феодально-племенной аристократии, удовлетворить запросы аденской буржуазии и чиновников, ввести в борьбу аденских рабочих, радикально настроенной мелкой буржуазии в легальные конституционные рамки, и все это с одной целью — сохранить здесь свои военно-политические позиции. В качестве финансовой базы должна была служить английская субсидия в пятнадцать миллионов фунтов стерлингов в год.
На Западе издано много воспоминаний тех английских колониальных чиновников, которые были хорошо подготовлены к работе в Аравии, знали и арабский язык, и историю Арабского Востока. Они довольно умно рассуждали об арабском «легко воспламеняющемся интеллекте, способном на разрушение», об «арабской душе», об «арабском индивидуализме», о том, что «западные образцы правления здесь не подходят». В то же время в их сочинениях сквозит растерянное недоумение, даже протест: «Почему нас здесь не хотят?» И невольно свои просчеты они объясняют то подрывной деятельностью каирского радио, то интригами коммунистов. Но понять, что настала другая эпоха, — это оказалось не под силу воспитанникам имперской школы с Даунинг-стрит.
Утром 10 декабря 1963 года большая группа людей стояла на поле аденского аэропорта. Среди них были верховный комиссар в Адене Треваскис и несколько министров из Федерации Южной Аравии, которые собирались лететь в Лондон для участия в «конституционной конференции». Вдруг небольшой темный предмет покатился по направлению к тому месту, где стоял верховный комиссар. Через долю секунды граната взорвалась. Треваскис был ранен; кроме него было ранено и убито пятьдесят два человека. А еще раньше в горах недалеко от границы с Северным Йеменом началось восстание племен.
Как обычно в такого рода войнах, колониальные войска потерпели поражение не только военное, но прежде всего политическое. Они обнаружили, что против них настроены все слон населения, за исключением феодальной аристократии.
Против колониальных войск сражались упорные, выносливые, готовые на лишения и смерть бойцы. Их ядро составляла молодежь, получившая кое-какое образование и впитавшая в себя идеи национального освобождения. Опираясь на поддержку племен, они умело использовали бедуинскую тактику, наносили короткие удары и исчезали в пустыне и в горах, если сталкивались с превосходящими силами. Когда опасность миновала, они вновь появлялись в селениях и наводили там свои порядки.
В Южном Йемене антиколониальная революция сливалась с антифеодальной, ибо местные князьки служили опорой англичан. Революционно настроенная молодежь из среды мелких чиновников, рабочих, крестьян примкнула сначала к Движению арабских националистов. Пройдя школу политической борьбы, она поняла, что решение национальных задач необходимо совмещать с борьбой за переустройство общества. Эта молодежь и стала ядром Национального фронта освобождения, который начал восстание в Радфане.
К вооруженной борьбе руководителей Фронта побудил не только опыт племенных и крестьянских выступлений, которыми богата история аравийского Юга, но и успех революций на Кубе, в Алжире и Йемене. В 1962 году на северных границах протекторатов родилась йеменская Арабская Республика. Исторически обе части Йемена составляли одно целое, и территория молодой республики на Севере стала тыловой базой тех, кто сражался за освобождение Юга.
В Адене обстановка была сложнее и запутаннее, чем в протекторатах. Здесь на некоторое время верх взяли националистические партии и организации, выступавшие против вооруженной борьбы. На базе Конгресса профсоюзов Адена и ряда мелких политических партий был создан Фронт освобождения оккупированного Южного Йемена (ФЛОСИ), ставший соперником Национального фронта. Все попытки примирить эти две организации и наладить между ними сотрудничество кончились неудачей. Основная тяжесть борьбы по-прежнему лежала на Национальном фронте. Его противник был оттеснен на второй план, а когда перед эвакуацией англичан даже федеральная армия встала на сторону Национального фронта, ФЛОСИ потерпел поражение.
В Адене накануне получения независимости влияние патриотических организаций было настолько велико, что по ночам город практически принадлежал им. Периодические стачки, восстания и баррикадные бои позволяли патриотам по нескольку дней удерживать целые районы.
Накануне предоставления независимости Южному Йемену в Женеве встретились делегации Англии и Национального фронта. Привыкшие иметь дело с недалекими интриганами из числа феодально-племенной аристократии, англичане были поражены поведением своих Противников. «Лидеры Национального фронта хорошо подготовились к моменту, когда они возьмут власть, — писал английский журналист. — Они были снабжены документами по всем вопросам. Их хватка в политических делах изумила английскую делегацию на переговорах, которая ожидала увидеть в них революционных бойцов, но отнюдь не политиков. Сам лорд Шеклтон, возглавлявший английскую делегацию, считал, что это были люди крупного калибра».
Последние английские войска эвакуировались из Адена на военных кораблях с 26 по 29 ноября 1967 года. Английский верховный комиссар Хэмфри Тревельян поднялся на борт транспортного самолета и остановился, чтобы бросить прощальный взгляд на аденскую землю. Оркестр с авианосца «Игл» грянул эстрадную песенку «Твои пальцы совсем не те, какими они были раньше».
Всю ночь на улицах ликовали жители Адена. Так закрылась последняя страница колониальной эпохи в истории «Арабиа Феликс».
Пожалуй, ни одну из своих бывших колоний англичане не оставили в более плачевном состоянии, чем Южный Йемен. Экономика была развалена. После закрытия Суэцкого канала порт опустел. Нефтеперегонный завод работал не на полную мощность. Доходы от обслуживания английских баз и семей военнослужащих и чиновников больше не поступали. Страна оказалась пораженной массовой безработицей. Из двухсоттысячного населения Адена двадцать тысяч человек остались без работы. Расходы государства значительно превышали его доходы. Лондон, естественно, лишил Южный Йемен пятнадцати миллионов фунтов стерлингов, которые он выплачивал Федерации. Многие индийцы, владельцы мелких фирм, уехали на родину.
Англичане покидали Аден с уверенностью, что новый режим или рухнет под тяжестью доставшегося ему наследия, или же будет вынужден вновь пойти на сотрудничество с ними. Они ошиблись. Политическое руководство Национального фронта смогло удержать полный контроль над страной, изгнать эмиров и султанов, ликвидировать княжества и впервые за многие столетия образовать унитарное государство на территории Южного Йемена — Народную Демократическую Республику Йемен.
Однако вскоре после завоевания независимости в руководстве Национального фронта началась борьба между двумя группировками. Одна из них, прикрываясь революционными фразами, на деле выступала за сотрудничество с бывшими колонизаторами, за «умеренный» курс внутри страны. Но левое крыло Национального фронта в июне 1969 года одержало победу. Генеральное руководство фронта вынудило президента Кахтана аш-Шааби подать в отставку, а его место занял Президентский совет. Национальный фронт установил полный контроль над вооруженными силами. Из армии и частей безопасности было удалено несколько сот реакционно настроенных офицеров и унтер-офицеров, вышколенных англичанами. Их место заняли бывшие партизаны, преданные Фронту бойцы. В вооруженные силы были направлены политические комиссары.
Революционное правительство пошло на ограничение иностранного капитала, и не только иностранного. «Если мы не пообедаем капитализмом, он поужинает нами» — эта шутка, которую можно было услышать в Адене, отражала суть развернувшейся борьбы.
В демократическом Йемене были национализированы все иностранные банки, их отделения, судоходные, страховые, соледобывающие компании. Вывески «Шелл», «Бритиш Петролеум», «ЭССО», «Калтекс», «Мобил» исчезли с бензозаправочных станций, и яркими неоновыми огнями загорелись надписи «Национальная нефтяная компания». Правда, нефтеперерабатывающий завод долгое время не национализировали: в стране отсутствовали инженерно-административные кадры и не были обеспечены рынки для нефтепродуктов.
Противники Фронта отнюдь не сложили оружия. Один за другим были раскрыты несколько заговоров, ставивших целью свергнуть прогрессивное правительство. Против нового режима объединили силы изгнанные из страны князьки и реакционные офицеры, сторонники ФЛОСИ, члены организации «Братья-мусульмане». Через незащищенные границы, проходящие через пустыни и горы, в страну засылались наемники, которые минировали дороги, убивали активистов Национального фронта, сеяли недовольство в кочевых племенах. Нити заговоров тянулись в США, Англию, Саудовскую Аравию….
Из порта в город Эль-Мукаллу идешь под белыми аркадами гостиных дворов, попадаешь в лабиринт узких улочек, где подчас не разойтись двум ослам с поклажей, и оказываешься как бы на дне колодца — так высоко над тобой небо. Поворот, подъем, закоулок.
Многоэтажные здания белесого цвета с узкими, высокими окнами, почти не тронутые современными архитектурными стандартами, поднимаются ярусами по крутым склонам. В небольших кофейнях сидят бородатые мужчины и тянут крепчайший чай. В кузнице без стен, открытой морскому ветру, блестящие от пота кузнецы куют лемехи для сох, большие рыболовные крючки и хадрамаутские кинжалы. В мастерских ювелиров чеканят и льют оригинальные, хотя и несколько грубоватые, поделки: пояса, браслеты, серьги, ножны.
Дома на берегу уходят фундаментами прямо в воду, и в сильный ветер брызги долетают до второго и третьего этажей. На рейде в причудливом хороводе кружатся деревянные лодки. Но это не морской праздник. Рыбаки вышли на обычный лов. Обнаженные по пояс темнокожие люди вытаскивают на берег крупных тунцов и королевскую макрель, разделывают их под сваями рыбного рынка и несут наверх. Оттуда доносятся гортанные крики: идет рыбный аукцион, оптовики скупают дневной улов.
Мимо, словно тени, проскальзывают горожанки, во всем черном с ног до головы; у них открыты лишь ступни ног, выкрашенные хной. Идут крестьянки с открытыми лицами, в оранжевых накидках. Жены воинов — в красной чадре с черными нашивками. Бедуины — сухие, мускулистые, с гривой волос, перевязанных плетеной кожаной веревкой, одеты в черные короткие юбки. Горожане оазисов предпочитают рубашки и разноцветные юбки.
Всего несколько лет назад социальная структура южнойеменской провинции Хадрамаут сохраняла любопытнейшие кастовые черты, в которых угадывалось сходство со строем других арабских стран в средние века. На верхней ступени в общественной иерархии стояла племенная аристократия — шейхи, султаны, эмиры или шерифы. Их авторитет зависел от богатства, ума, силы характера. Некоторые из них стали феодальными правителями, другие — не больше чем председателями советов старейшин.
Один из двух главных султанских домов Хадрамаута — Куэйти был основан выходцами из племени яфи — пришельцев из западных областей Южного Йемена. Они появились в Хадрамауте много веков назад как завоеватели. Султанские дома Куэйти и Катири (второй клан — местного происхождения) наиболее соответствовали нашему понятию «феодалы». Последний из рода Куэйти — султан Эль-Мукаллы владел большими табачными полями на побережье и пальмовыми рощами в долине Внутреннего Хадрамаута, однако большую часть доходов он извлекал из своих индийских поместий в окрестностях Бомбея и Хайдарабада.
Яфи переселились в Хадрамаут в более поздние времена и были профессиональными воинами. Неся службу у султанов, они становились как бы янычарами.
В Эль-Мукалле нас поместили в бывшем султанском дворце. Мы жили в опочивальне, продуваемой морскими ветрами. В ней все поражало своими огромными размерами: кровать, гардероб, кресла. Несколько комнат во дворце оставлены в прежнем виде, и в них как реликвии прошлого хранятся султанский трон из литого серебра, сюртук с золотыми эполетами, сабля, подаренная «его величеству» английской королевой, зеркала, китайский фарфор, камин с инкрустациями.
Опорой своей власти в Хадрамауте англичане сделали бедуинский легион, сформированный по образу и подобию иорданского: солдаты и офицеры в нем были арабами, а командующий — англичанином. Эксперимент этот кончился плачевно: командующий был убит, а солдаты примкнули к Национальному фронту.
Хадрамаутские племена делились на секции и кланы. Их члены, особенно кочевники, жили по законам, близким к военной демократии европейских варваров раннего средневековья. Набеги с целью грабежа или кровной мести, межплеменная война были привычным состоянием для Юга Аравии в течение столетий.
До недавнего времени наряду с обычными судами, где арбитром выступал богослов или глава племени, применялся и так называемый суд божий. Если подозреваемый не мог привести десять свидетелей, готовых поклясться, что он невиновен, то его подвергали испытанию, например, «проклятым куском» — ломтем специально высушенного хлеба. Обвиняемый сначала клялся всемогущим Аллахом, а потом со словами, что он невиновен, а если он лжет, то пусть «проклятый кусок» застрянет у него в горле, начинал есть. Если он проглатывал хлеб спокойно, то считался оправданным, но стоило ему поперхнуться — его признавали виновным.
В соответствии с племенными обычаями за все преступления была установлена сложная система штрафов деньгами или верблюдами. Каждая рана имела свою цену. Убийца и его родственники должны были платить «дню» — выкуп за погибшего человека — или же становились объектом беспощадной и многолетней кровной мести.
Титул шейха в Хадрамауте мог ввести в заблуждение. У арабов шейхом называют, в частности человека, читающего наизусть Коран. В Хадрамауте было даже целое племя шейхов. Согласно местному преданию, дела богословские и судебные находились исключительно в руках этого племени до IX века, пока сюда не приехал из Басры некий Ахмед ибн Иса аль-Мухаджир. Он был сейидом, то есть потомком дочери пророка Фатьмы и четвертого правоверного халифа Али. Ахмед аль-Мухаджир положил начало хадрамаутскому роду, члены которого претендовали на то, что в их жилах текла самая «голубая» кровь из всех аравийских сейидов. Потомки аль-Мухаджира потеснили шейхов-богословов, судей, учителей, миротворцев в межплеменных войнах. Светские правители обычно не вмешивались в дела сейидов, которые в общественной иерархии стояли не ниже, а может быть, и выше князей. Сейиды никогда не носили оружия и путешествовали без охраны, защищенные святостью своего звания. Но еще задолго до завоевания независимости приток молодых, образованных кадров — учителей, судей, чиновников — начал подрывать их привилегированные позиции.
Вместе с Ахмедом ибн Исой из Ирака приехало восемьдесят семей горожан. Подобно жителям средневековой Европы, они держались обособленно и создали нечто вроде гильдий, подразделявшихся на четыре основные группы: купцов, ремесленников, рабочих и слуг. Как правило, они не носили оружия и были главными налогоплательщиками. Горожане служили связующим звеном с внешним миром.
Бесконечное пространство моря не пугало хадрамаутцев. На обширных каменистых плато и среди песчаных дюн, которые простираются, насколько видит глаз, они усваивали уроки стойкости в борьбе со стихией. Море, как и пустыня, издавна стало их родным домом. Они пускались в рискованные морские путешествия на парусных суденышках, соревнуясь с соседями-оманцами. В восточной части Индийского океана они проникли вплоть до Малайского архипелага, а в западной — до Занзибара и Мадагаскара.
Возвращаясь в 1969 году из Вьетнама, я посетил Сингапур и в одном из его районов, увешанном бумажными фонариками, полном запаха китайского супа, соевого соуса и чеснока, натолкнулся на улочку, где лавки содержали торговцы арабского происхождения. До меня донеслась арабская речь, и я обратился к изумленным торговцам на их родном языке. Это были хадрамаутцы. Их я встречал также в Африке — в Судане и в глубине сомалийской саванны.
Молодые хадрамаутцы, главным образом горожане, уезжали на чужбину лет на пятнадцать-двадцать, оставив дома жену и детей. Там они снова женились и всю свою жизнь посвящали погоне за деньгами. Многие навсегда оставались в далеких краях. Однако на старости лет, скопив кое-какой капитал, они предпочитали возвращаться домой, желая услышать перед смертью нежный звук хадрамаутской флейты.
Немногочисленная торговая аристократия строила в Хадрамауте белые дворцы для себя и белые мечети для вознесения молитв Аллаху. Накануне независимости в Хадрамауте уже не только племенные вожди, но и богатые купцы имели свои замки. Они приобретали вес и влияние и платили бедуинским племенам за защиту. Но законы кровной мести туманили головы и богатым торговцам. Нередко в пыльных переулках между роскошными домами двух соседей, не видевших друг друга двадцать-тридцать лет, начинали звенеть сабли и греметь выстрелы — сводились столетние межклановые счеты.
В прошлом веке наиболее процветающие колонии хадрамаутцев сложились в Юго-Восточной Азии — Малайе, Сингапуре, Индонезии. Считается, что некоторые династии малайских князей основаны выходцами из Южной Аравии. Хадрамаутцы вместе с другими арабами Юга Аравийского полуострова оседали и в Индии, и в Восточной Африке, преимущественно на Занзибаре. Но волна национализма, охватившего африканские страны, выталкивает иностранных торговцев, и отток эмигрантов на родину усиливается. Последние два десятилетия они устремились в другом направлении. Нефтяной бум в Персидском заливе привлек сюда несколько десятков тысяч хадрамаутцев.
На самой низкой ступени общественной лестницы в Хадрамауте находились рабы и ахдамы. Еще лет пятнадцать-двадцать назад африканские рабы несли службу в том самом дворце султана Куэйти, где нас поселили. Гвардия рабов при хадрамаутских князьках была любопытнейшим реликтом ближневосточного средневековья. Стоит вспомнить тюркскую гвардию аббасидских халифов, мамлюков Египта, отряды черных рабов в североаравийских княжествах. Рабы в Хадрамауте, воины и чиновники князьков превращались в привилегированное сословие. Иногда они настолько усиливали свое влияние, что захватывали власть. Но в сложной полукастовой структуре аравийского общества они все равно оставались внизу социальной иерархии, и беднейший бедуин не соглашался выдать дочь замуж за богатого вольноотпущенника. Что же касается участи их собратьев, которые убирали мусор, рыли колодцы и каналы, получая отбросы со стола хозяев и унизительные пинки, то некоторые из них и сейчас могут рассказать страшные истории о своей прежней жизни.
В число рабов попадали не только африканцы. Некоторые бедуинские племена похищали арабов из дальних мест и продавали их в Хадрамауте. Случалось, что эмигранты, вернувшиеся с малайскими или индийскими женами, отправляли их на местные невольничьи рынки, чтобы поправить свои финансовые дела.
Ахдамы, которых иногда называют субьянами, стояли в южноаравийском обществе еще ниже рабов. Они считались потомками эфиопов, потерпевших поражение завоевателей, которые с III по VI век вторгались в Юго-Западную Аравию. Их можно сравнить лишь с индийской кастой «неприкасаемых». Уделом ахдамов была грязная физическая работа в поле или в городе, а также музыка. Не только физический труд, но и игра на музыкальных инструментах в Хадрамауте, да и повсюду в Аравии считалась занятием презренным. Рабы и ахдамы жили как бы вне общества. Они не были ни объектами, ни субъектами кровной мести.
Толпа бедуинов собралась в пыльном и белом от слепящего солнца дворе перед бывшей резиденцией султана Куэйти. Шла вербовка в южнойеменскую армию, в который раз за время своего путешествия я как бы соприкоснулся с историей: ведь так или почти так набирали солдат в армии Рима и Византии, Ирана и Багдадского халифата. Выносливые и крепкие дети пустыни считались хорошими воинами. Сейчас при виде экзотической толпы бедуинов могло показаться, что присутствуешь на спектакле из средневековой арабской жизни. Но прислушаемся, о чем говорят коротко подстриженный офицер в берете, со щегольскими усиками и обнаженный по пояс, мускулистый бедуин с черными, горящими глазами и волосами до плеч.
— Почему ты хочешь вступить в армию?
— В армии красивая форма.
— Ты знаешь, что в армии дисциплина и ты должен подчиняться приказам офицера?
— Да, знаю.
— А если офицер прикажет поднять оружие против Национального фронта?
Бедуин растерянно молчит.
— Ну а ты как думаешь? — обращается офицер к другому бедуину.
— Я не подниму оружия против Национального фронта, — решительно отвечает тот, — потому что он представляет народ. В армии я хочу служить народу. У нас на троне султана — народ.
Описывая Эль-Мукаллу, я не рассказал об улице, пролегающей вдоль моря. Вечером она освещается тусклым электрическим светом и несколькими неоновыми рекламами. Здесь шумная толпа, слышатся гудки автомашин, заунывная арабская музыка. На этой улице два кинотеатра, ряды лавок, несколько кофеен.
Я вышел из дворца и услышал, как в гортанный говор толпы врезался тонкий голос мальчишки:
— Свежие газеты! Покупайте «Аш-Шарару»!
У меня в руках очутился листок, на котором арабской вязью было выведено «Аш-Шарара» («Искра»), Заголовки говорили сами за себя: «Роль профсоюзов в нашей жизни», «Поиски нефти», «Конференция учителей», «О строительстве дороги», «Ленин о классовой борьбе и государстве», «Фестиваль советских фильмов», «Проблемы аграрной реформы».
— Мы назвали свою газету в честь вашей «Искры», — сказал мне при встрече ее редактор.
«Искра» в Эль-Мукалле существовала около года, потом закрылась: не хватило денег. Но в Адене появилась своя «Аш-Шарара» — вечерняя газета.
В той же Мукалле рядом с мечетью, куда в урочный час муэдзин зазывает верующих, я видел небольшую группу рабочих. Одни из них шли на молитву, другие стояли у ворот с надписью «Авторемонтная мастер-скин». Потом они менялись. То был пикет забастовщиков.
Федерация профсоюзов Эль-Мукаллы объединяла четыре тысячи членов, которые к своей организации относились очень серьезно. Я встретился с шофером, секретарем профсоюза транспортников. Он со знанием дела говорил о коллективных договорах, о минимуме зарплаты, о выходном пособии для уволенных, о введении представителей рабочих в административные советы предприятий. Над его столом висел портрет Владимира Ильича Ленина.
В одно из посещений Южного Йемена я стал свидетелем того, как вся страна праздновала столетие со дня рождения В. И. Ленина. О годовщине писали все три аденские газеты, радио и телевидение делали специальные передачи, устраивались фотовыставки, спортивные фестивали, теоретические семинары и торжественные собрания в школах, на отдаленных кочевьях, среди рабочих и служащих, в частях армии, безопасности и полиции.
22 апреля Эль-Мукалла украсилась флагами и портретами Ленина. Дворец и главные здания города были иллюминированы. Вечером почти в каждом доме зажгли благовонные смолы. Пламя сотен огоньков отражалось в воде залива Их дым наполнил улицы сладким ароматом, который почти полностью вытеснил запах сушеной рыбы.
В освобожденном Хадрамауте, как и во всей стране, к марксизму-ленинизму потянулись массы грамотного и полуграмотного населения. В Южном Йемене, который не окончательно вырвался из средневековья, труды Ленина, классиков научного коммунизма расходились в тысячах экземпляров, и их не хватало. Молодежь жадно читала. Рушились предрассудки, устаревшие общественные институты, отжившие свой век понятия. У некоторых нетерпеливых людей даже появились иллюзии, что одно знакомство с ленинским учением, весьма поверхностное, иногда через вторые и третьи руки, равносильно заклинанию «Сезам, откройся!» и можно будет переступить порог и попасть в социалистическое общество.
Однако и мечтатели жили на земле. Их родина пришла к независимости разоренной, нищей, отсталой. За исключением Адена, в ней не было современных городов. Девять десятых ее жителей не умели читать и писать и воспринимали события через призму средневековой психологии. Поэтому тот, кто не учитывал эти реальности, рисковал оказаться в рядах разочарованных.
…Поездка на «газике» из Эль-Мукаллы в Сайвун — центр Внутренего Хадрамаута — заняла тогда у нас часов одиннадцать. Гнетущая жара вади сменялась сухим, освежающим ветром пустынных плато. Пейзаж разнообразили причудливые фигуры, образованные выветренными породами. В их очертаниях можно было угадывать и колоссальные замки, и колоннады, и профили людей, и гигантские ворота.
Ни птиц, ни зверей не встретили мы в этих краях. Разве что однажды из-под колес «газика» выпорхнул удод — сероватая птица величиной с голубя. Именно она шептала предсказания на ухо царице Савской и Соломону и являлась героям сказок «Тысячи и одной ночи», чтобы предупредить их о грядущих событиях.
В основную долину Хадрамаута плато обрывается круто, почти отвесно, и наш шофер, прежде чем повел «газик» вниз, прочел молитву и проверил тормоза. Скоро машина покатилась по мощенной булыжником дороге. Мы услышали журчание воды, и повеяло свежестью роскошных пальмовых рощ селения Сайх — первого в цепи оазисов, протянувшихся по вади.
Нам рассказали, что недалеко от Сайха растут деревья «либани», дающие ароматическую смолу ладана.
Мы проследовали за водителем по узкой, каменистой тропе. На северном горном склоне переплелись корявыми сучьями несколько низкорослых деревьев с маленькими листьями. На их стволах тяжелым тесаком или топором были сделаны глубокие зарубки. Неподвижный, тяжелый воздух казался настоянным на душном аромате ладана. Лишь пиликанье невидимой цикады нарушало мертвую тишину долины. «Так вот где начиналась великая. Дорога благовония», — подумал я. — Вот они, мутные капли, которые делали людей счастливыми или добавляли горечь в людскую радость. Как просто и прозаично все это выглядит!»
Деревья источали капли смолы, медленно стекавшие в ржавые консервные банки.
Солнце приблизилось к горизонту, и пустыня окрасилась в розоватый цвет, затем стала лиловой и, наконец, черной. Выглянул месяц, и засеребрились веера пальм и зеркала арыков. Мы въехали в город Сайвун.
Остановились мы в одноэтажной гостинице «Ас-Салям». Ее хозяин создал в центре пустыни почти европейский комфорт: в номерах были ванные и «кулеры», которые не только охлаждали, но и увлажняли воздух; днем же одолевали тучи мух.
Наутро губернатор провинции прислал нам настоящий хадрамаутский завтрак — гроздь фиников, чашу дикого меда и лепешки без соли, которые обязательно надо есть горячими.
Во дворе гостиницы росли финиковые пальмы, бананы, гранатовые и манговые деревья, обильно орошаемые водой из глубокого колодца. Насос подавал воду в бассейн для купания. Над ним опустила свои морковно-желтые и красные плети буйно цветущая тропическая акация — фламбойя. Из бассейна вода растекалась по арыкам по всему саду.
Сайвун, раскинувшийся среди пальмовых рощ, садов, полей, — самый благоустроенный город Внутреннего Хадрамаута. Он может похвастаться и электричеством, и канализацией, и даже двумя полицейскими-регулировщиками. Его улицы заполнены толпой, не менее живописной, чем в Эль-Мукалле. У базарной площади, образованной рядами низких строений, возвышается многоэтажный куб с башнями — глинобитный дворец султана Катири. Он правил этой частью Хадрамаута до революции. Сайвунский дворец — одно из самых оригинальных и прекрасных зданий Аравии. Если Эль-Мукалла, особенно со стороны моря, кажется светлой и нарядной, то в Сайвуне дома нередко сливаются с пепельно-коричневым цветом пустыни. Чисто выбеленные здания — мечети, либо гробницы над могилами местных святых, либо дворцы состоятельных хадрамаутцев.
Одна встреча скрасила наше пребывание во Внутреннем Хадрамауте. Мне было известно имя историка аш-Шатыри, соединяющего в своих трудах манеру традиционного аравийского летописца и в какой-то мере современного исследователя. Его книги издавались тиражом несколько сот, а то и несколько десятков экземпляров. и достать их не легче, чем рукописные хроники. В Адене мне сказали, что аш-Шатыри живет в Тариме, расположенном в нескольких часах езды от Сайвуна.
В Тариме, старейшем центре хадрамаутской учености, в средние века процветали школы, где помимо богословия изучали грамматику, алгебру и астрономию. 13 нем сохранилось много мечетей, дворцов и богатых домов, построенных торговцами, вернувшимися из Индонезии и Сингапура. Видимо, индонезийское влияние и наложило отпечаток на архитектуру белоснежного минарета главной мечети. Обычно минареты здесь круглые, без окон. У сайвунского же минарета много маленьких окон, и сам он четырехугольный. Отличный вид открывается с этого пятидесятиметрового сооружения: зеленый оазис с его дворцами, пальмовые рощи и плоские крыши домов-башен, развалины никому уже не нужной крепости, колонны минаретов, а дальше — бесконечные волны песка в долине и крутые стены каньона.
Аш-Шатыри предупредили о моем приезде, и он ожидал меня в доме для гостей — бывшем дворце местного богатого купца аль-Кафа. Старый историк был одет в ниспадающую до пят белую рубаху и белый плащ, а не в обычную цветную юбку. Голову его украшала белая чалма. Его седая борода была аккуратно подстрижена. Наш сопровождающий с уважением поцеловал старика в плечо и оставил нас одних. В бассейне, где вода уже зацвела и покрылась пленкой тины, полоскались красные и желтые плети тропических акаций. В саду пахло олеандрами, журчала вода в арыке, и текла наша беседа за чашкой чая с тмином.
Аш-Шатыри был уже немолод и, как подобает сохранившему ясность ума старику, мудр. Он происходил из сейидов, но с горечью говорил о том, как кастовое чванство его собратьев мешает им признать новые порядки. За свою долгую жизнь он был писцом, богословом, судьей, а сейчас стал школьным учителем. Как истинный хадрамаутец, он много путешествовал, побывал в Индонезии, Малайе, Саудовской Аравии, Египте. В свое время я тоже учился в Каире. Мы начали вспоминать кофейни и торговые ряды Хан-эль-Халиля, мечеть Тулунидов, лавки букинистов на Эзбекийе и книжный магазинчик у Аль-Азхар, где мне удалось достать редчайшие издания по Аравии.
Старика растрогали воспоминания. Мы расстались друзьями. А утром посыльный принес мне от аш-Шатыри дорогой подарок — подписанный им экземпляр его собственной книги «Круги хадрамаутской истории».
История Хадрамаута в библейские времена окутана плотной шалью таинственности и легенд. В древних сказаниях, донесенных до нас через толщу веков, звучат могучие богоборческие молитвы под стать этой угрюмой и прекрасной стране. Когда-то, рассказывает легенда, здесь жили гиганты, сыновья Ада. Один из его сыновей, Шеддад, был самым могучим. Он почитал себя по крайней мере равным богу, поэтому отверг его. Тогда Аллах послал к нему пророка Худа, который тоже был гигантом. Худ обещал, что если Шеддад уверует во всемогущество Аллаха, то его пустят в рай. «Что такое рай?» — гордо спросил Шеддад. Когда Худ описал рай, могучий гигант поклялся, что создаст нечто лучшее. Шеддад построил в аденской пустыне город Ирам зат аль-Имад (Многоколонный Ирам). Дома в нем были сложены из серебряных и золотых кирпичей и украшены рубинами, по каналам текли ручьи вина, молока и меда. Вместо гальки в потоках лежали жемчужины и рубины, а вместо песка — шафран и мускус. На берегах стояли деревья с листьями из золота и цветами из серебра и драгоценных камней. Шеддад вывел из земли, впоследствии названной Хадрамаутом, сто тысяч своих родственников-гигантов, чтобы показать им этот город. Но когда они добрались до Адена, то внезапно увидели огромное черное облако на вершине горы. Из него вырвалась страшная буря, которая рассеяла и уничтожила всех гигантов. «Так Шеддад и не увидел своего рая. И со времен Шеддада никто не видел его». Правда, в Адене есть поверье: если чистосердечный человек заберется ночью на гору острова Сира, недалеко от древней аденской гавани, то в полнолуние он сможет увидеть в аденской пустыне сказочно прекрасный город. Но я не слышал, чтобы кому-нибудь удалось это.
Что же до Худа, то при жизни ему так и не удалось стать пророком в своем отечестве. Он вынужден был скрываться от неверных. Когда его выследили и начали настигать, он подошел к скале, около которой в настоящее время стоит его мавзолей, и сказал: «Спрячь меня!» — и скала расступилась. Жители Хадрамаута поклонялись его могиле еще в домусульманские времена. Ислам вобрал в себя культ пророка Худа и паломничество к его могиле, расположенной в нескольких днях пути от Сайвуна.
«Когда потомки Ада погибли, — писал аш-Шатыри, — в этой долине появились дети Хадрамаута, сына Кахтана (иначе Хазармавет, сын йоктана). Его имя было Амер, но прозвали его Хадрамаут, что значит «смерть пришла». Это соответствовало тем смутным временам, в которые он жил».
Наш путь лежал из Тарима обратно в Сайвун и дальше в Шпбам, самый своеобразный город Хадрамаута, а может быть, и всей Аравии. Но прежде чем мы приедем туда, хочется рассказать о том, что составляет славу не только Шибама, но и всей Юго-Западной Аравии, — об архитектуре.
Здесь два центра оригинального зодчества: Северный Йемен и Хадрамаут. Дождливый климат в горах Северного Йемена не позволял строить жилища из необожженной глины. Йеменцы научились обтесывать камень и сооружать на недоступных обрывах массивные здания и крепости, способные устоять против бурь и гроз. Использование камня, умелое сочетание его цветов — красного, голубого, зеленоватого — помогло развиться архитектуре, полной силы и разнообразия.
Хадрамаут — другой самостоятельный центр зодчества в Юго-Западной Аравии. Поразительно, что из всех мусульманских стран только на хадрамаутских кладбищах встречаются надгробия в виде башен — как бы маленькие модели местных жилищ. Хадрамаутские строители обычно возводят глинобитные дома в два-три этажа. Чем состоятельнее хозяин, тем выше его жилище. Многоэтажный дом напоминает усеченную четырехгранную пирамиду.
У обеих южноаравийских школ зодчества есть много общего. С древнейших времен они тяготеют к кубическим формам. Сейчас наибольшей высоты — десять-двенадцать этажей — постройки достигают именно в Шибаме. Хотя в городе проживает всего тысяч пять жителей, путешественники называют его «хадрамаутским Манхэттеном».
Ты уже привык к тому, что на Юге Аравии сталкиваешься с вещами и явлениями поразительными. Ты внутренне уже готов удивиться и этому городу, знакомому по фотографиям и описаниям путешественников. Однако когда видишь глыбу Шибама, возвышающуюся скопищем «небоскребов» над рощей молодых финиковых пальм, то невольно останавливаешься в растерянности. Кто и когда среди дикой пустыни, отделенной от главных центров древней и средневековой цивилизации неделями и месяцами караванных троп, замыслил и создал этот уникальный город? Конечно же, его не могли построить рабы с лицом, обращенным в землю, покорные судьбе и воле небес.
Мы говорили, что Шибам возник в III веке нашей эры как оплот против кочевников. Он стоит на скальном основании, избегая разрушительных селей, которые но время редких гроз проносятся по вади, и поэтому Должен тянуться вверх. Но его оригинальную архитектуру нельзя объяснить только потребностями обороны и природными условиями. Видимо, гордый дух богоборца Шеддада пробивался сквозь косность средневековой жизни смелыми порывами зодчих.
Внутри Шибам, конечно же, гораздо более прозаичен. Войди в него через главные ворота, у которых стоят грузовики и лежат верблюды, и, миновав главную площадь, где по вечерам при свете электричества школьники играют в волейбол, ты очутишься в узких, темных тоннелях, образованных высокими домами. Мечети стоят на открытых пространствах и среди высоких и мрачных зданий кажутся игрушками, сделанными из сахара.
Покидаешь Шибам, направляясь вверх по вади, и перед тобой открываются отвесные скалы каньона, словно вырубленные огромным топором в плато в первый день творения, да так и недоделанные. Природа, величественная и угрюмая, как будто хочет доказать ничтожность человека. Но ты оборачиваешься к одухотворенной глыбе Шибама, выпуклой, объемной в косых лучах вечернего солнца, и твое сердце наполняется теплом, верой в людей, создавших это чудо среди пустыни.
В другие времена и в других условиях его выступление носило бы название «О текущем моменте и задачах крестьянского движения», ибо губернатор провинции говорил о «происках империалистов и мировой реакции», о наемниках и аграрной реформе. Его слушали час за часом. Автоматчики из охраны вздрогнули от беспорядочной пальбы в воздух, которой крестьяне одобряли раздел земли местного помещика. «Да здравствует революционное правительство! Да здравствует Национальный фронт! Долой трусов наемников» — скандировали почтенные старцы и школьники. Я фотографировал их крупным планом и чувствовал, как в ушах отдаются выстрелы. Местный поэт декламировал стихи, сочиненные по случаю реформы, деревенские грамотеи читали радостные приветственные адреса. Митинг завершился совместной трапезой, состоявшей из риса и вареной козлятины.
Так распределяли земли в оазисе неподалеку от глиняных небоскребов Шибама.
Но распределение земель было лишь началом изменений в сельском хозяйстве. Не хватало воды, капиталов, техники, удобрений, знаний, организации. Следовало преодолеть еще один барьер, не менее трудный, — психологический.
Я побывал в маленьком оазисе почти на самом берегу Индийского океана. Земля в нем когда-то принадлежала одному из родственников султана Куэйти, а сейчас ее передали крестьянам. Рядом с оазисом небольшой, но глубокий пресный водоем. При сравнительно небольших затратах можно было бы расширить орошаемые земли, выращивать овощи, фрукты. Однако крестьяне довольствовались рощей финиковых пальм да кукурузным полем.
В кофейне на пыльной улице под навесом из старого брезента сидели несколько мужчин, обнаженных по пояс. Они гостеприимным жестом пригласили меня выпить чаю с молоком.
— Вы собираетесь расширять орошаемые земли? — спросил я у мужчин постарше.
— Зачем?
— Например, выращивать овощи — огурцы, помидоры, баклажаны или же папайю, бананы.
— Мы, слава Аллаху, не умираем с голоду.
Подобную логику трудно было поколебать разумными доводами. Но можно ли осуждать этих людей? Веками аравийский крестьянин ковырялся в сухой и тощей земле, добывая себе лишь столько, чтобы не умереть с голоду. Колониализм лишал его инициативы, не позволял поднять голову, консервировал отжившие феодально-племенные отношения. Быть постоянно сытым казалось крестьянину далекой мечтой. И вот он сыт. Должно пройти какое-то время, прежде чем у него появятся другие потребности и он будет готов приложить дополнительные усилия, чтобы их удовлетворить. Разбудить в крестьянах инициативу, убедить в том, что только благодаря упорному труду можно улучшить свою жизнь, — сложная проблема.
Это отнюдь не означает, что йеменские крестьяне ленивы, как утверждали многие расистски настроенные апологеты английского колониализма. Просто их труд удовлетворял их запросы, запросы общества, в котором они раньше жили. То, что их трудовые навыки остались пока прежними, совсем не значит, что эти люди недостойны уважения. Требуется глубочайшая экономическая, социальная и политическая революция в аграрных отношениях, которая не может не сопровождаться ломкой психологической. Процесс этот болезненный и длительный, он займет многие годы. Когда мы говорим о будущем стран, подобных Южному Йемену, как раз этот фактор нелишне иметь в виду, чтобы не оказаться в плену иллюзий. Но там, где ломка, о которой шла речь, свершилась, крестьяне становятся расторопными, энергичными, жадными до нововведений фермерами или кооператорами.
Молодое государство подстерегает еще один подводный риф — бюрократичное, эгоистичное чиновничество, ставящее свои корыстные интересы превыше всего.
Однажды мы выехали из Адена в пустыню. К нам в кузов «лендровера» забрался тщательно выбритый, совсем еще юный чиновник в белых брюках. Он брезгливо провел пальцем по грязному сиденью, постелил на него носовой платок, аккуратно поддернул брюки и сел. В пути он красиво, даже с патетикой в голосе рассуждал о родине, о солидарности народов, ругая империализм и реакцию. Когда же нам потребовалась помощь — организовать встречу с крестьянами, — он не захотел даже пройтись по пыли.
Конечно, этому молодому человеку мало было «не умереть с голоду». Он хотел жить лучше, красивее, богаче, модно одеваться, ездить на собственном автомобиле, сидеть в дорогом ресторане. Он пока что не мог получить доступных его воображению жизненных благ, но хотел. Стимул к лучшей жизни был налицо, однако пролить для этого пот, не говоря уж о крови, пожертвовать чем-либо — увольте. Трудиться он не желал, но зато требовал для себя сладкого куска.
Англичане оставили Южному Йемену диспропорцию в зарплате чиновников — высокую в Адене и довольно скромную в провинции. Чтобы как-то ослабить финансовый кризис, сэкономить скудные ресурсы государства, новые власти несколько раз снижали чрезмерно высокую зарплату чиновников в Адене, лишали их ряда привилегий — автомашин, поездок для лечения и отдыха за границу, льгот в квартирной плате. Но борьба с привилегиями чиновничества имела свои границы. Режим, не подрывая своей базы, не мог восстанавливать против себя так нужных ему образованных людей, административные кадры. Больше того, приходилось идти на уступки, особенно в провинции.
Южный Йемен как государство еще очень молод. Чиновничество в нем не стало самодовлеющей силой. Но ведь бывает и так: государственный бюрократический аппарат в недавно освободившихся странах раздувается до чудовищного размера. Чиновники-нувориши в отдельных случаях проедают даже часть национального богатства, а не просто национальный доход. И думается, молодые и честные лидеры Южного Йемена довольно отчетливо понимают опасность подобного рода и искренне хотят ее предотвратить.
Территория Южного Йемена равна половине Франции, но вряд ли вы проедете сотню километров по хорошей асфальтированной дороге. Осел и верблюд остаются первейшим транспортным средством во многих районах. Чтобы связать республику в единый организм, нужны дороги.
Однажды, путешествуя к востоку от Эль-Мукаллы, мы встретили строителей. Среди них были рабочие, солдаты, ученики средних школ и члены молодежных бригад. Руководил работами широкоплечий бородатый мужчина, которого за его любовь к взрывчатке ласково называли «товарищ Динамит». В его распоряжении, впрочем, были и буры, и отбойные молотки, и два бульдозера. Ребята «товарища Динамита» строили дорогу, которая вдвое сократит путь от Мукаллы во внутренние районы Хадрамаута.
Губернатор провинции Махра провел нас по пыльной площадке через стадо блеющих коз к высокой, глухой стене, сложенной из грубо обработанного песчаника. Распахнулась дверь, и мы очутились в чисто выметенном внутреннем дворике.
В доме были три комнаты для гостей. Ночью мы спали на резиновых матрацах на полу или на плоской крыше. Днем злые мухи и духота не позволяли сомкнуть глаз, хотя высокие потолки несколько уменьшали зной. В чулане была устроена «ванная»: в стену встроили резервуарчик для воды, которая вытекала через вделанные в стенки бутылочные горлышки. В этот дом, один из лучших в городе, мы бы не попали, если бы не вмешательство губернатора. Мы встретили его в самолете Аден — Эль-Мукалла — Эль-Гайда, и он, несмотря на болезненный и хмурый вид, оказался гостеприимным хозяином.
Эль-Гайда — центр самой восточной южнойемеиской провинции — раскинулась в плоской, каменистой долине. Полторы сотни двух- или трехэтажных глинобитных строений смотрели узкими окнами бойниц; как орудия, торчали желоба канализации. Гуляя по узким проходам между домами, надо было не зевать, чтобы не попасть под град нечистот. Но грязи в оазисе не было — сухой ветер и солнце работали как безотказные золотари. В Эль-Гайде подземные воды подходят близко к поверхности; в вади были разбросаны финиковые пальмы, на нескольких клочках обработанной земли зеленели кукуруза и люцерна.
Три мечети, два десятка лавок, грунтовый аэродром, большой замок, в котором до независимости стоял отряд верблюжьей кавалерии, — вот и все достопримечательности Эль-Гайды. Несколько поодаль армейская и полицейская роты разбили свой лагерь. В нем находилась и единственная в городе радиостанция.
В Эль-Гайде я останавливался года два назад по пути в Дофар. Она изменилась с тех пор. В ней появился даже свой «бродвей» — единственная и главная улочка, на которой теснятся несколько лавок, кофеен, прачечная под названием «Роза Востока», бюро южнойеменской авиакомпании, аптека «14 октября», где из единственного газового холодильника можно получить холодную пепси-колу. Пива нигде не продают: сухой закон. Горят две-три электрические лампочки от индивидуальных движков и много керосиновых ламп-«молний». Вечером улочка заполняется молодежью, естественно, мужского пола, чтобы выпить чашку чая со сгущенным молоком или съесть толстый блин с консервированной рыбой, а заодно и поговорить. В самой большой кофейне, где стояло четыре столика, мы однажды произвели сенсацию — заказали жареную курицу. Тотчас несколько посыльных-добровольцев побежали в разные концы Эль-Гайды и лишь с трудом нашли старого петуха. На этой же улочке профсоюз учителей открыл единственную пока читальню, в которой висели портреты местных лидеров, а также Хо Ши Мина и Че Гевары. Здесь можно просмотреть газеты и журналы и даже московскую газету на арабском языке «Анба Моску».
Чаще всего мы ходили умываться к колодцу. Он был метров десять глубиной, и в нем находился движок — из трубы в небольшой зацементированный бассейн била струя воды. Рядом соблазнял своей тенью сад папайи.
— Двести динаров я вложил в колодец и движок, сказал хозяин. — Земля у меня есть, но никто не хочет работать батраком — избаловался народ. Предлагал землю в аренду всего лишь из половины урожая — не хотят. Все хотят жить полегче. Все едут в Залив…
Рядом другой колодец. Взад-вперед ходит слепой верблюд, понукаемый погонщиком. Кожаное ведро опускается на вороте вниз, поднимается, опрокидывается в желоб и снова опускается с тележным скрипом. Взад-вперед… взад-вперед… Производительность труда?.. Да что об этом говорить. Но хозяин верблюда доволен:
— Славу Аллаху, я ничего не плачу владельцу помпы… Арендовать у него землю? Да он все жилы вытянет…
Если вы спросите жителей этой провинции: «Ты араб?», он может ответить: «Нет, я махра». Некоторые этнографы считают махра отдельной народностью. Говорят они на особом языке, близком к древнему химьяритскому. Я понимал в их речи только отдельные слова и нередко пользовался переводчиком с «махрского» на арабский.
У махра много любопытных обычаев. Один из них заключается в том, что женщина не произносит имени своего мужа, не стирает ему одежду, не готовит постель.
В те годы для чужого мужчины встретиться и поговорить с женщиной в Эль-Гайде было делом неслыханным. Но губернатор уговорил своего шофера познакомить нас с его женой. Она встретила нас во дворе у печки, похожей на большой глиняный горшок, наполовину закопанный в землю. Ее сначала раскаляют костром изнутри, потом пекут лепешки на внутренней стороне.
Наш шофер предусмотрительно запер ворота, чтобы соседи случайно не оказались свидетелями беседы незнакомцев с его женой.
— Ты действительно никогда не произносишь имени своего мужа? — обратился я после приветствий к женщине, лицо которой скрывала черная чадра.
— Таков наш обычай. Я замужем уже десять лет и никогда не называла при всех мужа по имени. Однако я хочу сделать это.
Вдруг из темной глубины дома донесся визгливый надтреснутый голос:
— Нет! Не делай этого! Не смей!
К нам вышла старуха. Она довольно больно начала стучать высохшими кулаками по нашим спинам, приговаривая:
— Нет, мы будем жить, как и раньше. Никто не оме» нит наших обычаев. Я хочу, чтобы моя дочь жила так же, как и я.
Я спросил старуху:
— Вы куда-нибудь выезжали из своего оазиса?
— Я никуда не ездила и никуда не поеду, только в могилу.
— А как зовут вашего мужа?
— Я не знаю его имени, — ответила она.
— Сколько лет вы жили с мужем?
— Тридцать.
— И не знаете, как его зовут?
Старуха оглянулась по сторонам и сказала испуганным шепотом:
— Нет, я знаю. Его имя Сулейман ибн Сулим.
Я обратился к молодой женщине:
— Ты хочешь учиться?
— Хек, хек (да, да), — ответила она.
— Ты хочешь, чтобы твои дочери были такими же, как ты?
— Мы рожаем детей, чтобы они учились и знали мир, жили лучше, чем мы и наши отцы.
Снова вмешалась старуха:
— Нет-нет! Вы хотите учить детей, чтобы они отвергли обычаи предков. Я не разрешу учить своих внучек и внуков.
— Тебе нравится твоя нынешняя жизнь? — спросил я молодую женщину.
— Представьте, когда я стираю одежду мужа с мылом, меня упрекают за это. Каждый раз, когда я хочу что-нибудь изменить в нашей жизни, моя старая мать кричит на меня, а соседки судачат обо мне.
Она откинула чадру. Мы увидели миловидное, рано постаревшее лицо со следами зеленой татуировки на подбородке.
— Вы может написать, что женщины махра хотят прогресса, они сбросят чадру с лица. Вы можете даже сфотографировать меня.
— Как тебя зовут?
— Я Бинт Абдуррахмап.
В этот момент закричала старуха:
— И меня тоже! И меня тоже сфотографируйте!..
Наша беседа не была лишена комизма, но губернатор оставался грустным. Когда мы расстались с Бинт Абдуррахман и ее матерью, он сказал:
— Я думал, что с тобой совсем не будут разговаривать. Но тебе повезло — Бинт Абдуррахман оказалась умницей. Таких, как она — увы! — немного. А остальные…
Разговор, видимо, разбередил старую рану, и он продолжал с горечью:
— Как работать среди поголовно неграмотного населения, живущего в огромной пустыне, где нет ни дорог, ни связи? Как требовать соблюдения дисциплины от людей, которые никогда в истории не имели регулярной администрации? У самых образованных из моих секретарей пять-шесть классов начальной школы.
Молодому губернатору действительно приходилось тяжело. Он носился на «Лендровере» по каменистым пустыням, гонялся вместе с ополченцами и солдатами за саудовскими наемниками на Севере, однажды в перестрелке едва не расстался с жизнью, произносил речи, тихо страдал от болей в почках. Благодаря его усилиям в провинции Махра в школы пошло уже две тысячи детей, а не пятьдесят, как было до получения независимости. Бедуинский замок около аэродрома отремонтировали и отвели под больницу.
Губернатор и его помощники замахнулись даже на калым и снизили его до символической суммы — сто динаров за девушку и шестьдесят динаров за разведенную женщину. Но старые обычаи оказались цепкими, и редко кто отдавал замуж дочь, получив менее семисот пятидесяти динаров.
Когда девочка достигает одиннадцати лет, она уже считается невестой. Ее лицо подкрашивают индиго, закрывают чадрой, и она ждет свадьбы со своим двоюродным братом. Если тот по каким-либо причинам откажется от брака, ей подбирают другого жениха.
— Часто девушка не знает, что ее собираются выдать замуж, до тех пор, пока ей не вымоют волосы, покроют лицо желтой краской, а руки разрисуют узорами, — рассказывал губернатор. — В первое утро муж должен оставить для нее на подушке пять динаров. После второй ночи он оставляет поднос с платками, узелок с одеждой, духи и благовония. Невеста носит свой брачный наряд сорок дней, и ее мать остается с ней недели две после свадьбы. Таков обычай.
Однажды рано утром пас разбудили выстрелы. Солдат из охраны, спавший с нами в комнате, взвел затвор карабина, но, услышав веселые крики, улыбнулся.
— Свадьба, — сказал он в ответ на наши недоуменные взгляды.
Мы вышли из дома. Жители Эль-Гайды устремились в долину. Невеста была из нашего оазиса, и ее родственники, вооруженные ружьями всех образцов и калибров, и два барабанщика ждали, когда приблизится процессия жениха. В группе жениха также были вооруженные мужчины и барабанщики. Они привели двух верблюдов.
Обе группы выстроились двумя длинными рядами друг против друга, пританцовывая и хлопая в ладоши. Ритм создавали музыканты, ударявшие в барабаны. Зазвучала монотонная песня с одним и тем же рефреном. Мелодию вел певец, заводила хора из нашего оазиса. Все ее знали и с удовольствием подхватывали рефрен. Пение мужчин то усиливалось, то ослабевало одновременно с притоптыванием ног. Иногда заводила хора брал высокую ноту фальцетом и как бы вливал новую энергию в песню и танец. Ряды начали двигаться, и мужчины, слегка покачиваясь, приближались друг к другу. В то время как расстояние между ними уменьшалось, притоптывание становилось все сильнее. Когда ряды приблизились почти вплотную, они двинулись обратно. Танцоры сходились и расходились несколько раз, подогревая себя выстрелами в воздух. Женщины, находившиеся поодаль, издавали пронзительные, вибрирующие крики, поддерживая музыку и танец.
Ловкий воин отбежал на сотню метров и установил шесть гладких камней на расчищенной площадке. Сначала по мишеням стреляла группа невесты, затем группа жениха. Соревнование продолжалось до тех пор, пока не сбили все мишени.
Два богослова, одетые в белое, вышли вперед и произнесли формулу, предписанную мусульманской традицией. Таким образом состоялась брачная церемония, и, смешавшись в одну процессию, все проследовали в соседний оазис к дому мужа, где было приготовлено угощение. Отдельно на двух верблюдах, в сопровождении нескольких родственников туда же направилась невеста вместе со своей матерью.
…Губернатор предложил мне:
— Я собираюсь поехать на север, в район кочевий, хотите присоединиться?
Мы взгромоздились на «лендровер» без верха, без ветрового стекла, полный вооруженных людей. С него были сняты глушители, и мотор рычал, как реактивный двигатель. Мы проезжали каменистые вади и черные, словно обугленные, плато, узкие ущелья и крутые перевалы. Ветер завивал песок в крутящиеся смерчи, и они танцевали вокруг нас свою одинокую жаркую пляску. Дети гордых бедуинов выходили на дорогу и просили — нет, не денег, не хлеба, а глотка свежей воды: иногда по несколько дней они утоляли жажду только козьим или верблюжьим молоком. В дрожащем, раскаленном воздухе возникали призрачные видения пальмовых рощ на берегах озер и редкие, занесенные песком, полусонные оазисы, похожие на миражи. Мы находились на южной кромке аравийской пустыни Руб-эль-Хали.
Аравия — страна великая по размерам и великая своей историей. Однако с первого взгляда кажется, что ей не хватает привлекательности, и она как бы сопротивляется тем, кто хочет познакомиться с ней поближе. Зеленые островки оазисов теряются среди выветренных скал, бескрайних песков и безжизненных пространств. А как палит солнце в пустынях и на плато, где нет никакой тени! Небо над землей бесцветно, и смотреть на него — пытка для глаз. Сквозь задымленное марево все кажется неопределенным и колеблющимся. Аравия — огромная и таинственная — привлекает и одновременно отталкивает. Однако, подобно морю, безграничному и на первый взгляд монотонному, бесконечные молчаливые равнины Аравии раскрывают свое неизъяснимое очарование для того, кто проявил терпение и познакомился с ними поближе.
Каменистая пустыня, вади, узкие горные проходы привели нас к самой границе Хадрамаута. В этих краях бедуины темные, почти черные, низкорослые, худощавые, но их выносливость, кажется, не знает предела. Они не выглядят истощенными, хотя едят два раза в день: молоко, немного риса, фиников, кусочек высушенного акульего мяса и хлеб, испеченный на углях. Обычно это лепешки, с одной стороны подгорелые, с другой — просто горячее тесто.
Бедуин представляет собой выдающийся пример приспособления человека к почти невыносимым условиям враждебной природы. Он рождается в жалком жилище, под испепеляющим солнцем или в пронизывающий до костей холод. Неопрятная повитуха «крестит» его в моче верблюда, как бы благословляя на священное братство пустыни, и присыпает его крошечное тельце сухим верблюжьим навозом. Если ребенок выживает, то все его дальнейшее существование — вызов нелегкой судьбе. Еще в детстве он усваивает уроки беспощадной борьбы за существование, закаляет волю, познает ничтожество и величие человека в пустыне. Но, несмотря на постоянные невзгоды, самый бедный из бедуинов, который действительно победил нищету, нужду и жестокую природу своим непреклонным духом, считает себя лучшим из людей и никого не признает своим хозяином. Для него внешний мир с его сталкивающимися империями имеет мало значения. Самое страшное преступление для бедуина — изменить товарищу. Его преданность другу, своему роду и племени кажется бесконечной, к врагам он свиреп и жесток. Все его эмоции лежат почти на поверхности. Его характер, который вызывал восхищение или отвращение у европейских путешественников, построен на неукротимом стремлении к свободе. Легкий выпад против его чести и достоинства может вызвать у бедуина ярость. Иногда кочевник становится необузданным, но он отходчив и, проявив неоправданную жестокость, может мучиться угрызениями совести. Бедуин уважает силу, любой признак слабости он презирает. Однако для него священна просьба об убежище, и отказать в ней — значит поступиться честью.
Бедуин — деликатный, умный и жизнерадостный спутник. Он высоко ценит личную привязанность, но не забывает прикинуть, какую выгоду из знакомства или дружбы он извлечет для себя. Но ему нельзя приказать сделать что-либо. Когда бедуин общается с незнакомыми и чужими людьми, его первый импульс — лгать, потому что подозрительность — одна из главных черт его характера. Второй его импульс — извлечь прибыль из обмана. «Часто герой, еще чаще дьявол, но никогда не раб» — так определяет бедуина путешественник Филиппе. Аристократ по своей натуре, бедуин демократичен в социальных контактах, но самоуверен и самодоволен. Он жаден до денег, но и бесконечно великодушен и поделится с вами последним глотком воды, последней горстью риса. Когда он оказывает гостеприимство незнакомцу, которого никогда не видел и никогда не увидит, он отдаст ему то, в чем сам крайне нуждается.
Однажды мы заночевали в лагере кочевников, где расположились несколько семей. Неподалеку паслись козы, овцы, верблюды. Девочки лет восьми-девяти присматривали за ними. Некоторые бедуины устроились прямо под кустарником, на который сверху были брошены какие-то обрывки одежды или ковры, дававшие жалкую тень. У кочевников Южного Йемена нет палаток из козьей шерсти, подобных знаменитым черным палаткам кочевников Саудовской Аравии. Они живут в пещерах или хижинах, сложенных из камней, а часто вообще под открытым небом.
В нашу честь забили верблюжонка и устроили пир. Женщины не участвовали в нем, но отнюдь не скрывались от глаз мужчин, как их сестры в оазисах. Бедуинка старается быть привлекательной. Еще в раннем возрасте ей прокалывают несколько отверстий в мочках ушей. Она вставляет в них серебряные кольца или небольшие серебряные цепочки — уши оттягиваются вниз. Ногти на руках и ногах и внутреннюю сторону ладони окрашивают в коричневый цвет, а кончики пальцев на руках и ногах — в черный. Лицо, руки и ноги покрывают желтой краской. Женщины, да и многие мужчины подкрашивают веки сурьмой, считая, что она укрепляет глаза. Женщины и девушки украшают лицо различными рисунками голубого, зеленого, черного или красного цвета. Брови они выщипывают или подбривают. Волосы на голове обильно смазывают жиром.
Едва забрезжил рассвет, бедуинский лагерь зашевелился. Юноша, одетый лишь в короткую темную юбку, принес нам лепешки и две чаши, полные верблюжьего молока, с шапкой белой пены. Выбрав из молока кусочки грязи и навоза, он протянул чаши нам. Молоко было теплым, густым и немного сладковатым на вкус. Он спросил меня:
— В твоей стране есть верблюды?
— Там, где я живу, в Центральной России, — нет.
— И ты не пьешь верблюжье молоко?
Он ударил в ладоши, у него на лице появилось выражение жалости ко мне, и он сказал;
— Несчастная твоя доля! Как же ты живешь без молока верблюдицы? Дважды в день — утром и вечером — мы пьем молоко с хлебом из кукурузы. В нем и сила и здоровье, оно полезно для живота и укрепляет тело. Оно лекарство от всех болезней. Мы кормим верблюдов и финиками, и травой, и сушеной рыбой. Я собираюсь жениться, но, если бы у меня не было молочной верблюдицы, я бы не нашел невесты.
— А что вы делаете летом, когда у верблюдиц пропадает молоко?
Юноша пожал плечами:
— Уповаем на Аллаха и ждем лучшего сезона.
У арабов пустыни есть пословица: «Лучшая из женщин подобна игривой верблюдице», и все они сходятся на том, что «верблюд — величайший из подарков Аллаха человеку». «Ты дорог для меня, как зеница ока, о мой верблюд! — поют бедуины. — Ты драгоценен для меня, как здоровье моей жизни, о мой верблюд! Как сладок для моих ушей звон твоих колокольчиков, о мой верблюд! И сладка для твоих ушей моя вечерняя песня».
Говорят, что австрийский ученый Хаммер-Нургшталь нашел в арабской литературе 5744 различных наименования и эпитета верблюда, тем самым доказав, какую огромную роль играло животное в жизни арабов-кочевников. Известный английский исследователь Аравии Филби считал преувеличением такое число эпитетов. Но кто будет оспаривать значение верблюда для бедуина?
Верблюд служит кочевнику живым и мертвым. Из его шерсти ткут плащи, накидки, ковры, делают тенты и веревки, молоко и мясо идут в пищу, из шкуры выделывают кожи, а кости сжигают. Бедуины употребляют не только свежую верблюжатину, но и мясо, высушенное на солнце. Впрочем, чтобы разжевать его, нужно обладать такими же прекрасными зубами, как у кочевников. Но мозги верблюда едят лишь бедуинки, потому что, по местным поверьям, это блюдо делает мужчину слабохарактерным.
Верблюды могут пройти огромные расстояния без глотка воды или же пить солоноватую, протухшую воду, утоляя жажду и голод хозяина прекрасным молоком. Для лечения желудочных болезней бедуин будет использовать отрыжку молодой верблюдицы, смешанную с мочой. Зябким утром он будет согревать верблюжьей мочой окоченевшие руки, а девушки-бедуинки почитают ее лучшим средством для мытья волос.
Австрийский востоковед Шпренгер назвал бедуина «паразитом верблюда». Но его изречение — не более чем острота. Труд кочевников тяжел и требует навыков десятков поколений. Умело использовать пастбища, перегонять верблюдов, лечить их, доить верблюдиц, стричь шерсть, рыть и поддерживать в пустыне колодцы, приучать животных к вьюку или седлу — все это должен делать кочевник.
В Аравии в «донефтяную» эпоху богатство человека определялось количеством верблюдов в его стаде. Лошадь была и остается роскошью и редко встречается в песках Аравии. Всадников-бедуинов, летящих по пустыне во весь опор, как и самих благородных лошадей, поэтически называют «пьющими ветер».
Когда Аллах решил создать лошадь, гласит арабская легенда, он призвал южный ветер и сказал ему: «Я сотворю из тебя новое существо». Он вдохнул в ветер жизнь, и появилась благородная лошадь. Однако она пожаловалась на своего создателя: ее шея была слишком короткой, на ее спине не было горба, на котором можно было бы укрепить седло, а ее маленькие острые копыта тонули в песке. Тогда Аллах создал верблюда. Лошадь задрожала и чуть не упала в обморок, ужаснувшись вида того, чем она хотела стать.
Верблюд всегда сохраняет непроницаемое выражение надменного превосходства и циничного презрения к окружающему, будто показывая всем своим видом, что он хорошо знает себе цену. Бедуины верят, что из всех земных существ лишь он один знает сотое имя Аллаха — одно великое имя, в котором сосредоточены все его свойства. В Коране же богословы насчитывают лишь девяносто девять имен Аллаха.
Когда первый одинокий верблюд узнал, что Аллах собирается сотворить ему подругу, утверждают арабы, он улыбнулся так широко, что его нос расщепился посредине и остался таким навсегда. Впрочем, во время песчаной бури его разделенные ноздри закрываются.
Все верблюды в Аравии — одногорбые, так называемые дромадеры. Здесь нет двугорбых верблюдов, которые живут в евразийских степях и на плато Центральной Азии.
Аравийские арабы называют Оман «Умм аль-Ибль» («Мать верблюдов»), потому что оманская «омания» (дромадер) считается королевой верблюдиц, которых специально разводят для гонок. Какое это зрелище — рыжеватая «омания» с головой и шеей, вытянутыми горизонтально земле, летит по пустыне со скоростью двадцать пять километров в час!
История открытия Аравии полна рассказов о феноменальной выносливости дромадеров. Один из путешественников упоминает о верблюде, который преодолел сто пятнадцать миль за одиннадцать часов. Недавно была опубликована история о том, как «омания» пробежала девяносто пять миль между оазисом Бурейми и Абу-Даби меньше чем за двенадцать часов…
По верблюжьим следам бедуины могут рассказать факты и сплетни о проходящем караване. «Следы и пустыня не могут лгать», — утверждает арабская пословица. В бескнижной Аравии верблюжьи следы на песке, пока они не стираются ветром и временем, представляют собой целую библиотеку для чтения. Арабы утверждают, что лучшие следопыты могут найти верблюжонка, которого они никогда не видели, по сходству отпечатков его копыт со следами его матери, отличить следы спаренной и неспаренной самки, определить пол и цвет шкуры прошедшего верблюда.
Английский путешественник Уилфрид Тэсиджер в книге «Аравийские пески» рассказывает:
«Через несколько дней мы пересекли какие-то следы. Я даже не был уверен, что они были сделаны верблюдами, ибо их почти затянул ветер. Султан обернулся к седобородому человеку, который славился как следопыт, и спросил: «Чьи это следы?11 Старик проехал вдоль них некоторое расстояние, потом спрыгнул с верблюда там, где они пересекли твердую почву, растер немного верблюжьего навоза между пальцами и вернулся к нам. Султан спросил: «Кто они?» Старик ответил: «Они из племени авамеров, их шесть, они совершали набег на джанубов на южном, берегу и захватили у них трех верблюдов. Они пришли сюда из Сахма, а поили верблюдов у Мухшина. Они прошли здесь десять дней назад».
Аравийский араб скажет вам: «Возьмите бедуина из племени бенимурра в трехдневное путешествие, завяжите предварительно ему глаза и дайте серебряную монету. Пусть он ночью спрячет ее в песок. Через десять лет он вернется и без всякого труда найдет свой клад».
Сейчас большинство историков и археологов убеждены, что верблюд был приручен сравнительно недавно. Американец Олбрайт писал, что нет никаких данных о появлении домашних верблюдов в Юго-Западной Аравии ранее XI века до нашей эры. В иракском департаменте древностей есть единственная фигурка верблюда, которая датируется 1300 годом до н. э. Но в той же Месопотамии самое ранее упоминание о верблюде в клинописном тексте и самое раннее его изображение на барельефе приходятся на IX столетие до нашей эры. Среди десятков тысяч клинописных текстов по всей Юго-Западной Азии, датируемых 1800–1200 годами до нашей эры, о верблюде нет ни одного упоминания.
Невозможно найти изображений верблюда на древнейших монументальных барельефах и в надписях Египта или Синая. Все караваны, большие и малые, описанные или же изображенные на барельефах, состоят из ослов. До II тысячелетия до нашей эры именно осел занимал монопольное положение среди других транспортных средств в этой части мира. Отметим, однако, что дикий верблюд был известен в те времена, а его изображения в Северной Аравии датируются III тысячелетием до нашей эры.
Итак, верблюд скорее всего был приручен в конце II тысячелетия до нашей эры. Где это произошло? Лучших верблюдов все еще разводят в Омане, и, может быть, именно там их родина. Из Юго-Восточной Аравии одомашненные верблюды, видимо, распространились в в Центральную Аравию — Неджд и на юго-запад — в «Арабиа Феликс». Здесь их быстро оценили как караванное животное. А спустя еще два тысячелетия верблюды стали «материально-технической базой» великих арабских завоеваний.
…Когда мы вернулись в Эль-Гайду, потянуло к морю, благо оно было всего в нескольких километрах. Мы ездили на автомашине по мокрому, плотному песку у самой кромки прибоя. На губах оставалась соль от брызг. На горизонте маячили японские сейнеры. Они ловили лангустов и омаров по соглашению с южнойеменским правительством. Сами южнойеменцы до появления у них современных судов ловили сардины, сушили их на циновках или прямо на песке, затем продавали, естественно, за гроши. Перекупщики вывозили сушеные сардины в другие страны, где их перерабатывали в рыбную муку. В Йемене же сушеные сардины входят в меню бедняка, ими также кормят скот — верблюдов и даже коров.
Полуденный зной мы решили переждать под навесом бывшей таможни на берегу (Эль-Гайда и вся провинция Махра была тогда отделена от Адена таможенным барьером). Стоя по горло в воде, носильщики выгружали цемент. Тяжелые бумажные мешки сначала подтягивали на плотах к берегу, а затем на головах выносили на сушу. С помощью трактора выгружали с плота многотонный электрический движок. Связь всей провинции с внешним миром возможна только в сезон спокойной воды. Когда же дуют юго-западные муссоны и высокая волна накатывается на берег, никто в море не выходит. Ни одной бухты на побережье нет.
Рыбаки подарили нам трех большущих лангустов и четырех крупных креветок. Йеменцы их не любят и едят в случае крайней нужды.
Мы отдали их приготовить в местной харчевне, объяснив повару, сколько времени варить лангустов, как солить. Потом мы разбивали их булыжником и наслаждались бело-розовым мясом.
Вечером все поехали купаться, надеясь, что акул на мелководье в это время не будет. Море было теплое, как чай, и совсем не освежало. Запомнились песчаные пирамидки крабов на берегу, запах йода, змеиная голова черепахи в море, крики чаек и расплавленное золото заката. Я никогда не видел такого заката — без единого красноватого оттенка. Думалось о вечности пустыни, солнца, моря. Упала бархатная аравийская ночь с низкими звездами, и наш «лендровер» повез нас обратно в Эль-Гайду.
…Еще одна поездка за несколько десятков километров от Эль-Гайды. Берег океана. Стаи бездомных собак. Они то купаются в волнах прибоя, спасаясь от жары, то сидят высунув языки в ямах у берега. Несколько сложенных из глины домиков среди песков. Вода в колодцах солоноватая. Когда я впервые побывал в этом селении, меня спросили, не специалист ли я по воде, не могу ли я пробурить такие глубокие колодцы, чтобы добраться до пресной воды. Услышав отрицательный ответ, жители не смогли скрыть разочарования. Почти каждый из них чуть ли не с семи лет страдает болезнью почек. Только крепкий чай с сахаром с трудом отбивает привкус соли в воде.
И вот спустя два года я снова в этом оазисе. Из пустыни от источника в селение протянута пластиковая оранжевая труба. Вокруг крана собираются женщины посудачить, постирать белье Тут же сделан небольшой цементный бассейн, где, как лягушата, плещутся дети.
— Кто уплатил за водопровод?
— Местные власти и мы сами сложились и купили трубы. А водопровод построила бригада добровольцев. Каждое семейство в оазисе по очереди кормило их.
В арабском языке, как и во многих других, нет выражения «пресная вода». Арабы говорят: «сладкая вода». Впервые за свою жизнь многие йеменцы получили вдоволь «сладкой воды».
Стремление к образованию, к знаниям — едва ли не самая характерная черта недавно освободившихся стран, хотя их возможности крайне ограниченны. Южный Йемен не исключение.
— У нас не хватает учителей, помещений, средств, но все равно все хотят учиться, — сказал мне один из руководителей министерства просвещения. — Жители сами строят школы, нанимают учителей. Число учеников у нас удвоилось.
Школа — иногда простая глинобитная хижина с единственной черной доской, у которой местный грамотей учит детишек азбуке. Школьников — мальчиков в полотняных костюмчиках и девочек в голубых платьицах — можно сейчас встретить повсюду.
В том самом оазисе, где люди пили солоноватую воду и мечтали о «сладкой», они построили не только водопровод, но и школу. При свете керосиновых ламп на полу, скрестив ноги, сидели рыбаки и пастухи и читали первые в жизни фразы: «Мы бу-дем стро-ить но-ву-ю жизнь. Мы за-щи-тим ре-во-лю-ци-ю». Эти слова прекрасно звучали под грохот прибоя.
Мне хотелось бы рассказ о своих путешествиях на Юг Аравии закончить в светлых и радостных тонах. Хотелось бы «Арабиа Феликс» древних назвать «Счастливой Аравией» сегодняшнего дня. Но — будем смотреть правде в глаза — это еще рано. Слишком тяжелое наследие молодая республика получила от прошлого, слишком жестокие и сильные враги ее окружают. Демократический Йемен ожидает достойный, хотя опасный и тернистый путь. Но этот путь будет трудным, ох трудным.
1969–1972 гг.
Предположения, высказанные несколько лет назад, обернулись жестокой явью. В политическом руководстве демократического Йемена разногласия зашли настолько далеко, что противоборствующие группировки взялись за оружие. Сторонники генерального секретаря ЦК Йеменской социалистической партии, президента страны Али Насера Мухаммеда 13 января 1986 года совершили нападение на нескольких членов Политбюро ЦК партии. Среди убитых были один из основателей партии, Абдель Фаттах Исмаил, и его сторонники. По всей стране начались аресты противников Али Насера Мухаммеда из числа руководящих партийных и государственных деятелей, офицеров армии, госбезопасности и полиции. Однако эти действия встретили вооруженное сопротивление. В Адене и соседних районах несколько дней шли бои с применением артиллерии и танков. Тысячи человек были убиты и ранены. Сторонники Али Насера Мухаммеда были разгромлены и бежали за границу.
Новое руководство много сделало для восстановления национального согласия. Издан указ о всеобщей амнистии сторонникам бывшего президента. Решено выплачивать пенсии и пособия семьям всех погибших во время январских событий. Нормальная жизнь вернулась в Аден. Но требуются время и усилия, чтобы залечить раны, нанесенные стране, чтобы люди отказались от стремления мстить за пролитую кровь.
1987 г.
ОТКРЫТКА ИЗ СЕВЕРНОГО ЙЕМЕНА
К странам, как и к людям, относишься по-разному. Некоторые из них западают в душу, симпатии к ним остаются на всю жизнь. Ну, казалось бы, что для иностранца Северный Йемен? Ни комфорта, ни современных развлечений. Одна из самых отсталых и бедных стран на земном шаре.
Помню, как встретил в городе Марибе группу западногерманских «туристов-авантюристов». Это не я их так назвал, а они (не без претензии) сами себя. Вел их гид, специализировавшийся за высокую плату как раз по «авантюрному туризму» — без гарантии безопасности, хорошей воды и чистых простыней, но с оружием, палатками и приключениями. «Туристы-авантюристы», пресытившись «остреньким» в чужой и опасной стране, кляли тот день и час, когда они решили сюда отправиться.
Я вместе с французским археологом Жаклин Пиренн, известной нашим читателям по ее книге «Открытие Аравии», сидел в той же харчевне, что и немецкие туристы, на старых, скрипучих табуретках. Мы пили крепкий чай с молоком. Мы говорили о том, сколько открытий и радостей ждет в песках Южной Аравии тех энтузиастов, которые будут раскапывать памятники древних цивилизаций. Работы здесь хватит на батальон археологов. Жаклин Пиренн провела несколько сезонов раскопок в Северном и Южном Йемене и мечтала приехать снова.
Оказалось, что йеменцы у нас обоих вызывают теплую и глубокую симпатию. Потому что мы находили в них и человеческую гордость, и демократизм, и верность. Если йеменец друг, то это друг, но не позавидуешь его врагам.
Вокруг нас лежал оазис, который когда-то был гораздо более обширным. Его слава гремела в древнем мире. Он питал город Мариб — столицу древнего Сабейского царства. Через Мариб шли караваны, груженные китайским шелком, цейлонским жемчугом и муслином, черепашьими панцирями из Малакки. Из Индии везли алмазы, сапфиры, ткани, индиго, ляпис-лазурь, пряности. Этим же путем направлялись в страны Средиземноморья из Африки страусовые перья, масла, слоновая кость. Но главным, что двигало аравийскую торговлю, была затвердевшая пахучая смола деревьев, росших на Юге Аравии, — ладан. Из-за этой смолы цвета дымчатого хрусталя сталкивались империи, звенели мечи. Через оазис проходила знаменитая «дорога благовоний». Как гласит библейская легенда, отсюда отправилась на свидание с Соломоном царица Савская (Сабейская). Под стенами Мариба был разгромлен римский легион Элия Галла, который в I веке до нашей эры пытался завоевать «Счастливую Аравию». Спустя полтысячелетия прорвалась большая Марибская плотина, орошавшая оазис из искусственного озера, куда собирались воды селей. Чужеземные нашествия, войны, междоусобицы усугубили упадок. Цветущие сады и поля Мариба высохли и превратились в пыль.
Сейчас Мариб возвышается скопищем многоэтажных глинобитных домов на холме, который когда-то был центром древней столицы, но руины ее оборонительных стен далеко отстоят рт маленького городка.
Большая часть жителей переселилась на несколько километров вниз по вади, построила по заветам предков многоэтажные дома из саманных кирпичей и нарекла новое поселение Эль-Хусуном. В нем две с половиной тысячи душ, сто двадцать лавок и две школы.
Рядом ярко зеленеют поля со всходами африканского проса — дурры и пшеницы. Желто-серые горы обрамляют долину. Стучит помпа, и лишь ее звук напоминает, в каком ты веке. Несколько сот гектаров полей и огородов — вот все, что осталось от обширного оазиса древности.
Подошли два подростка. Они были одеты в юбки-фута, легкие рубашки, перепоясанные широкими ремнями, на которых висели кривые широкие кинжалы. Густая белая пыль припудрила их курчавые волосы, лица, одежду.
— Откуда ты? — обратился я к старшему, которому на вид было лет шестнадцать.
Он махнул рукой в сторону поля.
— Ты учишься?
— Да, в пятом классе.
— А где твой отец?
— Он на заработках в Саудовской Аравии.
— Что ты еще делаешь?
— У нас поле, я на нем работаю.
— Воды хватает?
— Да, скоро будет еще больше.
— Как так?
— Старики говорят, что шейх Абу-Даби обещал деньги, чтобы восстановить древнюю плотину. Уже приезжали иностранные инженеры.
— А хватит ли людей, чтобы обработать новые земли?
Юноша пожал плечами:
— Не знаю, может быть, приедут откуда-нибудь.
Двадцатый век ворвался сюда не только стуком помпы, музыкой из транзисторов, но и шумом автомашин. Их больше всего толпится на базарной площади, у небольшой бензоколонки. Поднимая пыль, подрулил «лендкруизер» — машина высокой проходимости японского производства, полная вооруженных людей свирепого и решительного вида. Они выскочили из кузова, легкой, пружинистой походкой прошли в лавку. Через некоторое время они появились, груженные керосином, мукой, банками с японским апельсиновым соком, американскими сигаретами, французскими духами, австралийскими консервами. Машина лихо набрала скорость.
— Кто это?
— Это бедуины, — ответили мне.
«Лендкруизер» направился в сторону пустыни Руб-эль-Хали, недоступной и бесконтрольной. Там, в море песчаных дюн, потонет любой вездеход. Бедуины оставят его в лагере и пересядут на верблюдов — единственное надежное средство транспорта в сыпучих песках.
— Первое, что я должен был сделать, когда меня назначили сюда, — установить безопасность на дорогах и в селениях, — рассказывал губернатор. — Для этого нужно было обеспечить мир между племенами.
— Это удалось?
— В целом — да. Хотя задача была не из легких. Мариб — самая большая наша провинция. С севера на юг почти тысяча километров, несколько сот с востока на запад. А население — никем не считанное. Видимо, не меньше ста тысяч.
— На кого вы опирались?
— Главная сила, расквартированная здесь, — армейская бригада. В Марибе армия — и власть, и полиция, и администрация, и почтовая служба, и временами служба здравоохранения. Мы открывали школы, прокладывали дороги. Когда наводили порядок, должны были учитывать местные обычаи.
— В чем это выражалось?
— Если кто-либо минирует дороги, совершает преступления против государства, мы судим его по законам шариата — мусульманского права и декретам правительства. Племена несут коллективную ответственность за преступления. Но когда случаются столкновения между племенами, мы решаем их споры на основе «урфа».
— Обычное право племен?
— Да, обычное право, сложившееся за столетия. В основе его — кровная месть или ее замена — выкуп, «дия». Чтобы замирить племена, я должен определить, кому и сколько полагается платить выкупа. Тогда прерывается цепочка кровной мести. Мой приговор окончательный. Мне дают слово исполнять приговор, и я отпускаю всех на свободу.
— Может ли обвиняемый оказаться на свободе и не исполнить приговор — отказаться платить дию?
— Исключено. В таком случае размер дии удесятеряется и все племя несет коллективную ответственность. Нарушивший слово считается опозоренным. Его изгоняют из племени, от него отказываются отец, брат, жена. С племенем, давшим приют лжецу, отказываются иметь дело соседи, потому что тогда оно считается ненадежным.
…Мы расположились в приемном зале губернатора на низких, плотных подушках, брошенных на пол. Хозяин подавал кисловатые, вяжущие листья кустарника ката и приговаривал: «Хаззин, хаззин!» («Жуй, жуй»), Кат — легкий наркотик, необычайно популярный в Йемене.
Я слушал его и думал о любопытнейшем происхождении некоторых наших слов и их удивительных родственных связях с другими языками. Ведь наше слово «магазин» — прямой родственник тому слову, что произносил губернатор. «Магазин» в русский попало из западноевропейских языков, а в них — из арабского, где «махзан» (производное от глагола «хазана» — складывать, запасать, хранить) означает склад, то место, где что-то скапливается. Заметим между прочим, что и слово «казна» — того же корня. Одна из форм глагола «хазана» и означает «жевать», впрочем, не «жевать», а скапливать за щекой (так сказать, «устраивать магазин») листья ката и глотать его сок.
Кат — и радость и проклятие йеменцев. Во второй половине дня, к вечеру, работа в стране прекращается — мужчины почти поголовно жуют кат. Считается, что средний йеменец тратит на него почти треть своего заработка. Дело еще и в том, что кат растет там же, где и кофе, но как более прибыльный вытесняет ценнейшую экспортную культуру.
Нам принесли чашечки с настойкой из кожуры кофе и бутылки пепси-колы. На полу извивались длинные трубки, идущие от кальянов — полутораметровых сооружений из меди. Несколько телохранителей, вооруженных автоматами, сидели тут же. Во дворе стояло три «лендкруизера» с тяжелыми пулеметами на них.
За окном угас день. Серо-желтые горы стали фиолетовыми, потом черными. Принесли одеяла, и мы начали укладываться спать тут же, на коврах и подушках.
Всего лишь два десятка лет назад Северный Йемен сделал шаг из настоящего средневековья. Достаточно посетить бывший имамский дворец в Таизе, который сейчас стал музеем, чтобы окунуться в атмосферу ушедшей эпохи. Многоэтажное здание с тайными дверями и ходами оставляет жутковатое впечатление. Кажется, что по нему скользят тени наложниц, доносится запах интриг, заговоров, убийств, слышатся крики пытаемых узников.
В 1962 году имамат был свергнут. Но началась семилетняя гражданская война. Временами судьба республики висела на волоске, и многие помнят, что советский воздушный мост помог столице, которую роялисты осаждали в течение семидесяти дней.
Однако республиканский режим, установившийся на основе компромисса в 1969 году, был непрочен. Центральное правительство не контролировало всей территории, не могло обеспечить безопасности. За семидесятые годы было убито два президента.
Во второй половине семидесятых годов новое правительство, опираясь на армию, пытается усилить центральную власть. Создан консультативный совет при президенте, проведены выборы в муниципальные и кооперативные советы, расширены состав и Полномочия Учредительного народного собрания, наделенного некоторыми законодательными функциями. Укрепление центральной власти и действенности государственного механизма были для Йемена большим шагом вперед, хотя и не затронули социальных отношений. Отметим, что объединения могущественных племен в наши дни, как и раньше, играют важнейшую роль в Северном Йемене. Племена, особенно северные, поддерживаемые Саудовской Аравией, не признают над собой никакой власти. Они хорошо вооружены, у них есть артиллерия, бронемашины, даже противовоздушные ракеты. Почти любое оружие можно купить на базаре.
Однако и экономическое развитие Северного Йемена, и появление школ и университета, и широкие связи с внешним миром ломают прежнюю социально-политическую структуру.
Одно из посещений Северного Йемена. Новый аэропорт в Сане — элегантное, сделанное со вкусом здание. В гулком зале прямо на полу среди стульев расположились паломники, вернувшиеся из Мекки. Они разожгли примус и стали готовить чай. Лица женщин в темных длинных одеждах были скрыты черной или красной чадрой. Некоторые из них были босиком, несмотря на зимний холод (температура около нуля), другие — в модных туфлях. У стойки саудовской авиалинии выстроилась очередь мужчин с мешками и чемоданами. «Куда вы?» — «Я — в Джидду…», «Я — в Эр-Рияд…», «Я — в Дахран…» — раздались ответы. Это были эмигранты.
Уезжать на заработки в далекие края — традиция на Юге Аравии. Йеменцев много не только в Малайзии или в Сингапуре, но и в США и в Западной Европе, не говоря уже об арабских странах. Трудно найти государство, где эмигранты составляли бы четверть населения. Но именно таков Северный Йемен. Из восьми миллионов жителей охота к перемене мест охватила почти два миллиона человек, как правило мужчин в расцвете лет, которые покинули родину в поисках лучшей доли. Словно мощный насос, нефтяной бум в Саудовской Аравии и княжествах Персидского залива оттянул рабочую силу из Йемена.
Пена нефтяного бума в соседних странах захлестывает Йемен, ломает старый быт, коверкает экономику. Массовая эмиграция создала новый феномен: она стала главным источником доходов государства. Переводы эмигрантов дают йеменской Арабской Республике многие сотни миллионов долларов в год. Поэтому сложилась парадоксальная ситуация: страна импортирует в сто раз больше, чем экспортирует. Лавки предлагают японские радио- и электротовары, бытовую технику, кенийское масло, английские яйца, американские сигареты.
Приток капиталов привел в движение не только торговлю, но и строительство, и на улицах городов гудят автомашины, урчат грейдеры, стрекочут мотоциклы. Дорога из Ходейды в Таиз была в свое время построена с помощью СССР. В семидесятые годы завершен треугольник асфальтированных шоссе: Таиз — Сана — Ходейда. Дорожная сеть расширяется, строятся жилые дома.
Импорт и полулегальная контрабанда убивают последних ремесленников. Мало того. Страна, которая могла бы стать житницей Аравии, превратилась в относительно крупного импортера не только промышленных товаров, но и продовольствия. Массовая эмиграция сокращает посевные площади — некому пахать, сеять, жать.
Еще один парадокс: Йемен, сам экспортер рабочей силы, ввозит еще более низкооплачиваемых рабочих из Южной и Юго-Восточной Азии. Своей квалифицированной рабочей силы не хватает.
Но переводы эмигрантов — слишком ненадежный источник дохода. Падение цен на нефть и уменьшение ее добычи сократили доходы Саудовской Аравии и нефтяных княжеств, уменьшив спрос на йеменские рабочие руки. Это немедленно сказалось на Йеменской Арабской Республике, грозя подорвать ее скромные, но так необходимые проекты развития.
Моха — прибрежный городишко, состоящий из полу-развалившихся глинобитных домов. Плоский берег с редким кустарником и зонтичными акациями между песчаных дюн наводит тоску. Упругий ветер гонит песок, застилая горизонт. На ярких японских мотоциклах носится несколько молодых шалопаев, предлагая контрабандные виски, пиво, сигареты. Не сразу и вспомнишь, что это был когда-то важный порт Йемена и само слово Моха (в искаженном европейском произношении — Мокка) дало название знаменитому сорту йеменского кофе.
И другой город на побережье, несколькими десятками километров севернее Мохи, — Ходейда, быстро растущий, с широкими проспектами, с кварталами современных домов. Если в Северном Йемене и есть зачатки какой-то промышленности, то они в этом городе. Он вырос у единственного в стране большого, механизированного порта, построенного с советской помощью в 1962 году. Порт обрабатывает почти миллион тонн грузов в год — впятеро больше первоначальной проектной мощности. Его строитель, ныне покойный Георгий Яковлевич Пясецкий, впоследствии ставший заместителем министра морского флота СССР, попросил меня привезти фотографии Ходейды. Он любовался видами молодого города, затем посмотрел на снимки Мохи и воскликнул: «Да, вот так, именно так выглядела Ходейда четверть века назад! Только без мотоциклистов!»
…Зимой в Ходейде до тридцати градусов тепла, а по дороге в Сану тебя охватывает леденящий ветер. Там, внизу, у подножия гор, среди кактусов, похожих на канделябры, пасутся столь обычные для нас коровы. Выше — террасы полей, соломенно-желтых или зелено-вато-коричневых. Свернешь с шоссе по пешеходной тропе, крутой, кремнистой, местами опасной, и через несколько часов пути очутишься перед плывущим в тумане средневековым замком кубической формы, построенным на утесе, над пропастью. Глубокие трещины избороздили его стены. Крепость может рухнуть, но пока еще грозно смотрят на пришельца не гладкоствольные пушки, а пулеметы.
Северный Йемен — страна контрастов и в географическом, и в климатическом, и в общественном смысле, страна трудной судьбы. Республика ломает корку средневековья, пытаясь прорваться в XX век. Все глубже трещины на стенах феодальных замков.
1979 г.
«ПАТРИЦИИ» И «ПЛЕБЕИ»
Остров стонал, словно раненое большое животное. Стон, переходящий в рев, далеко разносился над бутылочно-зелеными волнами. Звук исходил от газовых факелов чудовищной силы. Иногда порывы ветра сминали грязно-оранжевые языки пламени и прижимали к земле черный дым. Он окутывал арматурные переплетения, небольшую взлетно-посадочную дорожку, причалы, сварщиков, серебристые нефтехранилища. Отстраниться от факелов на маленьком участке суши было невозможно. Вот и теснились люди и машины рядом с бешеным огнем. Сквозь дым пробивалось расплавленное медное солнце. Люди жили и работали, стараясь не обращать внимания на мрачные отблески многолетнего пожара.
Остров Дас в Персидском заливе стал главным нефте- и газосборочным пунктом подводных месторождений компании «Абу-Даби марин эриэз».
Сравнительно недавно жизнь медленно текла под плоскими крышами редких глинобитных хижин близ колодцев с солоноватой водой и в черных палатках кочевников. Аравийское побережье Персидского залива выглядело примерно так, как описал его в IV веке до нашей эры греческий историк, который совершил путешествие из Индии вместе с Неархом — флотоводцем Александра Македонского.
Сейчас пустыню и прибрежные воды опутывают нефтепроводы. Десятки тысяч рабочих и инженеров бурят скважины, строят компрессорные установки, выносят в море причалы нефтяных портов.
На границе пустыни и моря возникают ультрасовременные города со смелыми архитектурными формами, кажущиеся миражами в раскаленном, дрожащем воздухе, однако осязаемые и реальные. Полчища оранжевых бульдозеров вгрызаются в серые аравийские пески, расчищая площадки для новых кварталов. Действуют самые крупные в мире заводы по опреснению воды. Ею утоляют жажду не только люди, Опресненной водой поливают пальмы в городских скверах и плантации овощей, что выращивают способом гидропоники на голом песке.
В княжестве Абу-Даби сам правитель когда-то ездил по бездорожью на стареньком «джипе». Буквально на глазах пустыню покрыли лепестки шоссейных развязок, на автострадах установлены радарные контролеры, следящие за соблюдением дорожных правил. Рядом с молодыми столицами пыль заносит свалки автомашин, как вблизи крупных американских городов.
Летом из Аравии налетают пыльные бури. Ветер гонит ржаво-красные облака. Пыль и песок проникают в дома, воду и пищу, скрипят на зубах, засыпают глаза. Горячий воздух иссушает организм, вызывает жажду и тепловые удары.
Вместе с ветрами из глубины пустыни приходят кочевники-бедуины с длинными волосами цвета воронова крыла. Их насурмленные глаза смотрят с удивлением, восторгом, жадностью и осуждением на базары из стекла и бетона, на залитые электрическим светом города.
Бывшие деревушки искателей жемчуга становятся торговыми и индустриальными центрами.
Рассказывают, что лет сорок назад один иракский торговец предложил шейху Кувейта холодильник.
— Очень хорош! — восхищенно сказал князь пустыни. — Только слишком дорого.
Возможно, эта история — легенда, но такое вполне могло случиться. Сейчас официальная «зарплата» кувейтского монарха в десятки раз выше, чем у президента США. Шейх Кувейта, как и другие нефтяные князья, входит во всемирный клуб миллиардеров.
В воздухе пахнет деньгами. Не просто большими, а фантастическими. И пусть высшая точка нефтяного бума позади, все равно нефтяные княжества Аравии остаются магнитом для дельцов всего мира. Сюда собираются бизнесмены — и мелкая рыбешка, и киты, чьи имена встречаются на рекламных щитах от Токио до Лондона и от Нью-Йорка до Сингапура. Покидая западноевропейские столицы, юные блондинки, представительницы «древнейшей профессии», берут билет в один конец: Париж — Эль-Кувейт, Лондон — Доха. Они надеются вернуться с сумочками, набитыми купюрами.
Финиковые пальмы сияют гроздьями красных и желтых плодов. Лучшие джазы мира играют в отелях для шейхов, контрабандистов, нуворишей-спекулянтов, офицеров-наемников. Старые, глинобитные дома полны легальными и нелегальными иммигрантами, надеждой и отчаянием.
Сегодняшний день Персидского залива. Нефтяной бум. Его изнанка и фасад. Сверхбогатство и сверхнищета. Сверхмодернизм и средневековье. Все вместе.
Если Саудовская Аравия давно известна миру, то о таких государствах, как Кувейт, Бахрейин, Катар, и о семерке, образовавшей Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-эль-Хайма, Эль-Фуджайра, Умм-эль-Кайвайн), до недавнего времени знали только востоковеды. Самый населенный из них Кувейт, здесь около полутора миллионов жителей, а в Умм-эль-Кайвайне — всего несколько тысяч.
Значение Аравийского полуострова в донефтяную эпоху определялось его стратегическим положением, а также религиозно-политической ролью в мусульманском мире: в Саудии расположены священные города ислама — Мекка и Медина, а мусульманские обычаи требуют от своих последователей совершать паломничество в Мекку. Но сейчас какая-нибудь межплеменная стычка кочевников Шарджи и Эль-Фуджайры откликается громким эхом на берегах Гудзона, Темзы и Токийского залива. Потому что все вращается вокруг нефти, которая призвана утолить энергетические запросы Запада: в зоне Персидского залива (или просто Залива, как его часто называют) залегают две трети разведанных ресурсов этого промышленно-энергетического сырья за пределами социалистических стран, здесь самая низкая себестоимость его добычи, чрезвычайно благоприятные условия для транспортировки. Любые события в бассейне Персидского залива привлекают внимание Международного нефтяного картеля, известного под названием «семь сестер». В это семейство входят американские компании «Экссон» (бывшая «Стандард Ойл оф Нью-Джерси»), «Стандард Ойл оф Калифорния», «Галф Ойл», «Тексако», «Мобил Ойл», англо-голландская «Ройял Датч — Шелл» и английская «Бритиш Петролеум».
Картель — самая могущественная монополистическая группировка капиталистического мира. Его участники в разных сочетаниях и пропорциях получили в свое время концессии в Аравии и сохраняют влияние даже в тех странах, где добыча нефти национализирована.
Большинство жителей Аравии и побережья Персидского залива в донефтяную эпоху добывали себе пропитание, разводя верблюдов, овец и коз, промышляя жемчуг, выращивая финиковые пальмы.
Кочевники-верблюдоводы в аравийских условиях были господствующей военной силой. Поэтому все феодальные кланы полуострова или вышли непосредственно из числа бедуинских вождей, или связаны с ними теснейшими семейными и союзническими узами. Аристократические семьи, правящие в Бахрейне, Кувейте, Катаре, Абу-Даби и других княжествах, — не исключение. Они пришли из глубины Аравии в основном в XVIII веке, вытолкнутые на побережье засухами и внутренними смутами и привлеченные славой жемчужного промысла Персидского залива.
…Однажды ночью по доске, брошенной на берег, мы поднялись на борт лодки искателей жемчуга. Затарахтел мотор. Он был единственным современным механизмом на лодке, конструкция которой не менялась, возможно, тысячелетия. На Мухарраке, одном из Бахрейнских островов, до сих пор сохранились верфи. На них из дерева, привезенного из Индии, строят крутобокие доу. Я познакомился с одним из корабелов. Он был строителем судов, как и его отец, дед, прадед. Я спросил его, по какому плану он строит суда. Жилистый, бородатый мужчина, обнаженный по пояс, усмехнулся и постучал себя по лбу: «Здесь мой план. Другого я не знаю». У доу высокие мореходные качества, на таком судне можно путешествовать через океан.
Журчала вода под килем. Силуэт рулевого с негроидными чертами лица, потомка африканского раба, все четче вырисовывался на фоне светлеющего неба. Мне вспомнилась чудесная легенда о происхождении жемчуга, записанная историком Аравии шейхом Набхани: «Весной раковины поднимаются на поверхность моря, и, когда идет дождь или над морем нависает тяжелая роса, они глотают капли чистой пресной воды, опускаются на дно, и из этих капель образуются драгоценные перлы».
Ассирийская надпись, сделанная во II тысячелетии до нашей эры, гласила, что из Дильмуна была получена посылка с «рыбьим глазом», то есть жемчугом. Это первое в истории упоминание о перлах Персидского залива. Большинство историков сходятся во мнении, что именно Бахрейн был Дильмуном, который почитался в древней Месопотамии как место встречи богов. О жемчуге Персидского залива писали и древнеримский историк Плиний, и средневековый арабский путешественник Ибн Баттута, и пытливый исследователь Аравии итальянец Ди Вартема. «Главные и лучшие из всех перлов, которые находят в восточных странах, добывают в заливе между Ормузом и Басрой», — сообщал в конце XVI века ван Линшоттен в книге «Записи путешествий в Восточные и Западные Индии».
В середине XIX века тысячи лодок выходили каждый год на ловлю перлов, которая приносила сотни тысяч фунтов стерлингов дохода. Экономический кризис 30-х годов нашего столетия подорвал жемчужный промысел, уменьшив спрос на драгоценные украшения. Почти смертельный удар нанесло ему производство японского культивированного жемчуга. Сейчас осталось лишь несколько десятков лодок с ныряльщиками. Впрочем, специалисты считают, что жемчуг Персидского залива лучше, чем культивированный японский: у него особый, долго сохраняющийся блеск, с глубоким розовым оттенком.
С давних времен в районе Персидского залива введен закон, запрещающий применение ныряльщиками каких-либо механизмов, усовершенствований, включая маски. Таким образом, видимо, пытались сохранить жемчужные отмели от истощения, а ловцов жемчуга — от конкуренции и голодной смерти.
Я наблюдал, как ныряльщики собираются на дно. От каждого весла с квадратными лопастями опускается по два каната. Один из них ловец использует для спуска, к другому прикрепляет сетку для раковин жемчужниц. Ныряльщики работают в узких набедренных повязках или обнаженными. Все их снаряжение состоит из кожаных рукавиц, чтобы не поранить руки об острые уступы скал или кораллы, и ножа для отделения раковин. Нос закрывают специальным костяным или черепаховым зажимом, а уши залепляют воском. Ныряльщик вдевает ногу в петлю с грузилом и быстро опускается на дно. Там он может находиться в среднем до полутора минут, не считая времени погружения и спуска. Затем он дергает за веревку, и его поднимают наверх.
Рулевой, пожилой человек с гноящимися, воспаленными глазами, держал веревку с особой чуткостью старого ныряльщика и рыбака: ведь от его внимания зависит порой человеческая жизнь. Он должен вовремя Почувствовать подергивание веревки и немедленно вытащить ловца на поверхность. В Персидском заливе случается, что искатели жемчуга, вооруженные лишь ножом, гибнут от нападения акулы или рыбы-пилы, но особенно опасны ядовитые, обжигающие медузы. Их прикосновение может вызвать шок, и ныряльщик захлебнется.
Судьба искателей жемчуга незавидна. Многие из них заболевают кессонной и другими болезнями. За свой тяжелый, опасный труд они получают ничтожно мало, и все зависят от торговцев, капитанов, владельцев судов. Сравнительно недавно должник не мог уйти от своего хозяина, оставаясь в долговом рабстве, которое передавалось от отца к сыну. Но сейчас этот средневековый обычай отменен.
Я наблюдал добычу жемчуга не только на островах Бахрейна, но и в Катаре, Кувейте, Абу-Даби, и везде обычаи, нравы и занятия местных жителей были почти одинаковы.
Из района промысла мы возвращались к вечеру на другой лодке, так как ныряльщики остаются на отмелях несколько недель. Вдоль пустынного берега пронеслась кавалькада живописно одетых всадников в длинных, до пят рубахах, белых платках, накинутых на голову и схваченных плетеными кожаными ремешками. У некоторых на богато украшенных кожаных рукавицах или манжетах сидели, нахохлившись, охотничьи соколы, ослепленные надетым на глаза колпачком. Бахрейнская знать любит соколиную охоту и несколько раз в год выезжает в соседнюю Саудовскую Аравию, чтобы предаться бодрящему кровь спорту в пустынях и полупустынях. Сейчас это была просто прогулка.
В эмирских конюшнях на Бахрейне около трехсот чистопородных лошадей. Их генеалогическое древо прослеживают в глубь десятилетий и чуть ли не столетий с не меньшей тщательностью и гордостью, чем линии рода иных княжеских и королевских семей. Климатические условия — влажная, изнуряющая жара летом и сухой холод зимой, — видимо, оказались идеальными для разведения лошадей. Вода, богатая необходимыми солями, отличный корм — финики, ячмень, круглый год зеленая люцерна, отсутствие эпизоотий помогают выращивать скакунов благородных кровей.
Мне читали стихи об арабских лошадях в закоулках старого торгового центра Манамы — столицы Бахрейна, в крохотных кофейнях, где с трудом умещается несколько столиков. В век транзисторов и телевизоров оказались живы традиции бедуинского стихосложения. Трудно сказать, насколько они распространены, по и сейчас, слушая изысканные сравнения аравийского скакуна со стройной девушкой, посетители в восхищении цокают языками и, отрываясь от кальяна, восклицают: «Валла!»
Аравия знаменита своими лошадьми, но редко кто знает, что в этих краях они мало кому доступная роскошь. Лишь владелец многих сотен верблюдов мог позволить себе прихоть — содержать благородного скакуна.
Манама хороша, когда на нее смотришь с моря. Приближаясь к городу со стороны Аравийского побережья, видишь линию домов с глубокими, тенистыми верандами над зелено-голубым морем. Над ними возвышались башни, продуваемые бризом, которые служили местом отдыха от зноя в те времена, когда не было ни электрических фенов, ни кондиционеров. Линия городских домов разбивалась несколькими минаретами. Но сейчас современные многоэтажные здания светлых тонов или аспидно-черные — государственные учреждения, гостиницы, банки — сломали и отбросили в закоулки дома традиционного типа.
Через арку Баб-эль-Бахрен (Ворота Бахрейна) можно пройти на манамский базар. Он представляет собой узкие улочки, где слышны гортанный говор шумной толпы, заунывная музыка из транзисторов, где чувствуешь запах свежей рыбы, кофе, пряностей. Большинство мужчин — в европейских костюмах, хотя немало встретишь в дишдашах — длинных белых рубахах, которые мне представляются идеальными в условиях аравийской жары. Женщины в основном в традиционных черных накидке», но нередко увидишь арабок, одетых по-европейски. Крупные магазины имеют современный вид, в них твердые цены. В лавчонках надо долго торговаться. Базар подержанных вещей, пряностей, металлических поковок, блюд, кувшинов — типично восточный.
На Бахрейне много источников пресной воды. Некоторые из них бьют со дня моря, так как водоносные слои с Аравийского полуострова проходят на дне неглубокого залива. Вода «морских пресных ключей» по трубам подается в сады и пальмовые рощи. Недалеко от Манамы есть чистые пруды с пресной водой, у которых бахрейнцы отдыхают под перистыми кронами пальм.
В Сирии уверены, что именно в благословенном оазисе Гута, в котором расположен Дамаск, находится библейский рай. Большинство все-таки считают низовье Тигра и Евфрата тем местом, где змий некогда соблазнил Адама и Еву. На Бахрейне я убедился, что эти острова тоже претендуют на место библейского рая.
Финики для жителей аравийских оазисов — и хлеб, и овощи, и фрукты. Утверждают, что аравийская хозяйка должна уметь готовить из фиников несколько сот блюд. Они идут в пищу в свежем, вареном, вяленом виде. Из листьев финиковых пальм плетут циновки, из волокон, которыми покрыт ствол, вьют веревки и канаты, используют для рыболовных снастей. Ствол находит себе применение, как и любая другая высококачественная древесина. Из сока гонят финиковую водку. Иногда бедняки пережаривают косточки фиников и используют их как суррогат кофе. Незрелые плоды вместе с косточками и сушеной рыбой скармливают скоту.
Жемчуг, соколы, лошади, даже финики и, за исключением Саудовской Аравии, верблюды — это все-таки прошлое. Это старина, теплая от незабытых легенд, традиция, дорогая сердцу местных жителей, любопытно-экзотическая для гостей. Нс финики, и не жемчуг, и не верблюды — главный источник существования для населения нефтяных государств. Все это атрибуты донефтяной эпохи, превратившиеся в третьестепенные и десятистепенные занятия, лишь детали в картине противоречивого и уникального края, жителей которого нефтяная волна вымыла из глубоких пещер и палаток средневековья и бросила в водоворот последней четверти XX столетия.
На аравийскую почву была перенесена нефтяная промышленность — одна из самых передовых отраслей индустрии XX века. Появились современные трудовые навыки у местного населения, сначала у рабочих, а затем техников и инженеров, опыт организации и управления крупным производством. Это происходило медленно и мучительно, так как иностранные компании справедливо усматривали в появлении местных кадров будущую угрозу своим позициям.
Однако нефтяная промышленность была столь высокопроизводительной, что охватила лишь небольшую часть населения. Новая индустрия долгое время оставалась островком в море традиционного хозяйства, чужеродным телом в феодально-племенном обществе. Добыча нефти оказала воздействие на аравийские государства прежде всего постоянно растущими отчислениями, которые попадали в руки правящего класса.
Абсолютные цифры дохода на душу населения в нефтяных княжествах создают статистическую иллюзию высокого уровня экономического развития. Государства на Аравийском побережье Залива превратились в импортеров всего, что можно приобрести за деньги, — от автомобилей до певичек, от реактивных самолетов до картин старых мастеров, от ручных часов до замороженных черничных пирогов. Везде в мире быстрый подъем национального дохода был возможен лишь в результате предыдущих социально-политических изменений. Здесь же финансовый взрыв предшествовал и социальной, и политической, и культурной революции. Попытки «подтянуть» уровень нефтяных государств до их чисто финансовых возможностей упирались не только в политику международных монополий, не только в малолюдство этих краев, но и в общественную структуру Аравии и в психологию ее населения.
Можно ли, рисуя портрет бедуина, использовать глаголы в настоящем времени? И да и нет. В некоторых районах Аравии образ жизни кочевников остался почти таким же, каким он был и тысячи лет назад. Однако на побережье Персидского залива сам смысл кочевничества, то есть добывание скудного пропитания с помощью верблюдоводства или овцеводства, перестал существовать. Изменение условий жизни, распространение наемного труда, образования, поездки за границу, доступ к средствам массовой информации размывают племенные привязанности, развеивают патриархальные ценности прежнего общества. В этом же направлении развиваются события в Саудовской Аравии. Тем не менее буря перемен отнюдь еще не сломала бедуинскую психологию, племенные традиции, предрассудки, специфические общественные отношения аравийского феодализма и полуфеодализма. Как удается бедуину войти в капиталистическое общество последней четверти XX века с его жестокой конкуренцией, властью чистогана, распадом как будто бы незыблемых моральных ценностей, с его телевидением, космической связью, автомобилями?
Коренные жители нефтяных аравийских княжеств и более развитых районов Саудии существуют как бы в двух мирах — в прежнем, феодально-племенном, и в современном. Состояние это неустойчивое, временное.
Употребляя выражение «аравийский феодализм», все же не стоило бы ставить знак равенства между шейхом и помещиком средневековой Европы, рядовым членом бедуинского племени и крепостным. Племенной шейх ближе стоял к военно-демократическому вождю дофеодального Запада, чем к крепостнику.
Отношения эксплуатации и подчинения внутри кочевых племен были развиты меньше, чем в оазисах, и смягчались традициями племенной солидарности и взаимопомощи. Используя соплеменников в качестве военной силы для ограбления оседлого населения или рыбаков, князь пустыни считал своим долгом делиться с бедуинами частью добычи или регулярного дохода. Естественно, эти патриархальные отношения не распространялись ни на рабов, как правило африканского происхождения, ни на вольноотпущенников, которые оставались в полукрепостной зависимости от хозяев, ни на крестьян-феллахов, ни на «низшие» племена.
Когда же в пустыне забили фонтаны жидкого горючего, феодально-племенная аристократия стала получать колоссальные нефтяные доходы. Первым ее побуждением было построить дворцы, перед которыми бледнеют сказки «Тысячи и одной ночи», а вторым — дать приличные жилища и прочие блага современной цивилизации своим соплеменникам, но только соплеменникам.
Как начинался этот процесс, можно было наблюдать в Объединенных Арабских Эмиратах, которые позднее других приобщились к нефтяному бизнесу. Многие представители местной знати показались мне похожими друг на друга. И не только потому, что за века на узкой территории. где был мал приток свежей крови, все они давно породнились и приходились друг другу двоюродными и троюродными братьями. Они были похожи своим поведением — быстрыми, резкими движениями и трагически-недовольной миной на лицах. Их мир раньше был ограничен кругозором феодально-племенного общества пустыни. И вдруг — нефть! Золото! Толпы иностранцев! Ловкие дельцы и авантюристы, которые раньше не удостаивали эти забытые богом места своим вниманием, теперь слетались сюда стаями. Шейхи чувствовали, что их бессовестно обманывают, но ничего не могли поделать.
Притчей во языцех нефтяной эпопеи Персидского залива стал прежний правитель Абу-Даби — Шахбут ибн Султан. В начале шестидесятых годов княжество находилось на пороге одного из наиболее фантастических взлетов в истории нефтедобывающей промышленности, и в карман эмира потекли деньги. Шахбут, человек подозрительный и неуравновешенный, был подвержен припадкам ярости, и тогда его голос поднимался до визга, как у капризного ребенка. Многие считали, что он сошел с ума. с)мир отказывался иметь дело с иностранцами и не намеревался расходовать свое богатство, предпочитая коллекционировать золотые бруски под постелью. Заднюю комнату своего глинобитного дворца он забил крупными банкнотами. Когда его изгнали, то обнаружили, что крысы изгрызли по крайней мере два миллиона долларов.
Шахбут любопытен тем, что он — исключение, может быть, он был своего рода Дон Кихотом пустыни, уходящих ценностей бедуинского феодально-племенного общества, «чистоту» которого он пытался сохранить столь необычным способом.
Шейхи и эмиры — люди со своими сильными и слабыми сторонами, со своими понятиями о добре и зле, о жизненных благах, о роскоши, райских блаженствах. Напомним, что мусульманский рай — место чувственных наслаждений, с изысканными яствами, со звенящими ручьями и тенистыми пальмовыми рощами. Они не могут устоять перед многими соблазнами современного мира, помноженными на буйную фантазию древних легенд, и проходят через период сверхзатрат и мотовства как в личном, так и в государственном масштабе.
В последние годы правления основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза ибн Сауда, в начале пятидесятых годов, в воздухе сгущался запах гниения. Правитель старел и был не в состоянии контролировать коррупцию, которая пышно расцветала в системе, созданной им самим. Его сыновья, племянники, министры расходовали растущие доходы ускоренными темпами. У министров и крупных чиновников появились ливанские, палестинские, сирийские секретари, единственная задача которых состояла в том, чтобы перекачивать деньги из государственной казны в швейцарские, американские банки или бейрутскую недвижимость.
Сауд ибн Абдель Азиз, вступивший на престол в 1953 году, во всем превзошел своего отца. Его гарем был больше, а его агенты шныряли в Каире, Тегеране, Карачи, Бейруте, покупая девушек (а иногда и мальчиков) для саудовской аристократии. Эти операции приобрели такую скандальную известность, что ближневосточная печать стала требовать их пресечения. Понятия бюджета и разделения государственных и личных расходов практически не существовали в Саудии конца пятидесятых годов. Несмотря на рост нефтяных доходов, долги страны достигли астрономической суммы. Однако Сауд и его окружение не думали сокращать расходы на дворцы, автомобили, гаремы, самолеты. До поры до времени никто не решался поднять голос против разврата и разложения двора. Лишь старик Джон Филби, выдающийся исследователь Аравии, бывший английский разведчик, осудивший английскую политику, личный друг основателя королевства Ибн Сауда, пытался публично одернуть нового монарха, за что и был выслан из страны.
Англичанин Колин Макгрегор, который стал финансовым советником кувейтского правительства, рассказывал, какой была обстановка в этом княжестве в середине пятидесятых годов: «Сначала мы хранили все доходы в чудовищном сейфе в моей конторе. Мы набивали его индийскими рупиями, золотыми слитками, мешками с золотыми соверенами. Там были миллионы и миллионы. Родственники правителя приходили и забирали деньги, иногда по миллиону рупий, и были очень недовольны, когда я настаивал на расписке. Я помню, как однажды один из братьев шейха, который славился транжирством, прислал записку, требуя огромную сумму в золотых соверенах и талерах Марии-Терезии. Я приготовил ее в двух больших мешках и послал ему, но дал строгую инструкцию охранникам, чтобы они не возвращались без расписки. Они пришли через час и принесли мятый клочок бумаги, на котором было нацарапано: «Получил два мешка денег».
До сих пор в Кувейте можно встретить остатки этих безумных затрат: разрушающиеся дворцы с мраморными комнатами, наполненными «модернистской» мебелью из самых дорогих европейских и американских магазинов.
Те времена как будто прошли, и практически все прежние правители, у которых голова пошла кругом от потока золота, были сменены более реалистически мыслящими монархами. Расточительство стало не столь явным и во многих случаях сменилось систематическим накоплением и умножением богатств. Но многие государственные мероприятия, связанные с престижными соображениями, также граничили с транжирством. Не будем останавливаться на проекте строительства крыши над целым городом Эль-Кувейтом и созданием в нем искусственного климата, приведем пример попроще.
Кабинет министра одного из княжеств. Я не называю его имени, чтобы случайно не обидеть этого гостеприимного, доброжелательного человека. Кабинет, отделанный парижскими дизайнерами, был выдержан в золотисто-бронзовых тонах — кресла, обивка стен, стол, даже десяток телефонов на столе. В хрустальной вазе букет свежих роз, доставленных из Шираза. Нежно шепчет кондиционер, создавая восхитительную прохладу. Министр рассказывал мне о проекте строительства мощной станции цветного телевидения.
— Зачем вам эта станция? — спрашиваю.
— Как зачем? У наших соседей есть. Мы тоже должны построить.
— Какие у вас еще планы?
— Построить радиостанцию мощностью семьсот пятьдесят киловатт.
— А разве для вашей страны и ее нескольких десятков тысяч жителей не хватит и двадцати пяти киловатт?
— Ну, мы хотим, чтобы нас слышал весь арабский мир до Атлантики.
— Зачем?
В ответ я встретил неудоуменный, даже обиженный взгляд.
Понимает ли хотя бы наиболее дальновидная часть правящего класса Аравии свое положение? Берусь утверждать, хотя и не категорически, что да. Несколько лет назад в Кувейте распространился слух, будто нефтяная компания «Кувейт Ойл» преувеличивает данные о о запасах жидкого горючего и при быстрых темпах роста его добычи скважины высохнут лет через пятнадцать. Началась паника. «Кувейт Ойл Компани» сделала успокаивающее заявление, но в глубине души ей мало кто поверил. Очень многие задумались над будущим своей страны и своим собственным.
В одном из местных театров я видел тогда любительский спектакль «Кувейт в 2000 году», где была показана страна, оказавшаяся без нефти: скважины истощились, поток золота иссяк, исчезла возможность существования большого города в раскаленной пустыне. Разрушаются здания, автострады, ломаются автомашины, перестают работать станции по опреснению воды, выходят из строя телевизоры, кондиционеры, так как квалифицированным иммигрантам нечем платить и они уезжают… Все ржавеет, приходит в упадок, гибнет. И тогда кувейтские «патриции» начинают возвращаться к занятиям предков — разводить верблюдов, овец и коз.
Чтобы так горько смеяться над собой, часть общества должна для этого созреть, хотя спектакль поставили не кувейтцы, а иммигранты. Реалистически мыслящие арабы-аравийцы понимали, что благополучие их жизни под золотым дождем нефтяных отчислений рано или поздно может прекратиться. Тогда произойдут общественные катаклизмы. Но эти страны смогут уцелеть, если у них будут и собственные кадры, и независимая от нефти экономика.
Вплоть до начала шестидесятых годов нашего века «национальное производство» в Аравии ограничивалось традиционными предметами первой необходимости и было представлено ремесленниками-кустарями и домашним ремеслом. Профессиональные ремесленники, как и раньше, обслуживали общины земледельцев в оазисах, где они жили, или кочевали с бедуинами. С более широким рынком были связаны ремесленники крупных торговых центров Хиджаза где они ориентировались на паломников, и Неджда и Восточной провинции, связанных с сезонными ярмарками, а также городков на берегу Персидского залива.
Традиционная экономика Аравии с ее примитивным уровнем развития производительных сил приходила в упадок и до появления нефтяных компаний. Вторжение современных капиталистических предприятий и массовый импорт, губительный для местных ремесел, ускорили этот процесс.
Нефтяная промышленность, гигантские капиталистические предприятия, окруженные средневековой или до-средневековой экономикой, оказали непосредственное воздействие на аравийское общество, внедряя капиталистический уклад. Они привлекали наемную рабочую силу, возводили современные поселки и города, создавали вспомогательные службы и мастерские с участием местного капитала, строили сеть дорог. Все эти перемены, означавшие прогресс и для экономики Аравии, и для ее социального развития, были вызваны отнюдь не филантропическими целями американских или английских монополий, а необходимостью создания элементарных экономических, технологических и других условий для нормального функционирования нефтедобывающей промышленности.
С помощью местных капиталов на побережье Персидского залива стали появляться второстепенные отрасли промышленности и строительства, обслуживающие нефтяные компании. Некоторые подрядчики открыли свои строительные конторы, транспортные фирмы, владевшие десятками автомашин, авторемонтные мастерские. Здесь же появились заводики по производству строительных материалов, бутылок, кислорода, льда, прохладительных напитков, электростанции, мебельные мастерские. Возросло число торговых фирм, различных магазинов и лавок.
Однако к началу шестидесятых годов в аравийских нефтяных монархиях практически не существовало национальной промышленности. Если не считать нефтеперегонных заводов, принадлежавших иностранному капиталу, в Саудовской Аравии, например, не было ни одного предприятия с числом рабочих свыше ста.
Правящие классы нефтяных монархий Аравии, заинтересованные в личном обогащении, с растущей алчностью потреблявшие и «проедавшие» нефтяные доходы, в сороковых — начале пятидесятых годов не интересовались судьбой национальной промышленности и ремесел. Лишь постепенно у их наиболее дальновидных и просвещенных представителей созревала мысль о необходимости государственного вмешательства в экономику хотя бы с целью ее законодательного регулирования и поощрения. Эти идеи возникали как под воздействием процессов, происходивших в передовых арабских странах, так и в результате критики режимов нарождавшимися национально-демократическими силами внутри страны.
С шестидесятых годов впервые в истории здесь возникла прочная, постоянно расширявшаяся база для быстрого увеличения общенационального фонда накопления. Для стран с преобладающими феодальным и полуфеодальным укладами, которые сами не могут служить базой накопления, это факт сравнительно редкий. Сосредоточение огромных финансовых ресурсов в руках государства, необходимость не только защищать интересы крепнущего класса буржуазии, но и прокладывать ему дорогу создавали благоприятные условия для предпринимательской деятельности, хотя и в шестидесятые годы деятельность национальных предприятий сводилась опять-таки к производству прохладительных напитков, льда, бумаги, кирпича, цемента, других строительных материалов, мебели, бытовых химикалий, бройлерных цыплят.
Но промышленная буржуазия Саудовской Аравии и княжеств и к началу восьмидесятых годов оставалась в эмбриональном состоянии и не имела ни экономического, ни политического веса. Производственная деятельность давала слишком низкую прибыль и оказалась сопряженной со слишком большим риском, чтобы привлечь тех, у кого были капиталы. Они предпочитали переводить их за границу, вкладывать деньги в импортную торговлю, земельные спекуляции, домостроительство, в лучшем случае — в подрядные и строительные фирмы.
Власти оказались перед необходимостью принять на себя задачу промышленного развития. Феодальное по своей классовой сути, государство было вынуждено взяться за создание государственно-капиталистического сектора экономики, в частности капиталоемких отраслей промышленности. С этой целью были основаны государственные компании, предприятия, фермы, начато интенсивное строительство дорог, аэропортов, телекоммуникаций.
Когда же после 1973 года на аравийские монархии буквально обрушилась лавина денег, их стали частично вкладывать в проекты развития, которые на бумаге выглядели столь грандиозно, что должны были бы перенести полуфеодальное общество в двадцать первый век. На первый пятилетний план Саудовской Аравии в 1970 году было выделено шестнадцать миллиардов долларов, на второй — сто сорок миллиардов, на третий, начавшийся в 1980 году, — двести тридцать шесть миллиардов.
Куда и как уходят эти деньги?
Разбазаривание средств и ненужный гигантизм — вот характерные черты многих саудовских проектов развития. Так, например, новый аэропорт Джидды по площади в полтора раза больше, чем аэропорты Нью-Йорка (имени Кеннеди и Ла-Гардиа), Чикаго и Лос-Анджелеса, вместе взятые. Воздух во всех помещениях этого аэропорта кондиционирован, полы и стены облицованы белым итальянским мрамором, повсюду — ультрасовременное оборудование, а вокруг — мечети, бассейны, автостоянки, гостиницы, универсамы, рестораны, банки й, наконец, опреснитель. Весь этот комплекс, построенный американскими архитекторами, будет украшен также лесом, насчитывающим семьдесят две тысячи деревьев и два с половиной миллиона других растений, завезенных из тропических стран. Аэропорт рассчитан на прием в 2000 году десяти миллионов пассажиров. Строящийся аэропорт Эр-Рияда рассчитан на пятнадцать миллионов пассажиров, что почти втрое превышает население королевства.
Согласно официальной терминологии, не страдающей скромностью, в настоящее время в Янбу и Эль-Джубайле осуществляется «самая великая стройка в истории человечества». Огромные промышленные комбинаты, прежде всего металлургические и нефтехимические, сооружают в этих городах, один из которых находится на побережье Красного моря, другой — на побережье Персидского залива.
Металлургические и нефтехимические предприятия, которые будут построены благодаря дополнительным многомиллиардным затратам, нецелесообразны, по мнению иностранных экспертов, с чисто экономической точки зрения, ибо будут, вероятно, нерентабельны, учитывая уровень цен на мировом рынке.
Западные фирмы, участвующие в стройках, вздувают цены на свое оборудование в несколько раз, заранее обрекая будущие предприятия на убыточную работу. Идет строительство новых «пирамид», невиданное в истории расточительство средств, рядом с которыми «безумства» нефтяных монархов в сороковые — пятидесятые годы кажутся мальчишеским «кутежом» с мороженым и лимонадом.
Есть ли у Саудовской Аравии индустриальное будущее? Банкир, обосновавшийся в Эр-Рияде лет десять назад, не уверен в этом. Он считает, что высокая стоимость заводов и квалифицированной рабочей силы сводит почти на нет энергетическое преимущество.
— За исключением некоторых отраслей нефтехимии, я не вижу способа сделать цены саудовской продукции конкурентоспособными, — сказал он корреспонденту французской газеты «Монд». — Если же установить специальную систему экспортных цен, то это будет бочка Данаид.
А что будет с отраслями, работающими на внутренний рынок? Не приведет ли узость этого рынка к их краху? На слово «демография» здесь наложено табу. Данные переписи населения 1976 года так и не были опубликованы. Согласно официальным данным, в Саудовской Аравии более восьми миллионов жителей. Но один высокопоставленный чиновник, уставший от «бесполезной лжи», называет секретную цифру переписи: «В 1976 году нас было три с половиной миллиона». В конце семидесятых годов же едва ли можно насчитать больше четырех миллионов, если предположить, что прежняя перепись не охватила всех жителей.
Эксперты считают, что предусмотренные планом предприятия тяжелой промышленности в Эль-Джубайле на восточном и в Янбу на западном побережьях, на которые выделяются огромные капиталовложения, не будут давать прибыль.
Экономические проекты в аравийских нефтяных монархиях оказываются неэффективными еще и потому, что деньги, выделяемые на их осуществление, разворовываются, утекают в виде взяток и «комиссионных», выплачиваются владельцам земли. Коррупция, по признанию объективных исследователей, разъедает всю общественную структуру Саудовской Аравии, как, впрочем, и княжеств, сверху донизу. Один из главных принцев «заработал» два миллиарда долларов на продаже земли, которая используется для строительства Джубайльского промышленного комплекса, другой получил восемь миллиардов долларов от спекуляции земельной площадью, которая пошла под новый аэропорт в Эр-Рияде. Естественно, что эти десять миллиардов включены в графу расходов на «развитие» королевства. Знакомые с планами экономического развития, принцы закупают участки неосвоенных земель по дешевой цене, а затем получают многомиллиардные доходы, «законным» образом продавая их государству.
Взяточничество было буквально заложено в пятилетние планы экономического развития Саудовской Аравии. В планы включаются огромные ненужные строительные проекты, что гарантирует постоянное наличие каких-то крупных объектов, создающих благодатную почву для взяток.
С коррупцией мирятся, она ни у кого не вызывает возражений, считают Томас Барджер и Фрэнк Джангерс — бывшие председатели американской нефтяной компании АРАМКО, жившие долгие годы в Саудовской Аравии. Но Джеймс Эйкинс, бывший американский посол в Саудовской Аравии, сказал, что, если не будут проведены коренные внутренние реформы, эта страна столкнется с серьезными проблемами, поскольку отношение к коррупции становится таким же, каким оно было в Иране в 1976–1977 годах.
«Где пролегает граница, отделяющая комиссию от взятки, заслуженный заработок от подкупа? — риторически вопрошала французская «Монд». — Подобный вопрос выглядит, пожалуй, смешно в финансово-экономической обстановке Саудовской Аравии. В официальных кругах он вызывает лишь резкую иронию по поводу нравов делового мира… на Западе. Тем не менее все больше саудовцев чувствуют растушую пропасть между исламским пуританизмом, о котором твердит ваххабитское королевство, и поведением некоторых из его руководителей. Им, в частности, совсем не нравится тот факт, что высокопоставленные лица считают нормальным или даже законным делом взимать отчисления с выручки от сбываемой государством нефти за счет разницы между официальной ценой, практикуемой Эр-Риядом, и более высокими ценами ОПЕК; что сын высокопоставленного принца требует «комиссию» в пятьсот миллионов долларов за содействие в заключении контракта на оборудование между правительством и иностранной фирмой; что существует секретный бюджет для предоставления ежегодных дотаций на сумму в несколько сот миллионов долларов принцам и другим членам королевской семьи, которых насчитывается около семнадцати тысяч. Положение может стать в конечном счете взрывоопасным. Этого-то и боятся просвещенные сторонники монархии, в том числе члены самой королевской семьи».
Экономическое положение и хозяйственная деятельность в государствах Залива неоднородны, поэтому обобщения трудны. Обратимся к примеру Дубая, чтобы подтвердить это замечание.
Дубай известен как центр торговли и контрабанды. Я слышал удивительные рассказы о нем еще раньше, когда бывал в Иране, Афганистане, Йемене и Ираке. Но пусть читатель не думает, что современные контрабандисты Персидского залива похожи на средневековых пиратов с черной повязкой на глазу и золотой серьгой в левой ноздре или правом ухе.
Мое знакомство с Дубаем и его «джентльменами удачи» началось еще в Катаре, в прекрасной гостинице «Оазис», которую обслуживали египтяне и суданцы. В холле «Оазиса» скучали два джентльмена. Оба в темных очках, оба в белых рубашках с модными широкими галстуками, оба с атташе-кейсами (плоскими элегантными чемоданчиками). Один из них, как оказалось, был метис — полуараб-полупакистанец. Густые волосы, тяжелая челюсть, крепкие белые зубы — весь его облик как будто свидетельствовал о спокойствии и силе характера, но суетливо подвижные руки выдавали нервную озабоченность. Он говорил по-арабски, по-персидски, на урду, по-английски, по-малайски. Второй — полнощекий, лысоватый француз с рыхлым жирком на животе и чувством юмора («Я столько денег потратил, чтобы отрастить этот живот, зачем же мне его спускать? Хо-хо-хо!»). Мы разговорились, и они с удовольствием рассказали о своей профессии. Оба были контрабандистами. Их занятие издревле столь распространено в Персидском заливе, что скрывать его они считали «ниже своего достоинства», а может быть, им просто захотелось прихвастнуть перед заезжим журналистом, который явно не представлял опасности для их бизнеса.
— Если вы не побываете в Дубае, вы не получите представления о Персидском заливе, — сказал первый. — Вы думаете, что Дубай — маленькое рыбачье поселение? Ну нет. Пройдитесь по его главным улицам. Блестящие современные здания. Все они выстроены до начала добычи нефти. На какие деньги? Контрабанда. В Дубае открыто более полусотни отделений иностранных банков. Чем они занимаются помимо нефтяных операций? Контрабандой. Конторы дельцов связаны телексом со всем миром через спутник связи. Сделки на сотни тысяч фунтов заключаются по устной договоренности. Хочешь торговать тканями, станками, электроникой? Пожалуйста. Оружием? Пожалуйста. Одно условие — держи язык за зубами и сдержи данное слово. Один раз нарушишь обещание — ожидай ночного визита убийц, вооруженных бесшумными пистолетами.
— И как велик риск?
— Крупные торговцы не рискуют. Рискуют те, кто перебирается через границу, устраивает перестрелки с индийской или иранской береговой охраной, если опа не подкуплена заранее. В случае чего — концы в воду. В океане достаточно акул. Сейчас в Дубае построен современный порт. Причалы длиной несколько километров завалены товарами. Разгружаются океанские сухогрузы. Но официальный реэкспорт и контрабанду развозят на доу. На некоторых установлены двигатели в две-три тысячи лошадиных сил, и они развивают скорость чуть ли не торпедных катеров. Представьте также, что где-нибудь в трюме спрятан тяжелый пулемет…
— Контрабанда ограничивается товарами, которые доставляются морем?
— Отнюдь нет. Главная контрабанда — «невидимая»: золото, наркотики. Золото идет в основном в Индию, Пакистан, на Шри-Ланку, где есть обычай вкладывать сбережения в золотые украшения для женщин, поэтому цены на драгоценный металл там выше, чем на мировом рынке. Раньше эта контрабанда не составляла проблемы: в княжествах ходила индийская рупия. Потом там пустили в обращение рупию другого цвета, сохранив общими мелкие монеты. Тогда с индийского рынка стала исчезать мелочь. Десятками тонн ее вывозили сюда. Сейчас контрабандисты перешли на доллары, фунты и иены. Контрабанда — дело двустороннее. Из Индии сюда привозили много серебра. Я помню, как на аэродроме в Дубае я видел целые кучи слитков серебра. Но в Индии, насколько мне известно, серебро добывается в ограниченных количествах, в Китае намного больше. Значит, цепь замыкается где-то в Гонконге…
Мои собеседники были, несомненно, смелыми людьми. Оба на прощание извлекли из карманов визитные карточки и протянули их мне.
— Я могу назвать ваши имена в печати?
Они переглянулись:
— Нет, лучше не надо. Мы обойдемся без рекламы. Наверное, я никогда не попал бы в Дубай и не смог проверить справедливость слов «джентльменов удачи», если бы не кувейтское агентство путешествий «Идрис». Предупредительный молодой ливанец Виктор с «романтической» гривой волос приготовил мне билет для полетов по княжествам, не включив в маршрут Дубай, так как его посещение тогда не входило в мои планы. Виктор был так любезен, что я «потерял бдительность» и не проверил расписание самолетов, а это никогда не мешает делать в тех краях. Пришлось расплачиваться. Виктор, конечно же, кое-что перепутал, и в Дохе я опоздал на самолет, отправлявшийся в Абу-Даби. Выручил египтянин, работавший в местной авиакомпании «Галф Авиэйшн». Он посоветовал лететь в Дубай, а оттуда добираться до Абу-Даби, что я и сделал. Я позвонил в бюро информации Дубая и попросил встретить меня. Мне обещали помочь.
Все побережье Объединенных Эмиратов — лабиринт лагун, протоков, островков и соленых болот — идеальное убежище для мелко сидящих быстроходных доу. Поэтому местные рыбаки, торговцы и воины могли так долго сопротивляться английскому военному флоту в конце XVIII — начале XIX века.
Самая удобная естественная гавань на побережье — в Дубае. Это княжество — свободный порт, и все виды торговли — законные. Когда же суда контрабандистов входят в территориальные воды других стран, они подвергаются опасности. Поэтому главная гарантия удачи — скорость. Применяется и другая подстраховка. Чтобы обеспечить инициативу и старательность своих таможенных чиновников, правительства Индии и других стран обещают им определенную часть захваченного золота. Но контрабандисты такой же процент уплачивают им вперед и лишь время от времени подставляют какую-нибудь доу под удар, чтобы создать иллюзию активной работы местной таможенной службы.
Последнее время быстро развивающаяся экономика эмиратов Залива породила другую страшную «контрабанду» — нелегальную иммиграцию. Безработные с субконтинента, в особенности из Пакистана, готовы отдать все свои сбережения владельцам и капитанам доу за нелегальный въезд в эмираты. Некоторые из них умирают в дороге, и их тела выбрасывают в море. Других, ослабленных путешествием, оставляют где-нибудь на берегу, и они должны сами добираться до «земли обетованной».
Контрабанда оружием — другой вид традиционных операций в Заливе. Многие арабы хотят иметь личное оружие. Раньше автоматы, пистолеты и винтовки отправляли во внутренние районы Омана через оазис Эль-Бурайми. Потом в этом бизнесе с Дубаем начал конкурировать порт Сур на побережье султаната Оман.
Однажды средь бела дня на центральной улице Дубая ко мне подошел хорошо одетый молодой человек и предложил журналы с фотографиями шведских кинозвезд нагишом.
— Мне бы другой товар, — решил пошутить я. — Например, броневик «саладин» для действий в пустыне.
— Бронемашина? Это можно, — ответил молодой человек серьезно. — Только придется внести крупный аванс.
В аэропорту Дубая я увидел, как с самолета английской авиакомпании выгружали бруски с золотом с такой небрежностью и беспечностью, что чиновника, ответственного за безопасность где-нибудь в лондонском аэропорту «Хитроу», наверное, хватил бы удар. Золото отдается на хранение в местные банки, а затем, пройдя через несколько рук, оно грузится на доу. Иногда его распиливают на мелкие бруски.
Бухта Дубая была заполнена флотилией деревянных суденышек. Они стеной стояли вдоль набережной, которой гордился бы и европейский город. На многоэтажных зданиях пестрели названия банков — «Чейз Манхэттен», «Бэнк оф Америка», «Барклайз Бэнк» и десятков других. Новый порт Дубая — Мина-эр-Рашид — выстроен недавно. Его потенциальный грузооборот — три миллиона тонн в год. Эмир княжества был уверен, что порт, названный его именем, окупит себя, и не просчитался. Десятки гигантских складов дубайского порта принимают товары со всего мира.
Княжества Дубай, Шарджа и Аджман расположены совсем рядом, в нескольких километрах друг от друга, и они сольются в один город.
Американскому финансисту снится страшный сон: темноглазый человек спускается по трапу самолета в нью-йоркском аэропорту «Кеннеди»; в его дорожном чемоданчике лежат чеки на миллиарды долларов, подписанные компаниями «Экссон» или «Тексако»; он проводит тайные встречи с держателями контрольных пакетов акций крупнейших корпораций, и однажды утром Соединенные Штаты узнают, что правитель некоего арабского княжества установил контроль над «Дженерал Моторе», «Юнайтед Стейтс Стил», «Дюпоном» или над всеми тремя вместе.
Так или почти так рисовалась в середине семидесятых годов финансово-промышленным магнатам Запада угроза со стороны нефтеэкспортирующих стран, в руках которых сосредоточивались фантастически возросшие капиталы.
Цена на жидкое топливо в 1974 году по сравнению с октябрем 1973 года выросла более чем в четыре раза. В 1974 году доходы тринадцати государств — членов ОПЕК достигли примерно ста миллиардов долларов. Это означало беспрецедентную перекачку финансовых средств в страны — производители нефти, точнее, в руки их правящих классов.
На первый взгляд перед членами ОПЕК открывались необычайно благоприятные перспективы развития производительных сил. Многие из них поставили вопрос о быстром, взрывоподобном наращивании своего экономического потенциала, надеясь одним махом, за несколько лет достигнуть уровня развитых капиталистических государств.
Но колоссальные капиталы не могли в короткий срок изменить архаичные социальные структуры, восполнить нехватку кадров, отсутствие опыта, инфраструктуры, просто малолюдство многих нефтедобывающих стран. Даже государствам с относительно большим населением, уже сделавшим первые шаги в деле индустриализации, таким, как Ирак, Алжир, Иран, было трудно, а иногда просто невозможно немедленно «переварить» полученные средства. Лишь многонаселенные Индонезия и Нигерия могли поглотить их без остатка. Что же касается Саудовской Аравии, Кувейта, Абу-Даби, Катара, а также Ливии, то у них образовались «свободные» капиталы в очень крупных размерах. В том же, 1974 году шестьдесят миллиардов долларов не нашли себе применения в плане приобретения товаров и услуг и хлынули на международные валютно-финансовые рынки. Для сравнения отметим, что общая сумма предполагаемой учетной стоимости всех капиталовложений за границей составляла в 1971 году около ста шестидесяти миллиардов долларов. Все акции «Дженерал Моторе», второй по величине корпорации мира, оценивались тогда в пятнадцать миллиардов долларов.
В руках правящих классов стран с общим населением около десяти миллионов человек сосредоточились средства невиданных размеров. Словно джинн, выпущенный из бутылки, на мировой арене появились магнаты, которые как будто бы способны бросить вызов столпам капиталистического бизнеса.
Вокруг этого явления западная пропаганда пыталась создать обстановку истерии, пугая обывателя в индустриально развитых странах «арабской опасностью». «Нам угрожает колонизация», — стонали бывшие колонизаторы из Западной Европы, Японии и даже США. Бывший министр торговли США, а затем председатель правления «Лимеп Бразерз Инк.» Питерсон заявил: «В мире происходит фундаментальный сдвиг в балансе сил и богатства».
«Немедленным последствием (нефтяного кризиса. — А. В.), вероятно, будет изменение баланса экономической мощи (а следовательно, также, возможно, политической и военной мощи) между развитыми странами и странами, производящими нефть, — писал тогда крупнейший буржуазный историк Запада Арнольд Тойнби, ныне покойный. — Все ли эго? Если так, то это лишь предвещает замену Соединенных Штатов, (Западной) Европы и Японии нефтепроизводящими странами в качестве сверхэксплуататоров мира».
На Уолл-стрит или в Сити с плохо скрываемой завистью и враждебностью подсчитывали доходы членов ОПЕК и изыскивали пути, чтобы залатать прорехи в своих платежных балансах. Но при этом «забывали», что за полвека эксплуатации только стран зоны Персидского залива монополии «заработали» десятки миллиардов чистой прибыли от добычи нефти. Их капиталы, пущенные в оборот, умножились. В странах-импортерах обогатилась и государственная казна, забирая в виде акцизного сбора не менее половины розничной цены нефтепродукта.
С 1960 по 1973 год члены ОПЕК получили за свое сырье около девяноста пяти миллиардов долларов, а государственно-монополистический капитал развитых стран — шестьсот-семьсот миллиардов. За тот же период сопоставимые капиталы были вложены во все машиностроительные отрасли, вместе взятые. Таковы были масштабы перекачки богатств из стран ОПЕК до энергетического кризиса. Доля самих нефтедобывающих стран в конечной цене нефтепродукта сравнительно недавно не превышала семи процентов. Даже после увеличения налогов на иностранные компании и повышения цен на нефть вчетверо эта доля составляла не более трети того, что платил за литр бензина автомобилист в Западной Европе.
Напомним, что за магнатами современного капитализма стоят гигантский производственный аппарат, многовековой опыт, подготовленные кадры во всех областях, средства информации, разветвленная, налаженная сеть финансовых учреждений, в которых работает больше специалистов, чем могут набрать взрослых грамотных людей четверка нефтяных аравийских стран и Ливия. Можно ли было представить себе, безболезненное, «бесконфликтное» перераспределение центров экономической мощи в капиталистическом мире как между отдельными группами стран, так и внутри международного финансового капитала? Можно ли было вообразить, что вся экономическая и военная машина современного капитализма отступит перед новыми магнатами, появившимися в великих афро-азиатских пустынях?
Страны Запада до «второго нефтяного шока» смогли в целом восстановить или улучшить равновесие своих торговых и платежных балансов, «приручить нефтедоллары» и использовать их в своих целях. Проблемы резкого расширения экспорта и некоторой структурной перестройки экономики решались за счет снижения жизненного уровня масс, перекладывания тяжести кризиса на развивающиеся страны, включения в рамки мировой финансовой буржуазии правящих кругов ряда нефтеэкспортирующих стран.
Запад строго очертил сферу использования «нефтедолларов». Участники ОПЕК с «избытком» капиталов вынуждены были кредитовать правительства ряда стран, начиная с США, размещать средства в евродолларовых депозитах и коммерческих банках, приобретать ценные бумаги казначейств и разного рода недвижимость, предоставлять займы МВФ, МБРР или увеличивать там свои вклады. Вклады экспортеров нефти на Западе сделали их фактически заложниками мировой капиталистической системы, интегрировали в нее их правящие классы в качестве подчиненных, неполноправных партнеров.
В результате «второго нефтяного шока» 1979–1980 годов опять, как и в 1974–1975 годах, встал вопрос о путях и методах рециклирования «нефтедолларов». Крупнейшие финансисты мира предупреждали о том, что наступили трудные времена. Дэвид Рокфеллер сказал: «В экономике перед нами предательски опасное море, продуваемое ураганными финансовыми ветрами, способными перевернуть даже большие, хорошо укомплектованные личным составом корабли». Бывший министр финансов Великобритании Дэнис Хили в феврале 1980 года нарисовал холодящую кровь картину: растущие цены на нефть грозят банкротством целым странам, в результате чего они будут не способны отдавать долги западным банкам. А это, по его словам, «могло бы привести к краху всей международной банковской системы». Был разработан еще более ужасный сценарий: страна с крупными долгами объявляет себя банкротом, в результате чего терпят крах ссужавшие ее займами банки, вызывая цепную реакцию крахов и банкротств вроде великого кризиса конца двадцатых — начала тридцатых годов.
Но это звучало то ли угрозой в адрес развивающихся стран, то ли как совет нефтеэкспортерам больше доверяться финансовым учреждениям Запада. Нефтяным королям и шейхам внушали, что их вложения на Западе должны быть надежными, а для этого надо «помогать» капиталистической экономике. Одновременно за счет рециклирования шло финансирование дефицита платежного баланса развитых капиталистических стран и безнадежно растущего дефицита развивающихся.
После нового взлета цен на нефть активы платежных балансов участников ОПЕК составили более шестидесяти миллиардов в 1979 году и более ста миллиардов в 1980 году. Их инвалютные вложения оценивались в двести двадцать шесть миллиардов к началу 1979 года и к началу 1981 года достигли примерно трехсот пятидесяти миллиардов долларов (из них у Саудовской Аравии — сто восемнадцать миллиардов, Кувейта — шестьдесят семь миллиардов, ОАЭ — тридцать пять миллиардов, Ливии — двадцать пять миллиардов, Катара — одиннадцать миллиардов). Отметим, что подобные официальные оценки расходятся с подсчетами независимых экономистов. Эти показатели для Ирака и Ирана были равны соответственно пятидесяти и тридцати двум миллиардам, но их «съела» война. Только доходы от зарубежных вложений составили у всех участников ОПЕК в 1980 году двадцать семь миллиардов долларов (у Саудовской Аравии — десять миллиардов, а у Кувейта — шесть миллиардов долларов). Па долю ОПЕК (главным образом аравийских стран) в 1981 году пришлась четвертая часть золотовалютных резервов капиталистического мира.
В тысячах крупных и мелких компаний развитых, капиталистических стран появился арабский капитал. Однако какова его роль? Получили ли арабские магнаты элементы контроля в тех корпорациях, которые они финансируют? Выясняется многозначительный факт: даже кувейтцы с их опытом и сравнительно развитой системой финансовых учреждений не голосуют на советах директоров компаний, куда вложены их деньги. За правительство Кувейта это делают «Чейз Манхэттен» и «ферст нэщнл».
Немало аравийских финансистов отмечают, что они не могут оказывать сколько-нибудь существенного влияния на зарубежные фирмы. «Даже если бы мы взяли под контроль «Дженерал Моторс», надо было бы учитывать одну важную вещь: мы не являемся представителями, скажем, «Фиата», который поглотил бы это предприятие, имея собственные планы и идеи, как глава автомобильной промышленности, — рассуждал генеральный директор «Кувейт Инвестмент Компани» Абдель Латыф эль-Хамад. — Если бы я приобрел, например, «Интернэшнл Бизнес Машинз», у меня не было бы возможности руководить этой корпорацией. Но не так уж важно, будет ли президентом этой компании араб. Важно, чтобы этот президент играл активную роль, несмотря на свою расу или национальность».
Правда, некоторые арабы придерживаются другого мнения. Ливанец Роже Тамраз, который учился в Гарвардской школе бизнеса, заявил: «Нет никаких причин, которые бы помешали нам, арабам, контролировать американские компании. Мы могли бы пользоваться услугами лучших специалистов, лучших экономистов. Думаю, что мы должны из принципа установить контроль над какой-либо крупной американской фирмой».
Роже Тамраз «из принципа» попробовал сделать это. Он замахнулся не на что иное, как на «Локхид» — крупную американскую авиакосмическую компанию. Через его ливанский банк «Ферст Арабиен Корпорейшн» дельцы из зоны Залива попытались за сто миллионов долларов приобрести контрольный пакет акций «Локхида», когда американская фирма была на грани банкротства и отчаянно нуждалась в деньгах. Но предложение Там-раза даже не рассматривалось на совете директоров компании, хотя тон ливанского банкира стал совсем жалобным: «Мы заверяем, что арабские вкладчики не будут вмешиваться в повседневное руководство компании, не будут возражать против решений правления, предоставив «Локхиду» равное право при выборе арабских членов правления». В ответ он услышал ледяное «нет!».
Хотя в развитых капиталистических странах и приветствуют вклады «нефтяных денег», но там твердо сохраняют контроль над главными секторами своей экономики. Так, в конце 1974 года Кувейт купил четырнадцать процентов акций известной автомобильной компании «Даймлер-Бенц» в Западной Германии. Спустя Некоторое время Иран попытался купить большой пакет акций этой же фирмы, что означало бы переход контроля над «Даймлер-Бенц» в руки средневосточного капитала. Но сделка расстроилась. Сам тогдашний канцлер ФРГ Гельмут Шмидт настоял, чтобы банкиры ФРГ «помогли» ослабевшей компании, купив акции, на которые претендовал Иран. «Мы не были бы довольны, если бы большие и политически и стратегически важные отрасли нашей экономики оказались под иностранным контролем», — сказал он. Ведущие банкиры и промышленники ФРГ собрались в Дюссельдорфе и разработали меры, направленные на то, чтобы помешать продвижению «нефтяных капиталов» в ключевые секторы западногерманской экономики.
Когда такие же вопросы возникли в США, тогдашний министр финансов Саймон разъяснил, что нефтепроизводящие страны делают вложения в американскую экономику, согласуя их с американским правительством. «Свобода действий» арабских магнатов в США ограничена жесткими рамками и поставлена под наблюдение казначейства. Заслоном для иностранных вложений в американскую промышленность служит прежде всего «программа сохранения военной тайны». Все подрядчики Пентагона должны представлять отчеты о размерах пакета акций, находящегося в руках неамериканцев, и лишаются военных заказов, если доля иностранного капитала превышает минимальный уровень. Так что покушение на «Локхид» заранее было безнадежным делом.
В Англии роль инспектора играет «Бэнк оф Инглэнд». Его одобрение требуется для каждой сделки, в которой иностранцы приобретают более десяти процентов акций компаний.
В некоторых случаях арабский капитал все же проникает через поставленные перед ним барьеры. Но действительно ли приобретение «контрольного пакета акций» означает, что те или иные фирмы становятся «арабскими»? Обратимся к деятельности одного из крупнейших частных предпринимателей арабского мира — Хашшогджи.
Саудовскому дельцу удалось мобилизовать часть «свободных» саудовских капиталов и приобрести контрольные пакеты акций в двух калифорнийских банках. Он вложил деньги в разведение скота в штате Аризона, в рестораны в Калифорнии, в компании по перевозке грузов и в некоторые фирмы в Нью-Йорке. У Хашшогджи есть «мозговой трест» в составе двух десятков человек, из которых большинство — американцы. Некоторым из них он платит в год более ста тысяч долларов. Он хотел бы внедрить капитализм западного образца в Саудовской Аравии и во всем арабском мире. «Я обвиняю Соединенные Штаты в том, что они не экспортируют нам свою систему», — сокрушался он.
Коллега Хашшогджи, саудовский миллионер Гейт Фараон, сын советника короля Фейсала, приобрел контрольный пакет акций в детройтском банке, который распоряжается одним миллиардом долларов. Саудовец превратил его в международное финансовое учреждение и теперь открывает отделения на Ближнем Востоке, чтобы аккумулировать арабские капиталы и переправлять их в Соединенные Штаты. Так сращиваются американский и арабский капитал.
Став весомой частью финансового мира Запада, новые денежные тузы отнюдь не заинтересованы в подрыве его стабильности. Финансовые и валютные проблемы выглядят для экспортеров нефти столь сложными, что они вынуждены сотрудничать с Международным валютным фондом и крупными финансовыми многонациональными трестами. Все капиталы, которые не потребляются местной экономикой, поступают в международную финансовую сеть, в распоряжение многонациональных корпораций, которые контролируют каналы их движения и пускают в оборот в экономически развитых западных странах или дают кредиты развивающимся. Некоторые из этих многонациональных финансовых учреждений имеют арабские вывески, но действуют они в рамках валютно-финансовой системы Запада.
Используя таким образом свои валютные накопления, нефтедобывающие страны фактически предоставляют правительствам Запада долгосрочные кредиты. Покупая ценные бумаги западных частных банков или корпораций, они тем самым передают им средства для крупных инвестиций, сами оставаясь полурантье.
Финансовые центры Запада сложились на основе развитых национальных валютно-финансовых учреждений, и в них органически соединены и разветвленная банковская инфраструктура с ее опытом, кадрами и технической вооруженностью, и крупные фондовые биржи и другие финансовые институты, и свободно конвертируемая валюта, играющая международную роль, и хотя бы относительная политическая стабильность. В зоне Персидского залива быстро идет формирование новых, хотя и второстепенных, финансовых центров, складываются основные элементы рынка — банки, инвестиционные компании, рынки ценных бумаг, укрепляется некоторая национальная валюта. В ограниченных пределах арабские финансовые центры могут играть самостоятельную, хотя и не определяющую, роль. Образуется взаимозависимость старых и новых финансовых центров капитализма при главенствующей роли Запада в мировых капиталистических финансах и кредите.
Меры по экономии горючего, более широкое использование угля, газа, ядерной энергии, открытие новых источников нефти в ряде стран, замедление темпов экономического развития на Западе — все это уменьшило спрос на нефть и снизило на нее цены. Объем «свободных» капиталов, которыми располагают аравийские нефтяные государства, уменьшился, а контроль за их движением и использованием финансовым капиталом Запада усилился. Так что, возвращаясь к ночным кошмарам, которые якобы одолевали американских бизнесменов, можно сказать, что «сон не был в руку».
Когда началась нефтяная эпоха в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Абу-Даби, все они находились под английским протекторатом. Поэтому колониальные чиновники и их взгляды наложили отпечаток и на финансовую политику княжеств, и на их постепенные административные преобразования. Было бы наивно думать, что англичане видели наиболее подходящую форму правления только в закосневшей феодально-племенной системе. Они были достаточно гибкими и искали такое общественно-политическое устройство, которое отвечало бы их интересам. Колониальные чиновники предпочитали сохранить в качестве подчиненных союзников феодальных правителей, пустивших корни в местной олигархии, но модернизировать их, приспособив, хотя бы внешне, к потребностям нашего времени. Они хотели бы обезопасить как своих подопечных, так и прежде всего свои собственные интересы от социальных и политических неожиданностей. Однако «сюрпризы» были неизбежны, если учитывать взаимную связь процессов, происходивших на всем Ближнем и Среднем Востоке, и воздействие революционных преобразований в арабских странах на ситуацию в Персидском заливе.
Поддержание безопасности, стабильности в зыбких песках Аравийского полуострова, естественно, главная забота правителей нефтяных государств. У них есть многочисленные по местным масштабам армии и силы безопасности, набранные из бедуинов, бывших рабов или просто наемников, система тайной полиции и слежки. Но отнюдь не только на голой силе основывают они свои режимы. Нефтяные монархи ищут солидную общественную опору и с этой целью обращают взоры к соплеменникам. Это делается как интуитивно, ибо им вовсе не чужды некоторые ценности кочевого племенного общества, так и сознательно — по совету иностранных экспертов.
Коренные жители обеспечиваются «теплыми местечками» в государственном, административном аппарате и торговле, бесплатными школами и больницами, другими социальными благами, дешевыми квартирами. В Кувейте — бесплатные телефоны, а школьники получают питание из кухни, которая производит несколько десятков тысяч бесплатных завтраков в день. Из коренных кувейтцев, живущих на зарплату, лишь одна десятая — рабочие, остальные — чиновники и служащие. Если копнуть поглубже и выяснить происхождение рабочих-кувейтцев, то окажется, что они в большинстве — выходцы из наиболее угнетенной части коренного населения: рыбаков, ловцов жемчуга, феллахов, но отнюдь не из бедуинских племен «голубой крови». Кочевники с удовольствием пересели, например, с верблюда за руль такси. Им не составляло труда сменить караванный извоз на машинный. Они пошли служить в полицию, армию, получили в министерствах посты, граничащие с синекурами. Главным же источником рабочей силы стала иммиграция, но к этому вопросу мы еще вернемся.
Не во всех аравийских государствах положение было одинаковым. Сказывались различия в уровне нефтяных доходов, традициях, численности населения, его образованности, степени развития феодализма.
В княжестве Бахрейн доходы от добычи нефти стали поступать в начале тридцатых годов, и только одна треть из них шла непосредственно шейху и его семье. Остальное было распределено на финансирование различных проектов, дорог и создание резервов, конечно, в английских банках. Но в пятидесятых годах рост доходов от нефти временно прекратился. Население же продолжало увеличиваться. Сложилась ситуация, когда у правящего клана потребности росли гораздо быстрее, чем возможности их удовлетворять. Одна из причин наиболее развитого демократического движения на островах Бахрейна по сравнению с другими княжествами состоит не только в более высоком уровне образованности населения, но и в том, что растущими нефтяными доходами было невозможно нейтрализовать потенциальных политических оппонентов. Кроме того, торговый характер Бахрейна, его широкие связи с внешним миром делали население политически более сознательным, затрудняли создание там феодального деспотизма в его чистом виде.
В декабре 1972 года в стране прошли первые выборы и был создан Конституционный совет. Затем в декабре 1973 года состоялись выборы в Национальное собрание, и несколько человек с прогрессивными убеждениями стали членами местного законодательного органа. «Бахрейнский парламент, конечно, не является примером парламентской демократии в подлинном смысле слова, — писала «Файнэншл Таймс», которую в этом смысле трудно заподозрить в незнании. — Правитель Иса ибн Сальман аль-Халифа остается высшей властью и управляет. Ключевые посты находятся в руках членов его семьи». Несмотря на то что шейх сохранил реальную власть и имел право вето по отношению к любому законодательству, Национальное собрание могло вмешиваться в процесс принятия решений. Поэтому оно превратилось в средоточие политической активности, трибуну, с которой раздавалась критика в адрес власть имущих. Семья эмира не захотела мириться с этим, и в 1975 году бахрейнский «парламент» был разогнан, а его левые депутаты арестованы.
В Кувейте адаптация власти к новым нефтяным доходам — это история того, как постепенно трансформировалась феодально-племенная монархия, как создавались какие-то формы современной государственности. Ведь в Аравии само понятие «государственный служащий» было чуждо местным традициям и социально-политическому устройству. Однако не успело смениться и поколение, а Кувейт уже приобрел внешние атрибуты современного государства и даже парламент. В выборах участвуют все грамотные кувейтцы, мужчины старше двадцати одного года.
«Власть в стране сохраняется в руках олигархии, сформированной правящей семьей во главе с шейхом, — писал английский журналист Стефенз в книге «Новый рубеж арабов». — В нее кооптированы некоторые представители купечества. Однако эта власть в определенной степени ограничена и сбалансирована оппозицией в ассамблее и ростом образованного класса и прессы, которая свободнее, чем во многих арабских государствах». Оставим на совести автора выражение «образованный класс». Однако остается фактом, что распространение образования и повышение уровня политической сознательности вынуждают правителей Кувейта более гибко проводить свою политику, учитывая возможную оппозицию. Хотя официально в стране нет политических партий, некоторые влиятельные, радикально настроенные политические деятели симпатизируют социалистическим идеалам.
Другие княжества Персидского залива, кроме Бахрейна, пока что предпочитают не экспериментировать с выборными органами.
Феодальный деспотизм султана Маската Сайида ибн Теймура был из ряда вон выходящим даже по аравийским понятиям. Но затем на трон сел его сын Кабус, знакомый с требованиями современного мира.
Еще йеменская революция 1962 года послужила серьезным предупреждением для многих консервативных режимов Аравийского полуострова, особенно для Саудии. В ноябре 1964 года на собрании саудовских принцев и богословов-улемов было решено низложить короля Сауда и возвести на трон его сводного брата Фейсала. Сауд, дворец которого был окружен верными Фейсалу войсками, капитулировал и покинул страну. Внешностью, взглядами и поведением Фейсал отличался от своего брата. Он считал необходимым установить в стране более строгий финансовый контроль и провести кое-какие преобразования.
«Саудовская Аравия остается глубоко консервативной и в значительной степени феодальной страной, — писала газета «Файнэншл Таймс» спустя много лет после государственного переворота. — Это государство — самый близкий эквивалент теократии в сегодняшнем мире. Ее «конституция» — Коран, ее закон — шариат, а мораль навязывается бескомпромиссным применением палочной дисциплины со стороны религиозной полиции. Доходы от нефти изменили лицо Саудовской Аравии больше, чем ее душу или ум».
Фейсал осторожно маневрировал между стариками улемами, многие из которых считают, что земля плоская, и нетерпеливыми молодыми саудовцами, которые во все большем числе возвращались из-за границы с дипломами различных колледжей и университетов, В более широком плане главные силы, действовавшие на политической арене Саудовской Аравии, — это королевская семья, образованные технократы в правительстве и армии, бедуинская аристократия пустыни и мусульманские улемы. Легко заметить, что все они представляют собой течения, цвета и оттенки единого феодального класса со всем его аравийским своеобразием.
Король Фейсал играл роль председателя правления саудовской семьи из нескольких тысяч членов. Она была единственной постоянно действующей политической системой страны. Более узкую группу из пятидесяти принцев называли «делателями королей». Вступив на трон, Фейсал назначил своего сводного брата Халида первым заместителем премьер-министра и наследником. Между братьями короля были поделены другие основные посты в государстве. Из членов королевской семьи назначались губернаторы главных провинций и городов. Вместе с тем Фейсал придал новое значение той группе, которую иногда считают «вторым правительством», — образованным и молодым технократам.
Как молодые принцы, так и более старые члены королевской семьи всячески подчеркивали свое уважение к бедуинским племенам. Довольно часто какой-нибудь принц исчезал из столицы на несколько недель, отправляясь «на охоту». На самом же деле он посещал кочевые племена и распределял там подарки или субсидии. На заседаниях королевского совета глава государства мог внимательно выслушивать жалобы какого-нибудь босого бедуина и принимать решение в его пользу.
Королевская армия не считалась достаточно надежной опорой режима. После заговора с целью переворота, организованного в 1969 году государственными служащими и офицерами республиканских убеждений, армию держали подальше от городов, и она даже не имела доступа к складам оружия. В 1972 году была объявлена амнистия некоторым уцелевшим участникам заговора и освобождено примерно сто пятьдесят человек.
Опорой власти служила хорошо оснащенная национальная гвардия, состоявшая из бойцов самых преданных племен «голубой крови». У нее всегда был большой резерв из кочевников. Национальная гвардия охраняла важнейшие правительственные учреждения и нефтепромыслы. Положение ее командующего, принца Абдаллаха, показывало, что он один из наиболее сильных людей в правительстве.
Сложившаяся структура власти в Саудии, обеспечив себе временную внутреннюю стабильность, не гарантировала жизнь самому Фейсалу.
Утром 25 марта 1975 года во время мусульманского религиозного праздника — дня рождения пророка Мухаммеда — король принимал своих родичей, шейхов племен и богословов. К нему приблизился его племянник Фейсал ибн Мусаид и вместо приветствия, выхватив пистолет, разрядил обойму в дядю. Когда в зал ворвались охранники, король был уже мертв.
Эр-риядское радио, прервав программу, посвященную пророку, объявило о смерти Фейсала. В первом сообщении утверждалось, что принц ибн Мусаид сошел с ума. Но спустя несколько месяцев врачи якобы признали его психически нормальным, и богословский суд приговорил убийцу к смертной казни. 18 июня после молитвы на глазах у многотысячной толпы палач отрубил голову Фейсалу ибн Мусаиду тремя ударами сабли, через минутные промежутки, чтобы продлить мучения жертвы.
Кто водил рукой ибн Мусаида, осталось тайной. Высказывались предположения, что в деле замешано ЦРУ, которое было недовольно строптивостью старого короля. Не исключались мотивы кровной мести: брат молодого принца погиб в 1966 году при попытке захватить вместе с группой фанатиков телестанцию, которая, по их мнению, передавала программы, несовместимые с исламом. Во всяком случае, Фейсал был отнюдь не первым из династии Саудидов, павшим от руки убийцы.
Смена власти внутри королевской семьи прошла сравнительно спокойно. На трон был посажен Халид, а «сильный человек» Фахд объявлен наследником престола, первым заместителем премьер-министра и министром внутренних дел. Абдаллах сохранил важный пост командующего национальной гвардией и стал заместителем премьера.
Спустя 1400 лет по лунному календарю после хиджры — бегства основателя ислама Мухаммеда из Мекки в Медину — даты, ставшей началом мусульманского летосчисления, — в Саудовской Аравии произошло событие, которое буквально потрясло весь мусульманский мир. В первый день XV века хиджры, что соответствует 20 ноября 1979 года, несколько сот вооруженных повстанцев захватили главную святыню ислама — мекканскую мечеть Аль-Харам. Напомним, что в центре ее двора в углу здания кубической формы — Каабы — вмазан священный черный камень. Но направлению к Каабе мусульмане во всем мире становятся во время молитвы пять раз в день. В Мекку они должны совершить паломничество хотя бы раз в жизни.
Ошеломленные саудовские власти сообщили внешнему миру лишь о факте захвата Аль-Харама «бандой налетчиков», «отступников от ислама». Многократно искаженная информация превратила «налетчиков» в «американо-израильский десант», якобы сброшенный с целью «обменять Каабу на американских заложников в Тегеране». Когда в таком виде сообщение дошло до Исламабада, тысячи пакистанцев смели охрану американского посольства, захватили его и подожгли. Сотрудники посольства, за исключением нескольких погибших, собрались на последнем этаже в бронированной комнате. Здание пылало, и американским дипломатам грозила опасность быть поджаренными, когда подоспели пакистанские войска и разогнали толпу слезоточивым газом. Лишь опровержение причастности американцев или израильтян к захвату Каабы спасло представительства США в десятках мусульманских стран от подобной же участи.
Вооруженный захват главной мечети Мекки выглядел кощунством и святотатством, так как насилие в Аль-Хараме неприемлемо мусульманами как таковое. Даже когда фанатичные воины Абдель Азиза ибн Сауда, основателя современной Саудовской Аравии, заняли Мекку в 1924 году, они промаршировали по ее улицам, опустив винтовки дулами вниз, демонстрируя благоговейное почтение к главной святыне ислама.
Духовный вождь повстанцев Мухаммед аль-Кахтани, провозгласивший себя мессией (махди), объявил, что цель движения — «очистить ислам», «освободить страну от королевского семейства и продажных богословов-улемов, которые заботятся только о своих местах и своих привилегиях». Воспламененные его проповедями, повстанцы — религиозные фанатики — действовали самоотверженно, так как считали, что земля разверзнется под ногами блюстителей порядка и поглотит их, а население начнет присоединяться к восстанию.
Чтобы выбить их из мечети, правительственные войска пустили в ход бомбы со слезоточивым газом и пушки. Повстанцы в ответ стреляли с крыш и минаретов. Их отчаянное сопротивление длилось две недели и привело, по словам властей, к гибели нескольких десятков человек, а по словам очевидцев — нескольких сот. Среди погибших был и сам мессия. Политического руководителя этой группы, сорокасемилетнего Джухаймана аль-Отейбу обезглавили вместе с шестьюдесятью двумя его товарищами 9 января 1980 года. Однако у него остались сторонники. В эр-риядском университете не раз появлялись надписи на стенах: «Джухайман, наш мученик, почему ты не взял приступом дворцы? Борьба только начинается!»
Мистико-политические цели повстанцев были весьма смутными. Но антиправительственные призывы Джухаймана находили внимательных слушателей. Его речи, транслировавшиеся через громкоговорители на крыше мечети, были записаны на магнитофонные пленки и стали распространяться среди населения.
Официальные круги преуменьшали значение инцидента в Мекке. «Группа, захватившая мечеть, представляет собой клику отступников, неверно толкующих ислам, — сказал тогдашний наследный принц Фахд в интервью корреспонденту журнала «Ньюсуик». — Она на причинила ущерба безопасности и стабильности Саудовской Аравии». Но в конфиденциальном порядке некоторые принцы признавали обратное.
Еще в августе правительству Саудовской Аравии стало известно, что в регулярной армии создаются тайные ячейки, что в страну контрабандным путем ввозится оружие и что среди некоторых молодых принцев наблюдается недовольство, писал в конце ноября 1979 года осведомленный английский бюллетень «Форин Рипорт». Чтобы пресечь приток оружия в страну, саудовские власти запретили пропускать на территорию Саудовской Аравии колонны грузовиков с товарами из Ливана и Сирии.
В сентябре меры безопасности были усилены. Служба безопасности произвела ряд арестов, коснувшихся главным образом офицеров ВВС, танковых и пехотных частей. Утверждалось, что десять молодых принцев, подозреваемых в оппозиционных настроениях были вызваны для допроса. Их допрашивали порознь король Халед, наследный принц Фахд, командующий национальной гвардией принц Абдаллах и министр обороны принц Султан. Некоторых арестованных позднее отпустили на свободу. Другие были задержаны.
Вторая волна арестов была вызвана тем, что в сентябре в стране появилось множество листовок. Некоторые из них ратовали за восстановление в стране ортодоксального ислама. Другие призывали народ свергнуть «деспотичных и продажных правителей». В третьих содержалось требование изгнать из королевства всех иностранцев. Власти не сумели найти ни авторов листовок, ни тех, кто распространял их, но сам факт их появления усилил нервозность. В последнюю неделю сентября 1980 года национальная гвардия и регулярная армия были приведены в состояние частичной боевой готовности. После нападения на главную мечеть в Мекке было объявлено состояние полной боевой готовности.
Антиправительственные волнения начались за четыре дня до событий в Мекке, когда небольшие вооруженные отряды повстанцев вошли в несколько селений и заняли позиции на второстепенных дорогах недалеко от города Медины.
В субботу 17 ноября в районе Медины армейские подразделения вступили в вооруженные столкновения с повстанцами. В одном из донесений разведки говорилось, что несколько солдат перешли на сторону повстанцев. В воскресенье и понедельник о беспорядках стало известно в других районах страны.
К этому времени под контроль повстанцев перешла значительная часть территории между Меккой и Мединой. Есть сведения о том, что в понедельник 19 ноября в их ряды стали вливаться солдаты регулярных войск и национальной гвардии, что позволило им с большей уверенностью передвигаться по дорогам, захватывать полицейские участки и военные лагеря. Общее число повстанцев определялось до трех с половиной тысяч человек.
В понедельник состоялось совещание руководителей движения. Они решили разделиться на две колонны. Одна направилась в сторону Мекки, другая — к Медине. Но в Медине и ее окрестностях были сосредоточены войска, лояльные режиму. Когда во вторник 20 ноября повстанцы появились в городе, их нападение отбили. По некоторым данным, в Медине погибло более двухсот пятидесяти человек.
Однако в Мекке власти оказались застигнутыми врасплох. Группы людей, вошедших в город глухой ночью, не привлекли к себе особого внимания. Многие из участников нападения на главную мечеть в свое время служили в армии. В пять часов утра, когда многие старшие религиозные деятели и видные должностные лица Саудовской Аравин пришли, чтобы совершить раннюю молитву по случаю начала нового столетия по исламскому летосчислению, повстанцы ворвались в Аль-Харам. Они расставили охрану у всех шестидесяти пяти ворот этого колоссального здания и захватили столько заложников, сколько смогли, готовясь к торгу с правителями страны.
В столице осознали всю серьезность положения, видимо, лишь к полудню. Во вторник правительство не приняло каких-либо серьезных контрмер. Это бездействие объяснялось рядом причин. Во-первых, «сильной личности» Саудовской Аравии, принца Фахда, не было в стране — он находился в Тунисе. Во-вторых, отсутствовал в столице и командующий национальной гвардией Абдаллах. В Эр-Рияде оставались только король Халед и министр обороны Султан, которые не знали толком, что происходит и кто поднял восстание.
Сначала король хотел просить духовенство в Эр-Рияде, чтобы оно разрешило ввести войска в святая святых ислама. Но богословы-улемы, пребывавшие в такой же мучительной неизвестности, что и король, не решались санкционировать подобную меру. Лишь в среду утром Султан под нажимом Фахда, находившегося в Тунисе, направил приказ войскам приготовиться к военной операции. Границы были закрыты; в район нефтепромыслов на востоке страны были введены войска; гарнизоны крупных городов усилены, армия заняла все военные объекты и крупные промышленные предприятия.
Королевский дом мобилизовал все силы для штурма мечети, ибо не мог позволить себе принять условия повстанцев для ведения переговоров. Они включали требование осуществить радикальные преобразования в правительстве, в частности отстранить от занимаемых должностей главных принцев; пересмотреть коренным образом политику в области добычи и продажи нефти (вначале повстанцы требовали вообще прекратить продажу нефти Западу); вернуться к догмам «истинного» ислама; провозгласить Саудовскую Аравию исламским королевством, а также выдворить из страны всех иностранных военных советников.
Вернувшийся из Туниса Фахд настоял, чтобы восстание было немедленно подавлено силой. Он понимал, что затяжная осада главной мечети может подорвать власть королевского дома и создать глубокий раскол в религиозных кругах.
В то время как готовился штурм Аль-Харама, с востока страны пришли сообщения, которые казались потенциально еще более грозными для режима. Заволновалось шиитское население Восточной провинции, где сосредоточены нефтепромыслы. Официальная идеология Саудовской Аравии — это сверхортодоксальная форма суннизма — ваххабизм. Но на востоке живут арабы, разделяющие те же религиозные убеждения, что и иранцы.
После налета на мечеть в Мекке вокруг нефтепромыслов было размещено двенадцать тысяч солдат национальной гвардии. Но обеспечить охрану пересекающих пустыню нефтепроводов общей протяженностью в тысячи километров практически невозможно.
Шииты, населяющие самый важный стратегический район страны (их 300–350 тысяч), политически куда более сознательны, чем суннитские повстанцы Мекки. Именно эти люди, уже несколько десятилетий назад ставшие пролетариями благодаря нефтяной промышленности и выполнявшие, как правило, рядовую работу, создали подпольные профсоюзы и возглавили политические забастовки и демонстрации (в частности, антиамериканские) в 1953, 1956 и 1967 годах. Из-за своей принадлежности к шиитскому течению, которое суннитские властители Эр-Рияда считают еретическим, они оказались париями вдвойне.
Вдохновленные восстанием в Мекке, шииты решили нарушить запрет правительства, публично отметив 27 ноября религиозный траур ашура, во время которого верующие избивают себя цепями. И на этот раз национальная гвардия попыталась помешать религиозным процессиям силой. Толпы людей с портретами Хомейни хлынули тогда на улицы Эль-Катифа и других населенных пунктов Восточной провинции, стали нападать на казармы. Волнения продолжались три дня, демонстранты поджигали заводы и банки, выкрикивая антикоролевские лозунги. Листовки призывали народ свергнуть «угнетательский режим» и провозгласить республику. Национальная гвардия устроила жестокую расправу: по сведениям очевидцев, десятки демонстрантов были убиты и ранены.
Правительство, растерявшееся было из-за волнений шиитов и восстания в Мекке, стало принимать и умиротворительные и репрессивные меры. Несколько генералов, в том числе командующие тремя видами вооруженных сил и руководители органов безопасности, были смещены за некомпетентность или халатность, губернатор Мекки был уволен. Халед, а также Фахд и другие старшие принцы поспешили нанести визиты влиятельным шейхам и посетили военные базы. Тысячи «подозрительных» рабочих-иммигрантов были высланы. Политического руководителя левой оппозиции, бежавшего в Бейрут, Насера ас-Саида похитили, и он бесследно исчез.
Студентов отозвали из иностранных учебных заведений в разгар учебного года. Чтобы успокоить улемов-«сверхортодоксов», были закрыты институты красоты, дамские парикмахерские, женские клубы. Дикторши телевидения, хотя и одетые весьма целомудренно, были тем не менее уволены. Новые правила запретили девушкам продолжать образование за границей.
Пойдя навстречу требованиям «модернистов», технократов, руководителей предприятий, «разночинцев», которые хотели бы приобщиться к власти, наследный принц Фахд сообщил о разработке «основного закона», который предусмотрит назначение «консультативной» ассамблеи. Это обещание осталось без последствий.
Преследуемые призраком иранской революции, американские руководители совсем еще недавно боялись, как бы «либерализация» саудовского режима, иначе говоря — приспособление устаревших политических институтов к социально-экономическим переменам, не произошла слишком поздно. Во всяком случае, именно это сообщил в январе 1980 года еженедельнику «Ньюсуик» и газете «Вашингтон стар» сотрудник ЦРУ, неосторожно процитировав также слова тогдашнего президента Картера о том, что «дальнейшее существование саудовского режима можно гарантировать лишь в течение двух ближайших лет». «Утечка» этой и другой конфиденциальной информации вызвала высылку из Саудовской Аравии резидента ЦРУ. Приход к власти Рональда Рейгана дал «зеленый свет» сторонникам «крайних мер», вплоть до интервенции в поддержку саудовского режима.
Местные службы безопасности были расширены и укреплены благодаря, в частности, командированным в Эр-Рияд советникам из ЦРУ и экспертам из ФРГ и Франции. Военнослужащих — как в регулярной армии, так и в национальной гвардии (которая вербуется В племенах) — осыпали материальными благами. За несколько месяцев их жалованье было увеличено вдвое. Власти закрывали глаза на «коммерческую» деятельность, которой занимались многие офицеры.
Регулярные силы сосредоточены вдоль границ, танковые части расквартированы вдали от городов, а боеприпасы выдаются весьма скупо. Все командные посты в армии, в национальной гвардии и в министерствах обороны и внутренних дел доверяются только членам королевской семьи. Это делается намеренно, чтобы затруднить попытку переворота.
Некоторые специалисты считают, что воинственные мусульманские настроения в вооруженных силах в один прекрасный день могут дать толчок революции вроде той, которая совершена в Ливии. «Мятеж имел бы религиозную окраску, но он выдвинул бы на передний план человека вроде Каддафи, — сказал один видный американский специалист по Саудовской Аравии. — Я уверен, что такой человек уже существует. Он молится и плетет заговоры, но его время еще не настало. Как долго будет сохраняться такая ситуация? В этом заключается вопрос».
Но за последнее время и Вашингтон и Эр-Рияд почувствовали необходимость подправить, подретушировать «имидж» — образ королевства на международной арене. Полились потоком заявления, будто саудовский режим «преодолел кризис», «стабилизировался», «приобрел динамизм». Характерна в этом смысле публикация в журнале «Тайм» в марте 1981 года.
«Какое-то время казалось, что Саудовская Аравия плывет по воле волн, угрожая превратиться в нового больного на Ближнем Востоке, — писал журнал. — Ее полоса неудач началась с египетско-израильского мирного договора, расколовшего арабский мир, духовное руководство которым саудовцы, как хранители Мекки, всегда считали своей особой задачей. Затем произошла исламская революция, которая свергла шаха Ирана и косвенно создала опасность для всех консервативных мусульманских режимов. Внутри страны банда фанатиков-мусульман захватила священную мечеть в Мекке и удерживала ее в течение двух недель, пока саудовские вооруженные силы не выбили их оттуда. Наконец разразилась война между Ираком и Ираном, которая вызвала дальнейший раскол среди приверженцев ислама и поставила под угрозу стабильность района. Но после принятых мер саудовское руководство смотрит на мир из дворцов Эр-Рияда значительно увереннее».
Трудно сказать, чего больше в подобных сентенциях — стремления успокоить себя или убедить в «стабильности Эр-Рияда» другие страны.
Спустя некоторое время Халид умер. Королем без особого сопротивления других принцев стал Фахд, а наследным принцем — его сводный брат Абдалла.
По хорошему шоссе, которое пролегает из Дохи — столицы Катара. — через необжитую пустыню, мы подъехали к сияющему светлой краской заводу удобрений. Он казался индустриальным миражем в доисторическом мире.
— Как вы обеспечиваете кадры для своего предприятия? — спросил я директора завода норвежца Ойстена Линде.
— При найме на работу местным жителям катарские законы предоставляют преимущество, — ответил директор, — потом арабам с Залива, затем другим арабам и, наконец, всем остальным иностранцам. Пока мы нанимаем египтян, палестинцев, ливанцев, пакистанцев, индийцев. Им на смену, может быть, придут местные, которых мы готовим на заводе.
— И много времени занимает учеба?
— От шести месяцев до нескольких лет. Мы учим сначала языку, так как почти вся документация и техническое обслуживание — на английском, затем — специальностям. Всех же рабочих мест больше, чем катарцы смогут занять сейчас и в будущем. Кроме того, многие из них, выучив язык, уйдут, потому что они получат хорошую работу в правительственных учреждениях. Возможно, что часть останется, но я не уверен. Некоторых нужных заводу специалистов можно найти в других княжествах Залива — из тех, кто раньше был связан с нефтяной промышленностью. Здесь также есть неплохие плотники: жители этого района раньше строили хорошие деревянные суда. Естественно, что инструментальщиков и рабочих других специальностей нет.
— Каково отношение катарцев к производственной дисциплине?
— Это интересная и сложная проблема. У нас требуются и точность, и внимание к работе, и соблюдение смен. Бедуины, безусловно, индивидуалисты. Мы сталкивались с подобной проблемой в Норвегии. Там дело касалось рыбаков. Потребовалось лет десять? чтобы сделать из рыбаков квалифицированных рабочих. У них был свободолюбивый нрав, и они не желали подчиняться дисциплине. Здесь потребуется больше десяти — лет. Но социальный статус рабочих неясен. Мы заинтересованы в «катаризации». Было бы больше устойчивости и меньше текучести рабочей силы. Кроме того, это обходилось бы дешевле. Сейчас мы нанимаем иностранных рабочих, и нам приходится платить за их ежегодные перелеты. Для более высоких постов инженерно-технического персонала катарцы уже готовятся в университетах за границей. Пройдет много времени, прежде чем они смогут занять хотя бы некоторые инженерно-технические должности.
— Не препятствуют ли работе современной промышленности фанатизм, устаревшие традиции?
Жители побережья Персидского залива больше связаны с миром, легче усваивают новое, менее скованы фанатическими предубеждениями, чем, например, в соседней Саудии. Они идут впереди Саудовской Аравии лет на двадцать.
— Есть ли социальная напряженность в княжестве?
— Она есть, но со своими подданными умеют манипулировать. «Каждой сестре дают по серьге», стараются обеспечить привилегии для своих рабочих.
— Какое отношение здесь к деньгам, хотя бы у тех, кто подучает «по серьге»?
— Это нелегкий вопрос. Материальное благосостояние свалилось на людей сразу. Многие не меняют образа жизни, оставаясь в палатках, лишь приобретают «лендроверы», радиоприемники, транзисторные телевизоры. Старые обычаи держатся цепко.
В княжествах Персидского залива и Саудии в течение десятилетия современные кадры формировались только в очагах нефтяной промышленности. Завод химических удобрений в Катаре — продукт новых веяний.
Несмотря на высокий уровень потребления, у аравийского населения не было хозяйственных и трудовых навыков для современной жизни. Однако кто-то же должен приводить в движение маховики того немалого производственного механизма, который запущен в княжествах Персидского залива и Саудии, применять технологию, изобретенную отнюдь не жителями Аравии, чинить американские или японские автомашины, телевизоры или кондиционеры, строить дома, стадионы, заводы и причалы, копать траншеи, вывозить мусор, таскать ящики, управлять птицефабриками, преподавать математику, печатать газеты, рисовать рекламные щиты. Это, как правило, забота «плебеев» — иммигрантов.
Нефтяной бум привлек в аравийские княжества активный элемент со всего Ближнего и Среднего Востока.
В качестве «белых» и «синих» воротничков работают палестинцы, ливанцы, египтяне, сирийцы, немного европейцев, а чернорабочие — это в основном йеменцы, иракцы, иранцы, пакистанцы, индийцы и оманцы, которые до недавнего времени были париями рядом со своими «сверхбогатыми» соседями. За исключением Бахрейна и, естественно, самого султаната Оман, во всех княжествах большинство населения — иммигранты. Масса приезжих и в более населенной Саудии.
Национальный доход Абу-Даби на душу населения, даже учитывая иммигрантов, намного превышает подобный показатель в США. Пожалуй, ни одно государство не обладает таким сочетанием огромного дохода и малого населения, ни одно так не нуждается в приезжей рабочей силе, в импортированных знаниях, не переживает такую неожиданную трансформацию от нищеты к сверхбогатству, как Абу-Даби.
На улицах городка Эль-Айна, центра оазиса Бурайми, урду, фарси или синдхи услышишь чаще, чем арабскую речь. Этот район известен тем, что в начале пятидесятых годов он стал ареной вооруженного конфликта между Саудовской Аравией и англичанами (Оман и Абу-Даби были тогда британскими протекторатами). В результате оазис поделили между этими княжествами. Иммигрантов даже в глубине пустыни сейчас больше, чем коренных жителей. И пусть они приехали временно, лишь для того, чтобы заработать, но их сменят другие. В роскошном отеле «Хилтон» из всемирно известного семейства дорогих гостиниц служат только индийцы. Один ливанский журналист жаловался: «Я объехал Маскат, Абу-Даби, Доху. В гостиницах зачастую не понимают арабского языка. Даже в министерствах в ходу больше английский, чем арабский».
В Абу-Даби практически нет своих врачей. Большая часть медицинских работников приезжает из Индии и Пакистана. Реактивные самолеты пилотируют пакистанские летчики. Не хватает рабочей силы. Если у гражданина Абу-Даби есть какая-то подготовка для какой-либо должности, ему, конечно, отдается предпочтение. Но практически ни у кого из местных жителей нет необходимой подготовки.
Когда была открыта нефть, Абу-Даби насчитывал двадцать тысяч жителей. Сейчас в нем несколько сот тысяч. В целом в Объединенных Арабских Эмиратах положение примерно такое же. Правительство понимает, насколько опасные последствия для внутренней стабильности создает подобная ситуация, и ищет выход. В частности, жителям соседнего, более населенного Омана предоставляется местное гражданство через три года после въезда в страну. Впрочем, иностранные советники считают, что политические трудности и волнения среди иммигрантов невозможны, так как они разобщены.
В Дубае и Катаре положение сходное. На Бахрейне приезжих меньше пятой части населения, и отсюда многие уезжают в качестве «белых воротничков» в соседние княжества. Но среди экономически активного населения приезжих уже более трети.
Как это ни парадоксально, даже Саудовская Аравия все больше зависит от ввоза рабочей силы. Рабство в ней было запрещено в 1962 году. Сейчас для неквалифицированной работы используются йеменцы, которых от семисот пятидесяти тысяч до одного миллиона. На рынке труда они легко подпадают под ту же категорию что и бывшие рабы, и занимают места чернорабочих, дворников, носильщиков, докеров, садовников, слуг. Один из местных жителей говорил корреспонденту «Монд дипломатия»: «Они же очень довольны, что приехали к нам. Здесь они находят работу и деньги, чего нет у них на родине. Они вовсе не несчастны. Некоторые из них даже обогащаются». Йеменцы легко получают визу, находят работу, не платят налогов, и на них распространяются законы о труде, впрочем очень неясные, которые существуют в Саудовской Аравии. Некоторые иммигранты, особенно хадрамаутцы из Южного Йемена, известные своей коммерческой хваткой, смогли сколотить состояния.
Чем вызвано такое положение в Саудии? Прежде всего тем, что в стране значительная часть населения по своему происхождению — кочевники, которых привлекают очень немногие современные профессии. Даже если для них не находится мест в министерствах, армии или национальной гвардии, они все равно получают большие субсидии. По утверждению многих авторов, королевский режим просто не хочет создавать собственный пролетариат, а для правительства Саны это приемлемый выход из безработицы, которой поражен Северный Йемен.
Саудия конкурирует с нефтяными княжествами Залива в получении подготовленной рабочей силы из других арабских государств. Учителя, инженеры, врачи, квалифицированные чиновники — в основном несаудовцы. Долгое время въезд египтян в Саудию был ограничен из-за политических разногласий между Каиром и Эр-Риядом, но сейчас запреты практически сняты, и египтяне сотнями тысяч хлынули туда.
В Саудовской Аравии и княжествах, как уже говорилось, существовала полукастовая система с делением на «патрицианские» племена «голубой крови» и племена зависимые и «низшие», а также рабов и вольноотпущенников. Группы населения, стоящие внизу полуфеодальной общественной лестницы, и сейчас близки по своему положению к бесправным «плебеям» — иммигрантам.
«Плебеи» Аравии плохо вписываются в «общество всеобщего благоденствия». Даже состоятельные и образованные иммигранты не могут купить землю, недвижимость, основать предприятие, открыть магазин. Они обязаны брать в напарники «патриция», выплачивая ему за имя немалую мзду. Это открывает дополнительные возможности для обогащения аристократических семей. Лишь единицы из числа приезжих получают местное гражданство.
— Да, зарплата у меня довольно высокая, но ведь жизнь такая дорогая, — жаловался солидный инженер-палестинец из нефтяной компании. — Если меня завтра выгонят, я останусь ни с чем. Разве что получу выходное пособие… У меня нет никаких прав — ни на пенсию, ни на новую работу, ни на получение жилища…
Перспективы интеграции «патрициев» и «плебеев», уравнения их в политических правах представляются неопределенными. «Явная опасность для политической стабильности вытекает из слишком больших различий между этими группами населения», — писал упомянутый английский журналист Стефенз.
Теоретически иностранцы в Кувейте могут получить местное гражданство через пятнадцать лет после въезда. На практике эта статья была заморожена после войны 1967 года, когда в княжество хлынула новая волна палестинских беженцев. Однако даже натурализовавшиеся иностранцы не могут голосовать или занимать важные государственные посты. В Кувейте опасаются, что если иммигрантам, особенно из более передовых арабских стран, предоставлять права гражданства без ограничений, то они могут изменить сложившуюся структуру этого государства, что не приемлемо ни для правительства, ни для местных «патрициев». Есть еще одна сторона: недовольство местных жителей легко направлять не против существующих режимов, а против пришлого населения.
Известен случай, когда Ахмед аль-Хатиб, член парламента левых убеждений, призвал распространить привилегии кувейтских рабочих на всех рабочих-арабов в Кувейте. Его мнение встретило отпор «патрициев».
Предприниматели намеренно вносят раскол в ряды рабочих. Нефтяники, например, как организованная группа рабочего класса сначала оказывали влияние на остальное население бравыми выступлениями. Но затем очень высокая производительность труда, малая доля затрат на рабочую силу в стоимости нефти, высокий дебит скважин позволили иностранным Компаниям резко улучшить условия труда и оплаты своих рабочих, выделить их из остального населения, создать очаги благополучия, стабильности, сравнительно высокого уровня жизни. Из нефтяников пытаются сделать рабочую аристократию, которую мало волновали бы проблемы поденщиков, кули, рабочих фирм-подрядчиков, выполняющих заказы основных нефтяных компаний. «Отсутствие проблем — уже проблема, — так характеризовал положение нефтяников лидер кувейтской федерации профсоюзов. — У нас в федерации довольно много некувейтцев. Мы требуем их участия во всех делах. Но хозяева пытаются ввести сегрегацию кувейтцев и некувейтцев. Федерация борется против этого. Но есть некоторые коренные кувейтцы, которые не хотят сотрудничать с приезжими».
Социальная напряженность в аравийских княжествах создается не только по горизонтали, то есть между массой коренных жителей — «патрициев» и феодально-племенной аристократией, но и по вертикали — между «патрициями» и «плебеями». Если среди образованных иммигрантов — адвокатов, инженеров, экономистов, врачей, чиновников — в адрес «патрициев» раздается ропот, то «плебеи»-чернорабочие попросту считаются здесь взрывоопасным материалом.
Один западный дипломат, долго работавший в княжествах Персидского залива, говорил корреспонденту «Юнайтед Стейтс Ньюс энд Уорлд Рипорт»: «Опасность в Заливе исходит от идей — социалистических и марксистских. Вы не можете что-либо противопоставить этим привлекательным идеям. Они пускают корни среди более бедного населения Залива и арабского среднего класса, которые чувствуют, что не получают своей доли. Правители должны дать людям доказательства, что их надежды будут удовлетворены. Шейхи должны знать, что они не смогут остановить идеи с помощью пушек». Этому дипломату нельзя отказать в реализме.
Завершая рассказ об аравийских нефтяных государствах, их месте в мире, их проблемах и планах, все же вновь хочу вернуться к острову Дас, где ревели газовые факелы и пульсировала в серебристых трубах нефть. Директор компании «Абу-Даби Марин Эриэз» познакомил меня с одним стариком арабом, который представлял правительство княжества. Бывший бедуинский вождь держался с достоинством, но выглядел потерянным среди грохота бульдозеров и суеты стройки. Возможно, он был прекрасным воином и хорошим организатором перекочевок в пустыне. Здесь он чувствовал себя чужим. Я увидел его в последний раз перед отлетом. Он стоял на холме в своих белых одеждах и глядел в сторону отплывающего танкера. Нас разделял грязно-оранжевый газовый факел. В дрожащем, струящемся воздухе фигура старика расплывалась, теряла очертания, как бы растворялась.
1969, 1971, 1982 гг.
ЛЮДИ, ЗЕМЛЯ И ПАМЯТНИКИ ТУРЦИИ
«Самое приятное, что испытываешь в Анкаре, — это чувство расставания с ней», — писал турецкий поэт Яхья Кемаль еще в те времена, когда столица строилась как город-сад, освежалась ветром анатолийских степей и не знала пытки смогом. В наши дни на одного анкарца приходится два-три квадратных метра зеленых насаждений, тогда как на одного москвича — несколько десятков квадратных метров.
Если сейчас кто-либо захочет сочинить модернистскую симфонию «Анкара зимой», то вместо динамических оттенков вроде «крещендо» или «форте» между нотных строк он поставит слова «кашель», «чих», «прерывистое дыхание»… И турки и иностранцы мрачно утверждают, что зимой воздух в турецкой столице самый грязный в мире — дыма в нем в шесть раз, а сернистых газов вчетверо больше, чем допустимый для здоровья максимум. Дышать зимой в Анкаре — все равно что курить по десять пачек сигарет без фильтра в день. В турецкой столице сотни тысяч автомашин и немало заводов. Атмосферу загрязняют также котельные в многоквартирных домах, работающие на плохом угле или мазуте.
Когда в 1923 году Анкару объявили столицей, она была небольшим торговым центром с населением около тридцати тысяч душ. Сейчас в ней гораздо больше трех миллионов. Город, расположенный в чаще между горами, оказался ловушкой для смога. С раннего утра Анкару окутывает одеяло густого черного дыма, смешанного с туманом. Идет серый снег. На окраинах светит солнце, а в центре видимость снижается настолько, что машины порой включают фары. Зимой страшно открывать форточки, так как комнаты покрываются копотью. Достаточно вывесить на балконе белье, чтобы оно немедленно стало грязным. Быстро растет количество заболеваний раком легких, хроническим бронхитом. Многие считают, что в Анкаре в будущем нельзя будет жить. Первыми центральные кварталы начали покидать врачи, наиболее осведомленные об опасностях жизни в турецкой столице.
Можно было бы построить централизованную отопительную систему. Но где взять деньги? Столичный муниципалитет — вечный банкрот. Можно было бы топить печи высококачественным углем. Но попробуй заставь хозяев раскошелиться. Поэтому — чихайте, кашляйте, хрипите.
К этой напасти добавляется временами нехватка воды, электричества и газа. Однажды бесснежная зима понизила уровень воды в городских водохранилищах. Многие квартиры остались без воды, а в остальных ее давали по нескольку часов в день. Жители геджеконду (трущобы) выстраивались во многочасовые очереди с канистрами и бидонами. В больницы, посольства, пекарни и бани воду развозили в цистернах. Депутаты меджлиса умывались в туалетах минеральной водой из бутылок. Министр энергетики предложил анкарцам вывернуть каждую третью электрическую, лампочку — тогда-де уменьшится расход электроэнергии, а уровень воды в хранилищах повысится. Одна газета с сарказмом писала, что у жителей Анкары в лучшем случае есть одна лампочка на семью, кроме того, они не представляют себе, какая же связь между электричеством и уровнем воды в искусственных озерах. Глава торговой палаты посоветовал министру вывернуть свою собственную лампочку и покинуть пост.
Однако весна в Анкаре — благоухающий сезон, дето сухое и не очень жаркое, осень звонкая, долгая и теплая. Так что, если не считать зимних месяцев, столица по климату — один из самых приятных городов страны.
В Анкаре началось мое знакомство с Турцией, на ее черепичные крыши я взглянул последний раз из иллюминатора самолета. Из турецких городов я полюбил Стамбул. С годами, когда чувства отфильтровались, о жизни в Анкаре тоже вспоминаю тепло. Она много дала для понимания современной Турции, и… во всяком случае, столица — самый упорядоченный турецкий город. За рулем до многих учреждений можно было добраться за полчаса, а чаще за пятнадцать-двадцать минут. В Стамбуле были и двухчасовые концы.
В молодой столице есть исторические- памятники. Крепость окружена двойной стеной — частью византийской, частью сельджукской. В старой Анкаре осталось несколько средневековых мечетей и развалины храма Августа. Он использовался для поклонения фригийскому божеству в те времена, когда Анкара (тогда Анкира) была фригийским поселением. Ее завоевали галлы (кельты), и она стала центром государства Галатии. В римские времена Анкира была столицей провинции Галатии, а в византийские — небольшим торговым центром и крепостью. Окружающее ее плато малоплодородно, но здесь в XVIII и XIX веках распространилась длинношерстная ангорская коза. Анкара прославилась своим мохером. Однако европейская конкуренция, успешная акклиматизация ангорской козы в Южной Африке в начале нашего века сделали Анкару нищей.
Мустафа Кемаль выбрал ее для своей штаб-квартиры, так как она была связана железной дорогой со ((лмбулом и в то же время лежала вне досягаемости врагов. В Анкаре состоялась первая сессия Национального собрания, и Мустафа Кемаль объявил этот город столицей. Он не доверял Стамбулу, где все напоминало об унижениях прошлого и слишком много людей было связано со старым режимом. Позиции Анкары как центра страны усилились впоследствии, благодаря строительству шоссейных и железных дорог в радиальных направлениях.
Газета «Таймс» в декабре 1923 года писала с издевкой: «Даже самые шовинистически настроенные турки признают неудобства жизни в столице, где полдюжины мерцающих электрических лампочек представляют собой общественное освещение, где в домах почти нет воды, текущей из крана, где осел или лошадь привязаны к решетке маленького домика, который служит министерством иностранных дел, где открытые сточные канавы бегут посреди улицы, где современные изящные искусства ограничены потреблением плохого ракы — анисовой водки и игрой духового оркестра, где парламент заседает в доме, не большем, чем помещение для игры в крикет».
Тогда Анкара не могла предложить подходящего жилья для дипломатических представителей, их превосходительства предпочитали снимать спальные вагоны на станции, сокращая пребывание в столице, чтобы поскорее уехать в Стамбул. Анкарцы вспоминают, что первое современное посольское здание в городе было советским.
На Западе долго не хотели признавать новое название турецкой столицы — Анкара, а не Ангора. Во время второй мировой войны было предложено изменить эту практику, но Черчилль, крайне возмущенный, прорычал: «Кто слышал когда-нибудь об анкарской кошке или анкарском кролике?»
Сейчас, если не считать пояса геджеконду и кварталов цитадели, столицу можно назвать сравнительно современным европейским городом. Его архитекторы, переболев в двадцатые годы псевдовосточным стилем, стали приверженцами размаха кубов и параллелепипедов.
Лучшая панорама Анкары открывается со смотровой площадки неподалеку от президентского дворца на холме Чанкая. Рядом растут две березы, а внизу, в овраге, разбит небольшой ботанический сад. Графический рисунок черепичных крыш и труб размывается расстоянием, но в ясный день можно увидеть весь город. На севере возвышается холм Улус — старый центр Анкары, а над ним — стены и башни крепости. Район цитадели, конечно, неудобен для жизни и населен неимущими, но он выделяется из безликости Анкары. Кривые, узкие улочки, образованные старыми турецкими домами с выступающими балконами, ползут вверх по склону и сплетаются в лабиринт. Во впадине новый центр Анкары — Кызы-лай, где построено несколько мини-небоскребов. Па западе город как бы течет по долине дальше в степь. Широкий бульвар Ататюрка начинается от Улуса близ Молодежного парка, спланированного наподобие московского ЦПКпО имени Горького, пересекает железную дорогу и Кызылай. Но анархия застройки помешала довести до конца городскую ось, задуманную немецким архитектором Янсеном В тридцатые годы он разрабатывал генеральный план столицы.
Если во многих американских городах в семидесятые годы наиболее богатые люди перемещались на окраины, а бедные — в центр, в изношенные кварталы, производя «эффект бублика», то в Анкаре до недавнего времени было наоборот. Наиболее состоятельные люди жили в центре, в Кызылае или Улусе, бедные по окраинам — в геджеконду. Но зимний смог заставил многих богатых жителей бежать на окраины. И трущобы, и приличные здания перемешались.
В Кызылае за последние полсотни лет дома перестраивались дважды и трижды, удлиняя вертикали. Фасады зданий на бульваре Ататюрка привлекают обилием вывесок и рекламы. Здесь разместилось множество магазинов — одежды, обуви, продовольственных, книжных, а также буфеты, столовые, ресторанчики и пивные. На улице Сакария даже продают свиные сосиски, ветчину и свиные отбивные. Много магазинов ушло под землю, сохраняя в новом городе традицию турецких крытых базаров. Но дышать в подвальных помещениях и переходах трудновато.
Иностранные и местные фирмы, туристские, авиа- и другие агентства, некоторые банки, не осевшие в Улусе, находятся в Кызылае. Здесь же городской аэровокзал. На верхних этажах зданий кроме квартир размещаются ателье, парикмахерские, фотоателье, адвокатские конторы, частные клиники, бюро стамбульских газет, рекламные и страховые компании. Кызылай — это театры, кино и отели высшего класса, иностранные культурные центры, ночные клубы, дорогие заведения для игры в карты, профсоюзные и партийные центры, студенческие организации.
Сильный государственный сектор собрал в столице банки, страховые компании, транспортные фирмы, различные головные организации, контролирующие промышленность. Если бы эти фирмы зависели от частного сектора, они предпочли бы обосновываться в Стамбуле — деловой столице Турции. Более трети активного населения Анкары прямо или косвенно занято в государственных учреждениях, гражданских и военных. Вокруг чиновников, клерков, офицеров размножились прислуга, носильщики, чистильщики, водители, ремонтники. Добавьте еще просителей-ходатаев со всей страны, чиновников-провинциалов, которые хотят перевестись в другое место, бизнесменов, обхаживающих министерства, чтобы получить лицензии или контракты. За исключением нескольких заводов, рабочие заняты на транспорте, в ремонтных мастерских, в коммунальном хозяйстве и в сфере услуг. В трех университетах города десятки тысяч студентов и преподавателей.
Урбанизация в Турции, как и в других странах Азии, Африки и Латинской Америки, обгоняет индустриализацию. В главных турецких городах людей, занятых в сфере услуг, или безработных гораздо больше, чем работающих в промышленности. Наиболее неблагоприятное соотношение как раз в столице.
Уровень образования в Анкаре выше, чем в остальных городах. Процент населения с университетским дипломом даже больше, чем в Стамбуле. Но основная масса населения — все же те, у кого нет постоянного занятия, устойчивого заработка, достаточного образования. Их больше половины, почти все они осели в геджеконду.
Когда с бытом другой страны сталкиваешься вблизи, то в знакомом открываешь много незнакомого. Оказывается, что перевод некоторых слов и выражений затуманивает их смысл, а не проясняет его. Например, у нас есть дворники, в Париже консьержи. Турецкая городская жизнь произвела особую фигуру — капыджи, что дословно значит «привратник».
— Али, ты не принесешь мне бутылку молока? — кричит хозяйка из десятой квартиры, и усталый голос отвечает:
— Хорошо, я попытаюсь.
— Али! Мы замерзаем! — бушует мужчина из двенадцатой, замечая, что температура ночью падает.
Капыджи отвечает:
— Хорошо, не беспокойтесь! Я добавлю угля!
Но Али — опытный дипломат, он помнит, что хозяин дома приказал ему экономить топливо, цена на которое резко поднялась за последнюю неделю.
— Али, когда же наконец у нас будет вода?
На этот раз на шекспировский вопрос Али дает турецкий ответ:
— Может быть, через пятнадцать минут, может быть, через два часа, может быть, вечером.
Если он в хороших отношениях с квартиросъемщиком, то может сказать:
— Не беспокойтесь. У нас есть небольшой запас в цистерне, и я могу пустить воду минут на пятнадцать.
Вода из крана в Анкаре и Стамбуле для питья не годится: она плохо очищена и слишком жесткая. Горожане, как правило, покупают большие бутыли воды из загородных источников, выливая их в двухведерные глиняные горшки. Сосуды слегка потеют, освежая воду, и она долго не портится. О приезде машины с бутылями жильцов также оповещает капыджи.
— Али, погуляй с моей собачкой!..
Али не многорукий Шива, но он никогда не откажется пройтись с фокстерьером из шестой квартиры, потому что хозяин богат и платит за это изрядный бакшиш.
Выгуляв собаку, капыджи начинает собирать мусорные корзины, выставленные у дверей: относить мусор во двор в большой бак жильцы считают ниже своего достоинства. Затем он моет лестницу, иногда вместе с детьми пли женой. Дневные заботы капыджи бесконечны, ночью он должен присматривать за топкой.
Таким образом, капыджи — и общий слуга при жильцах, и дворник, и кочегар, и привратник. Для бывших анатолийских крестьян должность капыджи имеет кое-какие преимущества. Внизу, рядом с котельной, ему дают бесплатную каморку, где он может жить с семьей. Стать капыджи трудно, нужно иметь знакомство, иногда дать взятку. Предпочитают брать молодую пару, которая не успела обзавестись детьми. Велико же было изумление хозяев и жильцов, когда дворники-привратники объединились в профсоюз и стали добиваться минимума заработной платы и нормированного рабочего дня. Правда, их организация сделала лишь первые шаги, так как безработных много, а мест капыджи мало. Поэтому крик: «Эй, Али!» — все еще раздается в домах.
На торговых улицах, особенно в Улусе, много чистильщиков ботинок — и мальчишек, и взрослых, и стариков. Чистка ботинок занимает много времени, и вовсе не нужно быть нетерпеливым. Над башмаками трудится артист, который превращает тупую и грязную субстанцию в блестящую, сверкающую кожу. Его вооружение состоит из крохотного стула, на котором он сидит, и длинного ящика с прибитой подставкой для ноги. По обе стороны от подставки возвышаются надраенные медные крышки баночек, в которых содержатся кремы, а затем идет набор щеток. Сам ящик украшен орнаментом и даже медной чеканкой. Все это вместе с крышками баночек представляет собой сверкающее привлекательное сооружение. Наконец, в центре ящика на стороне, обращенной к прохожим, за стеклом выставлена цветная картинка — как правило, обнаженная или полуобнаженная женщина роскошных пропорций, которая возлежит среди цветов около бассейна.
Ритуал чистильщика всегда один и тот же. Сначала между носками и туфлями закладываются куски картона, часто старые игральные карты. Шнурки прячутся под язычок, и слегка закатывается брючина. Пыль и грязь стираются мыльной водой, накладывается бесцветный крем. Он быстро подсыхает, тогда используется другой крем, на этот раз под цвет башмака. Чистильщик начинает энергично манипулировать парой больших щеток, но настоящий блеск наводит суконкой или бархоткой. Получается такое сияние, что сам удивляешься, твои ли это старые туфли стали такими шикарными!
Один из мастеров этого дела спросил меня:
— Есть ли чистильщики обуви в Москве?
— Да, есть, но очень мало.
— А как же вы чистите туфли?
— Мы это делаем сами.
— Вот поэтому у вас нет настоящего блеска, — с чувством превосходства сказал он.
На это я ничего не мог возразить, потом подумал и сказал:
— Тебе не жаль было бы выбросить свой прекрасный ящик, если предложат другую работу?
— Какая работа? Когда, куда приходить?! — воскликнул мой собеседник.
— Да нет, у меня нет работы. Я просто хотел спросить… — смешался я.
— Разве можно так шутить? — горько произнес он.
Я всегда вспоминал выражение его лица, когда смотрел на десятки чистильщиков, которые сидели у своих сверкающих сооружений, поджидая клиента.
Уличные торговцы — принадлежность больших турецких городов, хотя их меньше, чем в старые времена. Чем более странными предметами они торгуют, чем громче кричат, тем вернее собирают толпу. Я видел торговца, который продавал куски чего-то похожего на палочки мела.
— Судари и сударыни! — восклицал он. — С помощью этого приспособления вы никогда не останетесь без огня для сигареты. Все, что вам нужно, — это ударить друг о друга две эти штуки, и вы можете выбрасывать спички! Зажигалка — прошедшая эпоха! Не нужно ни бензина, ни сжиженного газа! Не надо защищать пламя от ветра, потому что здесь нет пламени.
Держа одну из палочек, он послюнявил палец, приложил его к белому камню, поднес белую палочку к концу сигареты и затянулся. Через мгновение он курил. Толпа издала возгласы удивления.
— Вот видите, мои друзья, чтобы закурить сигарету, нужно капельку жидкости, кусочек чего-то влажного. Например, яблока.
Зазывала взял яблоко, надрезал его, приложил к белой палочке и снова прикурил сигарету.
— Алла-алла! — произнес старый крестьянин.
— Что я прошу за эти камушки? Крупную купюру? I к: г, всего лишь одну монету, и этот камень будет вам служить целый месяц. Благодарю тебя… Пожалуйста… Благодарю тебя.
Он распродал весь свой запас и поспешно ретировался. Больше я его не видел, но на его месте появился другой. Он кричал:
— Судари и сударыни! Не нужно химчисток! Стирка — вчерашний день. Вот эта жидкость выводит любое пятно!
Он посадил на свою белую рубашку чернильную кляксу, потом еще одну и выдавил вишню. Достал какую-то бутылку, приложил горлышко к пятнам, и они стали бесцветными.
Алхимик тоже пользовался успехом, и его я тоже больше не видел.
По Анкаре ходят продавцы разноцветных воздушных шаров, которые плавают над их головами, привлекая детей и вводя родителей в разор. Есть торговцы расческами, темными очками, жевательной резинкой. Но не нужно удивляться, если ты купил на улице по дешевке пакетик лезвий для бритья и обнаружил в нем три лезвия вместо пяти, как написано на обертке. Другие предлагают маленькие огурцы, которые тут же очищают специально для тебя. В сезон продают арбузы в розницу. За гроши можно получить кусок арбуза на кончике ножа. В жару встречаются, но уже редко, разносчики воды с большими привлекательными сосудами из меди или жести. Их нередко покрывают листьями винограда, чтобы создать впечатление свежести. Водоносы громко кричат: «Вода! Вода! Холодная как лед!» Часто в свои сосуды они действительно кладут лед.
В людных местах встретишь одну-две тележки, от которых тянет приятным дымком. На них сделаны печурки или мангалы с углями, чтобы поджаривать и сохранять теплыми орехи, каштаны, кукурузные зерна. Когда наступает сезон молодой кукурузы, ее поджаривают на углях или варят в котле, густо солят, заворачивают в листья и предлагают прохожим.
Слышны призывы «Тазе сими!» — продают свежие бублики, обсыпанные кунжутными зернышками. Бродячие торговцы насаживают их на палку или укладывают пирамидкой на поднос, который носят на голове. К местам, где постоянно продают бублики, слетаются голуби, чтобы клевать упавшие зерна. Хорошо пропеченные, теплые бублики приятны на вкус. Последнее время бутерброды с сыром и колбасой стали конкурировать с ними. Но по-прежнему рабочие или мелкие служащие берут пару «симиток» с чашкой-другой чаю на завтрак или ужин.
Иногда появляются разносчики горячего киселя «салепа». Его варят из крахмала рисовой муки на воде и молоке с сахаром и присыпают корицей. Блюдо это зимнее, летом его не достать. Но в холода он стал принадлежностью молочных столовых.
В Анкаре немного продовольственных или промтоварных супермаркетов. Основная торговля идет через мелкие лавочки. Мне казалось, что конкуренция должна понуждать их заботиться о престиже, искать способы привлечь покупателей, во всяком случае, хотя бы не надувать их. Не тут-то было. Ценников на товарах в лавках, как правило, нет. Определив опытным взглядом иностранца или приезжего, торговцы немедленно завышают цену.
Постоянных клиентов не обманывают в ценах, но обсчитать или вручить недоброкачественный товар — обычное дело. Знакомый журналист рассказывал, как его «друг»-торговец, не моргнув глазом, продал ему несвежую рыбу и отравил всю его семью. Примеров такого рода много. Хозяин бакалеи, где мы четыре года брали продукты, глядя невиннее ягненка, мог всучить протухшее масло, заплесневевшее кислое молоко.
Явление это чисто социальное. В основе своей турецкий народ прямой и честный. Вспомним русского путешественника по Турции начала нашего века И. И. Голобородько. «Низшие классы турок честны, но нельзя того же сказать про чиновников и управителей, — писал он. — Пока турок беден, пока он не подвергается искушению, до тех пор он честен; но лишь только он займет какую-нибудь казенную должность или приблизится к общественному пирогу, ему уже трудно становится устоять против искушения, и по большей части он соблазняется… Впрочем, как известно читателю, эта психология свойственна не одному только турку». Лавочники-торговцы в первом или во втором поколении, — воспринимая принцип «не обманешь — не продашь», видимо, все же чувствуют какой-то комплекс вины, однако изменить стремлению урвать любой ценой лиру не могут. Большинство из них твердо усвоили, что нечестность прибыльнее, чем честность.
Чаевые (бакшиш) в Турции — норма жизни. Их дают и ресторанах, отелях, поездах, банях. Но шофер такси, с которым заранее договариваешься о цене, не ожидает чаевых, потому что все равно берет гораздо больше, чем стоит проезд. Счетчики во всех турецких такси «сломаны», и, если бы нашелся таксист, который включил бы счетчик, его выставили бы в музее.
Общественный транспорт в Анкаре, как и во всей Турции, находится в небрежении, но много частных маршрутных такси — «долмушей». В них твердый тариф. Когда они только появились, в машины набивалось столько людей, что шофер кричал: «Полно!» («Долмуш»). Для них введены специальные остановки, но водители всегда готовы взять по дороге пассажира, если есть место. Долмуши ездят между городами и даже из Стамбула в ФРГ. Прогресс, к сожалению, снабдил машины кассетными проигрывателями, и пассажиров оглушает плохо записанная музыка, подбираемая по вкусу шофера.
Долмуши наводили меня на размышления совсем другого рода — лингвистические. Заимствование новых терминов из чужого языка, несомненно, полезно. Исторически в русский язык пришло немало тюркских корней, давным-давно «обрусевших» Но вот вновь введенное средство транспорта мы назвали тяжелым, трудно выговариваемым сочетанием «мар-р-ршрутное такси» — сразу два иностранных слова. Насколько легче, воздушнее и приятнее для уха — «долмуш». Слова трудно вводить декретом, но все-таки…
Турецкие бани, наследницы римских терм, знамениты, и справедливо.
Представим себе промозглый, дождливый день в конце ноября. В доме несколько дней нет воды, чтобы принять душ, или газа, чтобы подогреть воду. И ты отправляешься в баню. Спускаешься по ступенькам в подвальное помещение, откуда тянет теплом и запахом мыла. Раздеваешься в небольшой дощатой кабинке, где есть лежак для отдыха, обвязываешься вокруг бедер полотенцем, потому что в турецкой бане ходить полностью обнаженным не принято, надеваешь деревянные сандалии и входишь в зал, который по-нашему называли бы мыльной.
Здесь жарко, но не очень. Свет проникает через небольшие отверстия в куполах. Посреди на мраморных возвышениях лежат люди. Сбоку на мраморных же скамьях трудятся массажисты. В раковины течет холодная и горячая вода из кранов. В глубине зала может быть бассейн.
В русской бане и сауне мы согреваемся и распариваемся в парилке, в турецкой бане — на горячем лежаке. Ты растягиваешься на полотенце или простыне, так как мрамор очень горяч, и тепло с подогретого снизу камня пронизывает тело. Минут через десять начинает обильно течь пот, еще через четверть часа ты стал теплым, мягким, расслабленным и готовым к массажу.
Переходишь на мраморный лежак, который не подогревается снизу, и за дело берется усатый массажист. Он хватает тренированными руками-клешнями голову и начинает массировать лоб, виски, скулы, челюсти, шею. Потом переходит к плечам, рукам, ногам, пальцам, груди и животу. Он переворачивает тебя на живот, массирует мышцы спины, пересчитывая каждый позвонок, выкручивает руки, упираясь коленкой в спину и чуть не до головы дотягивая ноги, и ты удивляешься, что в твое тело вернулась юношеская гибкость. От боли и удовольствия охаешь, кряхтишь и стонешь. Массаж завершается тем, что банщик забирается на распластанного клиента и топчет его ногами. Тебе дают немного отдохнуть, потому что ты действительно устал, да и банщику нужен перерыв.
Начинается второй этап. Тебя скребут рукавицей, сплетенной из конского волоса, слегка намочив ее в мыльной воде. С непривычки становится стыдно, когда видишь, что грязь слезает с тебя пластами. На самом деле волосяная рукавица снимает и верхний, омертвевший слой кожи.
Наступает мытье. Банщик разводит мыло в наволочке, надувает ее и выдавливает пушистые мыльные хлопья. Ты весь утопаешь в мыльной пене. Банщик слегка трет клиента мыльным пузырем-наволочкой и чуть-чуть массирует, словно ласкает. Наконец, тебя сажают у мраморной раковины, трижды моют голову, окатывают теплой водой, смывая остатки мыла, и в заключение обрушивают несколько тазов ледяной воды.
Ты вытираешься, заворачиваешься в сухие полотенца и, усталый, чистый, с дышащими порами, направляешься в кабину.
Теперь можно подкрепиться и отдохнуть. Турок после бани пьет чай, иногда заказывает шашлык или запеканку из макарон — берак. Но он вспоминает с сожалением, что в давние времена в баню приходили с корзиной, полной провизии, и, плотно заправившись, проводили в полудреме несколько часов.
Из бани выходишь на холодный анкарский воздух, настоянный на едком дыму, чувствуя себя посвежевшим, помолодевшим, готовым и дальше безропотно сносить досадные неудобства столичного быта.
Появление ванной и душа в современных квартирах уменьшило число посетителей бань. Но турки все равно возмутились, когда в Анкаре стали строить финские сауны. Это показалось оскорблением для великих банных традиций страны. Сауны, впрочем, привлекли лишь немногочисленных приверженцев, да и стоили они дороговато для рядового турка.
В турецких ресторанах и столовых есть меню. Цены на блюда утверждаются муниципальными инспекторами в соответствии с достоинствами или претензиями заведения, и с посетителей, если они не иностранцы, вряд ли берут слишком много. Меню висят даже в самых маленьких забегаловках, хотя обычно их прячут за цветным горшком или случайным объявлением. Меню — вещь новая для большинства турок. В ресторане они просто спрашивают официанта, что можно поесть. Не возбраняется и посещение кухни. В провинции это по крайней мере приветствуют. Но и в Анкаре и Стамбуле главный повар гордо покажет шипящие сковородки, кипящие котлы и предложит попробовать свои произведения с помощью длинной деревянной ложки.
Многим туркам нравится, когда в конце еды официанты брызгают им на руки одеколоном. Самообслуживание распространяется на придорожные рестораны, студенческие и рабочие столовые.
В провинции еда проще, однако в городах обычно есть один-два ресторана с отличной кухней, относительно недорогой и всегда свежей. В глухих уголках Турции пища незатейлива и груба. Ее приготовление, может быть, не соответствует привычным нам гигиеническим нормам, однако невкусной пищи я не встречал нигде.
Турецкая или, скорее, стамбульская кухня для Ближнего Востока и Балкан от Югославии до Ирана — примерно то же, что французская для Западной Европы. Повара при султанском дворе унаследовали традиции анатолийской, балканской, кавказской, иранской и среднеазиатской кухни. Провинция подражала столице. Русские, посещая Турцию, отдают должное еде, хотя и считают некоторые блюда жирноватыми, а сладкое — переслащенным. Но помню, как мы пригласили в гости семью москвичей после того, как две недели она пользовалась великолепным турецким гостеприимством. На вопрос, что они хотели бы увидеть на столе помимо обычного ужина, мне деликатно намекнули: «А нельзя ли вареной картошки с укропчиком и, если можно, с малосольным огурцом?» Мы с удовольствием и пониманием исполнили просьбу соотечественников.
Кофе подают со стаканом холодной воды. Ее пьют и до и после чашки и между глотками, особенно в жару. Чай делают крепким, как наша заварка, очень сладким и пьют из маленьких стаканов, слегка сужающихся в середине.
В Турции угощают кофе или чаем в любой час дня и ночи — в отелях, на борту паромов, в конторах и просто в гостях. Однажды пытались декретом запретить чиновникам и служащим пить кофе и чай во время работы. Но из этого ничего не вышло. Американские советники и турки чувствовали «кофейную несовместимость», даже если в личном плане были доброжелательно настроены друг к другу. Американец приходил к турецкому директору подписать какую-либо бумагу. «Пожалуйста, присядьте», — говорил турок. «Да нет, мне на несколько секунд», — отвечал американец. «Что вы хотите — чаю или кофе?» — «Зачем мы будем терять время?» — «Нет, я настаиваю». Американец, кляня турка, сидел четверть часа и пил кофе. Приходили и уходили люди, турок говорил с кем-то по телефону. «А бумага?» — спрашивал наконец американец раздраженно. «Пожалуйста, она уже подписана». Или турок приходил к американцу с каким-либо документом. Американец просматривал его и, если находил дельным, тут же ставил подпись. Турок, помявшись, уходил с мыслью: «Ну и невежа, даже кофе не предложил».
В обычном ресторане кофе или чай не готовят, а посылают мальчика в соседнюю кофейню. Кофейни в Турции — общественный, культурный и экономический институт. В них не едят в отличие от наших кафе, которые почти идентичны столовой или ресторану. Они оборудованы газовой плиткой, батареей «джезве», снабжены самоваром и кальянами, в которых табачный дым проходит через слой воды. Здесь же продают вездесущие кока-колу и пепси-колу. В стране более пятидесяти тысяч кофеен. Видимо, она занимает первое место в мире по числу этих заведений на тысячу жителей. Я не исключаю и абсолютного первенства.
Классические кофейни османских времен, где на диванах возлежали богатые посетители, потягивая дым из многометровых кальянов, а слуги разносили лукумы и шербеты, остались лишь в люксовых отелях в качестве приманки для туристов. Обычные турецкие кофейни просты и практичны. В них могут стоять несколько колченогих стульев и пара кособоких столов. Есть и хорошо обставленные. Некоторые кофейни называются «кыраатханэ», дословно — «читальня». Не обманывайтесь вывеской. В них действительно есть газеты, но тут же играют в карты или нарды, а то и в бильярд, смотрят телевизор, курят, беседуют. В кофейнях находят убежище и безработные, и профессиональные карточные игроки, в зимнюю стужу согревается прохожий. Студенты приходят почитать, поспорить, подготовиться к занятиям Если ты чувствуешь себя одиноким, можешь завернуть в кофейню и поговорить о чем-нибудь с людьми.
Турецкие кофейни — чисто мужской мир. Лишь в последние годы там стали появляться туристки-иностранки, но турчанки — в редчайших случаях.
Бывало, что турки, работающие в Западной Германии, начинали постоянно посещать какую-нибудь пивную и постепенно превращали ее в кофейню. Некоторые даже открыли процветающие заведения такого рода в Мюнхене или Западном Берлине.
Летом в Турции в садах, у журчащих ручьев и фонтанов, открываются чайные с самоварами на столах. Здесь можно заказать также пиво и берек, не больше. Турки считают чайные местом услады в летний зной. Но динамики, спрятанные в гуще зелени, нередко включены на полную мощность.
Иногда в кофейне или чайной увидишь человека, который сидит, перебирая четки, и будто дремлет. Четки — долг праздности и благочестию, с их помощью верующие припоминают 33, 66 или 99 имен Аллаха. Но и деловые люди, и политики, и журналисты усваивают в Турции привычку сосредоточиваться, успокаиваться, приводить в порядок мысли, неспешно пропуская между пальцами одно зерно за другим.
В наше время дальние поездки на автомобиле еще можно с натяжкой считать путешествием. Самолет не в счет. Полет — не поездка: ты перемещаешься во времени и пространстве в герметически закупоренной металлической камере, испытывая некоторые неприятные ощущения. Индустриализация и массовые коммуникации распространили похожесть по лицу планеты, и аэродром в Юго-Восточной Азии в принципе не отличается от аэродрома на Ближнем и Среднем Востоке. Проникнуть за стандартные блоки зданий, узнать, чем живут люди, требует усилий и времени.
Поездка на автомобиле позволяет где-то остановиться, что-то увидеть, поговорить со случайным попутчиком. Жанр «еду-вижу-слышу-пишу» бессмертен. Но и автомобильные скорости дают впечатление любительской киноленты. Например, на южном побережье Турции ты должен увидеть, согласно путеводителю, «красивейшие пейзажи Средиземноморья». А все внимание приковано к нескончаемым, изматывающим виражам асфальтированной ленты, и лишь изредка открываются изумительные картины.
Свернуть с дороги невозможно. Таковы правила пере движения по Турции для советских граждан. Выезжая из столицы дальше чем за сорок километров, я был обязан уведомить органы безопасности за сорок восемь часов и получить их согласие. Уведомление называлось «ихбаранамэ», и оформлять его нужно было на седьмом этаже грязноватого «полицейского дворца», в котором сосредоточены соответствующие службы — от автоинспекции до безопасности. В бумаге указывались точный маршрут, места ночевок, вид транспорта, номер и цвет автомашины. За несколько лет глаз привыкал видеть в зеркальце заднего обзора какой-нибудь серый «рено», который следовал за тобой, соблюдая дистанцию.
Турция в поездках раскрывается с разных сторон. Прежде всего убеждаешься, что страна действительно немалая. Если мерить ее европейскими масштабами, то, не считая СССР, она по населению — пятая после ФРГ, Англии, Италии и Франции, а по территории — первая. На Ближнем и Среднем Востоке Турция — самое населенное государство. Различий в ее топографии, растительности и климате больше, чем во многих других странах сопоставимого размера. В Турции есть пустыни и высокие горы, леса и степи, горные луга и субтропические побережья. В Эрзуруме могут трещать морозы, в Анкаре будет слякоть, а на Средиземноморском побережье, на склонах, обращенных к югу, сочно зеленеть бананы.
Климат настолько разнится, что любые народы мира, кроме эскимосов и жителей влажных тропиков, нашли бы для себя в Турции подходящие условия.
Я приехал в Анкару, рассчитывая обойтись легким плащом, а оказалось, что зимой здесь в течение двух-трех месяцев выпадает снег, хотя он иногда и подтаивать. В декабре — январе улицы превращаются в раскатанные ледяные горки, по которым без цепей на колесах не проедешь, мальчишки катаются на санках, и метеосводка перекликается с московской.
Когда путешествуешь по Турции, история всегда с гобой. Малая Азия была одним из самых оживленных перекрестков человечества и центром огромных империй. История оставила здесь свои бесчисленные автографы. Конечно, нужно быть специалистом, чтобы отличить хеттский храм от фригийского, греческий амфитеатр от римского, минарет сельджукский от османского, а армянский замок от крепости крестоносцев. Но открывать для себя историю через памятники — приятное и полезное занятие.
Выражения «гордиев узел», «танталовы муки», «лукуллов пир», «богатство Креза», «слава Герострата», «ахиллесова пята», даже европейско-американский вариант Деда Мороза — Санта Клаус связаны с землей, которая сейчас — Турция.
Для Европы цивилизация началась с Древней Греции, которая лежала тогда по обе стороны Эгейского моря. В какой-то степени это верно. А что было до Греции или, точнее, как и где началась Греция? Археологические исследования последних десятилетий раскрыли цивилизации, наследниками которых были сами греки.
Турки восприняли от греков слово «анатоль» (восток) и превратили его в «Анадолу» (Анатолия), а земли Рума (Рима) означали для них в османские времена только Балканы, которые по-турецки именовались Румелией. До сегодняшнего дня словом «румы» турки называют греков, живущих в самой Турции или на острове Кипр.
Перед распространением христианства анатолийские религии отдавали предпочтение богиням плодородия. Исключение, может быть, составляли хетты, у которых главные боги были мужчины. В Северо-Западной Анатолии фригийцы поклонялись великой богине Кибеле, на юго-западе она сливалась с Артемидой — Дианой, главный храм которой находился в Эфесе.
Христианство появилось в Анатолии в крупных городах, а затем распространилось по всей стране. Одна из легенд утверждает, что дева Мария и Иоанн-апостол переселились под Эфес, где Мария скончалась. Место ее могилы в «чудесном сне» открылось в прошлом веке одной немецкой монашенке, и католическая церковь поспешила освятить и «могилу» и «домик» девы Марии. Другая легенда утверждает, что апостол Петр собрал группу христианских последователей недалеко от Антиохии (современная Антанья), где находится сейчас пещерная церковь святого Петра, якобы старейшая церковь в мире.
Семь церковных соборов, которые признают и католики и православные, состоялись на территории нынешней Турции. Именно в них принималась христианская догматика. Некоторые исследователи выдвинули смелую гипотезу, предположив, что особое поклонение, которым окружена дева Мария у католиков, вытекает из культа анатолийских богинь плодородия. Одна из основ церковной догматики — божественное происхождение материнства — была принята в Эфесе, где стоял когда-то храм Артемиды.
Когда попадаешь на Средиземноморское, или Эгейское, побережье, которое называют «бирюзовым ожерельем Турции», то понимаешь, почему сюда рвались завоеватели на протяжении истории. Для кочевника Анатолийского плато, причерноморских степей, переднеазиатских пустынь эти земли казались благословенным краем, где реки текут молоком и медом. Долины плодородны и ухожены, горы с мягкими очертаниями покрыты кудрявым низкорослым лесом или травой. Пирамидальные тополя, кипарисы и грецкий орех разбросаны среди полей. Виноградники, оливковые и апельсиновые рощи, плантации хлопчатника тянутся на сотни километров.
На побережье — запах йода, смолистых пиний, лавра, кипариса. Глаз не устает любоваться всеми оттенками синего и голубого цвета в море, рыжими, кирпичными, грязно-бордовыми скалами, сероватой зеленью оливковых деревьев, густой, глубокой — бананов, желтоватой — кукурузных полей, пыльной, блеклой — хлопчатника. В Турции есть богатство, которое никогда не истощится, — тысячи километров побережья, солнце, море. Скользящие по воде яхты и фелюги вызывают сладкую тоску. Лагуны, острова и протоки Айвалыка, Фетхие, Мармариса, Бодрума напоминают Вуоксу и выборгские шхеры, но с теплым, праздничным морем. И все это — в сочетании с богатейшими коллекциями памятников. Их так много, что, бывало, наткнешься на какую-нибудь крепость, лезешь в толстый справочник и обнаруживаешь, что ей уделено пять строк. Или где-нибудь у Силифке в горах Тавра стоит на пустом месте дорожный указатель с буквой «Р» и надпись: «Здесь парковал своего коня Фридрих Барбаросса». Рыжеволосый германский император Священной Римской империи утонул в реке Гёксу в конце XII века во время третьего крестового похода, а его войско разбежалось.
Трогаешь рукой мраморные ступени театра в Аспендосе и невольно думаешь, что они лежат здесь уже восемнадцать столетий. Лишь перечисление важных событий истории наполнило бы тома. Эти камни… Нет, не просто камни, а единственный сохранившийся в почти нетронутом виде античный театр на двадцать тысяч мест. В нем до наших дней дают представления, и акустика такая, что слова, негромко произнесенные на сиене, слышны в последнем ряду.
Снаружи линии театра не очень изящны. Они оставляют впечатление массивности, солидности, но внутри пропорции безукоризненны. Театр построили жители города Аспендоса. В те дни река, на которой он стоит, была судоходной вплоть до его стен, и он конкурировал с портами Силе и Антальей.
Я окинул взглядом ряды, галерку, сцену, закрыл глаза и попытался представить себе публику тех дней, ее мысли и страсти. Древние греки выработали философию жизни и житейскую философию, создали свой общественный строй, уклад быта, свои понятия о добре и зле. Они обрели неукротимое стремление превращать города, где они жили, в произведения искусства. Они строили храмы, библиотеки, театры, бани, наряду с ними — общественные туалеты и публичные дома. Греческая мысль и эстетика оплодотворила эллинизированный Восток, Рим, а затем и всю Европу. Глядя на величественные развалины первых веков до нашей эры, понимаешь, что за взрывом греческой цивилизации при Александре Македонском стояла мощная материальная база.
В музеях побережья — античные скульптуры. Выразительность человеческого тела, язык мускулов и поз доведены до совершенства. А скульптурные портреты… Нежность, гордость, мудрость, надменность, похоть, жестокость, скупость, лукавство, усталость изваяны с магической силой. Каков резец! И это два тысячелетия назад! Недаром один из великих воскликнул: «Искусство творили древние греки, а мы — лишь эпигоны!» Великий просто утрировал свое восхищение. Он знал: искусство неисчерпаемо и в формах, и в содержании.
Можно бродить между колонн Эфеса, по улицам, по которым под крики толпы ехали в колеснице Антоний и Клеопатра… Но мне врезалась в память рельсовая дорога, по которой возят глыбы и колонны для восстановительных работ, подъемные краны. Эфес и другие города строили без рельсовых дорог и машин, и сколько миллионов рабов должны были превратиться в ничто, чтобы правители упивались честолюбием или грабежом, художники творили, мудрецы мыслили, а знать пировала.
Когда-то турок упрекали в «варварском» разрушении христианских памятников. Но христиане с не меньшей беспощадностью крушили языческие храмы, рыцари-крестоносцы грабили византийские церкви и, не дрогнув, закладывали целые колонны в стены своих крепостей.
Берег, дощатые хибары и дешевые пансионаты в Сиде захватили молодые скандинавы, немцы, французы. Они были длинноволосы и нечесаны, девушки носили майки в обтяжку. Они приехали не просто развлекаться, а именно пожить среди древних памятников, приобщиться к искусству, знакомому им только по учебникам.
Молодые датчане стали нашими гидами. Они провели по римским развалинам — дворикам, баням и большому разрушенному театру. Вдали сквозь дымку полудня поднимались зеленые склоны Тавра, рядом была хорошо видна современная деревушка Сиде, прижавшаяся к берегу. Среди высоких, раскидистых платанов прятались дома, валялись большие куски мрамора, крестьянки стирали белье в древних саркофагах. Море было совершенно спокойным, и поверхность его казалась полированной. к горизонту уходил песчаный пляж. Когда-то вокруг залива простирался город, у причалов теснились суда — триремы и квадриремы. Сейчас на рейде появляются белоснежные теплоходы с туристами.
Над горячими камнями арены дрожал воздух. Громко пилили цикады. Вся площадка была заполнена развитыми колоннами, через которые пробивались кусты ежевики, а между ними паслось маленькое стадо коз.
Об Анталье вряд ли могут быть два мнения. Ее романтичная бухта, кривые улицы и черепичные крыши старого города, крепость, толстая башня минарета, обрывистые берега — готовая декорация к пьесе на средневековую тему. К Анталье близко подступают горы, в безветренную погоду их панорама отражается в воде.
Запоминаются экипажи Антальи. Они не просто туристский аттракцион, но распространенное средство транспорта. Блестит медь на сбруе, блестят ручки и фонари колясок, играют рожки или мелодично звенят колокольчики. Стук копыт по мостовой и мягкое покачивание коляски переносят тебя в XIX век, о котором знаешь только из книг, запах конского пота и навоза усиливает впечатление.
На набережной идет торговля сувенирами на уровне «люби меня, как я тебя», но продают и морские губки, и оригинально разрисованные тыквы, и браслеты. Иногда предлагают заросшую ракушками амфору, выловленную в море. Она может быть настоящей, но чаще — поддельная. Предприимчивые дельцы бросают на несколько лет в воду новые амфоры, чтобы они заросли и приняли «античный» вид, или просто мастерски приклеивают ракушки.
Мало кто знает, что история «Папá Ноэля», западноевропейского Деда Мороза, тоже началась в этих краях. Первым рождественским дедом якобы был Николас, епископ города Миры в IV веке нашей эры. Его развалины расположены недалеко от Антальи. Согласно легенде, обычай делать рождественские подарки идет от того случая, когда Николас помог одному бедняку купить приданое для двух его дочерей. Однако неясно, откуда появился обычай делать подарки детям, которые должен приносить Дед Мороз. Хотя Николас считается покровителем детей, ничто больше не связывает его с рождеством. Первую церковь, названную его именем, построил император Юстиниан в Константинополе в VI веке, но через несколько столетий жители одного южноитальянского городка перевезли останки епископа из Миры. Именно с того момента на Западе начинает распространяться культ святого Николаса (Николая). По всему Средиземноморью святой Николай считался покровителем моряков. Имя «Санта Клаус», американского происхождения, идет от искаженного голландского «Синтэ Клаас».
Больше трех тысячелетий назад греки построили большого деревянного коня, с целью забросить «десантников» во враждебную Трою. Троянская война дала таких славных героев, как Гектор и Ахилл, имена которых навсегда вошли в мировую литературу. Развалины Трои на берегу Дарданелл раскопал в прошлом веке немецкий археолог Шлиман. Он сделал капитал на золотой лихорадке в Калифорнии и отдался страсти своей жизни — археологии. За собственные деньги он нанял рабочих и начал поиски под насмешки и скептические взгляды ученых на том месте, где никто до него не копал. Шлиман родился под счастливой звездой и сделал выдающееся открытие.
Троя была сравнительно небольшим городом, уступала и Эфесу и Пергаму. Ее развалины, как и девять слоев цивилизации, интересны сейчас больше для археологов. Когда туристы приезжали в Трою, они спрашивали: «А где же конь?» Поэтическое описание знаменитого деревянного коня гласит, что он был высок, как холм, а его ребра сделаны из стволов сосен. Турецкое министерство туризма решило построить нового «троянского коня», чтобы удовлетворить любопытство гостей. Бригада плотников трудилась два года и коня соорудила на славу. Он одиннадцати метров высотой, а в его животе может разместиться целый взвод туристов, желающих на несколько мгновений вообразить себя героями Троянской войны.
Рассказывая о «бирюзовом ожерелье» страны, чувствуешь, что его дороги и тропы заводят далеко от главной темы книги — сегодняшней Турции и турок. Но Турция — это и люди, и земля, и памятники, и история. А без истории, даже античной, не поймешь, какие глубокие корни имеют многие события современности, насколько тесно и давно судьба этой страны переплелась с соседней Грецией.
Понятно, что многие греки испытывают ностальгию, когда говорят о местах, которые когда-то были центрами эллинской цивилизации в Анатолии. Некоторые путешественники пытались отделить турецкую землю от турок и написали немало путеводителей по классическим памятникам, в которых со страной обращались как с музеем, а к туркам относились как к случайным обладателям обширного дома, полного сокровищ. Это вызывалось элементарной интеллектуальной слепотой. Исторические воспоминания и археологические памятники не могут изменить сегодняшнюю реальность.
В августе равнина вокруг Коньи наполняется скрипом телег и урчанием тракторных моторов. Крестьяне с темными, неподвижными лицами, в надвинутых на глаза кепках, их жены, одетые в шаровары и жилетки, свозят на тока сжатую пшеницу. Телеги запряжены парой буйволов, лошадью или осликом, тракторы тянут тележки. Стучат молотилки, палит солнце, пахнет сухой травой и овечьей шерстью, пот заливает глаза, и пыльное марево плывет над равниной. Если прибрежные низменности, Эгейская и Киликийская, — поставщики экспортных культур и добытчики валюты, то внутреннее плато — житница страны.
Конийская равнина, как и всякая степь, особенно хороша весной. Пшеничные поля — дымчато-зеленого цвета, обломки скал на холмах блестят, как сталь, глубокие балки — розовато-лиловые. Вдоль дороги бегут цепочки пурпурных, голубых и желтых цветов. Под летним солнцем все быстро высыхает, потому что на обширных пространствах почти нет деревьев, а в воздухе — влаги. Пшеница наливается, равнина становится золотой. И среди полей кое-где увидишь белый лошадиный череп на палке — для отпугивания злых духов, вредителей урожая. Там, где «золото» собрано, почва похожа на ржавое железо. Зимой мороз, снег и ледяные ветры выбеливают равнину. Но весной из спрятанных зерен снова проклюнутся ростки, они вырвутся на свободу и осветят степь теплыми и радостными тонами.
Шоссе из Анкары в Конью то позволяет машине бежать быстро, то гасит скорость крутыми поворотами. Недалеко от Коньи оно пересекает стальные рельсы. Самый обычный переезд, и ты не сразу вспоминаешь, что это — когда-то знаменитая Багдадская железная дорога. Та самая, которую кайзеровская Германия пробивала на Восток через Багдад, чтобы приблизиться к Персидскому заливу и Британской Индии. Нет уже кайзеровской Германии, Британской империи, Османской империи. Но по-прежнему есть эти холмы, будто покрытые рыжей верблюжьей шерстью, и белые ручейки овец, и саманные хижины с плоскими крышами. Есть хлебная Анатолия, Турция бронзовых степняков, зерна и скота.
Конья встречает кварталами, скучными, как все окраины современных городов, и ты разочарован, потому что в своем воображении уже нарисовал образ бывшей столицы Сельджукского государства — «Киевской Руси» Турции, как назвал ее один из наших историков. Но в центре города каменная вязь фасадов мечетей, изломанные своды школ-медресе, аркады караван-сараев, изящные контуры минаретов вознаграждают и за пыль, и за степное однообразие.
Конья — один из древнейших городов мира. Раскопки в ее парке обнаружили крупное поселение, которое существовало за семь тысячелетий до нашей эры. Хетты, эллины, римляне, византийцы, крестоносцы владели Коньей, пока она не стала столицей турок-сельджуков. Ее небольшой археологический музей хранит сокровища, которые украсили бы и Эрмитаж и Лувр.
Для путешественника наиболее доступный вид турецкого искусства — архитектура. Турецкое зодчество отличалось явно выраженной индивидуальностью в двух своих главных периодах — сельджукском (XII–XIII века) и османском (после XIV века). Турки строили мечети, места совместной молитвы, религиозные школы-медресе, мавзолеи-тюрбе, дервишские монастыри-текке, богадельни, караван-сараи, бани, фонтаны, мосты. «Щедрой рукой рассыпали Сельджукиды по Малой Азии перлы искусства», — пишет академик В. Гордлевский. Тюркская пословица тех времен гласила: «Обойди весь свет, но посети также Конью». Здесь сохранились прекрасные образцы сельджукской архитектуры, и в этом смысле с ней могут соперничать лишь несколько других городов Анатолии — Сивас, Эрзурум, Амасья, Кайсери.
Сельджукские архитекторы предпочитали контраст простых форм и изысканной внешней отделки. Мечети построены в форме базилики — здания прямоугольного в плане, крыша поддерживается параллельными рядами колонн. Арки, как правило, стрельчатые. Они — отличительная особенность и элегантных сельджукских мостов, многие из которых сохранились в Анатолии. Отделкой особо богаты ворота и порталы. Арабские надписи, геометрические узоры, абстрактные рисунки, цветы, листья, иногда фигурки животных, вырезанные на камне или штукатурке, — все сливается в чудный каменный у юр. Сельджукские мавзолеи легко различить по их круглой или многоугольной форме, на которую насажены остроконечные крыши. Иногда в эти здания вписаны колонны, пилястры и высокие слепые арки.
В Конье еще сохранились кварталы старых домов, где верхние этажи нависают над улицей, а балконы и фонари покрыты деревянной резьбой. В традиционном турецком доме даже в городе мебель чрезвычайно проста и состоит из лавок, покрытых плотными подушками или коврами, из ковров и матов на полу. Главная идея жилья — минимум мебели и максимум пространства. Помещения украшают ковры, маты, кружева и портьеры. Привязанности к этим вещам пережили появление современной мебели. Ковроткачество — традиционное искусство, которое анатолийские турки принесли с собой из Центральной Азии. Но современные ковры все больше машинной работы. Популярны и дешевые плетеные маты — килимы. Их производят деревенские жители в Восточной Анатолии или кочевники-юрюки. У килимов простой геометрический рисунок и яркие краски.
Каждую осень по Турции развешивают объявления: «Ашики, приходите со своими сазами сражаться в Конью!» Народные певцы — ашики со щипковыми инструментами — сазами собираются на фестиваль. Темы их песен и баллад большей частью романтические и любовные. Грустная песня называется «кара севда» — безнадежная любовь. Сердце ранено, сожжено, раздавлено несчастной любовью, девушка недоступна и остается идеалом, к которому влюбленный стремится всю жизнь. Один из певцов мечтал жениться на деревенской красавице с длинными косами. «Ты посетила мое сердце, о моя любовь, — стонет ашик. — Но где мне достать денег, чтобы заплатить калым? Каждую ночь мое единственное утешение — мой саз». Другие певцы сочиняют баллады о трудностях жизни в бедной стране. Один из них работал ночным сторожем под Анкарой. Его любимая жена недавно умерла, оставив двух маленьких детей. Его грудь полна тоски, и он изливает ее в своих песнях.
Ашики презирают людей, которые хотят подражать Америке или Западной Европе, не зная своей родины. «Жалкие длинноволосые люди, как смеете вы смотреть на свою страну свысока?» — поет один из них под громкие аплодисменты слушателей. Патриотизма в его песне столько же, сколько и глубокого консерватизма.
Высшая точка соревнования — импровизация. Двум певцам судьи задают тему, и ашики тут же по очереди должны сочинять стихи и музыку. Публика рукоплещет и одобрительно восклицает, когда то один, то другой находят удачное сравнение или изящный музыкальный поворот. Виртуозы ставят себе между губ булавку, чтобы, сочиняя стихи, не произносить звуки «б», «п» или «м», иначе иголка уколет губы.
Самый знаменитый из ашиков турецкой истории был Юнус Эмре, который жил в XIII веке. Его стихи и поэмы, любимые народом, резко отличались от усложненной придворной поэзии, полной цветистых оборотов, арабских и персидских слов. Турецкие писатели и поэты полагают, что идея обращения литературы к народному языку восходит к великому ашику. Другой поэт с могучим талантом. Пир Султан, возглавил народное восстание против правительства в XVI веке, но был разгромлен и повешен пашой Сиваса.
Народное творчество Турции было меньше связано с Аравией — родиной ислама, чем со Средней Азией и Ираном. Именно персидская культура, поэзия, музыка влияли на Турцию — и народную и придворную.
Чаще всего ашики приходят из восточных районов Турции. Скитания заводят их во все концы страны. Они идут туда, куда влечет их музыка, где есть слушатели. Ашики популярны в Турции — свободные люди, которые приходят в город, поют и говорят, что им нравится, критикуют агу, губернатора, помещика или полицию. В их репертуаре появилось много тем помимо любовных. Веками бродили они среди крестьян, ели их хлеб, добытый тяжким трудом, и выражали в песнях — долгих, как степные плато Анатолии, — свои чувства и думы. Баллады ашиков всегда возвращаются в конце концов к сюжету любви, мистической, печальной и безнадежной, потому что само слово «ашик» значит «влюбленный». Как писал еще турецкий путешественник XVII века Эвлия Челеби о бродячих ашиках, «эти люди обладают особым искусством вызывать песнями воспоминания об отсутствующих друзьях и далеких странах, так что в души их слушателей приходит грусть».
В Турции, где многие хотят быть большими европейцами, чем сами европейцы, душа народа ищет традиционные мелодии для своего выражения. Несмотря на распространение современных западных ритмов и мелодий, большинство турок, включая молодежь, предпочитают народную музыку. Если радиослушателей хотят привлечь к информационной передаче, то перед ней передают записи популярных народных певцов.
Мальчишки, которые мечтают стать ашиками, поступают учениками к мастеру, как подмастерья к ремесленнику. Они учатся играть на сазе и петь, за несколько лет накапливают поэмы и песни и, что более важно, осваивают искусство сочинять стихи на заданный сюжет. Затем учитель дарит ученику саз, придумывает псевдоним и отпускает его бродить по Турции.
Во многих больших городах были собственные ашики. Когда приходил другой певец, между ними устраивались соревнования в какой-нибудь кофейне. Ашики раскланивались, садились друг против друга и по очереди пели. Обычно первые песни посвящались романтической любви. Каждый пытался превзойти другого в сравнениях, образах, музыкальном искусстве, вызывая восхищение толпы. Затем дуэль становилась острее. Поэты начинали ловко подкалывать друг друга в песнях, и тот, кто уничтожал противника вежливым поношением, считался победителем.
Однажды скрестили сазы знаменитые ашики Ихсани и Шемси. Ихсани явно был впереди соперника, когда исполнял любовные песни. Он и выглядел самым романтичным из всех ашиков. Его большая, львиная голова посажена гордо, густая борода и черные волосы спускаются волнами на плечи и грудь, мощный лоб изрезан морщинами, четко обозначенный нос великолепен. Гипнотизирующий взгляд черных глаз заставлял слушателя верить, что Ихсани поет для него одного.
Когда же дело дошло до взаимных уколов и «издевательств», Шемси начал брать верх. Именно волны густых волос Ихсани стали наиболее легким объектом насмешки, потому что у них был тот же цвет, что и у шкур черных козлов. И в песне Шемси Ихсани превратился в козла, играющего на сазе. Публика покатилась со смеху, когда Шемси изобразил, как его соперник прыгал со скалы на скалу и ел нежную зелень деревьев, а потом попал к нему в руки. Шемси зарезал козла Ихсани, поджарил, а насытившись, сел отдыхать на мате, сплетенном из его волос, и заиграл на сазе нежную мелодию для возлюбленной Ихсани. Наконец, чувствуя полную победу, Шемси закинул голову, взглянул на воображаемую луну на потолке кофейни и действительно завел пенею, полную любовной страсти.
Но вот Ихсани стал отвечать ему, и Шемси сразу уловил, что он переборщил и дал в руки соперника возможность ответить на насмешки насмешками. Ихсани сравнил его с истощенным чесоточным псом, который лает на луну. Вместо того чтобы петь для возлюбленной Ихсани, он будет получать от нее помои и кости у задних дверей кухни, а на его лай ответит лишь хор презрительных кошек на крыше кофейни. Когда Ихсани кончил, Шемси понял, что он побежден в соревновании. Он элегантно встал, приблизился к Ихсани и, поцеловав ему руку, приложил ее ко лбу.
Ихсани много лет выступал один. В его репертуаре была баллада о том, как он заснул на склоне горы Немрут. Ему приснилось, что он шел по вечерней дороге и заметил девушку, сидевшую у чешме. Она была в фиолетовой чадре. Увидев ее волосы и глаза, Ихсани понял, как она прекрасна. Ашик сел подле нее играть на сазе и петь о любви. Когда он кончил, девушка подняла чадру и улыбнулась. Она сказала, что ее имя Гюллюшахи что она будет ждать его вечно.
Когда Ихсани запевал балладу о девушке в фиолетовой чадре, молодой помощник ашика ходил в толпе, распродавая томики его стихов. «О моя милая в фиолетовой чадре, если ты соберешься ко мне, приходи, не говоря ни слова», — пел Ихсани, и слезы набегали на глаза крестьянок, которые слушали его. «Приходи ко мне, о моя жизнь, мой дом, мой свет, моя гурия, я жду тебя каждый вечер». «Аман, аман…» — всхлипывали пожилые женщины в толпе. Исхани смотрел глубоко в глаза каждой крестьянке, которая его слушала, и продолжал: «Приди, моя радость, острые камни не поранят твои ноги, потому что мои глаза проложат тебе светлый путь». Слушательницы рыдали.
Много лет Ихсани искал свою девушку в фиолетовой чадре. Он нашел ее недалеко от Диярбакыра и женился на ней. Она стала его спутницей.
Ашика Ихсани обвинили в том, что он коммунист, и арестовали. В зале суда он сочинил песню и кинул ее в лицо судьям: «За что вы судите меня?! Я не вор и не убийца, а честный человек. Я иду своим путем. У меня свое ремесло, как у любого рабочего». Полиция избила его. В тюрьме сбрили его великолепные волосы, бороду, разбили саз, думая сломить его дух и заставить замолчать. Потом Ихсани был освобожден. Его отросшие воюем засеребрились, но песни ашика стали дерзкими и злыми. В них он часто произносил слова «полиция» и политиканы», сопровождая их выразительными плевками на землю. Многие другие ашики попадали под подозрение. Их преследовала полиция. Все чаще в их песнях слышался протест.
Только самый старый из ашиков, Вейсель, как будто бы оставался неизменным до конца своих дней. Он провел жизнь среди крестьян Анатолии, разделяя их нищету, их печали и радости. Ашик Вейсель пел о событиях деревенской жизни, о рождении и смерти, о красоте полевых цветов, дружбе между людьми. Он пел о первом соловье в апреле, и его надтреснутый старый голос выражал любовь и тоску, которую вызывает соловей анатолийской весной.
Вейсель не принял больших городов. «Я устаю от городов и скучаю в них, — говорил он, — Человеческим существам дано два окна, чтобы познавать мир, — глаза и уши. У меня глаза закрыты навсегда, уши — мое единственное окно, но его закрывает шум больших городов. Дома, в деревне, я независим. Я могу вставать и идти куда захочу. В городе я беспомощен и всегда от кого-то завишу».
Когда он скончался, ему было восемьдесят. Из них семьдесят он пел. В восемь лет он заболел оспой и ослеп. Чтобы утешить мальчика, отец купил ему саз. Вейсель обошел с поводырем почти всю Турцию. В Анкаре на годовщине республики он прочитал свою эпопею о Мустафе Кемале. Ее опубликовали, и он стал знаменитым.
Вейсель не любил больших городов, но иногда приезжал выступать. Тысячные аудитории слушали его так, словно певец с морщинистым лицом старого крестьянина перебирал затаенные струны в душе каждого. Вейсель был скромен, хотя буря аплодисментов радовала его. «Какую благодарность ты хочешь за счастье, доставленное нам?» — как-то спросили его. «Я хочу, чтобы меня обняли и поцеловали самые прекрасные девушки в зале», — ответил он лукаво.
«Вейсель олицетворял все лучшее, что есть в турках, — честность, гостеприимство, желание вкусить от простых радостей жизни, — писал один критик, — и он выражал эти стремления турецким земным языком, свободным от влияния иностранцев и столичных дворцов».
На долю Вейселя выпал беспримерный успех. Один турецкий поэт назвал его «незабываемым голосом любви». Но ашик пел не только о любви к женщине, но и о любви к земле, пирамидальному тополю, запаху полыни и крестьянского хлеба… Вейсель так объяснял слово «ашик»: «Если человек желает чего-нибудь недостижимого, он становится влюбленным в это недостижимое. Я слепой, я люблю всю красоту мира, потому что никогда не могу увидеть ее».
Его лирические поэмы и песни до сих пор исполняются с эстрады и в народных кофейнях.
Ашика не интересовали ни записи на пластинках, ни деньги. Ему предлагали жить и в Стамбуле, и в Анкаре, но он всегда возвращался в родную деревню Сивиралан провинции Сивас, названную теперь его именем.
Вейсель первым в деревне заложил яблоневый сад. «Неужели ты думаешь, что здесь будут расти яблоки? — сомневались соседи. — Ты надеешься на чудо». Вейсель не обращал внимания на их сомнения и насмешки. Он больше доверял своему чутью и преданной, любимой им земле. Когда яблоневые деревья дали первые плоды, крестьяне воскликнули: «Воистину слепой не Вейсель, а мы сами!» — и начали разбивать сады. Теперь в его деревне и во всей округе много яблоневых садов, и их плоды называют «яблоками ашика Вейселя».
У Вейселя было два сына, четыре дочери, восемнадцать внуков и правнуков. Но сначала в его семье не было счастья. Первая жена ушла от слепого. Перед этим один из ее сыновей умер, второго она оставила, и Вейсель два года носил его с собой, пытаясь выходить, но мальчик умер у него на руках. Потом ашик женился вторично.
«Мир вокруг него был погружен в темноту, — писали о Вейселе. — Единственный свет, который он знал, — это свет дружбы». Но и дружеские чувства поэт понимал по-своему. В одной из своих самых популярных песен он пел своим надтреснутым голосом: «Многих людей я обнял, как друзей, но мой самый верный, самый преданный друг — турецкая земля».
Вейсель завещал похоронить свой прах в поле, где его родила мать, когда она жала хлеб. «Я хочу, чтобы рядом с моей могилой паслись овцы и ягнята, а девушки собирали цветы», — сказал Вейсель перед смертью.
Стихи ашиков просты, но изящны и полны тонких сравнений. Граница между любовью и туманной романтикой никогда не бывает ясной в их творчестве. Один из учеников Вейселя писал в стихотворении «Ты»:
Ашики еще есть в Турции, но чувствуется, что они могут оторваться от породившей их традиции, так как размываются и сами традиции, могут превратиться просто в певцов эстрад. Тогда Турция потеряет какую-то часть самой себя. Прекрасная Гюллюшах еще сидит рядом с Ихсани, откинув фиолетовую чадру. Но ашик нее реже слагает любовные песни, а поет о вечных за-ботах турецкого народа, поэтому его песни печальнее, чем те, в которых он пел о страданиях любви.
Конья привлекает турок еще и могилой Мевляны — Джалаледдина Руми, великого поэта и философа Востока, уроженца Афганистана. Его отец бежал из Балха, спасаясь от монгольских орд, и нашел прибежище за многие тысячи километров — в сельджукской Конье. Семь столетий назад, в век религиозного мракобесия и фанатизма, Руми проповедовал терпимость и любовь, равенство людей независимо от религии, цвета кожи и языка, обличал рабство и считал, что человек должен зарабатывать хлеб в поте лица, быть скромным и искать прекрасное в жизни. Когда Руми скончался, за его гробом шли горожане всех вероисповеданий.
Его мавзолей увенчан остроконечным шатровидным куполом, выложенным зеленой глазурью. Прах Руми покоится под деревянным саркофагом, окруженный могилами последователей. На каждой из них лежит высокая дервишская чалма. Саркофаги украшены богатой резьбой, бархатные шелковые покрывала вышиты. Перед входом в мавзолей надпись на персидском языке: «Это Кааба влюбленных, здесь несовершенный обретает полноту». Знаменитое четверостишие Мевляны провозглашает: «Приходи, кто бы ты ни был — неверный, огнепоклонник или язычник. Наш дом — не обитель отчаяния. Входи, сколько бы ты ни нарушал своих обетов». Рядом стоит большая эмалированная ваза XIV века, в которую собирают первые капли апрельского дождя. Воду освящают, погрузив в нее конец тюрбана Мевляны, затем верующие разносят ее в бутылочках по стране.
Серебряная решетка на серебряном пороге, о который дервиши когда-то стучали лбами, отделяет могилу Руми от главного зала. Серебряная чеканка, как и большая часть дорогой обстановки мавзолея, была даром османских султанов и пашей. Близкие родственники Мевляны похоронены в очень высоких саркофагах. В соответствии с одной из легенд они якобы стоят в своих могилах из уважения к учителю.
Дальше расположен зал церемониального танца-вращения, «сема», благодаря которому последователи Мевляны известны как «вертящиеся дервиши». В других помещениях — коллекции рукописей, включая собственный великий диван — собрание сочинений Джалаледдина Руми «Месневи», музыкальные инструменты, которые использовали «вертящиеся дервиши», — тростниковые дудочки и барабаны, а также костюмы, ковры и занавеси. В кельях музей восковых фигур, которые воссоздают обстановку тех далеких времен.
Орден «вертящихся дервишей» в Турции запрещен, как и другие ордена. Но танцы сохранились, и дервиши дают представление на родине и за границей.
В Конье сезон «вертящихся дервишей» — декабрь. Впечатление от их танца ослабевает из-за того, что они кружатся в спортивном зале. Но когда начинается их вращение, забываешь и о шведских стенках, и о гимнастических снарядах, отодвинутых в угол, и о вспышках блицев туристов.
Представление открывается призывом к памяти Джалаледдина Руми и его сподвижников. Звучит музыка, монотонная и однообразная для нашего уха, с едва проступающим ритмом. Мелодия окрашена в четверть тона. Оркестр состоит из однострунных скрипок, барабанов и тростниковых дудочек — флейт. Музыка хорошо отвечает задаче создать атмосферу для полумистического ритуала. Дервиши неподвижно сидят на иолу, склонив головы, погрузившись во внутреннее созерцание.
Выделяется соло флейты. Все поднимаются и совершают во главе с шейхом три полных круга по арене, подчиняясь внутреннему ритму. Перед местом, где сидит шейх, они кланяются друг другу. Дервиши одеты в черные плащи до пола, в валянные из шерсти темные шапки в форме удлиненного цветочного горшка вверх дном, в темные чулки-сапожки.
Вот они сбросили черные плащи и появились, как бабочки из кокона, в белых жилетках и белых длинных юбках.
Первый, старший из танцовщиков, остается в черном плаще. На нем также белая шапка и белые сапожки. Поклонившись шейху, он идет по кругу, а другие, получив от шейха благословение, начинают вращаться против часовой стрелки. Среди них подростки, юноши, седовласые мужи, худые и полные, бородатые и бритые. Сначала вращаются, скрестив руки на груди, потом раскидывают их. Ладонь правой руки смотрит вверх, а левой — вниз. Некоторые склоняют голову набок. Каждый вращается в своем ритме, неуловимо переплетающемся с остальными. Некоторые попадают друг с другом как бы в единую вибрацию и вертятся синхронно. Другие — с другой скоростью, по другим «орбитам». Все они вращаются на левой ноге, отталкиваясь правой. Видимо, с точки зрения физиологии такое вращение создает отуманивающее мозг, пьянящее человека чувство и потом состояние экстаза. Старший группы ритмичным, упругим шагом ходит между танцовщиками. Внезапная остановка. Танцовщики замирают на краю арены — по два, группами, в одиночку, скрестив руки на груди.
Человек шесть — возможно, из-за усталости, возможно, следуя знаку старшего дервиша, — остаются на месте, надев черные плащи.
Другие, повторив ритуал благословения у шейха, вновь начинают вертеться. Ритм ускоряется, проходит десять, пятнадцать, двадцать минут. В танец вступает сам шейх — старик лет восьмидесяти, тоже слегка вращаясь, впрочем очень медленно. А старший все ходит между танцующими, глядя на их ноги.
Оркестр замер, замолк. Лишь одна флейта ведет свое сверлящее соло. Повинуясь ей, в экстазе вращаются дервиши. Музыка разом обрывается, словно лопается струна. Дервиши расходятся по краям арены, занимая места для молитвы, затем один за другим покидают зал.
За кулисами музыканты и танцовщики переодеваются в обычные европейские костюмы и расходятся по домам с выражением обыденной человеческой заботы на лицах.
В вестибюле бойко торгуют сувенирами, куклами, медными фигурками Руми и «вертящегося дервиша», поковками, золотыми и серебряными украшениями.
Недалеко от спортивного зала-памятник Ататюрку. Основатель республики стоит с обычным своим суровым выражением генерала и лидера, повернувшись спиной к городу. Хотя Конья и дала несколько героев национально-освободительной борьбы, она в целом была враждебна Мустафе Кемалю и его реформам. Президент сам настоял, чтобы его статуя была воздвигнута спиной к городскому центру. И сейчас Конья остается очагом религиозного и политического консерватизма. Мечетей здесь по одной на каждые пять взрослых душ, что не мешает ни торговле полупорнографическими журналами, ни демонстрации фильмов с эротическими сценами. Город стал опорой клерикальной партии национального благоденствия, громко заявившей о себе в шестидесятые и семидесятые годы и запрещенной после сентябрьского военного переворота 1980 года.
В прокуренных салонах интеллигенты в Анкаре и Стамбуле спорят о новых моделях общественного устройства, об авангардистском театре и «общем рынке», о социалистических идеалах. В провинции больше рассуждают о чистой питьевой воде, школе для детей, топливе на холодную зиму, не говоря уже об извечной проблеме земли, и слушают баллады певцов-ашиков под аккомпанемент саза. Для многих в Турции еще живы образы героев старинных тюркских легенд Кёроглу или Кара-Мурата, и их не стер коммерческий кинематограф с его культом секса и мордобоя.
Призыв муэдзина остается главным звуком родины для турка, даже если он не переступает порога мечети. Почти все, за исключением интеллектуалов-атеистов, признают символ веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха». Большинство не считают нужным молиться пять раз в день, как предписывают канонические правила. Но многие молятся по пятницам или во время поста рамадана. Абсолютное большинство постится. Запрет на алкоголь часто не соблюдается, но сама мысль о свинине даже у людей нерелигиозных вызывает отвращение.
Религия всегда крепко держалась в деревнях и городах. Ее судьба оказалась двойственной в период глубокой социальной ломки, которую переживает Турция. Распространение просвещения, средств массовых коммуникаций, расширение кругозора людей, их переселение в города, казалось бы, сужают сферу религиозного воздействия на умы. Религиозные догмы все еще незыблемы, но их определяющее воздействие на поведение людей размывается новыми формами деятельности, новым пониманием причинно-следственных связей в окружающем мире, неизвестными раньше культурными потребностями. Однако выбитые из прежней жизни пасынки капиталистической модернизации очень часто обращаются к привычным для них социальным ценностям, верованиям, идеалам, нормам поведения, короче говоря — к исламу. Религия в широком смысле слова становится как бы якорем спасения, спокойствия и надежности в бурном и чуждом для них мире. Ее воздействие усиливается, захватывая и значительную часть образованной молодежи.
Последние годы среди некоторых турецких интеллигентов стало модным демонстрировать религиозность. Одни таким образом «самоутверждались», большинство — просто следовали веяниям, идущим от начальства.
Все меньше остается в Турции красочных народных празднеств и развлечений, национальных видов спорта. Бывают годы, когда не проводятся даже знаменитые соревнования по «масленой борьбе». В ней обнаженные по пояс соперники, одетые в кожаные штаны, натираются с ног до головы оливковым маслом. Борьба требует особой ловкости и силы кистей, чтобы не дать противнику выскользнуть из могучих объятий. Из всех видов спорта футбол — самый популярный. В футбольных тотализаторах участвуют миллионы, а соревнования первой группы вызывают бурные эмоции, нередко переходящие в кровавые столкновения.
Из традиционных зрелищ лишь верблюжьи бои по-прежнему собирают толпы.
Ясный октябрьский день в Юго-Западной Турции. Урожай убран, в садах сняты плоды, но листья еще не опали, а лишь слегка пожухли. Светит ласковое солнце, как под Москвой во время бабьего лета. Краски полей и рощ ржавые, бронзовые, желтые.
Много крестьян собралось в ожидании боя верблюдов на большой поляне и на пологом склоне холма с несколькими деревьями. Сидя на земле, они весело переговариваются и жуют золотистые огурцы с хлебом. Некоторые достают из корзинки бутылку ракы, по таких мало.
Большие верблюды, украшенные красными лентами и бляхами, лежат в стороне и издают рев, как будто жизнь им кажется невыносимой. Не каждый верблюд годится для боя. Самца бактриана, двугорбого верблюда, скрещивают с самкой одногорбого — дромадера. Если их отпрыск — двугорбый самец, то годам к двенадцати из него могут подготовить бойца.
Заиграли флейты и струнные инструменты. Верблюды забеспокоились. Музыка возбуждала и злила их.
Двух верблюдов вывели на поле. Они нетерпеливо переминались, готовые броситься друг на друга. Но погонщики спустили их только тогда, когда между соперниками провели молодую самку и возбудили их до бешенства. Два самца, каждый весом по тонне, столкнулись в жестокой схватке. Животные опустили шеи, пытаясь достать головой грудь соперника. Верблюд, которому это удается, может опрокинуть другого. Бойцы лягались, бились шеями, кусались, кружились, поднимали пыль. Они издавали страшный рев. Толпа повскакала с мест и криками подбадривала их.
Борьба продолжалась минут двадцать. Верблюды упали передними ногами на колени, и вдруг один из них, по кличке Волосатый, повалил противника и придавил его шею своей тушей. Более слабый соперник стал мелко дрожать и издавать жалобные стенания. Через некоторое время Волосатый отпустил его, и тот убежал с поля. Это был, так сказать, «нокаут». Победитель начал трубно реветь, расставив ноги и подняв хвост. Ноздри его раздувались. Хозяин с трудом его успокоил и получил от судей приз — ковер и деньги.
Иногда верблюд в схватке ломает ногу, и тогда его спортивная карьера кончается. Его могут пристрелить, так как по своему задиристому нраву он не годится для каравана, даже если выздоравливает. Бывает, что более сильный соперник начинает душить слабого, хозяева тогда оттаскивают победителя. Это считается выигрышем «по очкам». В стадах при драках обычных верблюдов смертельных случаев почти не бывает. Природа бережет про запас слабого самца, даже подарив самку более сильному.
Верблюдов в Турции разводят кочевники-юрюки, потомки тех завоевателей из Средней Азии, которые проникали в Анатолию с XI века и не смешивались с местным населением. Они живут в основном в горах, сохраняют некоторые шаманистские обычаи и архаичные тюркские слова. Из их диалекта лингвисты черпали корни для турецких неологизмов. Некоторые авторы называют юрюков несчастными, но эти кочевники гордятся своей свободой и независимым характером.
Караваны юрюков соблюдают строгие правила передвижения. Сначала идет осел, на котором сидит мальчик или девочка. За ним овцы, но чаще черные длинношерстные козы. По обе стороны каравана бегут подростки, вооруженные палками, и большие сторожевые собаки. На них надеты ошейники с шипами наружу. Центральная часть каравана — верблюды, связанные голова с хвостом и нагруженные всем имуществом. Мужчины, женщины и дети идут пешком. Сзади трусят ослы со стариками или больными. Младенцы привязаны к спинам матерей.
Юрюки вырубают леса на горных склонах и продают их на плато или в долинах.
Сейчас в Турции пытаются сохранить леса. Деревья сажают и стараются беречь. Высказывание Мустафы Кемаля «Страна не может жить без лесов» вывешивают и в парках, и на скалах. Для человека, прибывающего в Турцию через анкарский аэропорт, это покажется странным, так как кругом расстилается безлесная степь. Однако известно, что в начале XV века в битве под Анкарой, недалеко от нынешнего аэродрома, Тимур прятал в лесах своих слонов и с их помощью разгромил Баязида Молниеносного. Сейчас там негде укрыть табун лошадей.
Анатолийские леса сведены человеком и козами. В Турции более двадцати миллионов коз, почти половина мирового поголовья. Лучшие породы дают мохер, но остальные — национальное бедствие. Они сбивают травяной покров на пастбищах, объедают кустарники и деревья. Никто не пытается ограничить их разведение. Крестьянину нужна коза как источник молока, мяса и шерсти, а политикам нужны голоса крестьян.
Уничтожение лесов сочетается с эрозией почвы. Некоторые области превращаются в пустыню, как Северная Африка в римские времена. Во многих деревнях жгут кизяки, а с ними — прекрасное удобрение.
Турецкие деревни зарастают отбросами, ржавыми банками. Но как можно бороться с загрязнением природной среды, если многие крестьяне живут без туалета даже вне дома, чистой питьевой воды и электричества? Использование химикалий, особенно при выращивании хлопка, табака и чая, приводит к отравлению земли и вод.
Несколько отвлекаясь от повествования, скажу, что экологическое равновесие больше всего нарушено в стамбульском промышленном районе. Знаменитый Золотой Рог превратился в самый загрязненный водоем Турции. Промышленники и сам город сбрасывают сюда сточные воды, не прошедшие даже примитивной очистки. Две речки, впадающие в него, несут много земли из районов, где идет сильная эрозия почвы. Золотой Рог мелеет. В заливе стоит много гниющих судов, превращенных в склады или торговые лавки. Течение ослабевает, и естественного очищения от грязи и ила не происходит.
Бурное развитие промышленности в городе Измите на берегу Мраморного моря при отказе от строительства очистных сооружений дорого обошлось для Измитского залива. Он стал, как и Золотой Рог, мертвым водоемом.
Правда, есть законы, которые запрещают сбрасывать грязные сточные воды в море и внутренние водоемы без их предварительной нейтрализации и очистки, требуют собирать в определенных местах и уничтожать твердые и промышленные отходы. Однако законы игнорируются.
Крестьяне, возвращаясь домой с верблюжьих боев, может быть, размышляют над этими проблемами. Сведение лесов и эрозия почвы затрагивают и их. Но что можно поделать, раз такова воля Аллаха? Поэтому скорее всего мысли крестьян заняты другими вещами, более близкими, непосредственно затрагивающими их сегодняшний и завтрашний день.
За последние два десятилетия аграрный вопрос в Турции превратился из, так сказать, «статичного» в «динамичный». Началось сравнительно быстрое, но неравномерное и болезненное развитие капитализма в сельском хозяйстве. Восточная Анатолия еще не избавилась от полуфеодального землевладения, а помещики Чукуровы — Киликийской низменности и Эгейского побережья — превратились в крупных фермеров, вооруженных сельскохозяйственными машинами. На турецких полях тракторы вытесняют упряжку быков и лошадей. Механизация сельского хозяйства лишает куска хлеба сотни тысяч испольщиков и издольщиков, малоземельных и безземельных крестьян.
В турецкой деревне не хватает агрономов, трактористов, механиков, слесарей. Но она все меньше нуждается в неквалифицированной или, говоря другими словами, «по-традиционному квалифицированной», рабочей силе. Рост населения дробит земельные наделы, а мелкие участки скупаются состоятельными фермерами. На дорогах Анатолии появляется все больше крестьянских парней, которые идут искать работу своим крепким рукам, ставшим ненужными в родной деревне.
Города, особенно крупные, притягивают вчерашних крестьян и более широкими возможностями найма, несмотря на безработицу, и более высокой заработной платой, и лучшими условиями жизни. Сейчас в города переселяется более полумиллиона человек в год. Если в 1950 году в городах жила пятая часть жителей — менее четырех миллионов человек, то сейчас более половины пятидесятимиллионного населения Турции.
Турецкий город противоречив. В нем есть современные учреждения, заводы, учебные заведения, центры культуры, науки, здравоохранения, в нем и удушающий бюрократический аппарат, и исламские школы, и мечети, и порнографические фильмы. Но трудно переоценить роль города как двигателя прогресса и носителя новых общественных требований. Переселение в города выбивает людей из затхлого, закоснелого мира и постепенно приобщает к более современному укладу жизни. Повышаются их общеобразовательный уровень, профессиональные навыки, социальный статус, сознательность, появляются новые культурные привычки, потребности, новая форма поведения. Большая часть жителей геджеконду высказывается за лучшее образование для своих детей, даже девочек. В города переселяются, как правило, молодые люди, и они быстрее приспосабливаются к незнакомым условиям, чем пожилые.
В Турции нет голода и такой нищеты, как, например, в Калькутте, Дакке или Каире. Даже у безработных есть одежда, обувь, кое-какое питание, крыша над головой. Но социальное недовольство и взрывы порождает нищета относительная, неудовлетворенность своим положением, разрыв между чаяниями, надеждами и возможностью их осуществления. В геджеконду, несмотря на консерватизм их обитателей, созревают всякого рода экстремистские настроения. Амплитуда их колебаний — от крайне левых до крайне правых. Доведенные до отчаяния люди способны пойти на самые дерзкие действия, лишь бы привлечь к себе внимание и бросить вызов отвергнувшему их обществу. Но они могут терпеть покорно, фаталистически, год за годом.
ГОРОД В ЕВРОПЕ И АЗИИ
Три турка помогли мне узнать Стамбул.
Один из них — Четин Алтай, публицист и писатель. Его имя прогремело в Турции в шестидесятые — семидесятые годы. Его острое, разящее перо вскрывало скандальные злоупотребления властью и деньгами. Он беспощадно высмеивал абсурды бюрократии, обличал несправедливость, пропагандировал идеалы социализма. Против писателя было возбуждено триста судебных дел, и в общей сложности его приговорили к двумстам шестидесяти годам заключения. После военного переворота 12 марта 1971 года его бросили в тюрьму, он тяжело заболел и стал слепнуть. Широкая кампания в защиту писателя заставила президента подписать декрет о его освобождении.
Четин Алтай разоблачил фальшивку, приписываемую Ататюрку. В одной рукописи основателя Турецкой Республики якобы нашли слова «коммунизм — враг турецкой нации» и выбили их на некоторых памятниках. Четин Алтай раздобыл «рукопись» Ататюрка, отослал ее фотокопию в Шведский институт криминалистики и получил ответ, что это подделка.
Подобно Гиляровскому, который исследовал быт Москвы и москвичей, Четин Алтай обошел весь Стамбул, опускался на его дно, знал славу великого города и его позор. Писатель рассказал то, что он увидел и услышал, в книге «Вот он, Стамбул». Общение с Четином Алтаном и совместные прогулки позволили прикоснуться к тому, что обычно скрыто от глаз иностранца. Благодаря Алтану я как бы почувствовал себя стамбульцем и начал понимать, как сам турок воспринимает свой город.
— Что для меня Стамбул? — спрашивал он и отвечал — Улицы, по которым я бродил. Дома, в которых я жил. Тюрьмы, в которых я сидел. Мои товарищи. Площади, где проливалась кровь студентов и рабочих. Стамбульские вечера, что я проводил без куруша в кармане. Могилы дорогих мне людей на кладбищах. Стамбульские стены, которые спорят со временем.
— Стамбул можно рассматривать с тысяч течек зрения, — продолжал писатель. — Его шоферы и работники таможен, рабочие и парикмахеры. Трухлявые деревянные дома. Оргии в роскошных ресторанах. Конкурс на выбор «мисс ноги». Дом моделей одежды для дорогих собак. Чиновники и носильщики-хамалы… Если полоумный сойдет с ума и захочет сотворить город, он сможет сделать только Стамбул… Таков мой Стамбул… Многие коренные жители не знают своего города, за исключением ближайших районов. Но в нем все интересно — и история, и мистика старых кварталов, и древние памятники, и социальная структура — все ждет своих исследователей. Мирки и огромные миры Стамбула…
Вторым моим спутником был Орхан Кемаль, вернее, его книга «Стамбульские наброски», в которой рисунков больше, чем текста. Орхан Кемаль бродил по Стамбулу вдвоем с художником Феритом Онгереном. Они посещали рабочие кофейни и забегаловки, садились на паромы и морские трамваи, в долмуши — маршрутные такси и поезда, встречались с крестьянами, недавно переселившимися в Стамбул, и старыми жителями трущоб в центре города. Орхан Кемаль писал заметки, окрашенные юмором и любовью к людям. Ферит Онгерен рисовал.
Орхан Кемаль — большое имя в турецкой литературе. Он сидел в тюрьме вместе с Назымом Хикметом, писал прекрасные романы и пьесы, тяжело болел, знал вкус нищеты и был честным. Он умер в Болгарии. Его не признавала официальная Турция, но он любим ее народом. Его иногда называют «турецким Горьким».
Книга «Стамбульские наброски» вышла в свет в первую годовщину со дня смерти писателя и была посвящена его памяти. Когда листаешь ее, перед тобой оживает городской быт, без экзотики и глянца. Б ней, может быть, мало фактов, но я держал ее на столе, когда писал эти свои заметки, чтобы не утратить настроений, навеянных Стамбулом.
Третий турок, раскрывший мне Стамбул, умер триста лет назад. Его звали Эвлия Челеби — яркая звезда среди турецких классиков. Он родился в 1611 году в Стамбуле в семье придворного ювелира недалеко от того места, где сейчас Галатский мост. Челеби прожил богатую жизнь. Он был солдатом, моряком, дипломатом, историкам, чтецом Корана, ювелиром, поэтом, певцом, музыкантом, но прежде всего путешественником. Он побывал во всех концах Османской империи, в Западной и Северной Европе, вернувшись домой через Польшу и Крым. Он утверждал, что путешествовал более сорока лет, участвовал в двадцати двух сражениях, был в странах, где правили восемнадцать монархов, слышал сто сорок семь языков. Последнее десятилетие своей жизни Эвлия Челеби провел во фракийском городе Эдирне (Адрианополе), видимо заканчивая «Книгу путешествий», и покинул этот свет в возрасте семидесяти лет. Его сочинение со старотурецкого языка переведено на новотурецкий и составило пятнадцать томов. Чтение их увлекательно. Это драгоценный источник знаний по Османской империи XVII века и лучшее описание Стамбула тех времен. Путешественник был сыном своего времени, преданным слугой султана, и «Книга путешествий» полна проклятий в адрес «неверных» и славословий «воителям за веру».
Эвлия Челеби живописует османскую столицу в последние годы ее золотого века. Он знал улицы и закоулки Стамбула, городской быт. Путешественник был наперсником султанов и могущественных пашей, другом поэтов и нищих, товарищем солдат и ремесленников. Его одинаково привечали в тронных залах и тавернах. Его острый глаз искал оригинальное зрелище или любопытный характер, приятное место для прогулок или красивый пейзаж. Его чуткое ухо прислушивалось к крику прохожих на улице, к мелодии дервишской песни, к напеву подгулявшего матроса. Он был гурманом и знал, как готовят самую вкусную пищу. Его острое обоняние улавливало земные запахи стамбульской торговли.
Он стал ходячей энциклопедией уличной жизни и истории любимого города.
Сколько воды утекло за три века… Но когда мы сравниваем современный Стамбул с городом, описанным Эвлией Челеби, то находим немало похожего. Хотя евнухи и янычары канули в небытие, виды, звуки, запахи на улицах Стамбула часто напоминают те, что запечатлел Эвлия Челеби. Правда, восприятие смазывает зрелище несущихся автомашин, визжание тормозов и вонь выхлопных газов. Некоторые свои собственные наблюдения я сверял с повествованием Эвлии Челеби, пытаясь проложить мост через сотни лет, которые нас отделяют.
Много других людей, давно ушедших и живых, — рурских, турок, американцев, французов, немцев — были моими проводниками по той необъятности, которая называется Стамбулом.
Одно лишь географическое положение не определяет появление великих городов. Греческий городишко Византий должен был ждать много столетий, пока не сложились подходящие исторические условия и выбор одного человека не превратил его почти мгновенно в блестящую столицу.
Византий — Константинополь — Стамбул лежит на пересечении сухопутной дороги с запада на восток и морской — с севера на юг, из Черного моря в Средиземное. Европа и Азия разделены естественным извилистым каналом Босфора. На европейском берегу край Фракийского плато разбит заливом Золотой Рог и двумя речками, впадающими в него. Золотой Рог соединяется с Босфором в его южном окончании, образуя большую естественную гавань в холмистых берегах. Византий — Константинополь — Стамбул с трех сторон окружен водой, и его легко было защищать.
Византий основан, согласно легенде, в середине VII века до нашей эры. Сначала он был небольшим торговым поселением. Тогда, как и теперь, в Босфоре ловили рыбу, на Фракийском плато выращивали хлеб, а в деревнях, прятавшихся в долинах, — фрукты и овощи.
Со временем Босфор начал разделять два процветающих сельскохозяйственных района, включенных на рубеже новой эры в Римскую империю. Через него шел путь на Балканы и дальше, в Центральную и Западную Европу, по которому римские легионы перебрасывались из одной провинции империи в другую. Малая Азия стала главной житницей античного мира. Значение Византия росло, и наконец в 330 году он был сделай императором Константином столицей Римской империи и наречен Новым Римом, а через некоторое время — Константинополем. После гибели Рима под натиском варваров Константинополь еще тысячу лет оставался центром Византийской империи, пока она не уменьшилась до размеров самого города.
Столица Византии еще была великим городом до захвата его крестоносцами в 1204 году. Но при осаде и штурме он пострадал от трех больших пожаров. Последний из них уничтожил район Константинополя, равный трем самым большим городам Франции, включая Париж. Крестоносцы-латиняне разграбили все, что могли, Полвека их власти принесли больше ущерба византийским памятникам, чем полтысячелетия османского равнодушия. Предметы, священные в глазах христиан, были вывезены в европейские церкви. Бронзовые монументы или перелили в монеты, или переправили в Западную Европу. Летописцы того времени рассказывают печальную и горькую историю непрерывного грабежа. Обветшавшие дворцы не восстанавливались. Когда в 1261 году войско императора Никеи (Изника) Михаила VIII Палеолога вновь взяло город, правитель даже не мог найти для себя подходящей резиденции. Краткое возрождение Византии и Константинополя было омрачено предчувствием гибели. Итальянцы контролировали экономическую жизнь уменьшавшейся империи. Гражданские войны и эпидемии чумы завершали разрушение, За несколько лет до турецкого завоевания город представлял собой жалкую тень прежнего богатства и величия. Некогда блестящий ипподром лежал в руинах. Открытые водохранилища, размер которых позволяет сейчас устраивать в них футбольные поля, были превращены в сады и огороды. Двери святой Софии упали с петель.
Последний император Византии был убит, сражаясь на стенах города, и 29 мая 1453 года турки взяли Константинополь. Мехмет II Завоеватель въехал на лошади в Айя-Софию по трупам павших. Один из богословов, взобравшихся на алтарь, провозгласил: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха!».
Храм святой Софин превратился в мечеть, Константинополь, переименованный в Истанбул (Стамбул), стал столицей Османской империи. Герб Константинополя — полумесяц перекочевал на знамена турок и крыши мечетей в качестве символа Османской империи и ислама.
Истанбул — тюркизированная форма греческого названия Константинополя, в просторечии — «Истимполи», что означает «К городу». Оно встречается у многих персидских и арабских средневековых авторов.
За XVI и XVII века население Стамбула быстро росло, он стал крупнейшим городом Европы, украсился сотнями мечетей, медресе, дворцов, бань, фонтанов. Обветшалые византийские стены были обновлены. Его население приближалось к миллиону в те времена, когда Лондон и Париж не насчитывали и двухсот тысяч. Строительство и расширение Стамбула продолжались в период долгого и мучительного упадка империи в XVIII–XIX веках.
Мехмет II Завоеватель после взятия Константинополя вернулся в Эдирне и лишь спустя несколько лег поселился во дворце, который для него воздвигли на площади Баязида — там, где сейчас университет. В начале XVIII столетия этот дворец сгорел дотла. Мехмет II начал строительство другого дворца на месте древнего Акрополя, расположенного на мысу, который отделяет Мраморное море от Босфора и Золотого Рога. Его называют Старым сералем или Топкапы. Это скорее дворцовый комплекс. Различные его части сгорали, разрушались землетрясениями или реконструировались, появились павильоны, окруженные садом. Примерно четыреста лет османские падишахи жили в Старом серале. После уничтожения янычар в XIX веке султан Махмуд решил обосноваться на Босфоре, к северу от Золотого Рога, где позднее был построен дворец Долмабахче в стиле рококо.
Со второй половины прошлого века лишь жены свергнутых султанов, их рабы и евнухи оставались в Топкапы. В 1924 году он стал музеем, полным султанских сокровищ, османских миниатюр, великолепного китайского фарфора. Здесь хранится плащ, который якобы принадлежал пророку Мухаммеду, его меч и волос из его бороды. Дворец Топкапы окружен остатками крепостных стен. Крутые склоны холма, на котором он стоит, поросли кипарисами. Внизу, у линии железной дороги, прилепились лоскутки огородов.
После первой мировой войны в Стамбуле осталось меньше миллиона жителей. Столица была перенесена в Анкару, и Стамбул, как опальный аристократ, казалось, жил воспоминаниями прежнего, пусть лихорадочного блеска. Крупные торговцы стали покидать бывшую имперскую столицу. Но у города со столь великолепным географическим положением осталось достаточно жизненной энергии и возможностей, чтобы возродиться.
В Большом Стамбуле сейчас около семи миллионов жителей. Если его быстрый рост не прекратится, к концу века он сольется с Измитом на востоке и Эдирне на западе, охватив район с населением двадцать — двадцать пять миллионов человек.
На Стамбул приходится седьмая часть населения Турции, но две пятых промышленности, такая же часть общего объема налогов, поступающих в казну, почти половина валового национального продукта, треть всех студентов. «Стамбул — центр туризма, торговли, науки, культуры и образования, — писала газета, Миллиет». — Но в Стамбуле самые большие и самые жестокие трущобы — геджеконду. Редко в истории город был до такой степени грязным, запущенным, безнадзорным».
Никто толком не знает, где начинается и кончается город. Муниципальные карты полны белых пятен. В рамках Большого Стамбула сейчас около тридцати городков.
Стамбул умеет быть одновременно древним и новейшим, но никогда не бывает современным. Он растет беспорядочно. Нарушены все и всякие планы, схемы, архитектурные и градостроительные расчеты. Муниципалитет, погрязший в долгах, задыхаясь, «пытается нагнать» этот бурно растущий город, но он ускользает, как призрак. Каменные лома растут на берегах Босфора и Мраморного моря. По шоссе Стамбул — Анкара до Измита сто километров едешь через жильте массивы и сменяющие друг друга предприятия.
Газеты могут сетовать на то, что новые заводы и кварталы калечат бесподобный пейзаж и отравляют воды. Но для предпринимателей прекрасно все, что приносит прибыль. Верные себе, они разрушают сам Стамбул, лишая его прежнего очарования. В этом смысле они не единственны и не оригинальны. Современному молоху-автомобилю приносятся в жертву и город и его обитатели.
Лишь нехватка средств не позволяла раньше строить небоскребы, хотя именно к этому располагали старые кварталы города. Стамбульские дома — несколько метров по фасаду, два десятка метров вглубь, остальное — ввысь. Места осталось столько же. количество людей умножилось, земля подорожала. Город полез вверх, этаж на этаж. Наконец, выкроив себе немного места под фундамент, поднялись первые небольшие небоскребы. Еще уже стали тоннели улиц.
Новые кварталы превращаются в собрание безликих коробок. Частично этому есть и оправдание и объяснение. Меняются нравы. Современная психология требует ясности, чистоты, гигиеничности… если у вас есть деньги за все платить.
Попав через несколько лет в Грецию, я убедился, что архитектура современных домов Греции и Турции удивительно похожа. Это диктуется климатическими условиями. Но если здания облегченного типа с одними рамами и с широкими балконами хороши для южного побережья, то для внутренних районов, где морозы доходят зимой до минус 20 градусов, старьте турецкие дома все же удобнее. Качество жилья вызывает тревогу.
Стамбул давно страдает от нехватки питьевой вольт. Из кабинета мэра в современном здании муниципалитета можно видеть остатки акведука, построенного в IV веке, чтобы доставить в город воду из Белградского леса. По словам мэра, дефицит воды пытаются покрыть созданием новых водохранилищ.
— Мы заканчиваем разработку проекта, который удовлетворит потребности Стамбула до двухтысячного года. Однако есть и другие жгучие проблемы…
Как во многих европейских и азиатских городах, стамбульский телефон — это орудие пытки. Даже стойких и спокойных людей он иногда доводит до бешенства. Дозвониться до нужного абонента с первого раза — все равно что выиграть первый приз в тотализатор на скачках.
Когда Ливан в 1975 году был охвачен гражданской войной и международные банки и корпорации начали покидать Бейрут, они стали искать подходящее место для своих штаб-квартир. Практически ни одна из четырехсот банковских компаний и отделений корпораций не перебралась из Бейрута в Стамбул. Один из ведущих промышленников Турции исследовал причины их негативного отношения к Стамбулу и изложил свои наблюдения в докладной записке тогдашнему премьер-министру Сулейману Демирелю и лидеру оппозиции Бюленту Эджевиту. «Стамбул недоразвит как город и сверхбюрократизирован как политическая и экономическая единица», — писал он, перечислив шестьдесят недостатков города, начиная от невозможности установить новый телефон и кончая невыносимой бюрократизацией и отсутствием традиций европейского кредита.
— А канализация? — продолжает мэр. — Раньше канализационные отходы сбрасывались непосредственно в реки или в море. Значительная часть города пользовалась выгребными ямами. Канализационные трубы сейчас выведены на дно Босфора, на то течение, которое направляется из Мраморного моря в Черное, загрязнение окружающей среды достигло опасного для здоровья людей уровня.
Наконец, город душит транспортная проблема, как кошмар.
Улочки, выложенные брусчаткой, горбатые, изогнутые, узкие, полные играющей детворы, придают колорит этому неповторимому городу, но они не приспособлены для современной жизни. В них мало воздуха, света, зелени, элементарных удобств. Они создают почти непреодолимое препятствие для современного транспорта. На них попадаешь в какофонию клаксонов, визга тормозов, свистков полицейских, рева моторов, ругани и смеха. Только свойственный туркам фатализм позволяет пробиваться через толпу машин. В Стамбуле еще несколько лет назад встречались американские такси сороковых годов — крейсеры автострад, которые казались здесь слонами. Сейчас улицы запрудили небольшие «фиатики», «рено», «фордики», «фольксвагены» или коробочки-микроавтобусы. Изредка встречаешь извозчиков, которые гордо правят лошадьми, стоя в телеге. Лоточники, ни на кого не обращая внимания, не поворачивая голову, толкают трехколесные тележки со всякой всячиной. Трусят ослики, груженные мешками или корзинами с фруктами.
По числу дорожных происшествий на каждую тысячу машин Турция занимает одно из первых мест в мире. Движение транспорта хаотично, водители не признают дорожной дисциплины. Самые опасные из всех — шоферы маршрутных такси — долмушей, для которых ничего не стоит выехать с центра улицы вправо, и пусть у всех остальных сгорают покрышки от резкого торможения. Для долмушей введены остановки, как для автобусов, но разве удержишься от того, чтобы не подхватить пассажира? Однако все относительно в этом мире. Один из старых арабистов, который провел несколько лет в Каире, воскликнул, попав в Стамбул: «Какой здесь упорядоченный транспорт! Прожив несколько лет в Каире, я могу — повторить его восклицание.
От коммерческого центра Стамбула Бейоглу к Золотому Рогу машины идут бампер к бамперу, и идти пешком по Галатскому мосту через Золотой Рог в район Египетского базара быстрее, чем преодолевать это расстояние на машине. Через Золотой Рог кроме Галатского построено еще два моста, но они лишь временно облегчили положение. На оживленных перекрестках появляются лепестки дорожных развязок. Вводится компьютерная система регулировки транспортного потока. Все это полумеры. Без метро не обойтись, но на него пока нет денег.
Город на четырнадцати холмах и в двух частях света разделен на три неравные части Золотым Рогом и Босфором. Из Черного моря в Мраморное и обратно движется по тридцать-пятьдесят океанских судов в день, из них больше двух третей — под советским флагом. С западного берега на восточный и обратно ходят десятки паромов, судов и суденышек. Великолепный мост через Босфор оттянул часть потока грузовых и легковых машин от паромов. Но он уже на пределе пропускной способности — сто тысяч грузовых и легковых автосредств в день. Кроме того, он все-таки далековат от главных центров городской жизни, и число людей, ежедневно переправляющихся из одной части света в другую плавучими средствами, увеличивается. Стамбульцы ждут не дождутся открытия второго моста через Босфор.
Двадцать семь веков истории, на которые наложились три десятилетия бесшабашной урбанизации, смешали в архитектуре и облике города эпохи и стили. Аркады медресе соседствуют с перевернутыми чашами византийских церквей, изломанная готика католических соборов — с функциональными гостиницами, в зеркальных витринах современных зданий отражаются акведуки римских времен. Но главное, что определяет силуэт Стамбула, — графика его мечетей и минаретов на фоне неба.
Когда солнце поднимается из-за холмов Анатолии, первые его отблески падают на заостренные вершины минаретов один за другим или же, если они одинаковые по высоте, на несколько сразу. Розовая краска будто разливается по крышам Стамбула. И вот уже лучи солнца освещают длинный фасад Топкапы, а черные кипарисы приобретают цвет позеленевшей бронзы. Весь город охвачен светом сероватых пастельных полутонов, смутных в легком, дрожащем тумане. Когда же приходит ясный, погожий день, город на холмах глядится в искрящееся синее море.
Лучшая панорама собственно Стамбула, который лежит на месте Византия — Константинополя, открывается с Галатской башни на северной стороне Золотого Рога. Ты видишь одно из редчайших собраний монументов, непрерывную линию куполов и минаретов — от Айя-Софии до высот Эюба. Городской пейзаж незабываем. Многие путешественники, которые видели и Неаполь, и Рио-де-Жанейро, и Гонконг, считают, что более великолепного зрелища нет.
Стамбул сохраняет свое колдовство и ночью. «Я вышел на левый борт и загляделся на приближающийся Стамбул, на редкие ночные огни его, матово блестевшие за белесым тонким паром, на его призрак, фантастический и величавый, таинственно бледный на синеве лунной ночи… — писал Иван Бунин. — Но все в отдалении — и холмистые побережья, и Золотой Рог, медленно раскрывающийся перед нами, и бледные призраки Скутари, Стамбула, Галаты — все подернуто матово-белесой чадрой, нежной, прозрачной, как драгоценные брусские газы. И за этой чадрой, как несметные глаза, таинственные и прекрасные, матово и недвижно блещут несметные, далекие и близкие огни: золотые, мелкие, густо насыпанные среди тенистых садов — на скутарийском берегу, роями усеявшие сверху донизу гору Галаты, изумрудные и рубиновые, крупные — на мачтах в Золотом Роге, на буях, сторожевых лодках, длинно отражающиеся в стеклянной воде; редкие и сонные в Стамбуле, спящем с открытыми блестящими глазами на холмах против луны… Я различал деревянные дома его предместий, легкие высокие минареты вокруг чашеобразных куполов белой Ахмедпе, древний дорогой мне купол Софии, сады Сераля и серую стену дворца Константина. И я опять обонял этот особый, сладкий и сухой аромат берегов Турции… Уже прошла гора Галаты, сплошь залитая каменным городом, подернутая прозрачно-белым покрывалом. Сзади остались два сонных сквозных изумруда, один над другим повисающих над водой, — там, где торчит из воды белая башенка Леандра».
Памятники старины, османской и византийской, музеи, мечети и дворцы — пиршество для любителя искусств и истории. Но, любуясь с путеводителем в руках на Голубую мечеть или мозаику дворца Константина, трудно догадаться, что скрывается за театральными кулисами. Сам город при близком знакомстве может разочаровать. Путешественники, оставлявшие записки о Стамбуле с конца XVI века до наших дней, в один голос говорили, что насколько он хорош снаружи, настолько же отталкивает изнутри. Однако закоулки и малоприметные кварталы, базары, мастерские и кладбища могут дать больше для понимания Турции и турок, Стамбула и стамбульцев, чем все монументы. Чтобы почувствовать душу города, его боли и радости, нужно смело углубляться в его лабиринты, знакомиться с их жителями. Да и народные кварталы, особенно старые, — это непрерывная импровизация контрастов, в которых есть что-то неповторимо турецкое.
В Стамбуле нет признанного городского центра. Таковым многие считают плавучий Галатский мост, что соединяет берега Золотого Рога у его впадения в Босфор. Отсюда открывается вид собственно Стамбула на юге, холмы Эюба в грязной дымке — на западе, Бейоглу (бывшая Галата и Пера) — на севере, а на востоке, за Босфором, — азиатские берега города.
Орды автобусов, грузовиков, долмушей и легковых автомашин на Галатском мосту растягивают на весь день час пик. Он служит также пристанью для морских трамваев и паромов, которые швартуются со стороны Босфора и Мраморного моря, мелких лодок и пыхтящих речных катеров-ветеранов — со стороны Золотого Рога. Волны людского моря сталкиваются и образуют водовороты на Галатском мосту, чтобы с боем взять паромы или с боем их покинуть. Когда суда отходят, люди еще прыгают через расширяющуюся полоску воды. Добавьте к этому морской порт в нескольких сотнях метров к северу от моста, железнодорожный и автобусный вокзалы Сиркеджи в полукилометре к востоку от него, оптовый рынок овощей и фруктов на южной стороне Золотого Рога вверх по течению — и вы поймете, что самая главная и самая мучительная развязка города лежит здесь.
Когда-то толпа на Галатском мосту была гораздо живописнее, чем сейчас. Среди горожан-турок можно было встретить крестьян из Фракии или Анатолии с роскошными усами, их жен в цветастых шароварах, закутанных в платки, с ладонями, выкрашенными хной. Иногда приходили кочевники-юрюки с узким разрезом глаз, похожие на конников Чингисхана, или их женщины в традиционных одеждах, браслетах и ожерельях из золотых монет, татуированные йезиды — почитатели дьявола и бедуины с орлиным носом и гордой осанкой — с сирийской границы. Шагали курды огромного роста, перепоясанные кушаками, светловолосые черкесы из Трабзона, какой-нибудь торговец из Карса с горящими глазами персидского поэта. Вы могли столкнуться со стариками из Мардина или Диярбакыра, которые показались бы хеттскими жрецами или ассирийскими астрологами с древних барельефов. Все они — турки.
Об этом говорили их паспорта, так считали они сами. Все эти люди впитали в себя кровь многих народов. В толпе выделялись и те, кто не стал турками, — печальные армянки, голубоглазые гречанки с эллинским профилем, евреи-сефарды с лицами с картин Эль-Греко, цыганки.
Городская жизнь и европеизация стерли разнообразие, разнохарактерность лиц и костюмов. И сейчас люди на Галатском мосту — в принципе та же толпа, что и в любой стране Южной Европы, — в современных одеждах, пусть недорогих, помятых и не всегда свежих. Летом впечатление обыденности толпы усиливается, потому что легкая одежда дешевле, а цвета синтетических рубашек и платьев столь же ярки, как и везде.
Стамбульцы шагают по Галатскому мосту с мрачноватым и решительным видом, может быть, потому, что они просто спешат, чтобы успеть на паромы, автобусы и электрички, а это уже противоречит натуре турка. Иногда Галатский мост захлестывают волны демонстрантов, и полиция разводит его, чтобы не дать соединиться толпам с разных сторон Золотого Рога.
Галатский мост — двухэтажный. Верхний его ярус кроме пешеходов и автомашин захватывают мелкие торговцы. Они вытаскивают зонтики, когда сгущаются облака, и темные очки, когда светит солнце, и в любую погоду — крючки и лески для любителей рыбной ловли. Но не удивляйтесь, если кто-нибудь предложит купальный костюм в разгар зимы или теплый свитер знойным летом.
Со второго яруса нетрудно спуститься на первый, где находятся ресторанчики, кофейные, чайные, буфеты, ларьки. Здесь подкрепляются, пьют ракы, чай или кофе, курят кальяны, наблюдая, как вечернее солнце покрывает киноварью грязную, маслянистую поверхность воды и золотит вершины холмов Стамбула.
На Галатском мосту, на соседних пристанях и рынках, на узких, горбатых улицах встречаешь людей, которых не увидишь в других странах, — носильщиков-хамалов. Они перетаскивают чудовищные грузы — корзинки с углем, в которых может спрятаться человек, по десятку ящиков овощей и фруктов, груды хлеба, шкафы, холодильники. Они идут, установив свой груз на спине с помощью специального приспособления, согнувшись под жестокой тяжестью и вперив в мостовую взор выпученных глаз.
Французская пословица гласит: «Силен, как турок». Но из турок самые крепкие — хамалы, особенно из Восточной Анатолии, и они соревнуются друг с другом, поощряемые нанимателями, перенося из бравады по 150 и 200 килограммов.
Анкарский муниципалитет в тридцатые годы запретил их профессию, так как «зрелище хамала, согнувшегося под огромной тяжестью, наносит ущерб человеческому достоинству». Но в Стамбуле могущественная корпорация хамалов воспротивилась: носильщики не хотели остаться без работы, да и многие улицы старого города настолько узки, что по ним не проедет никакая повозка. Постоянный приток безработных и нежелание предпринимателей тратиться на механизмы, когда есть дешевые хамалы, сохранили их профессию.
Корпорация хамалов — людей сильных и недисциплинированных, объединенных тяжелым, но в общем-то уважаемым делом, — была опорой некоторых подпольных организаций, и до сих пор ее побаиваются власти. Хамалы распределяются по складам, таможням, пристаням, кварталам, вокзалам. Переноска мебели из дома в дом — это их монополия. Они, конечно, бьют и ломают немало вещей. В Стамбуле бытует знакомая нам поговорка: «Два переезда равны одному пожару».
Раньше к хамалам относились и тулумбаджи — добровольные пожарные. Они проводили время, сидя в небольших кофейнях. Им разрешали торговать вразнос арбузами, дынями, виноградом. Едва слышался крик «Пожар!», как толпа тулумбаджи бросалась к месту происшествия. Они врывались в горящий дом и вытаскивали все, что можно вынести, а огонь поливали жалкой струйкой воды. С тех пор как появились специальные пожарные команды, вооруженные помпами и машинами, тулумбаджи исчезли. Однако традиции взаимопомощи в случае пожара сохранились, и соседи всегда бросаются помогать попавшим в беду.
Стамбул горел много раз. Сравнительно недавно город был деревянным. Из камня строились мечети, медресе, дворцы и бани, а жилые дома — из бревен. Частые пожары пожирали целые районы, тесно уставленные деревянными жилищами. И сейчас их немало. Они обветшали, высохли и сгорбились, как старые турчанки. Дома валятся друг на друга, подобно подгулявшим пенсионерам. Неосторожно брошенная спичка приводит к новым пожарам, и деревянное прошлое Стамбула покрывается пеплом забвения. Бревенчатые дома нестерпимо ветхи, по они густо населены…
Завершив дневной труд, хамалы тянутся в места, откуда доносится святой запах свежевыпеченного хлеба или дразнящие ароматы жареной рыбы, — в ресторанчики-локанты близ Новой мечети, у которой начинается Галатский мост. Мне говорили, что любимое блюдо хамалов — йогурт с чесноком и лепешка с луком. Когда я спросил одного из них, правда ли это, он усмехнулся: «Когда у тебя нет денег на хороший кусок мяса, полюбишь йогурт с лепешкой».
На Галатском мосту можно стоять часами, наблюдая нескончаемый парад жизни, шествие стамбульцев, обыденное, будничное, никем не организованное. Глядя на них, по контрасту вспомнишь сделанное Эвлией Челеби описание другого шествия, многокрасочного, неповторимого. Его устроили по повелению султана Мурада IV больше трех столетий назад. В 1638 году перед походом на Багдад он решил организовать процессию всех цехов, гильдий и сословий Стамбула. Они прошли в полном составе во главе со старейшинами и продемонстрировали, чем они занимаются, что производят или чем торгуют. Воистину это было зрелище, которого свет не видывал и, возможно, не увидит больше, хотя мы должны помнить, что поэтическое воображение Челеби частенько затмевает прозу факта. Султан наблюдал за шествием из специального павильона. Эвлия Челеби рассказывает, что процессия была разбита на пятьдесят семь секций и включала более тысячи цехов и гильдий, хотя он действительно описывает примерно семьсот профессиональных корпораций. Члены каждой из них шли в характерных костюмах или форме, пытаясь перещеголять друг друга.
«Все цехи и гильдии шествовали пешком или их тянули на платформах, где они располагались с инструментами своего ремесла и с большим шумом выполняли свою работу, — пишет Челеби. — Плотники готовили деревянные дома. Строители возводили стены. Дровосеки тащили деревья. Пильщики пилили их. Маляры готовили известь и мазали белой краской свое лицо… Игрушечники из Эюба показывали тысячи игрушек для детей. В их процессии вы могли видеть бородатых мужчин, одни были одеты как дети, другие — как няни… Бородатые дети плакали, требуя игрушек, или развлекались свистульками…
Греческие меховщики с площади Махмуд-паши образовали отдельную процессию. Они были одеты в меховые шапки, шкуры медведя и меховые штаны. Другие с головы до ног нарядились в шкуры львов, леопардов, волков и соболиные колпаки. Некоторые оделись в шкуры, как дикари, и вид их был ужасен. Каждого из дикарей, закованных в цепи, вели шесть или семь человек. Другие нарядились странными существами, у которых вместо рук были ноги и наоборот.
Пекари проходили, выпекая хлеб и кидая небольшие лепешки в толпу. Они приготовили огромные лепешки, размером с купол над баней, сдобрили их кунжутными зернами и сладким укропом. Эти лепешки тянули на повозках, запряженных буйволами. Ни одна печь не подходила для таких лепешек, и их пекли в специальных ямах, вырытых по этому случаю. Верх караваев покрывали углями, а с четырех сторон разводили медленный огонь… Эти гильдии проходили перед павильоном султана, демонстрируя тысячи фокусов и хитроумных изобретений, которые невозможно описать. За ними шли их шейхи со слугами, которые играли турецкие мелодии».
Разгорелись споры, кто за кем должен был следовать. Капитаны Средиземного моря, узнав, что мясникам было назначено место впереди них, обратились с петицией к султану, настаивая на своем первенстве. Султан решил спор в пользу капитанов, сказав: «Действительно, они снабжают столицу провизией, и их покровитель — Ной. Это — уважаемая гильдия людей, которые сражаются против «неверных» и знают многие науки».
Капитаны Средиземного моря организовали одну из самых живописных процессий дня. «Капитаны каравелл, галионов и других кораблей, дав тройной салют у дворцового мыса и высадив всех людей на берег, смогли вытянуть сотни маленьких судов и лодок на берег, выкрикивая: «Ая Мола!» Мальчики, одетые в золото, прислуживали хозяевам судов и разносили напитки. Музыканты играли со всех сторон. Мачты и весла были украшены жемчугом и драгоценностями. Паруса сделали из дорогой ткани и вышитого муслина.
А на верхушке каждой мачты сидела пара мальчиков, которые насвистывали мелодии Силистрии. Приблизившись к павильону, капитаны встретили несколько кораблей «неверных», завязали с ними битву в присутствии падишаха. Это было представление большой битвы, со стрельбой из пушек, дым которых закрывал небо. Наконец мусульмане стали победителями. Они забрались на корабли «неверных», захватили добычу — красивых франкских мальчиков — и увели их от бородатых гяуров, которых заковали в цепи. Они спустили флаги с крестами на судах «неверных» и потащили захваченные суда за кормой собственных кораблей».
Мясники попытались следовать за капитанами. Но на этот раз им помешала гильдия египетских купцов. Соперники собрались перед павильоном, и снова султан, видимо настроенный против мясников, решил дело против них. «…К великой радости египетских купцов, которые, прыгая от счастья, прошествовали вслед за капитанами Средиземного моря».
Наконец началась процессия мясников. Они прошли впереди работников скотобоен и еврейских торговцев мясом. Мясники почти все были янычарами. На платформах, которые тянулись по улицам, люди могли видеть их в лавках, украшенных цветами и полных тушами жирных овец. Мясники покрасили шафраном мясо и позолотили рога. Они рубили мясо большими ножами, взвешивали на весах желтого цвета и выкрикивали: «Возьмите одну окку за одну асперу! Это прекрасное блюдо!» Так они шествовали, вооруженные большими ножами и абордажными саблями.
Еще одна ссора случилась между жарильщиками рыбы и кондитерами. Кондитеры добились предпочтения. Они украсили свои лавки, установленные на носилках, разными сладостями, от вида которых текли слюнки у всех мальчишек города. Кондитеры обкуривали зевак ароматом амбры и показывали целые деревья, сделанные из сахара, со сладостями, висящими на них. Следом шел самый главный кондитер двора, а за ним другие кондитеры, играя на музыкальных инструментах.
Перед султанским павильоном проходили ремесленники, купцы, рабочие, улемы, медики, поэты, музыканты, чиновники религиозных, гражданских и военных учреждений. Эвлия Челеби описывает всех, не исключая тех, кто стоял внизу общества, — могильщиков. «Пятьсот могильщиков прошествовали с лопатами и мотыгами в руках, спрашивая у людей, где копать им могилы. Таким образом, это было предупреждение для многих. Могильщики считают своим покровителем Каина, сына Адама, который убил брата Авеля из-за девушки. Он похоронил Авеля на горе Арарат… С того дня Каин стал патроном тех, кто проливает кровь и копает могилы, а также всех ревнивцев».
Даже сумасшедших вывели в свите главного врача: «Три сотни хранителей и сторожей бедламов проходили в этой процессии. Они вели несколько сот умалишенных в золотых и серебряных цепях. Некоторые сторожа несли бутылки, из которых они поили лекарством сумасшедших, и били идиотов, чтобы сохранять порядок. Некоторые из сумасшедших шли обнаженными. Они вопили, хохотали, ругались и нападали на охранников, что заставляло зевак пускаться в бегство».
В процессии была представлена корпорация нищих, которая, согласно Эвлии Челеби, насчитывала семь тысяч человек во главе с шейхом: «Они прошли большой толпой странных фигур, одетых в шерстяные одежды и тюрбаны из пальмовых листьев, выкрикивая: «О милосердный!» Среди них были слепые, хромые, безрукие, безногие, некоторые голые или босые, некоторые верхом на ослах. Они поместили своего шейха в центре и восклицали: «Аллах!.. Аллах!.. Аминь!..» Крики из семи тысяч глоток поднимались в небо. У павильона они совершили молитву за здоровье падишаха и получили подаяние».
Наряду с купцами, торговцами, ремесленниками процессия включала менее почтенные корпорации, например гильдию воров и грабителей с больших дорог, «Их было много, — пишет Эвлия Челеби, — и они всегда охотятся за нашими кошельками. Пусть же они держатся подальше от нас. То же самое мы скажем о корпорации сводников и банкротов, число которых невероятно. Эти воры, выплачивая дань двум главным полицейским чинам, зарабатывают на жизнь, смешиваясь с толпой и обманывая иностранцев…
Далее шла толпа стамбульских артистов, музыкантов, шутов, которые выпили семьдесят чаш яда жизни и недостойного поведения. Они стекаются вместе и играют день и ночь. Они разделяются на двенадцать групп».
Последняя гильдия в процессии состояла из тех, кто содержал таверны. Эвлия Челеби утверждает, что в Стамбуле была одна тысяча «мест дурного поведения», принадлежавших грекам, армянам и евреям. Они не смели показывать повелителю правоверных, как производится вино: «Хозяева таверен были одеты в латы.
Мальчики, служащие таверн, все бесстыдные пьяницы и все сторонники вина, шли, распевая песни. Последними в этой процессии проходили евреи — хозяева таверн, все в масках, богатых одеждах, украшенные драгоценностями. Они несли хрустальные и фарфоровые чаши, из которых вместо вина они угощали зрителей шербетом».
Так завершился знаменитый парад. «Процессия началась на рассвете и продолжалась до захода солнца. Из-за нее все работы в Стамбуле прекратились на три дня, и бунты и смуты наполняли город до такой степени, что это невозможно выразить словами».
…Район Эминеню начинается по южную сторону Золотого Рога. Новая мечеть была построена как раз во времена Эвлии Челеби — в первой половине XVII века — и не изменилась с тех пор, хотя на ее стенах, минаретах и куполах остались следы трех столетий. Дым и дожди, солнце и ветры смывают цвета со стамбульских зданий и оставляют один — сероватый. Покой мечети нарушается шумом моторов и криками соседних базаров, а шороха голубиных крыльев и воркования птиц почти не слышно в разноголосице городских звуков.
Многие гильдии, которые участвовали в знаменитой процессии, уцелели. Одна из них — торговцы рыбой. Здесь, на Эминеню, был рыбный рынок даже в византийские времена, и он сохранился в османские. Торговцы рыбой в знаменитой процессии «украсили лавки на помостах тысячами рыб, среди которых были чудища океана… Их погрузили на платформы, которые тянули семьдесят восемь буйволов. Рыботорговцы проходили, выкрикивая: «Хи! Хо!» —к большому удовольствию зевак».
Рядом с рынком жарят рыбу на сковородках или на углях. Здесь может быть стол, пара стульев и мангал. «Все рыбные повара — неверные греки, — писал Челеби, — которые готовили рыбу различными способами — кто на оливковом масле, кто на льняном. Они также готовят плов из мидий, устриц и суп из кефали. Они предлагают особых устриц «лакос», которые очень укрепляют человека. Их вкус напоминает зеленую слизь, но они придают энергию и полезны для мужчин, которые хотели бы порадовать своих жен». Рыбные повара, как и торговцы рыбой, сейчас — турки, хотя по крови они, возможно, греки, принявшие мусульманство много поколений назад.
Недалеко от Новой мечети находится большой фруктовый и овощной базар, который борется за место с рыбным. Все его торговцы были представлены в процессии перед Мурадом IV.
Но самый знаменитый из всех базаров Эминеню — Египетский, известный как «Базар пряностей». Это настоящий музей восточных запахов. Смолы, лекарства, травы, специи, духи, благовония — как будто все земли Азии собрали здесь свои экзотические запахи, чтобы подготовить путешественника к атмосфере Востока. Эвлия Челеби писал: «Египетские бакалейщики дефилировали вооруженными. Они устроились на платформах, нагруженных имбирем, перцем, кардамоном, корицей, гвоздикой, ревенем, ароматическим маслом нарц и алоэ. Всего было три тысячи снадобий». Базар знаменит своими складами и лавками кофе со времен Челеби до наших дней. Дальше можно купить знаменитый турецкий продукт бастырму — вяленое мясо в перце.
Цветочный базар также расположен за Новой мечетью и добавляет свои ароматы к запахам базара пряностей к более земным запахам рыбы или бастырмы. Цветочники, как и торговцы бастырмой, описаны в «Книге путешествий».
Рядом — небольшой птичий рынок. Многие стамбульцы — поклонники птичьего пения. Нередко в старых чайных, кофейнях или парикмахерских держат в клетках пернатых пленников. Во времена Челеби в Стамбуле было пятьсот торговцев соловьями. Сохранился обычай покупать птицу, чтобы выпустить ее на волю. Но он имел и оборотную сторону: приобретая раба, богатый турок облегчал душу, выпуская на волю нескольких птичек.
Торговцы водой в жару носят свои большие бутыли, как и во времена Эвлии Челеби, чтобы угостить ею прохожих за мелкую монету.
Перед тем как покинуть Эминеню, пройдемся еще раз по закоулкам близ Новой мечети. Из читален и чайных доносится шлепанье игральных карт или стук костяшек нард. Слышатся дебаты в никем не избранных парламентах. Зеленщики начищают тряпками уложенные рядами яблоки, развешивают канделябры бананов, гирлянды лука и чеснока, сооружают черные пирамиды из оливок. Торговцы рыбой выставляют сверкающие серебром макрели, красноватые мелкие барабульки, розоватые разрезы тунца и меч-рыбы. Бедняки бредут, стараясь не обращать внимания на двери ресторанчиков и кондитерских, где прямо у входа кипят и шипят яства, возвышаются груды плова или громоздятся мраморные куски халвы.
Кажется, что в парикмахерских, освещенных как театры, половина города, часто небритая, нестриженая, «неодеколоненная», бреет, стрижет и одеколонит другую половину. Над парикмахерской можно увидеть арабскую вязь изречения, которое предупреждает, что это учреждение находится под покровительством самого брадобрея пророка Мухаммеда. Когда-то парикмахеры играли роль лекарей: пускали кровь, ставили пиявки, делали массаж, давали кое-какие лекарства. Сейчас их роль ограничилась более узкими профессиональными рамками. Но они могут быть неоценимыми собеседниками.
Девушки и женщины идут с ведрами и канистрами к уличному фонтану. С верхнего этажа спускается на веревке корзина разносчику овощей. Старики просматривают футбольный тотализатор. Громко кричит радио, наполняя улицу звуком саза — национального щипкового инструмента. Уличные торговцы с дымящимися печурками предлагают жареные орешки и кукурузу.
Город изменился за три столетия. Но мне кажется, что в каком-нибудь из закоулков Эвлия Челеби узнал бы свой любимый Стамбул или тот квартал, в котором он провел юность, или потомков тех людей, которые шли в процессии перед Мурадом IV.
Район города, который занимает склон холма над Новой мечетью, известен как Длинный базар. Он получил свое название от длинной улицы, идущей от Золотого Рога к площади Баязида. В бесконечном ряду лавок, лотков, тележек продают все, что есть в Турции дешевого и низкокачественного.
Длинный базар — один из главных ремесленных районов Стамбула, который не признает расположения промышленности по зонам, презирает городское планирование. Механические и текстильные фабрички, красильни и мастерские плотников, малюсенькие типографии расположены в душных, тесных комнатах, в османских караван-сараях или подвалах домов. Иногда они используют технику, которая не изменилась со времен промышленной революции. В них работают дети и подростки, не знакомые с элементарными законами о труде. Они заняты с рассвета до захода солнца, как трудились и их отцы, деды, деды их дедов — поколение за поколением. Эвлия Челеби описывает жестянщиков, тех, кто делает пилы и производит азотную кислоту. В его времена многие ремесленники были евреями. Он пишет, что те из них, кто занимался изготовлением кислот, были покрыты зелеными и красными пятнами, а их ногти почернели.
Самое своеобразное здание, где разместились эти промышленные цехи, — караван-сарай Валиде рядом с Длинной улицей. Он построен в XVII веке матерью Мурада IV. Эвлия Челеби сообщает, что это был один из самых больших караван-сараев в Стамбуле: в его конюшнях могла стоять тысяча лошадей и мулов одновременно.
Огромный караван-сарай несет на себе рубцы и раны долгой промышленно-торговой карьеры. Его обширный двор заполнен полуразвалившимися строениями. Некоторые из них прислонились к стенам, другие, построенные народными архитекторами-акробатами, лепятся на втором этаже прямо среди аркад, подобно птичьим клеткам. Странные сооружения видишь в любом углу этих клетушек. Внутренние помещения отданы любым доступным воображению видам ремесла, промышленности и коммерции, и первые продукты их деятельности — шум, дурной запах и нездоровый цвет лица. Где-то на заднем дворе находится текстильная фабричка. Вокруг станков, прессов, гудящих и шумящих, суетятся покрытые потом мужчины и подростки, которые должны кричать, чтобы перекрывать адский грохот. Тут же лавка с пряностями и духами, которую содержит старый армянин. Цыганки сидят на стульях, выкрикивая неприличные ругательства в адрес прохожих. На дворе с трудом маневрируют грузовик и телеги, запряженные лошадьми. На открытом воздухе бродячий брадобрей намыливает лицо адвокату, который о чем-то переговаривается с человеком в потертой одежде, стоящим над ним на балконе. Под аркадами, увитыми виноградником, вокруг мангалов собираются купцы и обсуждают сделки, возможно, как во времена Эвлии Челеби.
Недалеко от задних ворот караван-сарая можно найти главную городскую барахолку, где стамбульские бедняки или мелкие воришки продают и покупают поношенную одежду и старую обувь. Эвлия Челеби рассказывает, что в его времена именно в этом районе было двести торговцев старой обувью. Они шли в процессии вместе с сапожниками, гильдия которых была одной из самых могущественных. Рынок поношенной одежды и обуви переходит прямо в «блошиный рынок», расположенный на том же месте, что и при Челеби. Это один из самых грязных, но наиболее любопытных рынков Стамбула, потому что бедняки и безработные редко что выбрасывают, а скорее чинят, перепродают, крадут. На «блошином рынке» я видел человека, который раскрыл большой чемодан со старыми зубными щетками. К моему удивлению, именно их начали разбирать. Покупателями были чистильщики сапог, которые нуждались в них, чтобы намазывать обувь гуталином.
Но вот площадь Баязида. С одной стороны на нее выходит Стамбульский университет, с другой — мечеть Баязида и часть знаменитого Крытого базара (Каналы чарши), до которого мы еще не добрались. Когда-то это была одна из самых привлекательных площадей города, где в тени почтенных деревьев стояли столики чайных и кофеен, куда собирались поспорить студенты. Теперь большая часть площади покрыта асфальтом. Она потеряла красоту, стала шумной и переполнилась людьми. Часть площади отведена под парковку автомашин. На ней никогда нет места, но если дать сторожу соответствующую мзду и оставить ключ, то, невероятно газуя, он разведет несколько машин и чудом найдет место.
Большая султанская мечеть Баязида была построена в начале XVI века, как замечает Эвлия Челеби, «полностью на законные деньги». Такая любопытная приписка позволяет догадываться, на какие средства закладывались другие мечети, когда богатые или могущественные благотворители «богоугодным делом» замаливали свои земные грехи.
Значительная часть внешнего двора мечети Баязида занята Книжным базаром — Сахафлар чаршисы, одним из самых древних в городе. Он занимает место, где еще во времена Византии торговали книгами и бумагой. После турецкого завоевания его захватили тюрбанщики и гравировщики по металлу, но в начале XVII века сюда вновь стали переселяться из Крытого базара книготорговцы. Во второй половине XVIII столетия, когда в Османской империи было разрешено книгопечатание, книжные торговцы заняли всю его территорию. В течение XIX и в начале XX века этот базар был главным центром распространения книг в Османской империи. За прошедшие полвека, однако, появилось много больших книжных магазинов в Стамбуле, Анкаре и Измире и значение Сафхалар чаршисы относительно уменьшилось. Но он остается самым важным и интересным книжным базаром Турции. Челеби описывал гильдию книготорговцев, состоявшую из двухсот человек, которые держали шестьдесят лавок.
Лавки, увитые лозами винограда, полны разнообразных книг — от технической макулатуры, написанной до открытия атома, до ценнейших древних изданий и злободневных политических брошюрок. Уважаемому клиенту бесплатно предлагают подробный каталог всех книг, которыми здесь торгуют.
Пульс интеллектуальной жизни Турции бьется быстро и неровно. В книжных магазинах это хорошо чувствуешь. На прилавках лежат рядом груды своих и переводных книг — всего, что сколько-нибудь модно на Западе, сочинения европейских леваков и русских анархистов, правых оппортунистов и мистиков, полупорнография и религиозные брошюрки. Иногда с опаской продают марксистскую литературу. Каждый год в Турции выходит около шести тысяч названий, из них больше трети — общественно-политическая литература, пятая часть — художественная, столько же — техническая. Раньше хорошим считался тираж от двух до пяти тысяч экземпляров. Сейчас для популярных книг эта цифра удесятерилась. Наиболее массовые тиражи у переводной литературы — детективов и комиксов. Издается немало русских классиков и советских писателей, хотя на эти книги не раз устраивались гонения. Министерство национального просвещения издавало циркуляры с требованием изъять из школьных библиотек и исключить из учебников Достоевского, Гоголя, Горького. Запрет распространился на Диккенса и Сартра, а также на турецких писателей Орхана Кемаля, Азиза Несина, Яшара Кемаля и других. Печатное слово в Турции по-прежнему многие приравнивают к взрывчатому веществу.
Большой Крытый базар Стамбула описан много раз, и невольно колеблешься: а стоит ли вновь рассказывать о нем? Но ежедневная жизнь многих турок проходит на базаре в полутьме лавок и галерей. Он столь характерная часть стамбульского быта и столь популярное место для гостей города, что его невозможно обойти вниманием.
Крытый базар можно назвать и гигантским универсальным магазином, и маленьким городом. Он — лабиринт, в котором человек наверняка заблудится, но снова найдет дорогу. Здесь около четырех тысяч лавок и двух тысяч мастерских, по дюжине складов, фонтанов, маленьких мечетей, а также большая мечеть, начальная школа, могила святого. Количество коммерческих заведений в общем не изменилось за столетия, но сюда добавлены ресторанчики, чайные, два отделения банка, туалеты, информационный центр для потерявшихся туристов.
Капалы чарши был устроен на том же месте и занимал почти ту же самую площадь при Мехмете II Завоевателе. Его много раз разрушали огонь и землетрясения. Последний пожар случился в 1954 году. Но базар, видимо, сохраняет и структуру и внешность торгового средоточия четырехсотлетней давности. Названия его улиц идут от профессий; некоторые из них, например тюрбанщики, выделыватели перьев, давно исчезли.
Восточная атмосфера базара почти развеялась, и, чтобы вспомнить ее, передадим слово Константину Базили: «Все роды стамбульской промышленности соединились в тесных улицах, которые вьются между домов, прикрепленных к стене, и длинных рядов деревянных лавок или ползают по скату первого холма Константинополя до ипподрома, — писал он. — В огромном дворе каменщики иссекают из белого мрамора памятники различных форм для мусульманского кладбища, вырезают надписи и покрывают позолотою; далее оружейные мастера гнут в дугу дамасскую саблю и выделывают перламутровые и серебряные украшения на турецких пистолетах; далее производятся шумные работы медной посуды. Здесь вся жизнь в трех картинах: средства кормить людей, их убивать и камни для их гроба. Стук молота о медь, о сталь, о камень слился в оглушающий концерт… Но я забыл упомянуть о другом роде работ. Они не оглушают вас, они не наводят ни траурного впечатления надгробных камней, ни кровавых впечатлений азиатского оружия, ни гастрономических идей мусульманской кухни. Они напоминают нам только услаждение турецкого кейфа и его восторженной лени. Поэтому-то эти работы производятся тихо людьми, которых можете принять за восточных жрецов, смотря на спокойствие их физиономий, на старинные их костюмы, на длинный ряд лавочек, в коих сидят они с очками, сжимающими их носы, сложив ноги и сгорбившись в недвижную дугу в пространстве двух квадратных аршин… Вы, без сомнения, угадали, что эти мудрецы заняты выделыванием янтарных мундштуков, трубок из черешневых и жасминовых тростей и всех принадлежностей дымных наслаждений турка…
Если хотите видеть картину Турции в ее первобытном характере, посетите базар оружия. Здесь найдете и извилистую саблю Дамаска, клинок которой представляет ряд округленных зубцов пилы, и ятаган с лезвием, загнутым внутрь, и кривую саблю, расширенную в конце, и кинжалы всех форм. Там старый турок объяснит все свойства кара-коросана и двадцати других родов железа, которым славятся оружейные мастера Малой Азии. Он с одинаковой ловкостью перерубит гвоздь и пуховую подушку саблею, которая в неопытной руке при первом же ударе разлетится вдребезги. Здесь вы пленитесь красотою и богатством азиатского оружия: серебро и золото, египетская яшма, кораллы, слоновая кость, изумруд, рубин, алмаз и жемчуг — все драгоценности Востока сияют на рукояти».
Даже сейчас, несмотря на вторжение изделий массового производства, на наплыв синтетики, фальшивок и подделок, здесь можно найти кое-что древнее и высокохудожественное.
В центре базара находится большой зал, покрытый куполом, — Старый бедестен. В нем торгуют наиболее дорогими вещами, поэтому он запирается и охраняется по ночам. Хорошие медные поковки, часто подлинные, древние драгоценности и костюмы, монеты, классическая византийская керамика и фигурки, оружие и мечи. Правда, «средневековые» ружья и пистолеты делают в соседних мастерских, руководствуясь принципом, чтобы они ни в коем случае не стреляли, тогда их наверняка купят. Но даже подделки здесь прекрасного ремесленного производства. Может быть, их сработали потомки тех самых византийских и османских ремесленников, что создавали оригиналы, пользовались теми же орудиями и материалами. Да что оружие и медные поковки! Анализы и исследования показали, что некоторые из «доисторических» гончарных изделий, якобы найденные в турецкой земле, хранящиеся в крупнейших музеях, оказались поддельными. Имитация десятилетиями вводила в заблуждение даже ученых с мировым именем.
Иностранца привлекут на базаре ряды ковров и паласов-килимов, полотенец и турецкой вышивки, ваз, торшеров и столиков из цветного алебастра, оникса; пенковых курительных трубок, хороших керамических изделий. Большой базар несколько осовременился, но. когда идешь мимо ювелирных лавок, где сверкают браслеты, цепочки, колье, кольца, броши, серебряная филигрань, кажется, что попадаешь в пещеры древних сказок. Там, где много туристов, торговцы говорят на нескольких языках, зная по полсотни слов из каждого.
Новичок покупает что-нибудь в первой же лавке, но опытный покупатель изучит дюжину, приценится, поторгуется, выберет то, что ему нравится, сделает вид, что хочет купить что-то другое, как бы случайно спросит цену облюбованной заранее вещи. Но только простаки, а их немало, полагают, что они победят Капалы чарши. Есть такие оптимисты, которые надеются сорвать крупный выигрыш в общенациональной лотерее. Торговцы на базаре — великие продавцы и большие жулики, а ювелиры — самые большие из всех. Наметанным глазом они определяют степень вашей компетентности и толщину кошелька и в зависимости от первой оценки будут утраивать или удесятерять цену.
Торговаться на базаре просто необходимо. Некоторые европейцы и американцы, не зная этого правила, принимают первую названную цену, удивляя продавцов. Я наблюдал, как одна американка подошла к ювелиру, выбрала два кольца, спросила, сколько они стоят, и заплатила изумленному торговцу эту сумму. Он остолбенел. Когда женщина ушла, он сказал мне: «Я должен был бы запросить вдвое больше». Потом он добавил, чтобы смягчить впечатление: «Видите ли, мы любим торговаться, чтобы оттачивать свое умение».
Если незнакомому человеку называют какую-либо цену, ее можно скостить вдвое и начинать торговаться. Хозяин лавки будет описывать свой товар цветистым, поэтическим языком. Вы реагируете, добавив пять процентов. Еще больше поэзии — еще пять процентов. Чашечка кофе, предложенная торговцем, потом стакан лимонада — еще три процента. Торговец становится злым, раздраженным: как вы можете терять такую возможность? Да и хотите ли вы впрямь купить вещь? Еще десять процентов. В конце концов вы можете сойтись на семидесяти — семидесяти пяти процентах назначенной цены. Но вы вряд ли можете знать, что продавец рассчитывал получить лишь шестьдесят процентов. Покупатель всегда теряет на стамбульском базаре.
На Крытом базаре основные покупатели не иностранцы, а сами стамбульцы или турки-провинциалы. Они приходят приобрести здесь то, что в магазинах стоит дороже, наперед зная примерную цену и качество товара. С ними, как правило, почти не торгуются. Впрочем, всемирная инфляция настолько вздула цены, что и иностранца могут встретить равнодушно, назначить одну цену и держаться ее уже твердо…
В Стамбуле столько мечетей, что перечисление только главных окажется утомительным. Их размер зависел от средств благотворителя. Маленькая мечеть квартала — обычно простое сооружение с грубыми половиками на полу и почти без украшений. Ее имам может быть одновременно муэдзином. Однако тринадцать имперских мечетей — архитектурные шедевры Османской империи, а мечеть Сулеймание, построенная великим архитектором Синаном по приказу Сулеймана I Великолепного, — лучшая в городе.
Фундаментальные сооружения из камня, крупные мечети обычно тесно окружены комплексом общественных зданий и толпой мелких домишек, и их величие — купола, увенчанные золотыми эмблемами, и вонзающиеся в небо минареты — охватываешь глазом только на расстоянии. Лучший вид на Сулеймание — со стороны Галатского моста.
Когда человек попадает во двор мечети, он должен чувствовать успокоение и умиротворение, хотя здесь бывает много людей, а в прежние времена мог стоять отряд янычар. Во дворе же продают четки, Коран и другие предметы культа.
Вдоль фасада мечети бежит длинная галерея из колонн с арками, иногда из камня светлых и темных тонов. В тени галереи встречаются, беседуют, отдыхают мужчины. Двери мечети монументальны. Они представляют собой искусно выделанные панели с геометрическими узорами и иногда инкрустированные перламутром. Полностью они никогда не открываются. В дверях есть вход поменьше, закрытый кожаным занавесом.
Мечети, как и все османские здания, изнутри украшены богаче, чем снаружи. Особенное впечатление производит обширное пространство, создаваемое куполом, который, кажется, парит без поддержки. Когда глаз привыкает к полумраку, то видишь удивительную гармонию столбов, больших и малых куполов, арок и ниш. Все они придают прочность, но одновременно воздушность колоссальному сооружению. Это не расчлененное, но замкнутое, уходящее вверх пространство.
Стены часто украшены керамикой в основном любимых турками цветов — голубого и зеленого, но также глубоко-красного и охристого. Глазурованные плитки соединяются одна с другой, создавая панели с цветочным или каллиграфическим орнаментом. Любимым цветком турок был и остается тюльпан. Его луковицы в XVI веке вывезли из Стамбула в Вену, а столетие спустя мода на тюльпаны охватила Голландию и Германию. Лучшая глазурь в Стамбуле — в мечети Рустем-паши, недалеко от Египетского базара.
В верхних частях стен пробиты решетчатые окна со стрельчатыми арками, цветными стеклами, вставленными в темный ажур алебастра. Длинные цепи с лампами, которые освещают мечеть вечером, свисают сверху. Мебели нет, а полы покрыты матами-килимами и коврами, некоторые из них великолепны.
Около михраба — ниши, определяющей направление Мекки, — установлен минбар, или кафедра, под островерхой конической крышей, на которую ведет узкая деревянная или мраморная лестница, украшенная резьбой. С кафедры произносят проповеди.
Рядом с главным залом за загородкой из кружева деревянных решеток сидят женщины, полностью скрытые. На верхней галерее располагалась ложа султана, также частично закрытая решеткой. Когда-то немусульманам не разрешалось входить в мечети и они пробирались сюда переодетыми с известной долей риска. Сейчас вход открыт для всех.
Когда из сумрака мечети выходишь на ярко освещенный двор, глаза слепит солнце. И не сразу в самой глубине обширного двора рассмотришь старика в очках, примостившегося на низеньком стуле. Это писец, особая фигура в турецкой жизни.
В былые времена общественные писцы со своими начищенными пеналами и чернильницами выполняли заказы не только неграмотных, но и всех, кто не знал, как вежливо и в соответствующей форме написать послание или составить прошение. Турецких писцов до сих пор называют «сочинителями петиций». Их можно считать потомками шумерских или египетских писцов, которые склонялись над глиняными табличками или свитками папируса, сочиняя петиции для простых людей. Менялись цивилизации, языки, алфавиты, но писцы выживали. В течение столетий они оставались уважаемыми фигурами в Османской империи, а поскольку неграмотных много и сейчас, нужда в них не отпала. Большинство из них переместилось из мечетей ближе к государственным учреждениям и чаще стучат на машинках, чем скользят по бумаге пером. Их «конторы» находятся на открытом воздухе или в наскоро сколоченных конурах.
У писцов всегда достаточно клиентов, особенно в небольших городах. Даже грамотные люди не знают хитростей и тонкостей бюрократических канцелярий — к кому, как и по какому поводу обратиться. Проблемы бесконечны, как и бесконечны люди. К «сочинителям петиций» приходят старые женщины, еще не снявшие чадру, с просьбой написать письмо сыну, который служит в армии. Молодой человек ищет помощи в составлении цветистого любовного послания. У одного лает собака и будит по ночам жильцов, другой ищет способа избавиться от соседа, третий просит провести канал в их засушливую деревню. А этот отказывается платить налоги, считая их несправедливыми. Все надо изобразить соответствующим стилем и направить в соответствующее место. Для деловых людей есть адвокаты, а для простых турок — писцы. Естественно, что бывшие клерки из государственных учреждений, знающие в них все ходы и выходы, становятся самыми желанными писцами.
Обязательная принадлежность двора любой мечети — фонтан для ритуального омовения. Стамбул полон фонтанов, и отнюдь не только при мечетях. Его фонтаны-чешме отличаются от итальянских или русских. Это не каскады и не бьющие высоко струи, и на них нет скульптурных фигур, богов или херувимов. Фонтаны Стамбула просты, утилитарны, но часто весьма красивы. Самые простые состоят из ниши в стене, откуда вытекает вода по крану в небольшой мраморный бассейн. Ниша может быть украшена геометрическим или цветочным орнаментом. Обычно она спрятана в арку, и фасад ее также покрыт резьбой по камню. Над фонтаном вырезана надпись, которая указывает имя благотворителя и дату сооружения. Раньше такие надписи делались в форме тугра (вензеля). Иногда над чешме найдешь благочестивую или назидательную надпись. Мне запомнилась одна на небольшом фонтане близ Галатского моста. В ней нет претензии на остроумие или поэтичность. Она просто дает добрый совет: «Никогда не ругайся с соседом из-за этой воды. Пусть он возьмет немного, и ты возьми. Пусть он возьмет воду, и ты возьми воду».
Вокруг больших мечетей обычно располагались другие строения, в частности медресе. Здание османского медресе окружало квадратный двор, а помещения были покрыты рядами маленьких куполов. Колоннады и стрельчатые арки у входа придавали медресе элегантность. Особенно много их собралось вокруг Сулеймание, где они превратились как бы в маленький университетский городок. Учащиеся располагались в кельях с небольшим мангалом. Вместе с классами комнаты преподавателей, библиотека, различные санитарные помещения. И студенты и учителя получали питание в общественной кухне при мечети. Сюда же собирались бедняки из соседних кварталов, чтобы наполнить чаши и унести их своим семьям, обеспечив обед из фасолевой похлебки и, может быть, кое-что оставив на вечер. Средневековье не знало безработицы, всегда можно было найти какое-то занятие, чтобы прокормиться. А мусульманская система благотворительности в обычных условиях не позволяла людям умирать с голоду, выполняя одновременно функцию мягкой прокладки между власть имущими и угнетенными. Медресе включали обычно медицинскую школу, иногда госпиталь, а часто — и сумасшедший дом.
Сейчас в одном из медресе рядом с Сулеймание расположился Музей исламского искусства с богатой коллекцией манускриптов, миниатюр, чеканки.
Мечеть Сулеймание названа в честь Сулеймана I, может быть величайшего из османских монархов. На Западе его называют Великолепным, а турки — Законодателем. Его слабостью была привязанность к фаворитам, среди которых выделялся некий Ибрагим — албанец, воспитанный вместе с султаном. Жена султана Рокселана была рабыней, видимо, славянского происхождения. Она родила сына, когда еще была наложницей, и стала свободной. Сулейман женился на ней, но Рокселана хотела большего. Самая могущественная женщина в Османской империи была не жена султана, а его мать, поэтому Рокселана мечтала увидеть на троне своего собственного сына, однако сын от другой жены был старше, и он должен был наследовать престол. Рокселана стала плести интриги. Прежде всего она избавилась от Ибрагима, влияние которого было огромным. Она подделала переписку, чтобы доказать, будто Ибрагим вступил в сговор с шахом Ирана. Но Сулейман однажды поклялся, что Ибрагим не будет убит, пока жив сам. Тогда его убедили, что душа покидает тело человека во время сна, поэтому Ибрагиму перерезали горло, когда он спал. Затем Рокселана внушила мужу, что его старший сын тоже готовит против него заговор. Когда однажды молодой принц вошел в палатку отца, его встретила группа глухонемых палачей. Один из них держал удавку. Проливать султанскую кровь было незаконно, поэтому принцев душили. Но иронии судьбы Сулейман пережил Рокселану. Сам он умер внезапно, когда проводил очередную военную кампанию на Балканах, но сын Рокселаны действительно наследовал престол.
Мавзолей Сулеймана находится около мечети, носящей его имя. Но если склонять голову над могилами, то это нужно сделать все же перед скромным мавзолеем Синана — величайшего из османских архитекторов. Синан прожил девяносто восемь лет. Он построил восемьдесят одну большую мечеть, пятьдесят маленьких, пятьдесят пять медресе, тридцать три дворца, десятки караван-сараев, мостов, мавзолеев, плотин, акведуков, бань, больниц и фонтанов. Он никогда не использовал один и тог же план для какой-либо новой конструкции. Синан служил при пяти султанах и скончался в 1588 году. Считается, что он был сербом или греком, обращенным в мусульманство. Некоторые историки утверждают, будто Синан был «чистокровным» турком.
По мнению самого Синана, мечеть Сулеймана была одним из его лучших сооружений, но не величайшим. Он говорил: «Я построил много мечетей, когда еще ходил в учениках. К тому времени, когда я построил Сулеймание, я был ремесленником. Но когда я воздвиг Селимие в Эдирне, я уже стал мастером». Селимие действительно элегантна, легка, удивительно гармонична. Она удачно расположена на холме и отлично видна с окружающей равнины. Но лучшая мечеть Стамбула, бесспорно, Сулеймание. Рядом с ней и похоронен великий зодчий.
Недалеко от нее в тихом дворике находится резиденция верховного муфтия Турции. В светской республике его назначает администрация по религиозным делам, подписывает назначение премьер-министр, утверждает президент.
Дело у меня было простое — получить у верховного муфтия разрешение взобраться на минарет Новой мечети и сделать снимок Галатского моста с этой очень удачной точки. Муфтий Гюзель Языджи оказался стариком лет семидесяти, розовощеким, белозубым и ушлым. Битый час он поил меня чаем и угощал разговорами на бесконечную тему: религия — неверие, мусульманство — христианство, сдабривая беседу отточенными за века фразами и оборотами богословов. Когда же речь зашла о минарете, старик довольно бестактно сказал: «Недавно вот один инженер забрался на минарет и бросился вниз головой. Л вдруг кто бомбу кинет…» Он посоветовал обратиться в администрацию по религиозным делам в Анкаре. Бросаться с минарета я не собирался, бомбу кидать — тоже, а затевать хождение по коридорам религиозной бюрократии из-за одного снимка не хотелось. Языджи проводил меня, очень довольный собой. Я отправился в Новую мечеть, дал небольшую купюру сторожу, и он провел меня на минарет. Но день был пасмурным, поднимался туман, и снимки не удались.
Ухабистая, даже по местным понятиям, брусчатка ведет вдоль Золотого Рога через трущобы, облепившие древние стены Константинополя. В районе Фенера, свернув налево, попадаешь в подворье константинопольского патриарха.
Здесь аккуратные газоны, стены, увитые плющом, по над ними нависают густо застроенные террасы с неизменными флагами нищеты — застиранным бельем на балконах. Прихожая — обыкновенный кабинет бюрократического учреждения с аляповатой лепкой, портретом Кемаля Ататюрка, с не слишком чистыми занавесками, но двумя иконами.
Часы с кукушкой пробили одиннадцать, органчик проиграл какую-то мелодию, и появился Бартоломеас Архидонис, по чину — митрополит Филадельфии. Он проводил меня к Демитриусу I, двести шестьдесят девятому патриарху константинопольской православной церкви. Народ здесь с тонким умом, и руку, которую патриарх поднимал посетителям для поцелуя, мне протянул для рукопожатия.
— Мы всегда рады встречаться с осведомленными людьми — журналистами, — сказал он. — Мы считаем, что журналисты несут ответственность перед своими странами и всем человечеством и могут играть важную роль в формировании общественного мнения. Все мы, духовные лидеры мира — и священники и журналисты, — несем ответственность за мир.
Я не считал самого себя и своих коллег-журналистов «духовными лидерами», однако про себя отметил, что здесь умеют говорить комплименты заученными, отработанными фразами.
— Каково ваше отношение к проблемам человечества — войне, миру, сосуществованию? — спросил я.
Демитриус I говорил по-французски, но он подождал, пока Арходонис переведет мой вопрос на греческий, подумал и что-то сказал. Митрополит Филадельфии перевел:
— Я дам вам пасхальное послание, в нем содержится ответ.
— Каково отношение патриарха с турецким государством?
Снова процедура перевода, и я услышал:
— Мы вам пришлем подробный ответ в письменном виде.
Я не рассчитывал получить какой-нибудь ответ; и действительно, мне его не прислали. «Беседа» была окончена, и я попросил разрешения сфотографировать патриарха. Он согласился, провел рукой по волосам, потом по рясе и что-то сказал Бартоломеасу. Тот немедленно принес золотой крест на массивной цепи, патриарх надел его, стал у окна рядом с портретом Ататюрка, приняв позу, соответствующую его сану.
Выйдя во двор, я заглянул в церковь, где был великолепный резной иконостас из черного дерева и иконы XVII века. Здание Синода, в котором хранились бесценные иконы византийских времен, ковры и чеканка, сгорело в сороковых годах. Библиотека сохранилась, и в ней есть несколько десятков древних книг помимо тысяч современных.
Православие оформилось на территории Византии в IV–V веках, окончательно отделилось от католической церкви в 1054 году. Вражда к папе, усугубленная временным, но разрушительным господством крестоносцев, была таковой, что в Константинополе говорили: «Уж лучше увидеть в городе турецкую чалму, чем папскую тиару».
Захватив Константинополь, Мехмет II объявил себя покровителем греков. Специальным фирманом (декретом) была обеспечена неприкосновенность патриаршей личности, ее защита, права и привилегии православных. На севере столицы, в Фенере, патриарху был выделен участок, откуда и пошло название Фенерского патриарха. Греки были лояльными и довольно привилегированными подданными Османской империи, пока она не стала разлагаться.
В греках заговорило национальное самосознание. Собственно Греция восстала и отделилась в начале прошлого века, постепенно расширяя свою национальную территорию. После турецко-греческой войны двадцатых годов нашего века большинство греков было выселено из Турции. Они сохранились практически только в Стамбуле. В 1960 году в Турции было еще около ста тысяч православных христиан, включая греков, сейчас в несколько раз меньше.
Патриархом должен быть гражданин Турции. Когда Демитриус, родившийся в городке Тарабья на Босфоре, был избран главой константинопольской православной церкви, он сказал на пресс-конференции по-турецки: «Я и мои коллеги официально и в категорической форме заявляем, что ни в коем случае не будем затрагивать вопросы политического характера и в своей деятельности будем следовать принципам, заложенным Ататюрком. Я — турецкий гражданин и в соответствии с этим буду делать прежде всего то, что требует мое правительство».
Завершая рассказ о Фенере, скажу в качестве справки, что в мире сейчас кроме константинопольской еще четырнадцать автокефальных (самоуправляющихся) православных церквей: Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Греческая (Элладская), Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская.
Многие путешественники не могли удержаться, чтобы не высказать восхищение турецкими кладбищами без стен, которые помещались прямо посреди города. На могильных камнях-стелах нередко изображали тюрбан или феску, если был похоронен мужчина, и букетик цветов — если женщина. Изысканная арабская вязь, геометрические и цветочные орнаменты украшали мрамор. Склоны холмов, которые спускались к Босфору и Золотому Рогу, были покрыты темно-зелеными кипарисами и белыми стелами. Но все это исчезло. В Бейоглу места огромных кладбищ, существовавших столетия, захватили современные кварталы. От разрушения спаслись лишь небольшие кладбища — Эйюб на западе Стамбула и Ускюдар (Скутари) на азиатской стороне.
Для турка кипарис — дерево скорби, покорности воле Аллаха, покоя. Для нас эти стройные деревья чаще всего ассоциируются с Крымом, весельем, с Ласточкиным гнездом, романами, пляжами, ласковым морем, хотя у Анны Ахматовой мы читаем про «…застывший навек хоровод надмогильных твоих кипарисов». Отношение к кипарису как к символу смерти воспринято турками у греков, которые убирали умерших его пахучими ветками. Но в Иране, например, кипарисы просто украшают ширазские сады, в которых устраивались веселые гулянья.
Некоторые надписи на могильных памятниках в Эйюбе очень сердечны и не лишены юмора. «Бедный добрый Исмаил-эфенди, смерть которого вызвала глубокую печаль среди его друзей, — гласит одна из них. — Он заболел любовью в возрасте семидесяти лет, закусил удила и поскакал в рай»; «Прохожий, молись за меня но, пожалуйста, не воруй моего могильного камня!» А вот то ли усмешка, то ли печальная улыбка (рельеф на стеле изображает три дерева — миндаль, кипарис и персик): «Я посадил эти деревья, чтобы люди могли знать мою судьбу. Я любил девушку с миндалевидными глазами, стройную, как кипарис, и я прощаюсь с этим прекрасным миром, так и не отведав ее персиков».
Даже без свидетельства белых камней мы можем считать кладбища одним из самых приятных мест в Стамбуле. В хорошую погоду стамбульцы любят устраивать пикники и наслаждаться кейфом в обществе своих предков.
В Ускюдаре кладбище — большой парк, разделенный проезжими дорогами и аллеями, но Эйюб особенно популярен, и весной и летом здесь много народу. Одна старая кофейня примостилась над обрывистым склоном холма над Золотым Рогом. Она названа в честь Пьера Лоти, французского романиста, который якобы сиживал в ней в конце прошлого века, сочиняя романы на восточные сюжеты и окропляя их сладкорозовой водой. Я оценил его выбор — сам любил посидеть среди могильных камней, наблюдая, как сиреневые сумерки охватывают Галату и Стамбул.
Эвлия Челеби тоже знал это место. Он писал: «По пятницам толпы людей приходят сюда. Многие купаются в воде среди островков. Здесь возлюбленные смешиваются без ограничений и наслаждаются, обнимая друг друга в воде. Вы можете вообразить, что морские ангелы плавают, одетые в голубые костюмы. Нет более прекрасного места, чем Эйюб».
Глубокоуважаемый Эвлия Челеби, твое любимое место — сейчас сточная канава, а воздух отравлен запахом дубильной фабрики и скотобойни. Ни люди, ни морские ангелы, ни черти уже много лет не могут купаться в Золотом Роге. Однако его воды блестят, как и раньше, при заходе солнца, если смотреть на них из кофейни «Пьер Лоти» на кладбище Эйюб.
…Последняя секция султанской процессии, как мы помним, состояла из шутов, мимов, винокуров и содержателей кабаков. Их низкое место в иерархии гильдий напоминало о мусульманском запрете на вино. Но их многочисленность свидетельствовала о том, что стамбульцы любили крепкие напитки и в те времена. «В Стамбуле есть одна тысяча мест дурного поведения, которые содержат греки, армяне, евреи, — писал Эвлия Челеби, — Хотя вино запрещено Кораном, однако Османская империя велика и могущественна, и в ней есть инспектор вина, заведение которого находится у железных ворот в Галате. Кто говорит «Галата», тот говорит «таверна». В тавернах есть все виды играющих и танцующих мальчиков, мимов и шутов, которые собираются и развлекают себя и посетителей днем и ночью».
«Когда я проходил по Галате, я видел много людей с непокрытыми головами, лежащих пьяными на улицах», — писал он. Однако почтенный классик утверждает, что сам он никогда не прикасался к вину: «Со дня моего рождения я никогда не пробовал алкоголя и запрещенных вещей — табака, кофе и чая. Для облегчения груди я знал лишь сладость женских губ».
Похмелье во времена Эвлия Челеби было так же тяжело, как и теперь. Любимое турецкое лекарство для тех, кто перебрал накануне, — ишкембе чорбасы (суп из требухи) с лимоном и уксусом. «Ночью многие люди собираются у их лавок, — сообщает Эвлия Челеби. — Для того чтобы избавиться от вина, они едят суп из требухи, потому что, как говорят, если он съедается под утро, то производит желанный эффект». Продавцов супа из требухи Эвлия Челеби считал веселыми людьми, и до сих пор их заведения, в которых посетители толпятся и ранним утром, сохранились на берегу Золотого Рога и в Галате.
В Бейоглу (Галата и Пера) множество баров, кабаков и публичных домов, разбросанных вперемежку с театрами, кино и варьете. По вечерам в переулках, идущих от улицы Истикляль (бывшей Гран рю де Пера), зажигаются красные огни, и усатые сводники с вороватыми взглядами зазывают посетителей. Миазмы нездорового оживления будто витают в воздухе. Фотографии рекламируют «артисток» в костюмах Евы, из подвалов доносится музыка, запах табачного дыма, анисовой водки, пота и дешевых духов. На сценах изображают то, что раньше считалось принадлежностью интимной жизни.
Многие стамбульцы, экономя на фуникулере, меряют вверх и вниз узкую, очень крутую улочку, вымощенную брусчаткой, — Юксек Калдырым, что ведет от Истикляля вниз на площадь перед Галатским мостом. Примерно в середине от нее ответвляется еще более узкий, раздвоенный внизу тупик, отгороженный от Юксек Калдырым воротами. Когда спускается вечер, сюда собираются мужчины, бедно одетые, молодые и пожилые.
На тротуаре валяются огрызки яблок, бумага, в темных углах гниют отбросы, слышится крысиный писк. Справа и слева стеклянные окна и двери. За ними — женщины. Полуобнаженные, в сорочках, купальниках, прозрачных комбинациях или просто нагишом, по большей части пожилые. Они курят, играют в карты или нарды, равнодушные к взглядам мужчин, облепивших окна и стеклянные двери. Им, видимо, неуютно, но они привыкли. Горят керосиновые печки, и женщины греют возле них посиневшие тела с гусиной кожей. Некоторые причесываются перед засиженными мухами зеркалами. К ним входят мужчины, платят и удаляются в заднюю комнату. Через пятнадцать — двадцать минут женщины возвращаются докурить оставленную и потухшую сигарету, доиграть партию в карты около керосиновой печки. Самые молодые выглядят наиболее усталыми, так как пользуются наибольшим спросом. Но молодых немного. Мрачным, дождливым вечером вся улица напоминает какое-то грязное, отвратительное существо и оставляет ощущение тошноты.
— Это торговля людьми, и иначе ее не назовешь, — говорил Четин Алтай. — Она свидетельствует о болезни общества и нарушении равновесия. Однако никто ей не препятствует.
— Но в Турции есть и газеты и общественность.
— Да, еще несколько лет назад мы публиковали статьи против современной работорговли. Газеты стали колоть глаза властям. Кое-где пытались закрыть публичные дома. Но их хозяева мобилизовали адвокатов, часть прессы, стали подкупать людей, и дело заглохло.
— Откуда вербуют несчастных женщин?
— В Турции каждый год похищают десятки девушек и подростков. Их отправляют в явные и тайные публичные дома. Порой полиция делает облавы, раскрывает их, но и полицию подкупают. Иногда девушек отсылают в Саудовскую Аравию, в княжества Персидского залива. Кроме Стамбула центры торговли людьми находятся в Адане и в Измире.
— Что ж, проблема неразрешима?
— В нашем обществе — нет. Никто даже не пытался по-настоящему изучить галатские публичные дома. Это трудно и опасно. Они тесно связаны с подпольным миром. У них есть свои поставщики, свои охранники, свои убийцы. Механизм пополнения публичных домов примерно известен. Девушек похищают. Или бедные родители продают детей, которых не могут прокормить. Или девушки нанимаются служанками в богатые дома, ищут удачного замужества. Потом задолженность, шантаж — и они уже в лапах торговцев живым товаром. Дальше катятся вниз — водка, наркотики, и… деваться некуда. Конец их обычно ужасен.
В Бейоглу на набережных вокруг Галатского моста — наибольшая в Турции концентрация воров и жуликов. «В Стамбуле зарегистрировано 120 тысяч преступников, — писала газета «Миллиет». — Преступность резко возрастает летом, когда в Стамбул съезжается много народу со всей страны. Почему растет преступность в Стамбуле? Ответственные за угрозыск говорят: «Люди приходят из деревни, но некоторое время не находят работы. Когда они остаются голодными, у них просто один путь — воровать, чтобы прожить». Но что предлагает полиция? Она советует покупать замки покрепче и в нижних этажах ставить на окна железные решетки».
В Стамбуле бывают жулики большого масштаба и изобретательности. Некий Осман по прозвищу Фазан за его любовь к крикливым одеждам «продавал» наивным богатым провинциалам трамвай, автобус и Галатский мост. Однажды он «продал» башню с часами у Стамбульского университета, утверждая, что за право сверять часы с горожан можно брать деньги. Последняя его мечта была «продать» кому-нибудь Босфорский мост. История Османа Фазана показалась мне оригинальной, но потом я услышал подобное и в Каире, и в Тегеране.
В Бейоглу находится один из центров подпольного мира Стамбула. В кабаках и ночных клубах собираются гангстеры, руководители мафий, которые переправляют наркотики за границу, содержат публичные дома, вымогают деньги у хозяев ресторанов, протягивают руки к сенаторам и депутатам парламента. Газеты пытались было выяснить связи одного сенатора, арестованного во Франции с партией наркотиков в несколько сот килограммов, но потом сенсация была замята. Подпольный мир постоянно пополняется свежими «кадрами». В тюрьмы за мелкие проступки попадает много безработных подростков. Они выходят на свободу рецидивистами.
Когда спускаешься по Юксек Калдырыму, справа открывается вид на круглую крепость под островерхим шлемом крыши. Это Галатская башня. Она впервые была построена византийцами в V–VI веках нашей эры, но потом ее разрушили. После того как в ХIII веке византийские императоры предоставили генуэзцам право поселиться на северной стороне Золотого Рога, ее восстановили и назвали Галатской. Городок Галата укреплялся, башня наращивалась. Когда генуэзцы поняли, что Константинополь обречен, они не встали на его защиту во время последней осады. Благодаря их нейтралитету турки смогли осуществить знаменитый маневр — протащить по смазанным жиром доскам свои корабли в Золотой Рог, запертый у Босфора цепью, и захватить греков врасплох. Сейчас башня отремонтирована, снабжена лифтом, на верхнем этаже устроен дорогой ресторан.
В течение веков Галата управлялась итальянцами, которые именовали себя «великолепной общиной Пера» (что по-гречески значит «Там»). Перой сначала называли холмы за стенами Галаты, а потом и весь этот район, включая сам генуэзский городок. Но Галата-Пера никогда не была чисто итальянской. Здесь всегда жило много греков, даже перед завоеванием. С XV века ее население росло за счет турок, греков и армян из Малой Азии, евреев-сефардов из Испании. В районе вдоль Золотого Рога и Босфора оседали моряки, купцы, искатели наживы и приключений. Потом в Пера обосновались европейские посольства, превращенные сейчас в генеральные консульства.
В османские времена Галата — Пера стала, возможно, самым космополитичным городом в Европе и наверняка самым коррумпированным. Еще Эвлия Челеби писал: «В Галате есть восемнадцать кварталов, населенных мусульманами, семьдесят — греками, три — франками, один — евреями, два — армянами. Город полон «неверных», коих число двести тысяч, в соответствии с переписью, которую проводили при Мураде IV. Мусульман только шестьдесят четыре тысячи. Различные кварталы города патрулируются день и ночь сторожами, чтобы помешать беспорядкам среди населения, так как оно отличается бунтовщическим нравом. Жители — или моряки и купцы, или ремесленники, такие, как столяры и конопатчики. Они одеваются по большей части как алжирцы, потому что многие из них арабы или мавры. Большинство армян — торговцы или менялы. Евреи занимаются посредничеством в любовных делах, и их молодые люди-самые большие приверженцы к дебошу».
А вот описание этих мест спустя два века российским консулом Константином Базили: «В Галате увидите пеструю толпу со всех концов христианского мира, которая с меркантильной заботой на лицах, с беспокойным взором, усталая толпится на грязных улицах, базарах и пристанях, шепчется на двадцати языках столпотворения, торгуется со шкиперами, нагружает, выгружает с какой то судорожною торопливостью… Эта часть города сохраняет во всей первоначальной пестроте своего древнего населения суетно-предприимчивый дух торговых республик Италии. Это не Восток, не мусульманский город, а то, что Европа называла Левантом, — случайный сброд итальянцев, немцев, славян Адриатического залива, греков с Ионических островов, французов, испанцев, англичан, шведов и американцев; между ними исчезают почти коренные жители Востока, служат только для живописной обстановки разнородных групп на всемирной бирже Галаты. Потому что вся Галата, душная, темная, крикливая, представляет в огромном размере торговую биржу, перед коею стоят две тысячи кораблей под флагами всех возможных цветов, готовых отплыть во все концы земного шара».
Базили не жалеет сарказма, давая характеристику местному населению: «Забавно смотреть на этих людей, когда они в чудных своих нарядах, составленных из смеси европейского с азиатским, и надутые двумя огромными спесями — европейскою и азиатскою, расхаживают по улицам, суетятся по базарам, важничают по крикливым пристаням и гуляют по кладбищам. Представьте себе десять или более разнохарактерных куп, которые изображают столько же европейских племен, перемешанных и образующих роль винегрета на холме Перы…»
Галата изнутри оставила особенно отталкивающее впечатление у российского консула: «После роскошного простора видов и картин, средь коих разгульно блистали ваши взоры от пейзажа к пейзажу, от причудливой архитектуры киосок, от свежести садов и от необъятных мраморных масс мечетей в дрожащие их отражения в волнах, и в глубокий купол неба — вы стеснены в узких улицах, ваше зрение страдает от пасмурного цвета уродливых зданий, ваш слух — от крикливых продавцов, и более всего ваше дыхание, ваше обоняние — от духоты, которая, как зараза, впилась в улицы Галаты. Все ваши впечатления безжалостно убиты. Хотите утешиться блестящим колоритом неизменного неба и спросить: ужели это та самая страна, которую обегали недавно ваши очаровательные взоры? — Что же! —Так как живительное дыхание босфорских зефиров не долетает до этих мест, так как виды берегов и моря закрылись ветхими кучами домов в извилистых улицах, так и небо заслонилось высокими зданиями и едва просвечивает его узкая полоса в изломанной раме карнизов, далеко выдавшихся над домами».
Миновало еще почти сто лет, и советский писатель Петр Павленко, посетивший Галату в двадцатые годы, увидел в ней знакомые другим путешественникам черты: «В банке (своего национального банка в Турции нет) работают на любых языках, кроме турецкого, мореходные конторы, магазины, торговые и промышленные учреждения — тоже. Большинство газет не турецкие, а французские. В театрах идут пьесы на французском и немецком языках, в ресторанах и гостиницах — французская речь, в кухмистерских и на рынках — греческая, а на бирже - эспаньольская». Павленко описывает «будничный, обычный город, где турки-полуевропеицы и европейцы-полуосманы сообща делают шумную жизнь, в одинаковой мере далекую как от классической старины восточных идиллий, так и от новизны сегодняшнего свежего дня».
Через посольства в Галате — Пера европейские державы вершили политику «Высокой Порты». Через левантинские торговые компании и банки с помощью ловких посредников европейский, а затем и американский капитал присваивал богатства Турции. В частности, и поэтому Ататюрк перенес столицу республики из Стамбула в Анкару.
Сейчас турецкий язык полностью завоевал северную сторону Золотого Рога, а Галата — Пера прочно стала Ьейоглу. Большинство левантинцев покинули эти берега, или их заставили уехать, а те, кто остался, внешне почти не отличаются от турок. Я не раз бродил вокруг Галатской башни и лишь однажды услышал эспаньольскую речь двух стариков евреев. Армяне, греки и евреи на улицах говорят по-турецки. Но когда от одежды и языка переходишь к социально-экономической сути дела, обнаруживаешь удивительные вещи.
— На первый взгляд космополитическая коллекция Бейоглу как будто растаяла в республиканском котле Турции, — говорил Четин Алтая. — Но знамя компрадорства, водруженное в незапамятные времена в Галате, все еще развевается. Десятилетия этатизма не смогли подорвать дух левантинцев. Их, впрочем, и сейчас немало. Едва ли не половина имен тех, кто платит у нас самые большие налоги, — нетурецкие. Но совершенно неважно, турок или левантинец определяет практику нового компрадорства. Вывески банков и холдингов в Бейоглу могут быть турецкими, работать в них могут стопроцентные турки, но все равно их настоящие хозяева сидят в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Мюнхене. Бейоглу остался очагом болезней, которые поражают турецкое общество. Фасад Истикляля, или улицы Банков, скрывает горькую правду.
В начале двадцатых годов Стамбул затопили русские белоэмигранты. Атмосфера их жизни знакома нам по пьесе Михаила Булгакова и одноименному кинофильму «Бег».
На Босфоре стояли корабли стран Антанты, в Анатолии солдаты Мустафы Кемаля в смертельном напряжении отстаивали с помощью Советской России новую Турцию, а здесь русские эмигранты не могли понять подлинных масштабов и значения событий, жертвами которых они стали. Первые годы они не покидали Стамбула, надеясь на скорое возвращение домой. «Из ресторана «Карпыч», — писал Павленко, — русский язык звучит на добрую половину Гран рю де Пера до темной маленькой улочки Коная сокак. Отсюда начинается новое засилье русских групп, базирующихся на ресторан одесского баловня Сашки Пурица «Тюркуаз» и кавказский кабачок «Тиграна».
Казалось, что Гран рю де Пера превратилась в одесскую улицу или большую барахолку. Офицеры в потертой форме предлагали газетенки на русском и французском языках. К ним приставали спекулянты, уговаривая продать ордена: «Вы скоро вернетесь в Россию с Врангелем и получите новые!» Афиши зазывали в рестораны «Русский уголок», «Черная роза» или дансинг «Максим».
Современные турецкие рестораны ведут свою родословную от русских заведений тех времен, но официантки так и не «привились» в Турции. За редчайшими исключениями, в ресторанах работают мужчины. Первые клубы, дансинги и кабаре в Стамбуле также были устроены белыми эмигрантами. Они обслуживали офицеров экспедиционного корпуса стран Антанты, левантинцев-«перажан», торговцев табаком и немецких коммивояжеров. В них звучали первые фокстроты и чарльстоны. Клиенты обучались новым танцам и «русскому обычаю» бить бокалы из-под шампанского. На стенах висели двуглавые орлы и акварели зимних пейзажей. В вестибюле гостей встречали бородачи швейцары, которых обычно звали полковниками, и некоторые из них действительно были полковниками. Хор донских казаков в черкесках исполнял «Эй, ухнем!» и «Очи черные», прежде чем выехать на парижский Монмартр и разнести их по всему свету. Это был пир во время чумы, с мучительным и горьким похмельем. Все прогорело. У русских не оказалось предпринимательской жилки, они не смогли слиться с левантинцами. Куда-то была смыта грязная пена великих событий. Единицы всплыли, старательно забыв, что они русские. У большинства жизнь была исковеркана. Когда последний посол царской России в Константинополе Чариков проезжал накануне войны по Галатскому мосту, останавливалось движение. Он снова попал в Стамбул белым эмигрантом, печатал свои мемуары в «Манчестер гардиан», чтобы прокормиться, но кончил тем, что брал в долг у булочника и умер в 1930 году нищим и забытым.
Последний осколок тех времен — русский ресторан «Рижане». Он расположен недалеко от Истикляля рядом с непримечательной греческой церковью, между двумя похоронными бюро. Седой старик швейцар приветствовал меня. Он принял меня за «русского» из Соединенных Штатов, но, узнав, кто я, не выразил удивления. «Рижане» еще не был открыт, и мы разговорились. В начале двадцатых годов швейцар, родом из Тамбова, «повздорил со своими работниками» и бежал из России. Через Иран он добрался в Турцию, где и застрял. И вот на восьмом десятке служит в ресторане и ждет смерти. Жилья нет, родственников нет, денег нет. Хозяин «Рижанса» — татарин. В пятнадцать лет его вывезли из России, он долго жил в Чехословакии, потом по наследству получил это заведение и переехал в Стамбул.
Двери открылись.
У кассы сидела старушка, которая оказалась компаньонкой хозяина. В меню стояли «борщ», «котлеты по-киевски», «бефстроганов», «пирожки». Кормили так себе, хотя и не очень дорого.
— Вам не налить рюмку водки, правда турецкой? — спросила меня официантка. Я отказался.
Официантка говорила по-русски, обращаясь к кассирше, а может быть, ко мне, привлекая к себе внимание:
— Представьте, какой ужас, хозяин хочет вышвырнуть меня из моего апартемана. Говорят, что он за полмиллиона покупает апартеман в районе еврейского кладбища и продает этот кому-то другому.
Она долго рассказывала по-русски о своих заботах, передавала заказы повару на турецком языке, а иногда с другой официанткой переходила на дурной французский. Она была дряхла и нелепа, и что-то жалкое было в ее накрашенных губах и цыплячьих ножках. Ей давно бы пора на покой, гулять с внучатами. Но что делать, когда тебя собираются вышвырнуть из «апартемана», а жизнь такая дорогая…
Я заговорил с кассиршей. Она держалась со смешанным выражением холодности и интереса, высокомерия и униженности. Она из киевских аристократов, но осела здесь. Муж умер и оставил ей долю в этом ресторане. Накануне войны она получила турецкое гражданство. «Спасибо и за то, что дали».
Кончив обед, я расплатился, дал чаевые, и старушка официантка поспешно спрятала бумажку в карман передника; при выходе опустил монету в ладонь швейцара. «Да поможет вам бог», — сказал бывший тамбовец. Из греческой церкви возвращались пожилые женщины в черном. Стамбул жил своей жизнью.
Больше я не заходил в «Рижане».
Если выпадал свободный вечер или гости из Союза просили показать им что-то «чисто стамбульское», я направлялся в Цветочный пассаж — Чичек пасажи, ведущий с улицы Истикляль на цветочный и рыбный базары. Он расположен наискосок от Галатасарайского лицея, но вход в него, похожий на простую подворотню, нужно было знать.
В Цветочном пассаже подвалы, первые и вторые этажи были заняты ресторанчиками, кабачками, стойками, буфетами. Прямо во дворе на бочках закусывали и пили люди. Запахи турецкой кухни щекотали ноздри, пенилось в кружках пиво, и здесь всегда было много людей, особенно вечером. Кухни ресторанчиков находились на верхних этажах. Повара выглядывали из окон, откуда шли ароматные дымы, болтали с друзьями по ту сторону прохода, обменивались мнениями насчет посетителей, свистели проходящим женщинам, которые лишь совсем недавно стали появляться в этом чисто мужском собрании. Потом повара исчезали в кухнях-пещерах, чтобы готовить заказанное блюдо — фаршированные мидии, жаренную на углях барабульку, шиш-кебаб, вареные мозги.
Турецкая еда — неспешная церемония, сопровождаемая разговором, долгим, громким, эмоциональным. Слова подчеркиваются жестами, иллюстрируются мимикой, приговоры произносятся с восклицаниями, с возгласами удивления, одобрения или осуждения. Удачные остроты сопровождаются взрывами смеха, рукопожатиями, даже поцелуями. Иногда мужчины поют тонкими вибрирующими голосами любовные песни.
Свет в Цветочном пассаже всегда был неясный, и было трудно определить час дня. Между бочек ходили продавцы, предлагая контрабандные сигареты, цветы, семечки, орешки или свежую рыбу. Какой-нибудь бродячий акробат мог стоять на голове посреди двора или ходить по бочкам на руках, а художник-неудачник продавать свою мазню. В проходе прыгал карлик, и тут же пели цыгане. Как-то раз в пассаж пришел подросток, распродавая по дешевке очень хорошие зажигалки. Он не успел завершить свой бизнес, как раздались свистки, и мальчишка убежал. Оказалось, что эти зажигалки он украл в соседней лавке. Полицейские пытались выяснить, кто их купил, по встретили здоровый мужской смех.
Однажды прошел слух, что Цветочный пассаж хотят разрушить, и тогда взбунтовались все поклонники этого старого уголка Бейоглу и отстояли его.
Но уходит старый Стамбул. Последний раз побывав в городе, я не — попал в Чичек пасажи. Он сгорел. Восстановили его или нет — не знаю.
Улица Истикляль сияет витринами дорогих магазинов и дюралевыми фасадами банков. За массивными решетками ворот видны дворцы консульств или католические соборы. Прохожие одеты лучше, чем в остальном городе, но и среди них много людей в поношенных пиджаках и разбитых ботинках. Иногда важно прошествует святоша в тюбетейке, с постным лицом, кося глазами на многоэтажные рекламные щиты, на которых изображены полуобнаженные киноактрисы. Улица узка, и автомобили ползут в одном направлении — к площади Таксим. Когда им нужно свернуть, они будто ныряют в еще более узкие переулочки, круто уходящие вниз.
Последовав за ними, мы с Четином Алтаном попали в мир мелких, жалких лавок и мастерских. В них шьют, гладят, стругают, чинят, красят. Мастеровые обитают в сырых подвалах или в мансардах под черепичными крышами, где зимой промозглый холод, а летом липкая жара. Рядом — кофейни с безработными, играющими в карты, дома терпимости, крошечные забегаловки. Таков слоеный пирог Бейоглу, да и всего Стамбула. В нем все разом — и высокое и низкое, и труд и воровство, и обжористое, чавкающее богатство и черствая корка хлеба.
Мастерские попадаются чаще, когда с Истикляля спускаешься к Золотому Рогу. А на берегу между мостами Галатским и Ататюрка гремит, грохочет, звенит целый промышленный городок. Там, где располагались старые Генуэзские пристани, сейчас тесно сгрудились заводишки, мастерские и склады. На них заняты тысячи людей, но на одном предприятии самое большее — двести человек.
Как и караван-сарай Валидэ, эти кварталы дают представление о турецкой промышленности за пределами полусотни крупных и средних заводов и фабрик. Люди, похожие на гномов из подземного царства, льют металл в допотопных печах, что-то выделывают на старых, а иногда и новых станках, ремонтируют котлы и баржи. Повсюду валяются стальные листы. Мастера разрезают их на нужные куски и отдают в работу. Тащат свои страшные грузы хамалы. Рабочие, взрослые и подростки, жадно хватают у бродячих разносчиков стаканы с холодным лимонадом.
— Вот так мы и развлекаемся под сенью свободного предпринимательства, — горько говорил Четин Алтай, — перерабатывая европейский стальной лист, ремонтируя и перелатывая старье, продавая шербет, орешки, мороженое. Работу многих тысяч людей мог бы выполнить один современный завод. Но сохранение мелких и мельчайших мастерских выгодно крупным предпринимателям, потому что они могут продавать им сырье и полуфабрикаты и скупать готовую продукцию. В случае кризиса вся тяжесть ложится на мелкую сошку.
— Но здесь уже турецкий пролетариат, а не просто ремесленники.
— И да и нет. Отношения между рабочими и хозяевами в мелких мастерских патриархальны, и даже профсоюзы создать трудно. Боевые забастовки, длящиеся по многу недель и месяцев, бывают все-таки на более крупных предприятиях.
Мы вышли на берег Золотого Рога, на маленькую пристань для катеров, приходящих от Галатского моста. В беседке крепко спал на лавке рабочий. Несколько его товарищей с резкими чертами загорелых лиц о чем-то спорили.
— Вы с Черного моря? — узнав их по говору, спросил Четин Алтай.
— Да, все с Черного моря.
— А давно в Стамбуле?
— Нет, приехали год назад. В Трабзоне или Синопе не прокормиться.
— Чем вы заняты?
— Мы организовали кооператив для ремонта моторных лодок. Нужен капитал. Однако банки, будь они прокляты, требуют за кредит слишком большие проценты.
— Вы смело говорите.
— Мы узнали тебя, Четин Алтай. А кто с тобой?
— Русский корреспондент.
— Ну?!
Рабочие недоверчиво, но приветливо заулыбались, растолкали спящего и один за другим подошли пожать руку. Потом поделились своим обедом — фасолевой похлебкой с покрошенным в нее хлебом — и заказали чаю. Шел разговор о том, как трудно жить в Стамбуле, и лишь самый пожилой рабочий резонерствовал: «Аллах сотворил одних так, других эдак. Все в его руках».
Был полдень. Горячий воздух казался густым и тягучим. В грязно-масляной воде Золотого Рога замерли баржи. За ними на противоположном берегу смутно вырисовывался величественный силуэт Сулеймание.
…В Москве и Ленинграде гуляют в парках и на бульварах, по центральным улицам и набережным. В Стамбуле кроме кладбищ любимое место прогулок — набережная Босфора. Сейчас удовольствие и воздух отравляют автомашины. Правда, ветер с пролива уносит выхлопные газы, а виды бесподобны.
Холмистые берега то сужаются, то расширяются, как бы образуя цепь озер. Они покрыты деревнями, городками, восстановленными или разрушенными крепостями, мраморными дворцами, густыми парками, старыми стенами, затянутыми диким кустарником.
Прекрасный мост из Европы в Азию, построенный там, где пролив сужается, не испортил пейзаж, так как не тронул окружающие холмы. Немного севернее его на противоположных берегах стоят крепости. В средневековье их пушки смотрели на Босфор, и это место оправдывало свое название — «Богаз кесен», что дословно значит «перерезающий горло», но также — «перекрывающий пролив». Анадолу-хисар, или Анатолийский замок, был построен в XIV веке султаном Баязидом Молниеносным. Румели-хисар, или замок Румелии, был воздвигнут в XV веке на европейском берегу султаном Мехметом Завоевателем накануне последнего штурма Константинополя. Века смягчили жестокие линии военных крепостей, хотя в их башнях угадываешь средневековую мощь. В Румели-хисаре сейчас летний театр, а за ее стенами расстилаются зеленые холмы и долины, на которые наступает город.
Над Румели-хисаром раскинулись учебные корпуса в викторианском стиле. Это Босфорский университет, бывший Роберт-колледж. Дорога к нему ведет по тенистым ухоженным аллеям, и уже сами подъезды создают атмосферу привилегированного учебного заведения, основанного в прошлом веке на американские деньги.
В библиотеке университета одна из богатейших в Мире коллекций книг о Стамбуле. Немало часов просидел я здесь в маленьком зале, обитом красным деревом. На стеллажах теснились древние фолианты в кожаных потертых переплетах. Через раскрытое окно доносились звуки ударов теннисных мячей и молодые голоса, смолисто пахло соснами-пиниями. Я просмотрел около сотни книг, и мне стало грустно. Какую тему пи возьми, по-настоящему углубиться в нее — нужна жизнь, но она у тебя одна, отпущено тебе так мало, а хочется сделать так много…
Когда я впервые приехал в командировку в Стамбул, наш генеральный консул любезно предложил мне остановиться на консульской даче в Бююкдере. Я согласился и не пожалел. Дача — деревянное палаццо XVIII века, вокруг нее — старинный парк, где дети ловят дюжинами небольших черепах, в прошлогодней листве скрываются змеи, а в расщелинах скал-скорпионы. По водопроводу течет ключевая вода, ее можно пить прямо из-под крана — редкое удовольствие в Турции. Во всем Стамбуле, мне кажется, нет воды вкуснее. Участок выходит прямо на набережную.
Я вышел на Босфор. От пролива тянуло приятной свежестью. Купальщики, хотя и немногочисленные, плескались в воде или лежали на тротуарах. Мимо шли девушки, затянутые в синие джинсы. Уже появились модницы в юбках-макси и в платьях двадцатых годов — «мечта наших бабушек» — или в балахонах, похожих на слегка подрезанную монашескую рясу.
Консульская дача расположена как раз между двумя городками — Бююкдере, лежащим южнее ее, и Сарыером — севернее. В Сарыере около рыбного базарчика меня окликнули оборванные мальчишки, чистильщики сапог. Я остановился, посмотрел на свои пыльные ботинки, вспомнил, что мне предстояло идти на прием, и поставил ногу на приступку ящика. Мальчишка заработал пальцами, щетками, суконками.
— Ты откуда?
— Я из Карса.
— А что ты здесь делаешь?
Мальчишка удивился: странный вопрос, ясно — зарабатывает деньги, но вежливо ответил:
— Отец без работы, есть надо.
— Сколько у тебя клиентов в день?
— Иногда три, иногда пять, иногда никого.
Я прикинул: мальчик не голоден, но, чтобы купить себе ботинки, ему надо работать полмесяца. А от Босфорского университета он отделен непроходимой стеной.
— Ты умеешь читать и писать?
— Да. Я кончил пять классов.
— А ты? — обратился я к его соседу.
Тот что-то произнес в ответ, но я не понял.
— Да он же курд, он плохо говорит по-турецки, — сказал мой чистильщик.
Я расплатился.
— До свидания, маленькие мастера, — сказал я, и лица детей расплылись в улыбке.
На рыбном рынке лежали плоские камбалы, большие, с пупырышками. Продавцы оттягивали им жабры, демонстрируя свежую багровость. В корытах плескалась живая рыба. Серебрилась кефаль, темнели окуни, голубели луфари, розовели куски тунца. За рыбным рынком, прямо на причале были протянуты парусиновые полотна от солнца и дождя. Покачивались рыбацкие фелюги, кто-то чинил сети, кто-то стирал белье. Вдоль причала были поставлены столики. На углях жарили рыбу. Тут можно было посидеть, слушая плеск волн, вдыхая запах морского ветра, смолы, морских сетей, дыма и анисовой водки. Рядом за стеной находился большой и дорогой рыбный ресторан. Рыба в Турции вообще дорога — вдвое-втрое дороже мяса, а в рыбных ресторанах и подавно. Дешева лишь низкосортная рыба. Ее жарят прямо на лодках и продают с куском хлеба, завернутым в газету. Здесь, на причале, можно было поужинать за умеренную цену.
Рыбные ресторанчики в Сарыере, Тарабье, Бебеке, Арнавуткее привлекают стамбульцев разных классов и сословий. Но сами рыбаки в них не ходят. Они сидят на берегу в кофейнях или чайных. Если ты им понравишься, они могут рассказать о секретах рыбной ловли, о достоинствах и недостатках различных лодок и фелюг, которые проходят по Босфору, перечислят названия каждого их вида. Когда начинается ход голубого луфаря, самой вкусной и популярной рыбы в Стамбуле, рыбаков уже не встретишь на берегу. Они работают день и ночь, потому что удачный улов может обеспечить их на год. Луфарь особенно хорошо ловится ночью, и в воду опускают специальные лампы, чтобы привлечь рыбу. Флотилия лодок кажется тогда хороводом ярких светлячков, танцующих над темным течением. А вокруг и выше их — созвездия огней на холмах двух частей света.
Все стамбульцы, особенно рыбаки, — специалисты по розе ветров. Они расскажут, что один из самых обычных, довольно сильных ветров дует с северо-востока и называется «пойраз» (от греческого слова «бореаз»). Северный ветер именуется «йылдыз» (звезда), так как он приходит прямо со стороны Полярной звезды. «Караель» (черный ветер) прилетает с Балкан зимой и может иногда заморозить Босфор. «Мельтемы» — легкие, приятные бризы, которые тянут от берега летом. «Кешишлеме» приходит с юго-востока, с гор Бурсы.
Самый худший из всех — южный ветер «лодос», жаркий, злой, иссушающий. Когда он дует, то не освежает, а будто раздувает жаровню с углями. Он бывает порывистым и сильным, выдергивает с корнями деревья и парализует каботажное судоходство в Мраморном море. Стамбульцы ненавидят «лодос». Он оказывает такое угнетающее воздействие на психику, что раньше судьям запрещалось выносить приговоры в дни, когда он дул, потому что этот ветер мог сделать их несправедливыми и мстительными. Людям, совершавшим преступления, когда свирепствовал «лодос», находили смягчающие обстоятельства.
Однажды я вышел прогуляться в Бююкдере и свернул на улочку Посольств, которая уходила круто вверх. В домах суетились хозяйки, моя, стирая, стряпая. Дети играли на солнце. Мужчины сидели внизу в «читальнях», попивая чай или кофе, играя в нарды и карты. Там же, внизу, на одной улице было сосредоточено все: лавки, с десяток бакалейных и столько же галантерейных, пяток овощных, три мясных и, конечно, столовые, буфеты, забегаловки, просто чайные. Бююкдере и Сарыер считаются дачными пригородами Стамбула, и летом в них много приезжих.
В закоулках Бююкдере осталось много романтичных деревянных домов, увитых плющом и виноградом. Я фотографировал их фасады. Почерневшее деревянное кружево наличников, балконов, выступов окон удивительно напоминало резьбу на русских избах, но мотивы узоров были другие. В Бююкдере, как и повсюду на Босфоре, много платанов с раскидистыми ветвями. Говорят, что под одним древним почтенным деревом в этом месте отдыхал герцог Готфрид Бульонский перед крестовым походом.
За каждым поворотом улицы открывался вид на Босфор, да такой, что можно было смотреть долго, не отрываясь. Босфор-работяга нес на себе рыбацкие фелюги, грузовые баржи, морские трамваи. Большие советские суда деловито и ровно шли вдоль пролива, иногда давая басовитые сигналы.
Наверху становился суше воздух. И запахи были другие. Исчезли ароматы побережья и субтропического леса, хотя я не поднялся и на три сотни метров. Щебетали и щелкали птицы. Пахнуло свежим сеном, навозом, чем-то знакомым и домашним, будто ты перенесся куда-нибудь в Поволжье, на Суру. Прямо на Бююкдере начинались поля и огороды.
Дальше на плато шел Белградский лес. Его дубы тянулись когда-то до площади Таксим, куда сейчас упирается Истикляль. Город агрессивно двинулся на дубраву и отнял у нее два десятка километров. Белградский лес, густой и тенистый, с несметным множеством грибов, которые никто не собирает. Русские за два-три часа набирают по полному багажнику отличных белых и подберезовиков, а турки смотрят на нас как на самоубийц.
По воскресеньям стамбульцы занимают не только берега Босфора. Переполненные электрички, маленькие суда, долмуши отвозят людей на пляжи Черного или Мраморного моря. Купание популярно среди горожан. Но благоустроенные пляжи стоят дорого и превратились в выгодный бизнес. В 1920 году на Мраморном море в районе Флория высадились остатки армии Врангеля. Русские офицеры устроили первый в городе пляж, сюда же начали приезжать турки. Потом Флорию посетил Мустафа Кемаль и стал часто сюда наведываться. Сейчас она — один из южных пригородов Стамбула.
Когда горожане Стамбула устают от своего города, они уезжают на Принцевы острова в Мраморном море. Если берега Босфора по климату напоминают Сочи, то лежащие в нескольких километрах от них острова — это почти Крым. По вечерам стамбульцы могут сидеть в кофейнях на берегах островов и видеть мерцающие за морем огни своего города.
Главный остров Бююкада византийцы называли Прин-капо (Остров принца). Долгие годы он служил местом ссылки неугодных византийскому двору людей. Императоров, принцев, патриархов перевозили сюда, ослепляли, пытали, просто заключали в монастырях или подземных тюрьмах. Много страшных историй могли бы рассказать острова, созданные для человеческой радости и наделенные сказочной красотой. Они лежат в невероятно густой лазури моря, покрыты роскошными садами и рощами пиний, зарослями мимозы и жасмина и благоухают весной и летом.
Сейчас от императорских дворцов, монастырей и церквей остались руины. Острова — дачное место для тех, у кого тугие кошельки. Сами деревянные виллы, сохраняющие стиль начала века, стук копыт лошадей, запряженных в фаэтоны (использование автомобилей здесь запрещено), деревенская тишина рядом с ревущим большим городом — все это доступно немногим. Простой стамбулец может купить билет на теплоход у Галатского моста, провести день на «диком» пляже и вернуться к вечеру в город.
За Сарыером на небольшом холме над Босфором стоит простой деревянный домик над могилой некоего Телли-бабы. Сюда меня привело придорожное шоссе, по которому неслись машины. Мимо проплыло исследовательское судно «Гломар Челленджер», которое бурило дно Черного моря на глубине нескольких километров. В работах участвовали советские и американские специалисты. Рекламный щит фирмы «Шелл» закрывал указатель: «Могила Телли-баба». У надгробия склонились старые женщины и девушки, укладывая на камень блестящие нити, похожие на нашу елочную мишуру. Снаружи на деревья вешали ленты, на земле сооружали горки из камней: если последний камень устоит — желание сбудется, если упадет — не сбудется. Многие стамбульцы верят в мистическую силу Телли-бабы улаживать семейные дела или находить девушке жениха.
Может быть, иностранец, знакомый лишь с ортодоксальным исламом удивится, что в Стамбуле много могил святых, потому что в официальном мусульманстве нет этого «института». Однако на практике суфийская и дервишская мистика без святых пе обходится. Обычно их зовут «баба» или «деде», то есть «отец» или «дед». Телли-баба — один из самых известных. Но есть мавзолеи, которые посещают торговцы или пьяницы, студенты или спортсмены.
Среди живых, осененных символом святости, пользовался известностью водитель долмуша, фанатичный болельщик за футбольный клуб «Галатасарай». Шофер одевался в оранжевые цвета своей команды, называл детей именами любимых игроков и заставлял всех пассажиров перед посадкой клясться в преданности «Галатасараю». Перед каждой игрой он появлялся на площади Галатасарай и молился за победу своей команды, перебирая оранжевые и желтые четки.
Во время первой осады Константинополя арабами в VII веке под его стенами был убит знаменосец пророка — Эйюб. Легенда гласит, что его могилу чудесным образом открыли турки и воздвигли на ее месте одну из самых крупных мечетей, от которой и тянется известное кладбище. В ней происходила церемония опоясывания мечом нового султана — османский эквивалент коронации.
В одну из пятниц мы пришли сюда с Четином Алтаном. Женщин во дворе мечети было больше, чем мужчин. Они были в пальто, несмотря на жару, многие — в крестьянских шароварах, покрыты платочками, некоторые даже с легкой вуалью на лицах. Степенно прохаживались мужчины с черными и белыми бородами, в тюбетейках или беретах, все с четками. Женщины у мавзолея Эйюба были заняты тем, что прилепляли деньги к стене. Если монетка приклеится — желание исполнится, если не приклеится — не сбудется.
— Вы накапайте со свечи воску на монету, тогда наверняка приклеится, — посоветовал Четин Алтай одной из них.
— Так нельзя, тогда у всех приклеится.
— Как же вы делаете?
— Мы плюем на монету или мажем ее сахарным сиропом, а потом пытаемся прилепить.
К Эйюбу собираются женщины, которые хотят забеременеть, благополучно родить ребенка, удачно выйти замуж, пытаясь решить земные заботы с помощью вмешательства потусторонних сил.
Две женщины в черном, с аскетичными лицами затеяли яростную перебранку. Черты исказила ненависть, а препирательства чуть не закончились дракой. Оказалось, что они чтицы Корана и оспаривали клиентов. Возле мечети Эйюба всегда много полицейских. Они сказали нам, что бич верующих — карманники и мелкие воришки, которые таскают обувь, оставленную у входа в мечеть, поэтому многие берут обувь с собой в полиэтиленовом мешочке.
Религиозные чувства многих жителей Стамбула, как и всей Турции, окрашены поверьями и предрассудками, оставшимися от прошлого — шаманистского и христианско-дотурецкого. Многие турки боятся разрушенных домов, заброшенных могил или покинутых бань. Но больше всего они страшатся «дурного глаза», который, в их представлении, либо синий, либо голубой. Относясь к голубоглазым, я замечал, что в турецких деревнях некоторые люди избегали моего взгляда, поэтому я надевал темные очки. Но в Стамбуле много голубоглазых, и от всех не убережешься, поэтому слова «чур меня!» заменяет большая бусинка голубого цвета. Ее увидишь в кабине шоферов, в кабинетах ученых, в конторах банкиров. «Дурной глаз» особенно опасен для маленьких детей. Расхваливая их, нужно не забывать произносить «Машалла» («Так пожелал Аллах»), «Машалла» написано на грузовиках и автомашинах, но если судить по количеству катастроф, то вряд ли это изречение помогает.
Кого не спасла бусинка и кто попал под воздействие «дурного глаза», должен забыть о современной медицине и обратиться к знахарю. Тот прочтет заклинания: «Белый глаз, черный глаз, голубой глаз, зеленый глаз, карий глаз, чтобы ни сотворил «злой глаз», мы преодолеем его колдовство!». От «дурного глаза» есть и рецепты: «Укради кусочки дерева от дома врага, сожги их, собери пыль с семи лавок, смешай ее с пометом аиста, тминными зернами, сожги и вдохни дым… Собери пыль с семи лавок, паутину, крылышко летучей мыши, свеклу, украденную у соседа, смешай все это, распусти в воде и вымойся ею под аркой. Когда тебе снятся кошмары, выйди обнаженным на перекресток дорог, посыпав голову пылью с семи лавок…» Если вас задержат за неприличное поведение, видимо, нужно предъявить рецепт знахаря. Поверит ли полицейский? Не знаю. Я не пробовал, хотя иногда страдал бессонницей.
Племя знахарей и колдунов в Стамбуле не уменьшается, хотя в городе с османских времен много врачей. Еще Эвлия Челеби писал, что четвертая секция в процессии гильдий возглавлялась главным медиком двора. За ним шла тысяча врачей, называемых сейчас терапевтами. Следом шествовали окулисты, аптекари, зубные врачи, хирурги. Впрочем, к народной медицине и в наши дни в Турции стали относиться серьезно, и некоторые лекарственные растения продаются в аптеках.
— У каждого города есть свое лицо и своя личность, — говорил писатель Яшар Кемаль. — Лицо — это камни, то есть здания и монументы, личность города определяют его жители. Но люди небезразличны к камням, к прошлому, к другим людям, жившим вчера и тысячи лет назад.
С годами Стамбул становился для меня ближе и понятнее не только потому, что я измерил его пешком вдоль и поперек и прочитал о нем много книг. Деловые, дружеские, бытовые контакты превратили Стамбул в город знакомых людей, открыли хоть немного и его личность, и его лицо.
В Стамбуле меня привечали турецкие писатели. Их дружеское внимание я считал для себя честью. Яшар Кемаль — один из них.
Он жил в Басынкее на берегу Мраморного моря, где писатели и журналисты построили кооперативные дома. Я приехал к нему знакомиться, предварительно позвонив. Мы почувствовали взаимную симпатию. Яшар Кемаль оставил меня ужинать, и я уехал во втором часу ночи. Яшар Кемаль показывал картины, подаренные друзьями, свои книги, переведенные в Англии, Франции, Швеции, и ворчал:
— Все обещают издавать меня в Советском Союзе, но, кроме «Тощего Мамеда» и «Жестянки», ничего нет.
Я успокаивал его:
— Все еще впереди, вы прославитесь и в Союзе.
— Если когда-нибудь я соберусь писать мемуары, то назову их «Волк с колокольчиком», — говорил Яшар Кемаль. — Анатолийские крестьяне, поймав волка, иногда не убивают его, а в наказание за порезанных овец вешают на шею колокольчик. Такой волк не может бесшумно подкрасться к жертве и в итоге подыхает с голоду.
— Так вот, — смеялся писатель, — полиция давно повесила мне на шею колокольчик «красного». Что ж, я действительно «турецкий красный» и друг Советского Союза.
Утром Яшар Кемаль работал. После обеда он иногда гулял по любимым уголкам Стамбула, беседовал с людьми. Обдумывал планы на следующий день. Его друзьями были мальчишки, рыбаки и птицеловы. Яшар Кемаль любил покупать птиц, чтобы выпустить их на волю.
— Сюжеты моих книг вырастают из истории жизни каждого человека, которого я знаю или о котором слышал от других. Поэтому все мои знакомые — мои соавторы.
Писатель бродил с диктофоном вокруг вокзала Сиркеджи, подготавливая репортажи о стамбульских детях. Он брал меня с собой. Мы встречались с беспризорниками и маленькими ворами, с подростками-алкоголиками и двенадцатилетними проститутками. Это были встречи, которые оставляли в сердце кровоточащую рану. Маленькие люди, брошенные на дно жизни с душами нежными, но искалеченными и очерствелыми, тянулись к этому полному, шумному человеку как цветки к солнцу. Все лучшее, что пряталось в тайниках их сердец, раскрывалось, когда они общались с ним. Свои репортажи писатель опубликовал в «Джумхуриет» и многим детям помог выбраться из трясины.
Яшар Кемаль пишет романы-эпопеи из народной жизни, красочные, полнокровные, страстные.
— Мой учитель — Лев Толстой. В этом я не претендую на оригинальность. Я год изучал «Войну и мир». Год! — восклицал он, по своему обычаю увлекаясь. — Структуру, композицию, развитие сюжета, действующих лиц… Я хочу писать эпические вещи с элементами Чехова.
Яшар Кемаль, как почти все турецкие писатели, которых я знал, прошли через тюрьму и аресты.
— Мы — интеллигенция страданий и жертв, как русская дореволюционная интеллигенция, — говорил Яшар Кемаль. — Вспомним хотя бы Назыма Хикмета. Я считаю, что его роль в турецкой литературе такова же, что и Пушкина в русской. Как это произошло? Назым Хикмет — человек высочайшей культуры. Сын паши, у матери французское образование. Он знал французский язык, европейскую литературу, читал по-арабски и по-персидски и вдруг попал в революционную Россию, которая была передовой в театре, поэзии, литературе, политике. Дружил с Маяковским и Мейерхольдом. Вернулся в Турцию и… писал просто хорошие стихи, а не великие хотя был талантливым. Почему? Чего ему не хватало? Он попал в тюрьму, и в тюрьме родился великий поэт. Дело не только в страданиях. В тюрьме он по-настоящему узнал народ, жителей Анатолии, впитал в себя их язык, культуру, песни, легенды. Он стал Назымом Хикметом.
— Подавление народной культуры — преступление перед человечеством, — продолжал писатель. — У каждой национальной культуры свои особенности, свой цвет. Но вместе с тем богатство анатолийской культуры увеличивается благодаря ее взаимодействию с другими культурами. Я говорю о взаимодействии, а не о подражании. Мир не разделится на тысячу частей, если каждый народ будет дорожить своей культурой. Человечество не разъединится, оно включит в себя тысячу разнообразных оттенков, составит единый многоцветный сад. Не будучи национальным, не выражая страдания и радости своего народа, родной земли, искусство и литература теряют право называться общечеловеческими… Я призываю к правде, к двум величайшим в мире источникам творчества — народу и природе. Призываю к основе, к корню, к бессмертному, к великому — народу и природе.
— Как вы видите будущее Турции? — как-то раз спросил я его.
— Турция — великая страна по природе и человеческому потенциалу. Вот погодите! Что у нас будет через пятнадцать-двадцать лет!
— Возможно ли быстрое развитие Турции при нынешнем строе?
— В любом случае мы лидеры Ближнего и Среднего Востока, — загремел Кемаль. — У нас медь, хром, железо. У нас нефти больше, чем в Иране, но только монополии не хотят ее искать…
— Видите ли, может быть, нефть есть, может быть, нет. Нужно разведать, начать бурить…
— Вы ничего не понимаете! Нефть есть в огромных количествах!..
Один турецкий писатель говорил мне: «Яшара Кемаля нельзя понять, исходя из одних литературных канонов или социологического анализа. Чтобы его понять, выйдите с ним в поле и сорвите цветок. Яшар начнет рассказывать об этом цветке, и вы забудете обо всем на свете. Он не устанет рассказывать и полчаса и час, а вам не наскучит слушать».
Если Яшар Кемаль чем-нибудь увлекался, он верил в это полностью и безоговорочно. Его энергия и обаяние захватывали. Что-то бальзаковское было в его мощной фантазии, в страстности, в увлеченности, даже в манере общаться с людьми и просто есть и выбирать блюдо. Ужин он мог превратить в действо. Однажды он пригласил меня в рыбный ресторан на Босфоре, у Тарабии. Его там знали. Официанты подходили и говорили, что читали его последние книги. Метр провел нас на кухню, и Яшар Кемаль лично выбирал луфарей, лангустов, не забыв брынзу и йогурт, салаты, а на десерт — землянику и кофе. Скромные хохломские ложки, что я ему привез, вызвали у него поток ассоциаций, и он долго рассуждал о русской и турецкой культуре, о наших связях.
— Что бы ни визжали наши правые, мы, русские и турки, походим друг на друга…
Азиз Несин, один из лучших сатириков мира, принимал меня с тем вниманием, простотой и достоинством, которые идут от душевной глубины и культуры и исключают чванство и заносчивость.
Беседы с ним освежали ум и душу.
Азиз Несин выводит комических героев в трагических обстоятельствах. Подобно Гоголю, он смеется там, где как будто нужно плакать.
Турецкие писатели трудолюбивы и плодовиты. Одна из причин в том, что пером трудно, порой невозможно прокормиться. Из-под пера Азиза Несина вышло около двух тысяч рассказов, несколько повестей, романов, пьес. Многие из них переведены на русский. Но лишь годам к пятидесяти литературный труд стал давать ему устойчивый заработок. Представить себе турецкого писателя, который за всю жизнь написал бы одну-две книги, а потом стриг купоны, вообще нельзя.
— Вы пользуетесь диктофоном? — спросил я его.
— Нет. Я пишу. Сначала — арабским шрифтом, как я привык в детстве, потом перепечатываю латиницей на машинке.
— Вы много работаете над своими вещами?
— Раньше я вынужден был публиковать недоработанные вещи. Сейчас — нет. У меня досье — может быть, шестьсот папок, может быть, тысяча. Я не считал. Каждый замысел я храню в папке. Вот в этой папке много страниц, в этой — одна страничка. Вот здесь написанная вещица лежит уже четырнадцать лет. Я никак не соберусь ее докончить. В этой папке уже десять лет одна мысль. Пусть полежит…
— А что, например, в этой вот папке на столе?
— Я полгода делал одну повесть. Прочитал уйму книг по психиатрическим болезням. Работал санитаром в сумасшедшем доме. Моя жена говорит, что я стал похож на шизофреника. Написал, перепечатал, отложил, отдохнул, перечитал и увидел: не удалось. Пусть будет тысяча первая папка.
— Труд каторжный!
— Таков наш удел. Поэт может быть ленивым, писать по вдохновению. Иногда у него может что-то получиться. Писатель — это труд. Он должен встречаться с людьми, читать, писать, переделывать, разочаровываться…
— Раньше говорили о разрыве между стамбульской и анатолийской интеллигенцией. Сейчас этот разрыв сохраняется?
— Разрыва нет. Есть различия. И покойный Орхан Кемаль, и Яшар Кемаль — оба из Анатолии, из Чуку-ровы, а стали стамбульцами. Но, пожалуй, стамбульская интеллигенция более рафинированная, европеизированная и — увы! — более склочная. Анкарская ближе к народу, более спаянная. Условия позволяют в Анкаре больше работать и чаще встречаться с друзьями. А здесь, чтобы съездить к другу на той стороне Босфора, я должен взять сначала долмуш, затем сесть на паром, дальше — на электричку, на такси — как поездка за границу. У меня куча приглашений на приемы, но я очень редко хожу. Когда бы я стал работать?
— Как вы оцениваете место турецкой литературы в мире?
— Я считаю, что наша литература на уровне европейской. В других областях мы отстаем, но литература в небольшой Турции стала наследницей большой Османской империи, впитала вековые традиции классической и народной культуры. Одновременно на нее оказала влияние литература Запада и социалистических стран. Мы создали оригинальную, полнокровную литературу. Турецкая литература, если она прогрессивна и талантлива, не националистична. Однако в Западной Европе к нам относятся с предубеждением. Слава европейских писателей нашего калибра громче, чем турецких.
— Каково место турецкой литературы в обществе?
— Сейчас есть разрыв между официальной идеологией и литературой, между правительством и большей частью интеллигенции.
— А когда-нибудь было единство?
— Да, при Ататюрке.
— Со всей литературой?
— Ну, с большей ее частью. Конечно, Назым Хикмет и другие марксисты считались противниками режима, но с большей частью литературы было единство.
— А после смерти Ататюрка?
— Назым Хикмет тринадцать лет провел в заточении и тринадцать в изгнании. Прекрасный новеллист Сабахаттин Али долгие годы был за решеткой и погиб от руки фашистского убийцы. Известный романист Кемаль Тахир тринадцать лет томился в застенках. Орхан Кемаль просидел в тюрьме четыре с половиной года, всю жизнь искал работу и заработок. Саид Файк, автор лучших турецких политических рассказов, не мог найти работу и жил за счет богатой матери. Поэт Орхан Вели умер молодым от туберкулеза и нищеты. Поэт Рыфат Илгаз был лишен работы учителя, брошен в тюрьму…
Жена Азиза Несина принесла нам крепкого чая в маленьких стаканчиках. Чай был приятный, с медовым запахом, со своим особым букетом.
— Откуда у вас этот чай?
— Мы сами делаем. Смешали цейлонский, грузинский, индийский, китайский и получили свой собственный чай. Только не вздумайте использовать наш чай как образ турецкой литературы. Она растет на своих корнях.
— Но все-таки питается достижениями мировой литературы.
Азиз Несин подумал и согласился.
Его квартира обставлена просто. Много книжных полок, много кактусов с острыми шипами. Иногда цветы и растения люди тоже подбирают под стать темпераменту.
Приятной стороной бесед с Азизом Несином была его обезоруживающая, но порой агрессивная откровенность. Однажды я был у него в гостях вместе с поэтом Ираклием Абашидзе. Азизу Несину привезли перевод его книги «Король футбола», рецензию на нее в журнале «Книжное обозрение», миниатюры из «Бабур-намэ», изданные в Ташкенте. Несин был доволен. Мы коротали вечер, подогретые ракы, и рассказывали анекдоты. Беседа случайно перешла на его недавнюю поездку в Болгарию.
— Мы обедали в Доме писателей, — стал рассказывать Несин. — На стене висели лозунги и фотографии красивых девушек в купальниках. Что это? «Реклама спортсменок», — сказал я. Моя жена возразила: «Нет, это конкурс красоты». — «Не может быть! Болгария — социалистическая страна». Спросили. Оказалось, действительно конкурс красоты. Болгарские журналисты потом меня спрашивали: «Что вам у нас не понравилось?» — «Все понравилось». — «Ну нет, вы сатирик, должны замечать недостатки». — «Все понравилось». — «Так не бывает, скажите честно». — «Ну ладно. Зачем вы устраиваете конкурс красоты?» — «Чтобы заработать деньги». — «Но ведь это капиталистический способ заработать деньги. Как можно выделять человека просто так, без его труда? Принцип социализма: каждому — по труду. Какой труд быть красивой девушкой? Соревнования, скажем, спортивные требуют труда, даже соревнования культуристов требуют труда. А здесь?»
Азиз Несин не горячился, но упорно стоял на своем. Я попытался обратить разговор в шутку.
Писатель шутку принял, перевел разговор на другую тему, но явно остался при своем мнении.
Расстались поздно и, когда мчались по бесконечным улицам Стамбула, говорили с Абашидзе о том, какие обязательства накладывают на нас наши принципы, как внимательно следят за нашей жизнью и враги и друзья. И пусть они оценивают нас через призму своего общества, культуры, воспитания, психологии — это не уменьшает, а увеличивает нашу ответственность и перед самими собой, и перед всем миром.
Последний раз я встретился с Яшаром Кемалем и Азизом Несином в издательстве «Джем», расположенном недалеко от Сиркеджи, в кабинете его директора Огуза Аккана. «Джем» публиковал немало турецких левых, переводил русских и советских писателей. Азиз Несин, занятый своими мыслями, сидел на диване и потягивал чай. Яшар Кемаль расхаживал по комнате и говорил:
— Алексей, хорошо, что вы ходите в редакции газет и издательства. Времена меняются к лучшему. Когда в пятидесятые годы я работал в «Джумхуриет», к нам иногда заглядывал корреспондент ТАСС Владимир Попов, а у дверей дежурили шпики.
— Вы думаете, что сейчас все изменилось?
— Ну, хватит же у них ума не ходить по пятам.
Я выглянул в окно. Сыщики, что постоянно следили за мной, маячили на противоположной стороне улицы. Их «фольксваген» прятался в соседнем переулке около здания губернаторства.
После сентябрьского переворота Яшар Кемаль вынужден был жить за границей. В начале января 1983 года на скамье подсудимых оказались 18 членов руководства Синдиката писателей Турции. Среди них был и его основатель Азиз Несин. Их обвинили в «нелегальной деятельности и коммунистической пропаганде», организации собраний, посвященных памяти Назыма Хикмета, участии в первомайских демонстрациях, в поддержке движения за отмену смертной казни.
На процессе Азиз Несин сказал: «Статьи 141 и 142 действующего уголовного кодекса Турции, грозящие суровыми карами за «коммунистическую деятельность», носят откровенно антидемократический характер. И если существуют правосудие и совесть, нас осудить нельзя. Но если на этот раз свершится несправедливость, пусть все знают, что даже самым жестоким обвинительным приговором нас не сломить».
…Прошло несколько лет. Прекрасный и великий город на Босфоре после нового военного переворота пережил самые страшные времена за несколько десятилетий. Почти все, кого я знал в Стамбуле в семидесятые годы, побывали в тюрьмах, многих из них пытали. Проплывая недавно на теплоходе по Босфору и любуясь одним из самых великолепных природных и городских ландшафтов мира, я вновь подумал о жизни, что протекает не на сцене, а за этими роскошными кулисами, и вспомнил своих стамбульских друзей и знакомых — с болью, грустью и теплотой.
1975, 1983 гг.
ГОЛОВА ВЕЛИКАНА НА ТЩЕДУШНОМ ТЕЛЕ
Во все времена плодородная земля Египта была бесценным достоянием. Ее неохотно отводили под застройки. Главные города Дельты расположены около моря или пустыни. Лишь беспардонная урбанизация, а также демографический взрыв последней четверти века превратили Такту в центре Дельты в крупный город. Все остальное — по ее краям: Александрия, Розетта, Дамиетта, Заказик, города зоны Суэцкого канала. На протяжении истории и в Верхнем Египте не было крупных городов, за исключением Фив (нынешнего Луксора). Сейчас там, как и в Дельте, положение меняется — по тем же причинам: Асьют приближается к полумиллионной отметке, растут Асуан, Кена. В целом по Египту земли, освоенные с помощью высотной Асуанской плотины, едва-едва покрывают убыль плодородных сельскохозяйственных земель, занимаемых под строительство.
Но если ни в Дельте, ни в Верхнем Египте не было крупных городов, то при их соединении возник Каир. Здесь естественное место для «сверхгорода» любой эпохи. В пределах нынешнего каирского мегалополиса или в его ближайших пригородах оказались все прежние столицы объединенного Египта — Ун (Гелиополис), Мемфис, Фостат, средневековый мусульманский Каир. Он стал естественным общенациональным центром. Каир — связующее звено не только между Верхним Египтом и Дельтой. Даже из одного конца Дельты в другой чаще ездят через столицу, потому что транспортные связи внутри ее затруднены из-за большого количества каналов, а от столицы лучами идут хорошие магистрали.
Александрия была египетской столицей в греко-римско-византийские времена. Тогдашние хозяева страны пришли из-за моря, нуждались в постоянном притоке солдат извне и опасались раствориться в массе египтян, оказавшись в самом ее центре. В мусульманские времена — после VII века нашей эры — Александрия пришла в относительный упадок и начала возрождаться в качестве морских ворот Египта в XIX в. Но из-за большого числа иностранцев, особенно греков и итальянцев, она еще недавно считалась городом «хавагат», как в Египте именовали иностранцев, и не могла стать конкурирующим центром национальной жизни.
У Каира по столичному стажу на Ближнем Востоке: есть конкуренты. Но Каир для Египта всегда значил больше, чем Дамаск для Сирии или Багдад для Ирака. В отличие от Сирии и Ирака Египет не знал регионализма, местной автономии, претензий отдельных областей на самостоятельность. Его провинции просто не могли и не могут существовать как самостоятельные единицы, что было возможно и в Сирии, и в Ираке.
«Каир — центр притяжения национальной жизни в такой же степени, если не в большей, как Париж для Франции. В нем — четверть всего населения, а в Дельте и Верхнем Египте примерно равное число жителей. Каир как бы держит веер Дельты и ручку Верхнего Египта при их соединении», — писал египетский историк, и социолог Гамаль Хамдан.
Египет, пожалуй, единственная страна в мире, которая сохранила себя как непрерывно функционирующее государство (за редчайшим исключением) единое государство на протяжении шести тысяч лет. Даже захваченный чужеземцами, он никогда не был поделен между кем-либо, всегда принадлежал кому-нибудь одному. Близлежащие Сирию или Ирак могли захватить полностью или частями. Их делили, раскалывали, объединяли. Но хозяйственный механизм Египта, централизованная система ирригации, рельеф местности, водные коммуникации по Нилу и каналам, легкая доступность любой части страны требовали и предопределяли единство. Для сильных завоевателей стояла отнюдь не проблема установления контроля над Египтом, а задача добраться до него. Достаточно было захватить столицу, чтобы завоевать и контролировать всю страну. Просто на местах не было материальной базы для сколько-нибудь долгого сопротивления. Единственное исключение — гиксосы, завоевания которых в XVII веке до нашей эры ограничились Дельтой, а центр сопротивления на триста лет переместился в Верхний Египет. Но тот период чудовищно далеко отстоит от нашего времени, и слишком многое в истории той эпохи неясно. Можно предположить, что предпосылкой того завоевания был какой-то природной катаклизм, вызвавший оскудение Нила, и Дельта из полей и болот превратилась в удобные пастбища для кочевников-гиксосов.
Централизованная структура Египта, его размеры, характер хозяйства предопределяют господство столицы во всех отношениях — не только в политике, но и в промышленности, торговле, в культурной жизни. Поэтому говорят, что у Египта огромная голова и тщедушное тело. Так было при фараонах, при Птолемеях, при мусульманских правителях. Такая же ситуация и сейчас.
История Египта была историей его столиц. Провинция кормила столицу, обеспечивала ее продовольствием, товарами, финансами, очень мало, а иногда ничего не получая взамен. О роли столицы в Египте нового и новейшего времени свидетельствуют и гиганты старой египетской историографии — аль-Габарти, а до него — аль-Суюти и Ибн Ияс. Конечно, некоторые районы в Египте играли по-своему важную роль, но в очень ограниченных пределах. За последний век развилась зона Суэцкого канала, однако и она осталась Золушкой столицы.
Александрия во времена Птолемеев насчитывала примерно один миллион жителей, тогда как максимальное население Египта не превышало десяти миллионов. Каир и в средние века был одним из крупнейших городов своего времени, хотя вес Египта по отношению к другим государствам резко уменьшился в демографическом, хозяйственном, политическом и культурном отношении. Итальянский путешественник Пилотти в XV веке писал: «Каир — самый большой среди городов мира, которые мы знаем».
Во времена французской экспедиции в Египет в конце XVIII века население страны сократилось до 2,5 миллиона человек, и в Каире проживала примерно десятая часть всего ее населения. Город не рос примерно полвека, хотя численность феллахов более чем удвоилась. Соотношение провинции и столицы постоянно смещалось в пользу Каира во второй половине прошлого века — в первых десятилетиях нынешнего. Затем с сороковых годов рост города стал ускоряться. Его население удвоилось с 1882 по 1914 год. Следующее удвоение заняло 25 лет, и рост продолжает набирать темп. Сейчас в Большом Каире (включая Гизу, Шубру аль-Хейму, другие города) — более 12 миллионов жителей, и каждый год в городе прибавляется триста — триста пятьдесят тысяч человек.
Ныне Каир входит в десятку самых больших городов мира. Столица Италии, где общее число жителей больше, чем в Египте, вряд ли имеет треть населения Каира. Столица Египта — самый большой город не только Ближнего и Среднего Востока, но и всего Старого Света, вплоть до Индии.
Урбанизация — одно из веяний нашего времени. Она охватила весь мир и существенно меняет его облик, характер, социальную структуру. В этом процессе в нашем столетии можно выделить два принципиально различных периода: до середины века большая часть общего роста городского населения планеты приходилась на промышленно развитые капиталистические страны и СССР; с пятидесятых годов главный прирост дают развивающиеся государства. В 1920 году на них приходилось менее трети всего городского населения мира, в середине века — примерно две пятых, сейчас — около половины, а к 2000 году в них будет проживать не менее двух третей горожан мира.
Каир не исключение. Опережающие темпы роста столиц и других крупных городов — отличительная черта, всех развивающихся стран.
По крайней мере до конца нашего века темпы роста мегалополисов в развивающихся странах будут выше, чем в промышленно развитых капиталистических странах. По прогнозам ООН, из тридцати крупнейших городов мира девятнадцать будут находиться в этих странах. Их «лидерами» будут Мехико — 32 миллиона жителей, Сан-Пауло — 26 миллионов, Рио-де-Жанейро — 19 миллионов, Бомбей, Калькутта и Джакарта — примерно по 17 миллионов. Каиру предстоит подойти к отметке 20–28 миллионов.
В Каире сосредоточена основная часть промышленности Египта. Он же вместе с пригородами — главный центр притяжения и создания новых предприятий — положение, общее для развивающихся стран. В нем же филиалы транснациональных корпораций и иностранных банков.
Каир — мощный центр прогресса, социальных и экономических перемен, генератор идей, новых форм потребления товаров и услуг, но его рост болезненно гипертрофирован.
Такое развитие столицы называют нередко «псевдоурбанизацией». Это количественный рост, который не соответствует качественному росту его социально-экономических функций. В определенной степени это рост паразитической части социальной структуры города за счет страны. Египет существует для Каира, а не Каир — для Египта.
Своим культурным, политическим, экономическим весом Каир перекрывает всю страну. Если подсчитать зарплату, которая тратится в столице, ее сферу услуг, коммуникации, численность ученых, инженеров, врачей, то, конечно же, ее вес будет много больше, чем при чисто демографическом подсчете. В Каире сосредоточена пятая часть жителей Египта, треть чиновников и от половины до четырех пятых врачей, инженеров, если не считать тех, кто выехал на заработки за границу. Концентрация кадров и администрации в Каире и других городах лишила египетскую деревню многих современных служб и услуг.
Египетский феодализм конца XIX — первой половины XX века породил тип помещиков-абсентеистов. Они жили в Каире или Александрии, там же учили своих детей и расходовали доходы от своих земельных владений. Египетское общество раздваивалось между городом, который потреблял, и деревней, которая производила. И в восьмидесятые годы помещики и значительная часть сельской буржуазии свои доходы предпочитает тратить в столице — то ли путем закупки более дорогих предметов потребления, то ли пересылкой средств родственникам, покинувшим деревню.
В насеровский период в Египте стали создаваться промышленные центры вдоль Нила — Наг-Хаммади (алюминиевый комбинат), Асуан (химические заводы), Хелуан (металлургический комбинат) и другие. Развилась зона Суэцкого канала, разрушенная после войны 1967 года и вновь восстановленная. Несколько укрепилась местная администрация. Стали поощряться местная промышленность, народное творчество, искусство. Астрономические цены на землю в Каире и удорожание рабочей силы выталкивают часть промышленности в провинцию, но в целом положение не изменилось: столица не просто преобладает или господствует над всей страной, она ее подавляет.
Египетское общество традиционно строилось по принципу широкой низкой базы и узкой, но высоко вздымающейся верхушки. Промежуточных слоев почти нет. И в новейшее время Египет не знал и почти не знает того, что на Западе именуют «средним классом». Верхушку его общества составляла группа чрезвычайно богатых людей, живущих за счет низов — бедного или полунищего сельского пролетариата или предпролетариата. В насеровский период сократилось состояние самых крупных землевладельцев, но при Садате выросла прослойка нуворишей наверху пирамиды, прямо или косвенно наживавшихся за счет труда феллахов и рабочих.
Пирамидальная структура при отсутствии «средних классов» существует и в области образования. Египет — едва ли не самая развитая из развивающихся стран по пропорции людей, получивших высшее образование. В то же время в нем — один из наивысших уровней неграмотности. До революции Египет тратил на высшее образование вдвое больше, чем на школы и профтехучилища. Положение несколько изменилось, но не кардинальным образом. И в образовании сложилась ситуация, при которой огромная голова находится на тщедушном теле со слабыми ножками.
Нередко международная роль Египта превышала его реальные возможности. Амбиции правителей были сильнее их амуниции. Довольно часто Египет слишком много средств тратил на внешнеполитические акции. Крупная голова пыталась заставить слабое тело и ноги действовать так, как будто она находилась на плечах гиганта.
При Насере Каир был как бы неофициальной столицей всех арабов. В этом смысле его географическое положение и даже размеры играли ему на руку. Но при Садате вновь рельефно стала заметна диспропорция между огромной столицей и страной-пригородом.
Не будет преувеличением сказать, что Египет — это Каир. Египтяне употребляют слово «Миср» (или разговорное «Маср») как название и своей страны, и ее столицы. Обжитая территория слишком мала — около 40 тысяч квадратных километров, и весь Египет становится гигантским пригородом «сверхгорода», особенно если учитывать, что Каир и Александрия как бы устремились навстречу друг другу, вокруг столицы появились города-спутники, а зона канала приблизилась к ней благодаря современным автострадам. Деревня, растущая вверх своими новыми домами, в которой больше половины жителей уже не заняты сельским хозяйством, усиливает ощущение мегалополиса, заполняющего всю страну.
Соотношение столицы и остальной страны — это примерно то же, что и соотношение дворцов, храмов и пирамид Древнего Египта и глинобитных жилищ простых египтян. Абсолютная централизация и преобладание одного города были лишь административным и урбанистическим выражением хозяйственной и общественной структуры Египта. Ее отличительные черты — коллективная эксплуатация населения власть имущими, распределение доходов сверху вниз, политический деспотизм, всесильная бюрократия.
Египет всегда отличался тяжелым бюрократическим аппаратом. С фараоновских времен государство, выполнявшее также функции распределителя ирригационных работ, породило армию чиновников. Но бюрократическая структура помимо своего функционального назначения обладала способностью и к самосохранению, и к «расширенному воспроизводству». Чиновники плодили новых чиновников и существовали не для общества, а сами для себя, за счет общества, над ним. Многие историки и социологи египетскую бюрократию времен Нового царства — II тысячелетие до нашей эры — считают прообразом всех современных бюрократий. Видимо, даже сама психология чиновничьего сословия уходит своими корнями в те безумно далекие от нашего века времена. Администратор, чиновник, власть имущий — эти слова были синонимами и в Древнем Египте, и — частично — в современном. Вспомним послание древнеегипетского писца-чиновника своему сыну: «Каменотесу попадаются очень твердые камни… Парикмахер занимается своим делом даже поздно ночью… Садовник таскает тяжелые ноши, и от этого у него болят руки и шея… Бедняк, работающий в поле, никогда не имеет отдыха от своей тяжелой работы… Судьба ткача за станком хуже судьбы женщины, а судьба человека, который мостит дорогу булыжником, самая плохая — он всегда просит подаяния… Тот, кто стирает одежду на берегу Нила, находится рядом с крокодилами. Посмотри, только профессия писца избавляет от тяжелой работы».
Разве не те же самые слова готов повторить современный египетский чиновник-бюрократ?
Столица, военно-политический, ремесленный и торговый центр Египта, всегда была средоточием административно-бюрократического аппарата. Каир представлял собой город чиновников, а в Египте чиновник всегда пользовался большим престижем, чем на Западе. Чиновники лучше оплачивались. Цены на хлопок могли падать, феллахи разоряться, но Каир в это время процветал на прочной основе стабильных зарплат и даже выигрывал за счет дешевизны сельскохозяйственных продуктов. Половина государственных расходов во времена короля Фарука шла на зарплату чиновникам. Правительство, государственная власть в Египте всегда имели (больший авторитет и вызывали больший страх, чем в странах с развитой парламентской системой. На чиновника, олицетворявшего правительственный аппарат, падал отблеск высшей власти. Привлекаемые привилегиями чиновничьего сословия, в него рвались молодые люди с университетскими дипломами. Процент сравнительно хорошо образованных людей в государственном аппарате был, пожалуй, выше, чем в развитых странах Запада, и это еще больше повышало вес и престиж бюрократии в обществе с массовой неграмотностью. В Египте сложилось противопоставление «мири» (всего, что относится к государству) и «тин» (ила, земли, навоза) — всего, что касается забот и нужд населения.
Последние тридцать-сорок лет в Египте, а значит, и в Каире стало происходить чрезвычайно быстрое разбухание бюрократического аппарата. С одной стороны, это вызывалось тем, что выпускникам школ и университетов просто надо было дать какую-то работу, чтобы не превращать их в потенциально опасную бунтующую прослойку населения, с другой — развитие государственного сектора в экономике породило свой болезненный нарост — обширнейшую бюрократию, занятую экономикой и финансами.
Число лиц, получающих зарплату на государственной службе, включая рабочих и учителей, в наши дни примерно 2,5 миллиона. Из них около миллиона сосредоточено в Большом Каире. Из этого миллиона большую часть составляют именно чиновники как таковые. Египетский социолог Гамаль Хамдан, изучив бюрократический аппарат Каира, с горечью отмечает: «Чем больше чиновников, тем ниже их эффективность» — и решительно предлагает: «Положить конец размножению бюрократов — единственный выход!»
Его высказывание остается криком души египтянина. А пока что все решения, в том числе и второстепенные, касающиеся провинций, принимаются в Каире. Для рассмотрения даже мелких дел из провинции нужно ехать в Каир. Любой вопрос можно утопить в бумажном море, в толчее воды в ступе, в перекладывании бумаг со стола на стол, из кабинета в кабинет. Любой вопрос — если у тебя нет надежного проводника по бюрократическому лабиринту и бумажника с хрустящими бумажками, которые открывают все двери и в мгновение ока накладывают все резолюции, ибо чиновничий аппарат столь же неэффективен, сколь и продажен. И если на его нижних ступенях за отметку в паспорте, за ничтожную бумажку берут фунт или пять фунтов, то наверху взятки могут исчисляться десятками миллионов.
Рабочий день египетского чиновника начинается с чашечки черного кофе или чая со стаканом воды и чтения газеты. Посыльный варит кофе и чай на примусе где-нибудь под лестницей или в задней клетушке и увеличивает свою мизерную зарплату, обслуживая «эфенди» за письменными столами. Работа сводится к отсиживанию часов и самоотстранению от проблем, но не к их решению. Если кто-то начинает работать более ревностно, он считается нарушителем спокойствия и подвергается остракизму. Рассуждения об обязанностях службы, о высших интересах прикрывают интриги, полу-мафиозные связи, борьбу за теплые местечки. Родственные связи и личная преданность — главное, что двигает чиновника вверх по служебной лестнице.
Но вот прозвучал призыв муэдзина, и чиновники, сняв ботинки, выстраиваются рядами лицом к Мекке в коридорах или кабинетах, чтобы продемонстрировать свою набожность и религиозное рвение. Темной шишкой на лбу, набитой частыми поклонами, гордятся, как боевыми наградами.
Кончилась молитва. Снова пьют кофе или чай. Затем наступает время обеда, который затягивается часа на два, а во второй половине дня в большинстве присутственных мест никого из ответственных чиновников застать уже невозможно.
Бюрократический гонор и высокомерие проявляются на беззащитных просителях. Какой у чиновника покровительственный тон, какой важностью он надут, как он занят государственными делами! Уклониться от решения, заставить посетителя прийти во второй и в третий раз, заранее сказать «нет» — вот метод его работы. Умилостивить «государственного человека» можно только соответствующей купюрой.
Отсутствие индивидуальной ответственности, расщепление ее между многими, стремление возложить ответственность на всех, а значит, ни на кого — основа функционирования, точнее, дисфункции египетского бюро-критического аппарата. Полное подавление инициативы сочетается с верой в инструкцию как панацею от всех бед. Если возникают сложности, значит, нужны новые инструкции, которые издаются с «административным восторгом». Буквальное следование им превратило бы взрослых людей в несовершеннолетних, но, на счастье, предписания забываются столь же быстро, сколь и издаются.
Чиновничий аппарат Египта остается непроницаемым для контроля общественности. С его особыми интересами вынуждена считаться и высшая власть. Многие начинания насеровской эпохи были утоплены в глубинах бюрократической рутины, сорваны откровенным саботажем госаппарата, а паразитизм правящего класса садатовских времен усиливался самим характером египетской бюрократии.
Но как бы ни была она велика и громоздка, оставим ее на время и вернемся снова к Каиру.
Если хватит сил и энергии бродить по обширным пространствам мегалополиса, то его камни и памятники могут рассказать о бурной, бесконечно богатой истории древнейшего столичного города человечества. От современных мини-небоскребов — через скопированные с парижских бульваров второй половины прошлого века центральные кварталы — к средневековому лабиринту аль-Гури, или старого Каира — куда бы вы ни направлялись, то здесь, то там, то в одиночку, то целыми группами встречаются рассыпанные жемчужины выдающихся творений архитектуры. Но путь любопытства, познания или эстетического наслаждения привлекал столько путешественников и ученых, что записи, оставленные ими, отбивают охоту повторять пройденное.
Скажу только, что как Эйфелева башня несправедливо стала расхожим символом Парижа, так цитадель с мечетью, построенной во времена Мухаммеда Али, — туристским рекламным плакатом Каира, и тоже не по праву. Мечеть с цитаделью — слепок со стамбульских мечетей с их похожими на копья минаретами и перевернутыми чашами куполов. Прародительница турецких мечетей — стамбульская Айя-София. Египтяне с фатимидских и особенно с мамлюкских времен выработали свой стиль, сочетающий минареты, украшенные затейливой резьбой по камню, и обширные, прямоугольные в плане залы для молитвы. Египетские мечети вплоть до наших дней повторяют образцы той эпохи.
Как и для Стамбула, я нашел слова Ивана Бунина, посвященные Каиру, и не могу удержаться, чтобы не привести их:
«И на этом месте зачался «Победоносный» Великий Каир.
Его узкие, длинные и кривые улицы переполнены лавками, цирюльнями, кофейнями, столиками, табуретами, людьми, ослами, собаками и верблюдами. Его сказочники и певцы, повествующие о подвигах Али, зятя Пророка, известны всему миру. Его шахматисты и курильщики молчаливы и мудры. Его базары равны шумом и богатством базарам Стамбула и Дамаска. Главное же то, что в Каире полтысячи мечетей и сотни тысяч могил в тишине пустынь, окружающих его. Мечети и минареты царят надо всем. Мечети плечисты, полосаты, как абаи, все в огромных и пестрых куполах-тюрбанах. Минареты узорны, высоки и тонки, как пики. Это ли не сарацинская старина? Стары и погосты его, стары и голы. Там, среди усыпальниц халифов, среди усыпальниц мамелюков и вокруг полуразрушенной мечети Амру, похожей на громадную палатку, — вечное безмолвие песков и несметных рогатых бугорков из глины, усыпляемое жалобной песнью пустынного жаворонка или пестрокрылых чеканок…».
За исключением средневековых мечетей, школ-медресе, караван-сараев, фонтанов, трудно говорить о «египетском» или «каирском» архитектурном стиле. Современность на все накладывает печать космополитизма, голой функциональности. Гостиницы «Меридиан», «Хилтон» или «Шератон» с трудом отличишь от их сестер в других столицах мира. Графический отпечаток современной центральной части Каира на багряном фоне заката — уже не минареты и купола, а прямоугольники высоких зданий, которые вот-вот будут претендовать на звание «небоскребов». Они столпились по берегам Нила, в районе острова Гезира и южнее, и нельзя отрицать их элегантность, удачное сочетание с волнами великой реки и купами пальм, кажущимися комнатными цветами и у их оснований. Они слились с городским пейзажем Каира, но их архитектурный стиль — международный. О кварталах серых бетонных блоков на окраинах и говорить нечего.
Все же повторю банальное утверждение: Каир — город контрастов. Добавлю лишь: его контрасты бьют в глаза, в уши, в нос. Они так же резки, как песок пустыни и зеленая пойма Нила, как свет и тень, жизнь и смерть, вода и сушь, утопающий в розах особняк в Гизе и хижина из разного хлама в районе старого Каира, седок на ослике и владелец «мерседеса».
Каир не только растет, как кактус, он болезненно разбухает, переполняясь жителями сверх всяких разумных норм. Его многолюдство давит, его ощущаешь физически. На улицах с утра до позднего вечера народу — что на демонстрациях. Через густую толпу пробиваешься с трудом.
«Час пик» на столичных улицах затягивается с утра до позднего вечера, и не раз убеждаешься, что совершить пешком малоприятную и неблизкую прогулку под африканским солнцем с острова Гезира в центр города оказывается быстрее, чем проехать на автомашине, для которой вдобавок будешь полчаса искать место стоянки. На улицах появляется все больше эстакад, иногда двухъярусных. Они временно разгрузили основные магистрали, но порой и на эстакадах выстраиваются многокилометровые «хвосты» автомашин, а выхлопные газы травят людей на первых этажах не только сбоку, но и сверху, и дома вдоль главных улиц будто плывут в сизом тумане. Центральные районы города загазованы так, что после продолжительной прогулки начинает подташнивать, как от отравления, и я своими глазами видел иностранцев в кислородных масках.
Каирские автобусы набиты до немыслимых пределов, и ты недоумеваешь, как они еще двигаются. Пассажиры висят на подножках и сидят в окнах. Между ними, иногда внутри, а иногда и снаружи автобуса, совершая акробатические трюки, пробирается кондуктор, умудряясь собирать плату и отрывать билеты пассажирам. Едва вырвавшись на свободную часть улицы, это осевшее, накренившееся набок сооружение развивает большую скорость, чтобы через пару минут застрять у перекрестка, где в демократизме автомобильной пробки равны и роскошный лимузин, и рейсовый автобус, и даже ослик, запряженный в тележку.
Ослик пока остается распространенным средством передвижения в каирском мегалополисе. В бытность мою студентом я встречал и стада верблюдов, что гнали суданцы по левому берегу Нила на знаменитый верблюжий рынок, а иногда и грузового дромадера с тюками овощей и фруктов. Но сейчас верблюдов в Каире практически нет, а ослики остались. На них разъезжают мусорщики, которые, как муравьи — санитары леса, подчищают и вывозят отбросы «сверхгорода», и заодно и сортируют их для вторичного и третичного использования в кварталах, где живут обездоленные. На ярко раскрашенных телегах в ослиной упряжке в город за покупками может приехать целая крестьянская семья, а в ночное время и под утро на повозке с фонарем развезут по лавкам и базарчикам свежую зелень — кинзу, местный вариант черемши, укроп, петрушку, салат-латук, кресс-салат. Неприхотливость, спокойствие и понятливость позволяют осликам не реагировать на автомобильное движение.
Ослик — самое старое транспортное животное Ближнего и Среднего Востока. Его использовали до появления лошадей и верблюдов. Экономисты считают, что ослики поедают слишком много травы и вместо них феллахам нужно было бы разводить более продуктивных животных, а горожанам перейти на мотороллеры.
Но как расстаться с удобным, неприхотливым помощником и где взять деньги на мотороллер? Не проще ли обойтись велосипедом?
Велосипедисты в Каире двух видов. Одни давно усвоили, что на работу быстрее и надежнее добираться, используя силу мускулов собственных ног, чем энергию сгорания бензина. Эти — более или менее спокойны и дисциплинированны. Другие — посыльные, развозчики, чаеносы — могут с подносом, уставленным тарелками с горячим кебабом или чашечками кофе со стаканами воды, штуками материи или бубликами, виртуозно маневрировать среди оглушительно сигналящих так, будто они едут по пустой площади. Почтальон везет в багажнике свою тяжелую сумку, зеленщик — заказанные ему фрукты и овощи, мальчишка из прачечной или гладильни спешит доставить клиенту вычищенный и выглаженный костюм… посадив на него по дороге несколько масляных пятен.
Более хаотичного движения, чем в Каире, я не встречал. Безалабернейшие Стамбул и Тегеран по сравнению с ним кажутся воплощением дисциплины и порядка. Однажды в час пик я попытался проехать по каирской улице с односторонним движением, забитой автомашинами, направлявшимися как раз в обратную сторону. Все нарушавшие правила были решительно против меня, пытавшегося их соблюдать. Я уступил, поняв, что в каждой стране надо следовать ее обычаям и подчиняться ее правилам или их отсутствию.
Повернуть на знак, запрещающий поворот, — обычное дело. Если тебя останавливал полицейский, он просто протягивал руки, и ты опускал в его ладонь мелкую монету. Полицейские в Каире — не то что жандармы из отрядов по подавлению беспорядков — довольно безобидны, во всяком случае для иностранцев, и оплачиваемы настолько низко, что даже монетка для них — прибавка к жалованью.
Уличных происшествий много, и больше тех, что не учтены статистикой: каирцы не любят составлять протоколы. В хаосе движения спасает почти полное отсутствие пьяных шоферов и быстрая реакция водителей. Но ездишь по Каиру всегда в напряжении: а вдруг из боковой улочки или подворотни выскочит машина или выкатит тележка, запряженная осликом? Недисциплинированность водителей усугубляет транспортные пробки, которых при других обстоятельствах было меньше.
А каирские трамваи — без стен, без окон, увешанные людьми! А пригородные электрички, например из Хелуана до Баб-эль-Люка, напоминающие наши поезда начала двадцатых годов — столько в них людей и внутри, и снаружи, и на крышах!
Каиру крайне необходимо метро. Его строительство откладывалось десятилетиями из-за нехватки средств, В восьмидесятые годы строительство наконец началось. Первая линия должна соединить два железнодорожных вокзала. Ее намечено пустить в 1987 году, а пока центральная площадь Ат-Тахрир, и раньше переполненная людьми и автомашинами, разрыта вдоль и поперек для строительства метро, и несколько десятков полицейских с трудом справляются с волнами людского моря, что. сшибаются здесь в невообразимом водовороте. Лишь фатализм, чувство юмора и надежда, что когда-нибудь эта стройка закончится, умеряют раздражение каирцев.
В последний свой приезд в Каир я заметил, что движение стало чуть-чуть более дисциплинированным. При серьезном нарушении мелкой монеткой уже не обойдешься — установлены драконовские штрафы в пятьдесят и сто фунтов. Появились маршрутные такси, которых раньше не было, больше стало автобусов. Но значительных изменений пока мало.
Транспортные муки — это еще полрассказа. Все коммунальное хозяйство города строилось из расчета на максимальное увеличение числа жителей до трех, но отнюдь не двенадцати миллионов человек.
Не хватает воды. Насосные станции и водопроводы не обеспечивают мегалополис водой в достаточном количестве, хотя Нил — вот он, под рукой. В трубах вода грязная. Очистные сооружения или изношены, или недостаточной мощности.
Очищенная вода Нила прекрасна. Поэтому в своих квартирах состоятельные люди все чаще устанавливают индивидуальные очистные устройства. В студенческие годы нашим «фильтром» и «холодильником» был глиняный кувшин-улля с пористыми стенками. Всегда запотевший, особенно в жару, он сохраняет свежесть и прохладу влаги. В Египте улля распространен повсеместно. В Каире для прохожих во многих подъездах ставят глиняный сосуд того же типа с консервной банкой вместо кружки.
Урбанизация и индустриализация несут с собой загрязнение Нила. По сравнению с Рейном или Миссисипи он покажется девственной рекой, но широкие пятна грязных технических масел уже плывут и по нему. В Каире пока нет таких мест, как ядовито-розовое озеро Марьют, что у Александрии, отравленное химическими заводами. Однако канализационные трубы мегалополиса несут отнюдь не родниковые воды.
Загрязнение окружающей среды угрожает и Египту. Опасность тем более серьезна, что здесь существует хрупкий баланс между окультуренной человеком землей и пустыней. С помощью высотной Асуанской плотины Нил пока несет достаточно воды, чтобы обеспечить и всеегипетский «сверхгород», и его сельское хозяйство. Но справится ли он с задачей напоить Египет через десять-двадцать лет?
Каир быстро строится, выбрасывая в пустыню и, к сожалению, в поля все новые кварталы. Все же жилищ не хватает и не будет хватать по крайней мере в ближайшие полсотни лет. Многокомнатные квартиры с видом на Нил, а то и с бассейном на крыше продаются по полумиллиону фунтов и могут стоять годами, ожидая покупателя — местного нувориша или саудовского эмира. Но каждый день — я не преувеличиваю — каждый день в Булаке или Агузе, или Сейидна Зейнаб обрушиваются на обитателей обветшавшие донельзя, перенаселенные дома. Люди не покидают жилищ, находящихся в аварийном состоянии, просто потому, что других нет или цены их недоступны.
Существуют законы, ограничивающие квартплату и высокие налоги на доходы домовладельцев, однако есть и «деньги за ключ». Ты договариваешься об аренде квартиры, готов заключить договор, чтобы въехать в нее, но должен дать домовладельцу разовый взнос (если хотите — взятку), не учтенный ни в каких документах, нередко равный тридцати-сорокамесячной квартирной плате.
Триста тысяч зданий в Каире нуждаются в срочном ремонте. Большинство из них никогда не будут отремонтированы.
Вчерашние крестьяне поселяются где могут и где придется. Нельзя даже сказать, что «Каир окружен трущобами». Трущобы есть и в центре, и на окраинах. Они захлестывают фешенебельные кварталы. В Египте почти не бывает дождей, и крыши многих роскошных домов заняты целыми семействами бездомных, которые за позволение жить оказывают различные услуги привратнику — баввабу или мусорщику. Стараясь не попадаться на глаза жильцам, они поднимаются наверх черным ходом и устраиваются среди старых ящиков и ржавого железа. Нередко они держат здесь козу или кур, а то и разбивают небольшой огород в ящиках с землей. Не стоит удивляться, услышав в Замалеке или на площади Оперы в предрассветной тишине крик петуха или блеяние козы.
Место скорби, покоя и молитв, знаменитый каирский «город мертвых» был замечен еще Иваном Алексеевичем Буниным. Расположенный слева от шоссе, идущего из аэропорта, «город мертвых» стал густонаселенным районом Каира. В склепах есть помещения, пригодные для жилья, и живые потеснили усопших. Сначала сюда хлынули переселенцы из зоны Канала, ставшего после израильской агрессии 1967 года линией фронта в «войне на истощение». С наступлением мира, после 1973 года, часть из них возвратилась в Порт-Саид, Исмаилию, Суэц, часть осталась, а место уехавших заняли новые. Сейчас в «городе мертвых» триста пятьдесят тысяч жителей, есть автобусные линии, электричество, водопровод, школы.
Тишина погостов улетела под напором автомобильных гудков, призывов продавцов овощей или сладостей, криков мальчишек, шума толпы. В «городе мертвых» есть крошечные мастерские, лавчонки, кое-кто из богатых родственников усопших оплачивает присмотр за могилами, обеспечивая мизерный доход некоторым жителям склепов. Но здесь не дымит ни одна труба, нет ни одной мастерской, заслуживающей названия «предприятия». Чем живет большинство обитателей «города мертвых», как и многих других трущобных районов? Для меня ответ на этот вопрос всегда лежит где-то на зыбкой почве мистики. Проще объяснить, как существуют каирские нищие, чем выяснить, каким образом добывают хлеб насущный «маргиналы» — так в социально-экономической литературе называют предпролетариат развивающихся стран, пауперов, полубезработных, лиц без постоянного источника дохода.
Две трети каирцев из числа экономически активного населения не имеют определенных занятий. Пятая часть работает в сфере услуг и лишь одна десятая — на промышленных предприятиях, в мастерских.
Урбанизация в Египте, как и в десятках стран Азии и Африки, идет впереди индустриализации — положение обратное тому, что знала Европа в XVIII, XIX — начале XX века. Безземельные крестьяне выталкиваются в города и, не находя себе постоянных занятий, пополняют ряды как раз «маргиналов». Чтобы избежать социального взрыва, все египетские правительства отступали и отступают перед давлением этой массы.
Государственные учреждения, предприятия, фирмы переполнены лишними рабочими, уборщиками, чаеносами, вахтерами, сторожами. Перерасход заработной платы снижает рентабельность производства, лишает возможности стимулировать работающих. Зато ослабляется социальная напряженность, хоть какой-то кусок хлеба получают потенциальные безработные. О ненужных чиновниках в бюрократических учреждениях и говорить нечего.
Субсидированные цены на хлеб, некоторые виды растительного масла, сахар дают возможность не умереть. с голоду даже самым обездоленным. Поэтому они предпочитают городскую полупраздность каторжному труду в деревне. Большое число городских «маргиналов» вынуждено просто паразитировать, и опасность заключается в том, что они привыкают к своему образу жизни.
В каирской толпе встретишь нищих, назойливо требующих милостыню — бакшиш. Их немало. Редкое описание Египта иностранцами обходится без отрицательных эмоций и бранных эпитетов в их адрес. По-человечески понимая эти эмоции и в какой-то мере разделяя их, все-таки хочу объяснить феномен нищенства, в основе которого лежат не только социальные причины. Многие мусульмане глубоко убеждены, что нищенство — не порок и не позор. Разве благотворительность — не один из столпов ислама? Поэтому требовать подаяния — просто помогать состоятельным гражданам исполнить свой религиозный долг. Благодарить за милостыню надо не подающего, а Аллаха. Вынужденное безделье, длящееся годами, вырабатывает психологию социального паразитизма, люмпенства на дне общества, легко оправдываемого откровенным социальным паразитизмом значительной части «верхов».
Распространенный способ добыть бакшиш — оказать мелкую услугу: протереть ветровое стекло автомашины, побыть полчаса ее «сторожем», стать «гидом», проводить в магазин. К слову сказать, в местах, где сложна парковка, между этими «сторожами» практически поделены все улицы, и они зорко следят за тем, чтобы хозяин «охраняемой» ими машины не уехал без того, чтобы опустить в их руку монетку.
Иностранцы особенно часто становятся объектом назойливости нищих: бедняки не приезжают в Каир из-за моря, а с жирного заграничного гуся просто дело чести получить заслуженный бакшиш. Произнеся твердым, но не оскорбительным тоном: «Аллах подаст» или «Аллах щедр», от них можно отвязаться, но не всегда.
Еще студентом в насеровское время я был свидетелем кампании в прессе и административных мер против нищенства. Во времена Садата кампания угасла и пока не возобновилась. Общество сохраняет на своем дне массу населения, постоянно сталкивая туда все новых людей, и общество же поддерживает и культивирует социальные амортизаторы в виде благотворительности, подаяния.
С первых дней работы в Каире меня привлекал район Булак. Он расположен между двухэтажной улицей Рамсеса, ведущей из центра к железнодорожному вокзалу, и Нилом и ограничен с юга осевой магистралью — улицей 23-го июля, переходя на севере в трущобные пригороды столицы. Булак представляет собой скопище обветшалых домов, опиекурилен, жалких лавчонок, немощеных, пыльных улиц, нечистот, мух, он — очаг преступности. Если весь Каир — лабиринт, то Булак — одна-из самых запутанных, противоречивых и опасных его частей. Здесь с утра до вечера босоногие мальчишки в пижамных костюмах гоняют тряпичные мячи, через улицы протянуто на веревках белье, а с порогов перекликаются друг с другом женщины. В кофейнях около телевизоров часами сидят мужчины и лишь изредка отвлекаются на призывные крики торговца, который, подталкивая тележку с товаром, громко его расхваливает.
Современный Каир сильно уменьшил территорию Булака. За зданиями газетных концернов «Аль-Ахрам» и «Маль-Ахбар», расположенных вблизи улицы Рамеса, от старых домов расчищена обширная площадь, превращенная в стоянку автомашин, а вдоль Нила растут элегантные мини-небоскребы, продолжая хоровод своих собратьев, расположившихся вверх по течению. Но сам Булак остался неизменным средоточием нищеты, невежества, злости, чувства безнадежности.
Когда начинаешь разбираться в пластах булакского населения, то кажется, что жители его просто спрессованы в биомассу, так их много. Никто не подсчитывал, сколько тысяч человек здесь приходится на квадратны» километр — сто, двести, двести пятьдесят? Американский этнограф Андреа Ру рассказывала мне о булакцах с широко раскрытыми от ужаса глазами, но свое исследование она выполнила с объективизмом и точностью.
Вчерашние феллахи, сельские мигранты, переселяясь в город, отнюдь не сразу расстаются с прежними понятиями, убеждениями, системой ценностей. Образ их жизни меняется, но они чаще всего не включаются в-современное производство. У них нет данных, чтобы попасть в бюрократический аппарат. Они остаются людьми со случайным заработком или безработными. Не являясь пролетариатом или даже полупролетариатом, они не теряют традиционных социальных связей, прежних форм социальной жизни, группируются вокруг мечетей, суфийских братств, земляческих общин. Их уровень жизни — грань нищеты. Их идеология — народный ислам. Их социальное поведение — покорность властям, но готовность к кратковременным вспышкам бунта, их идеал — собственная лавочка или мастерская.
Для многих из них Каир — лишь полустанок в гораздо более длительном путешествии. Преданный долине и дельте Нила, египтянин, раньше неохотно расстававшийся с родиной, стал заядлым путешественником. Еще в шестидесятых — начале семидесятых годов на заработки за границу отправлялось всего несколько тысяч врачей, ученых, инженеров. Они уезжали в США, Англию, Францию, лишь некоторые из них — в Саудовскую Аравию, нефтяные княжества. Сейчас египтян встретишь и среди чернорабочих в пирейском порту, и в качестве портье в парижской гостинице, и посудомойкой в Амстердаме.
Но главный магнит — арабские нефтеэкспортирующие государства. За границей сейчас более трех миллионов египтян. Больше всего их в Ираке, Саудовской Аравии, Ливии. Заработная плата в странах, которые были охвачены нефтяным бумом, в несколько раз выше, чем в Египте. Когда задают вопрос: эмиграция для Египта — благо или зло, спасение или трагедия? — на него нелегко ответить. Конечно, египетская экономика не в состоянии поглотить все рабочие руки и выезд за границу уменьшает безработицу. Конечно, денежные переводы эмигрантов (до четырех миллиардов долларов в год) стали первой статьей в национальном доходе и в валютных поступлениях страны, стоящих впереди доходов от нефти, Суэцкого канала, туризма, хлопка. Но ведь есть и другая сторона медали. Опросы показывают, что 85 процентов студентов хотели бы уехать на заработки за границу. Выпускники вузов не думают о службе на родине, а обивают пороги контор по найму рабочей силы в Кувейте или Абу-Даби. Что важнее для экономики — капитал или главная производительная сила общества — человек? Египет лишается лучших, самых квалифицированных рабочих, инженеров, техников, врачей, учителей, журналистов. С ключевых объектов египетской экономики, таких, как Хелуанский металлургический комбинат, с трудом подготовленные специалисты бегут за границу. И еще одна проблема: как используются заработанные за границей деньги? Опять-таки данные статистики ненадежны. Но большинство исследователей сходятся во мнении, что значительная часть этих средств проедается семьями эмигрантов.
Эмигрант, вернувшийся в Египет, оседает чаще всего в Каире, в лучшем случае строит дом или входит в долю строительства и сдает в аренду одну-две квартиры, приобретает такси, открывает лавку. Мало-мальски разбогатевший выходец из деревни может приобрести земельный участок и сдать его в аренду своим менее удачливым собратьям. Производительно используется лишь мизерная часть средств, накопленных тяжким трудом за границей.
По сравнению с большинством жителей Булака или других трущобных районов положение постоянных рабочих на предприятиях значительно лучше. В условиях Египта, как и большинства других стран Ближнего и Среднего Востока, они нередко смотрят свысока на своих собратьев-«маргиналов», предпролетариев.
Раньше традиционно высокий уровень безработицы, низкая стоимость рабочей силы снижали жизненный уровень и кадровых рабочих. Но парадокс ситуации заключался в том, что более благополучное положение, чем у большинства, и часто отсутствие конкретного хозяина (главный работодатель — государство) в соединении с общим низким культурным и образовательным уровнем мешали развитию классового самосознания. Забастовки в Египте бывают, но в основном по частным случаям, и они не отвечают разительным социальным контрастам, угнетению в египетском обществе.
Эмиграция и инфляция привели к совершенно новому явлению в египетской жизни — резкому подорожанию рабочей силы как в деревне, так и в городе. Буквально за несколько лет Египет перестал быть страной наполовину дармового труда. Водопроводчик — одна из самых дефицитных профессий в Каире — зарабатывает столько же, сколько профессор университета, а автомеханик — втрое больше. Резко поднялась заработная плата квалифицированных и полуквалифицированных рабочих на предприятиях, особенно в частном секторе. Увеличился разрыв не только между нуворишами и массой населения, но и между кадровыми рабочими и «маргиналами».
Прежний престиж образования, чиновничьего кресла заменяется престижем фунта, культом чистогана. Произошла как бы историческая месть общества всесильной бюрократии. Заработок чиновников резко отстает и от инфляции, и от заработной платы других категорий самодеятельного населения. Слишком многочисленное чиновничье сословие в низших эшелонах не может существенно поправить свое положение воровством или взятками. Общее падение общественного статуса и уровня жизни распространилось и на абсолютно необходимые обществу категории лиц с твердыми заработками — учителей, врачей государственных больниц, экономистов, инженеров государственного сектора. В Каире не удивляют автомеханики или паркетчики с университетскими дипломами.
Но за более высокие заработки и механики, и квалифицированные рабочие расплачиваются более интенсивным и продолжительным трудом, ухудшением условий жизни в мегалополисе с его удушливым воздухом, транспортными муками, нехваткой и дороговизной жилья. Кто же выигрывает в этой ситуации, кто снимает сливки? При ответе на этот вопрос все взоры невольно устремляются в сторону торговца и спекулянта, но отнюдь не уличного лоточника или мелкого лавочника.
У нас на улицах есть прохожие и автомашины, иногда велосипедисты, продают хорошее мороженое или пирожки с повидлом, вызывающие изжогу. И уж вовсе редко встречаешь цветочные базарчики. Представим себе, что какой-нибудь базарчик разросся на много кварталов; что на нем торгуют не только цветами, но и печеным сладким картофелем — бататом или вареной кукурузой, воздушными шарами и жареными орешками, сахарным тростником, холодными напитками и шербетами из больших бутылей, дешевой бижутерией и скобяными изделиями, что перед входом в мясные лавки висят туши баранов или буйволов, а на земле разложены овощи и фрукты; что здесь же разъезжают тележки с дымящимися котлами, полными фасолевой похлебки, или с шипящими сковородами, на которых в растительном масле жарятся зеленые шарики таамийи — котлеток из бобов и трав; что все это сопровождается мелодичными выкриками продавцов, расхваливающих товар. Вот тогда вы получите отдаленное представление о том, как выглядят многие каирские торговые улицы или районы. Впрочем, не буду лукавить перед собой как перед автором — все равно не представите. Как передать эту смесь запахов каирской пыли, выхлопных газов, ароматных соусов, душистых цветов? Как передать это — ощущение от туч мух, которые, как ни странно, не дохнут от выхлопных газов? От торговца, который, разложив гайки или прокладки для кранов, спит прямо под ногами прохожих, положив под голову вместо подушки включенный на полную мощность японский радиоприемник? Как передать впечатление от снующей взад и вперед толпы, бедной и несытой, кое-как одетой, но неунывающе веселой и крикливо шумной? От кофейни, где посетители, посасывая кальян (наргиле) и пуская дым, философски спокойно глядят на суету бренного мира или азартно подпрыгивают, следя по телевизору за футбольным матчем? Люди нередко торгуют, едят, спят прямо на тротуаре. Тут же чинят обувь или ковры, латают одежду, учат уроки или молятся, постелив тряпку или молитвенный коврик и обратившись лицом к Мекке. Продают дешевые картины лазоревых мечетей, полногрудых гурий и мальчика со слезой на щеке, что плачет для услады сентиментального обывателя.
Видимо, читатель и сейчас не представил себе каирские торговые улицы или торговые районы. Для полноты картины приведу в сокращенном виде рассказ египетского писателя Хусейна Шафи аль-Масри, который писал на диалекте, в переводе Ю. Завадовского: «Огур-цы-ы-ы све-е-е-жие»:
«Итак, я заплатил штраф. Пламя да жар без конца да гнев Аллаха-творца на сердце этого собачьего посланца, которому бог да развалит порог, лишит крова и оставит без покрова! Ну и что это, братец ты мой, за паршивая жизнь? Если сидит кто-нибудь из нас без работы, на него же кричат: «Бродяга!» Откроет он кофейню для курения гашиша, его тотчас бросают в тюрьму. Станет он что-нибудь продавать на улице, его хватает полиция и говорит ему: «Ты нарушаешь правила уличного движения». Что же нам остается делать? Красть? Клянусь Аллахом, кроме этого, нам ничего другого не остается.
На прошлой неделе закрыли мою кофейню, но меня не смогли посадить, потому что отсутствие моей вины слишком уж очевидно. Да помилует Аллах беднягу Дургама, малого, которого заперли за решетку вместо меня.
Я, возблагодарив Аллаха за то, что он спас мою шкуру, сделал себе ручную тележку и воскликнул: «Вперед, дружище, собирай себе на пропитание!» Только я навалил в нее огурцы горой — на тридцать пиастров, клянусь усами пророка! — как неотвратимые несчастья посыпались на мою голову.
Едва я выкатился на базар и закричал: «Огурцы-ы-ы све-е-е-жие!», как он меня и схватил. Так, будто я его звал по имени — и он тут как тут. А разве я его звал? Схватил он меня за горло и тащит в часть. «Зачем, о полицейский?!» Отвечает: «Нарушаешь движение». — «Ладно, братец, — говорю я. — Что это значит: я нарушаю движение, а другие — нет? Не перед тобой ли трое проехали с тележками, на которых нагружены дыни, яблоки, кокосовые орехи, и только одни мои огурцы загромождают дорогу? Постой-ка, брат, а тетка, что расселась посреди тротуара и разложила редиску, лимоны и вареные бобы так, что никому нет прохода? Она не загромождает и не нарушает? Видимо, моя торговля не уживается с полицейской пробой, ибо, если дать по огурцу каждому проходящему полицейскому, они одни составят мою клиентуру и я разбазарю весь свой товар нипочем, то есть без денег. Другими словами, они разнесут мое хозяйство, а меня самого скушают даже со штанами и с феской».
Но настоящее несчастье еще не в полицейском, а в том молодце-офицере, который важно сидит в части и не ведает, что творят его люди. Эх, на-то, видно, воля Аллаха!
Клянусь Аллахом, я чуть не потерял рассудок, когда вошел в это веселенькое учреждение и нашел там бедных людей, жавшихся к стенкам в ожидании своей очереди для допроса. А их овощи лежали на тележках перед караколом (полицейским участком. — А. В.), так что нельзя было понять, полицейский ли это участок или овощной рынок. С одной стороны, их губило солнце, беспощадно палившее в этот день, а с другой — проворные руки полицейских. Но что нам делать?..
Меня продержали там целый день, пока начальнику каракола не пришло настроение меня допросить. Он ткнул мне в нос протокол, и я… заплатил штраф. Да, я его заплатил, но, клянусь пророком, отдал все, что имел.
Выйдя на улицу — не пожелаю того и врагу! — нашел всего лишь несколько огурцов, от жары и прочих несчастий, обрушившихся на них, превратившихся в сухие и корявые корнишоны. Все прочее бесследно исчезло…
Скажи мне теперь, не дурак ли тот, кто лезет из кожи, пытаясь торговать огурцами или чем другим? Не лучше ли нам просто красть?
Клянусь верой пророка, кто скажет мне: «На краже — запрет Аллаха», у меня нет иного выхода, как дать ему затрещину моей изношенной туфлей».
Продавцы рекламируют свой товар во всю силу голосовых связок и легких. Хозяева магазинов, устраивающих распродажу, нередко нанимают одного-двух зычноголосых зазывал, которые оглушают прохожих криками: «О-казь, о-казь-он, оказон-нус! Оказьон-нус!» Французская часть восклицания (оказьон) и означает собственно распродажу, а арабская (нус) подразумевает, что цены снижены вдвое.
В толпе торговых районов раздаются мелодичные возгласы продавцов, рекламирующих свой товар с таким отменным набором эпитетов, что хоть начинай их записывать. «Берегите зубы! Берегите зубы! Как лед!» — кричат разносчики шербетов и прохладительных напитков. «Слаще меда! Апельсины! Апельсины! Мед! Апельсины!» — перекликаются с ними продавцы фруктов.
И в этой разноголосице узнаешь знакомые фрагменты картины, замеченные еще Э. У. Лэйном сто пятьдесят лет назад: «Хлеб, овощи и другую еду продают с лотков уличные торговцы. Любопытно, как они рекламируют свой товар. Продающие тирмис (люпин) кричат: «Помощь, о Имбаби, помощь!» Этот призыв следует понимать двояко. С одной стороны, это обращение за помощью к знаменитому мусульманскому святому шейху аль-Имбаби, похороненному в деревне Имбаба, на западном берегу Нила, против Каира (сейчас Имбаба — густонаселенный район Каира. — А. В.). В ее окрестностях растет самый лучший тирмис. С другой стороны, этот клич подразумевает, что тирмис деревни Имбаба так хорош только благодаря помощи святого Эти же продавцы расхваливают свой товар, распевая: «Тирмис из Имбабы превосходней миндаля!» и «Сладок плод реки». Последний возглас — каирский по преимуществу, его не услышишь в провинции и в деревне. Объясняется он способом приготовления люпина. Чтобы удалить горечь, плоды два-три дня вымачивают в сосуде с водой, потом варят. Затем их зашивают в корзину из пальмовых листьев (фард) и бросают в Нил, где оставляют мокнуть еще два-три дня. После их высушивают и едят в холодном виде, слегка посолив. Продавцы кислых мелких лимонов кричат: «Облегчи их, Аллах! Лимон!» (то есть облегчи их продажу). Продавцы жареных арбузных или тыквенных семечек… так объявляют свой товар: «Семечки! Утеха покойных!», но чаще всего просто: «Жареные семечки!» Смешно кричат продавцы халвы: «Халва! За гвоздь!» У продавца халвы репутация полумошенника: дети и слуги часто крадут дома железные предметы, чтобы выменять у него на сладости. Торговцы апельсинами распевают: «Мед, апельсины, мед!» Ту же конструкцию используют разносчики многих других овощей и фруктов, так что подчас и не понять, что же продается. Одно только несомненно: из перечисляемых предметов продается наименее вкусный. Так, если кричат: «Фиги, виноград!», значит, продаются фиги, ибо виноград вкуснее. Редкий текст у продавцов роз: «Шипом была роза, от пота пророка она расцвела» — намек на чудо, совершенное Мухаммедом. Разносчики благовонных цветов египетской бирючины громко выводят: «О запахи рая! Цветы хны!» Род хлопчатой ткани, изготовленной на станке, который приводит в движение бык, призывают покупать со словами: «Бычья работа, девицы!»
Прошло сто лет, и в картине района Мускн, набросанной пером египетского писателя Тауфика аль-Хакима в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия, мы узнаем все тот же торговый Каир: «Автобус шел по старым улицам и переулкам, минуя кварталы древнего Каира, и наконец подошел к Муски. Те, кому надо было-выходить, вышли, а оставшиеся в вагоне пассажиры, вытянув шеи, смотрели на улицу, по обеим сторонам которой красовались бесчисленные магазины и лавки, выставившие свои ослепительные товары — шелковые и бумажные материи, украшенные блестящим шитьем и сверкающими металлическими кружочками, ювелирные изделия из настоящего золота и рыбьей чешуи, ботинки и туфли на каблуках и с бантиками, последнего фасона, галантерею, кружева, постельное и столовое белье, посуду — медную и фарфоровую, ложки и поварешки, деревянные и металлические, словом — все, что-можно найти на этом знаменитом торжище.
Была, как всегда, большая давка, и «Суарес» (в те годы — автобус с определенным маршрутом. — А. В.) с трудом прокладывал себе дорогу среди волн людей, собравшихся, точно муравьи, на узкой улице. Раздавались громкие голоса, все кричали и шумели — и продавцы, и покупатели, и зрители. Торговцы громко выхваливали свой товар и отбивали друг у друга покупателей лживыми словами, дешевизной цен; они клялись честью, ручаясь, что материал отличный: «Чистая находка! Выгодный случай! Купец отвечает!», а покупательницы и покупатели смотрели, возражали и исследовали товар. Они раскладывали материю перед собой, терли ее и с силой пробовали ее крепость, а потом начинали торговаться и спорить; поднимались крики, умножались клятвы, громче звучали настояния и заверения, и пот струился со лбов и лиц.
Ко всему этому шуму и гаму присоединялся звон стаканчиков продавца лакричной воды, который толкался среди людей, прижав к животу свой красный кувшин и держа в руке медную кружку. Кусок снега, положенный на горлышко кувшина, не доходил до напитка и ничуть не охлаждал его. Его назначением было оправдать крик продавца.
— Береги зубы! Я продаю напитки, и мне нет дела до твоих зубов.
Потом продавец ударял стаканчики друг о друга и кричал другим голосом:
— Терпение прекрасно! Бедность без долгов — вот полное богатство. Твои зубы! Берегись!».
Я сравнивал внешний вид каирских лавок с теми, что описаны Э. У. Лэйном. Тогда лавки представляли собой углубления — открытые на улицу комнаты метра два на полтора с чуланчиком-складом в глубине помещения и закрывающимися на ночь дверьми-ставнями. Перед лавкой, приподнятой над тротуаром, на уровне ее пола была обычно сделана каменная или глиняная скамья-мастаба. В наши дни нечто подобное я встречал лишь в Йемене. Увы, в Каире внешний вид лавок в принципе не отличается от европейских магазинчиков в средиземноморских странах — хотя и без их чистоты, броских витрин и прочих в достаточной степени формальных атрибутов, не говоря уж о выборе товаров. Но ряд магазинов, созданных по образцу парижских Елисейских полей или нью-йоркской Пятой авеню, появились в последние годы в фешенебельных районах.
Принципы торговли в Египте, как и вообще на Ближнем и Среднем Востоке и на Западе, различны.
В Каире есть магазины с твердыми ценами. Никому не придет в голову торговаться в продуктовой лавке или в универмаге. Цены на предметы первой необходимости примерно известны. Но в бесчисленных лавчонках, где торгуют одеждой, обувью, различными импортными товарами, купить что-либо по первой назначенной цене — значит уронить себя в глазах продавца и наверняка сильно переплатить. Знакомая по Стамбулу картина. Хочу опять вспомнить Э. У. Лэйна и подтвердить, что если ушли в прошлое подушки в магазинчиках и широкие лавки-мастабы, то сама купля-продажа во многом осталась прежней.
«Не посвященному в восточные обычаи процедура купли-продажи у египтян покажется невыносимо тягостной, — писал Э. У. Лэйн. — Лавочник начинает с того, что запрашивает за свой товар намного больше, чем думает получить. Покупатель возмущается и называет свою цену — на греть или вдвое ниже. Тогда лавочник несколько понижает свои требования, а покупатель чуть увеличивает первоначальную сумму. В таких условиях торг продолжается, пока обе стороны не сойдутся где-то посередине между первоначально запрошенной и предложенной покупателем ценой. Тогда наконец сделка заключается. Европейские путешественники всегда возмущаются египетскими торговцами, и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно… Ведь, несмотря на утомительные торги, лавочник в результате получает за товар не более одного процента прибыли. Решительно облюбовав какой-нибудь товар, покупатель готовится к длительным переговорам. Он поднимается на мастабу, устраивается на коврике поудобнее, не торопясь набивает трубку и закуривает.
Простые люди самую пустяковую сделку совершают с такой страстью, так горячатся, кричат и жестикулируют, что чужеземец, не знающий арабского, может подумать, что происходит ссора или драка. На вопрос о цене продукта крестьяне любят отвечать: «Берите даром». Все знают, что говорится это ради красного словца, и никто не подумает воспользоваться ответом буквально. Вопрос повторяют и теперь уже в ответ слышат цену, непомерно завышенную».
Число египетских торговцев — легион. Все мои попытки найти мало-мальски надежную статистику на этот счет окончились неудачей. Порой кажется, что в Египте торговцев больше, чем покупателей, хотя это впечатление обманчиво. Во всяком случае, их много больше, чем нужно для общества. Но торговля престижна: ведь пророк Мухаммед был торговцем и женился на богатой купчихе. Торговля выгодна. Не знаю, откуда обычно точный Э. У. Лэйн взял норму прибыли египетских торговцев в те годы — один процент. Думаю, эта цифра занижена и для первой половины прошлого века. В наши дни пятьдесят, сто, триста процентов прибыли, особенно на продаже импортных товаров, не вызывают удивления. В конечном счете эта прибыль придает элемент паразитизма всему сословию торговцев, но объясняет, почему торговец днями может ждать клиента и как он ухитряется существовать при небольшом количестве покупателей.
Торговые компании, акционерные общества приживались в Египте с трудом. Египетский торговец не любил компаньона, предпочитая полную самостоятельность. Пословица говорит: «Руби компаньона, даже если на обед». Долгие годы торговлю определял индивидуальный капитал. Дух соперничества, конкуренции иногда шел на пользу покупателю, иногда во вред.
Традиции купли-продажи, навыки торговли, взаимоотношения между продавцом и покупателем находили отражение в народных обычаях, в национальной психологии, в пословицах.
Пословицы советуют покупать дорогие, добротные вещи и предупреждают против покупки плохих вещей: «Купишь дешевле — станет дороже» или «Все имеет свою цену». Пословицы же рекомендуют приобретать недвижимость, чтобы защитить себя от превратностей судьбы: «Купишь золото — купишь беспокойство», а другая не менее категорична: «Купишь дом — купишь спокойствие».
И еще советы, которые дают пословицы: «Прежде чем купить — выбирай хоть целый день», «Кто купил то, в чем не нуждается, продал то, в чем нуждается». Если покупают в рассрочку, то говорят: «Брать мед — давать горечь».
Одна из особенностей торговли — вера в удачу, счастливый случай. Однажды я зашел в недавно открытую-лавку и стал прицениваться к туфлям. С меня запросили высокую, но в общем-то справедливую цену. Я машинально назвал вдвое меньшую, и, к моему удивлению, продавец тут же согласился. Пришлось купить. Хозяин лавки радостно бросил деньги на землю, потом поднял и воскликнул: «Первый покупатель — золото!» Я оказался первым клиентом, которого нельзя было упустить, чтобы не спугнуть удачу. То ли рука у меня оказалась легкой, то ли место бойким, но лавка стала процветать.
Традиции торговли требуют, чтобы торговец был оборотистым, быстро реагировал на конъюнктуру, был готов к приобретению и к потере. Надо ловить случай, не упускать благоприятных условий, но прибыль не должна быть чрезмерной: «Продал за пять и купил за пять, между этими двумя пятерками Аллах дает ему пропитание». Пословицы говорят: «У торговца острый ум», «Чтобы брать, надо давать».
Перебирая египетские пословицы, посвященные торговле, легко обнаруживаешь, что одни из них носят как бы всеобщий характер, другие явно относятся к традиционной, мелкой торговле в деревне или в городе. Меняется общество, меняются нравы, меняются и принципы торговли и отношение к ней. Но здоровое народное чувство не приемлет алчных, нахрапистых рвачей. Египтяне с осуждением говорят: «И его отец, и твой отец — пиастр!» Быть бережливым — достоинство, но общественное мнение против чрезмерного накопительства Деньги не должны порабощать людей. При почтении к деньгам и богатству египтяне настроены против их власти, особенно против незаконного обогащения.
Вскоре после прихода к власти Садат провозгласил политику «инфитаха» — «открытых дверей», полной либерализации торговли, экономической деятельности местного и иностранного капитала, частных банков. Населению внушалась мысль, будто эти меры обеспечат подъем экономики, улучшат жизнь населения.
«Инфитах», снявший с частников все оковы, обернулся разнузданным ростом спекуляции. Символом нуворишей-спекулянтов в семидесятые годы стала улица Шаварби в центральной части Каира, где были открыты лавки, магазинчики, или, как их стали называть на французский манер, «бутики», с импортными товарами. В домах с давно не ремонтированными фасадами, с трущобными поселениями прямо на крышах, в забитых мусором грязных и вонючих переулочках, на первых этажах сияли по вечерам неоновым блеском витрины, наполненные осколками «красивой» заграничной жизни. Товары предназначались для тех, кто ворует, берет взятки, ворочает делами, но отнюдь не для египтян среднего достатка.
Раковая опухоль улицы Шаварби выбросила метастазы в другие районы Каира. Спекулятивная торговля импортными или контрабандными товарами стала полулегальной и массовой.
«Свободная зона», созданная в Порт-Саиде, превратилась в крупную перевалочную базу для иностранных товаров. Их ввозили в страну, обходя таможенный контроль и лишая государство дохода, подрывая национальную промышленность. Через руки торговцев-спекулянтов уплывали за границу средства, созданные трудом феллаха, эмигранта, нефтяника.
Не в промышленность и не в сельское хозяйство устремился частный египетский капитал, а туда, где была более высокая норма прибыли, в традиционные для него сферы — домостроительство, спекуляцию недвижимостью, торговлю. Что касается иностранного капитала, то он внедрился в ту же торговлю, в гостиничное дело, туризм, банки. На импортно-экспортных операциях сколачивались состояния. В Египте появились миллионеры — сначала десятки, потом сотни, по некоторым данным — тысячи. Их называли «жирными котами инфитаха». Они не могли бы жиреть и лосниться без теснейшей, органической связи, фактически слияния с верхушкой административно-бюрократического аппарата, включая полицию. Высшие чиновники создавали прикрытие для спекулянтов, контрабандистов, крупных торговцев, входя с ними в долю, участвуя в правлениях подлинных или фиктивных компаний. Иногда разоблачались миллионные взятки от американских компаний «Локхид» или «Вестингауз», военно-промышленных корпораций или более мелких фирм. Начинались судебные процессы, тонувшие в море следственных бумаг, выносились приговоры мелким сошкам, а «жирные коты» продолжали, процветать. Наверху бюрократически-спекулятивной пирамиды стояли крупные воротилы, связанные прямыми, иногда родственными узами с семейством Садата, те, кто получил наименование «садатовского клана». Даже после роковых выстрелов на параде в октябре 1981 года, покончивших лично с Садатом, новому президенту не удалось подорвать экономическое влияние «садатовского клана».
Конечно, и в эпоху разгула спекуляций были случаи, когда общественное мнение восставало против «жирных котов» и они поджимали хвосты. В семидесятые годы разыгралась драматическая попытка распродать национальное достояние — плато у пирамид.
Канадский бизнесмен Питер Мунк, основавший в Гонконге компанию «Саус Пасифик пропертиз», за небольшую плату арендовал на 99 лет несколько десятков гектаров почти у подножия пирамид для создания туристского комплекса. Что для чиновников значил кусок пустыни с ее гравием, песком и камнями? Египетская история молчала, зато явственно шелестели доллары, предложенные канадцем. Выждав время, Питер Мунк стал распродавать арендованную им землю небольшими участками. Он верно рассчитал, что за возможность построить виллу с видом на пирамиды, за престижность места, за прекрасный воздух аравийские и другие нувориши не пожалеют денег.
Не выкопав и метра канавы, не заложив ни одного фундамента, компания стала получать миллионы. Профессор истории Каирского университета Намат Фуад начала распутывать клубок грязных дел. Мунк оказался связанным и с египетским правительством, и с саудовской королевской семьей. О сделке стали писать газеты, начались дебаты в парламенте. Распродажа плато у пирамид прекратилась…
Жизнь как бы повторила фабулу фантастической повести молодого египетского писателя Гамаля аль-Гитани. Он уловил психологию «инфитаха», настроения «жирных котов», безумство распродажи, пиратство торгашей. В его повести абсурда «Воспоминания о прошедшем» происходит распродажа иностранцам Египта с молотка. Продали его дома и памятники, его песок и черную, плодородную землю, Нил и воздух, набережные и подземные богатства. За хождение людей по улицам, а ослов — по сельским дорогам стали взимать плату; воду Нила разлили по пластиковым бутылкам и стали экспортировать; создали курорты и самые продуктивные в мире плантации. Все шло прекрасно. Мешал только пустяк — ставшие ненужными египтяне — феллахи, поэты, ученые, сталевары. Тогда компания владельцев Египта обратилась в некий всемирный орган с требованием изгнать людей, незаконно занимающих их собственность: ведь ни одной пяди страны уже не принадлежало египтянам. Но в иске отказали, потому что, как оказалось, еще не весь Египет был продан. Где-то в Верхнем Египте остался один, последний феддан непроданной земли. Толком не выяснили, кто им владел — то ли 150-летний старец, то ли его внук. Но все узнали, что последним федданом владел египтянин и назвал он этот феддан «Землей Египта». К нему подослали покупателей и предложили горы золота. Он отказался. Против него послали самолеты с ядовитыми веществами, но ветры Египта отнесли смертоносные газы от «Земли Египта». От его феддана отвели воду, но лучшие ученые Египта придумали невиданный способ орошения, и клочок земли цвел и плодоносил. Подослали убийцу, но мужчины и женщины встали на защиту последнего египтянина, владеющего «Землей Египта». Послали полчища бульдозеров, чтобы стереть с лица земли этот последний феддан, но мужчины, женщины, дети построили из своих тел преграду на пути бездушной техники…
В чудовищном абсурде всеегипетской распродажи была горькая правда семидесятых годов. Но была правда и во всеегипетской защите «Земли Египта», хотя автор, поступая умно, не завершает свою повесть чьей-либо победой.
Куда ведут «открытые двери» Египта? — задают вопрос многие египтяне. Что означает для страны продолжение курса, начатого Садатом? От насеровской эпохи остались высотная Асуанская плотина, заводы и фабрики, сооруженные при сотрудничестве с Советским Союзом. А что осталось после десятилетнего правления Садата?
Египет получал займы на Западе в качестве платы за смену политического курса и «проедал» их. В страну ввозилось все больше продовольствия и одновременно все больше автомобилей и предметов роскоши. К середине восьмидесятых годов долг Египта превысил 30 миллиардов долларов. Три лепешки из пяти, которые ели египтяне, были выпечены из иностранной муки. Зависимость от импорта американского продовольствия тяжело давила на внешнеполитический курс Каира, но об этом — особый разговор.
Сравнительно быстрый прирост валового национального продукта — 7–8 процентов в год на рубеже десятилетия — и объясняется как раз высокими ценами на нефть. Их резкое падение погрузило Египет в кризисное состояние. В середине восьмидесятых годов уменьшились переводы эмигрантов, доходы от экспорта собственной нефти, Суэцкого канала, туризма. Выплата долгов и процентов по ним стала невыносимой. Если соотнести долги Египта с уровнем его экономики, окажется, что положение страны хуже, чем у таких должников-«рекордсменов», как Бразилия, Мексика, Аргентина.
Капитализм, триумфально, нагло, с гиканьем и визгом вернувшийся в Египет в семидесятые-восьмидесятые годы, носит еще более уродливый, болезненный, деформированный характер, чем капитализм времен хедива Исмаила, когда Египет был захвачен и закабален иностранцами, чем зависимый прогнивший, компрадорский капитализм кануна насеровской революции.
Торговля в Египте развивается. Кое-какая инфраструктура — дороги, эстакады, метро, телефонная сеть — улучшается. Идет строительство жилых зданий, а где главное — производство? Нельзя сказать, что его нет вовсе, но разве его развитие, его уровень, его будущее соответствуют потребностям страны, почти лишенной сельскохозяйственной базы, с населением шестьдесят — шестьдесят пять миллионов к началу следующего тысячелетия? Страны, в которой сверхгород затопляет всю остальную ее часть, нагромождая друг на друга проблемы?
…Великий Каир, такой древний (пять тысячелетий истории) и такой юный (два его жителя из каждых пяти — моложе пятнадцати лет), предстает перед нами в своих противоречиях и контрастах, в переплетении традиций и бурных перемен. Бродишь по его улицам и базарам, сидишь в кофейнях, беседуешь с каирцами и слышишь слова надежды на перемены к лучшему. В политике, в экономике, в египетско-советских отношениях. Египтяне — неисправимые оптимисты, и они так хотят этих перемен, устав за годы садатовского режима от лишений, репрессий, лжи.
1975–1982 гг.
ШЕСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ТЕРПЕНИЯ
Даже бедуин, считающийся крайним индивидуалистом, знает, что его личная безопасность и материальное благополучие зависят от соплеменников и сородичей. Он должен подчиняться племенным обычаям, нормам поведения, этике. В любом обществе личность зависит от коллектива — известная истина применительно к Египту приобретает авторитет абсолюта. Превращение болотистой поймы Нила в оазис-кормилец, создание и поддержание единой, общенациональной системы ирригации требовало и требует объединения усилий всего народа. В условиях, когда жизнь человека зависит от труда многих, от их кооперации, групповое начало и групповая дисциплина стали характерной чертой египетского общества.
Феллаху индивидуализм противопоказан. Но он оказывается невозможным и для городских низов — ремесленников, торговцев. Их быт и профессиональная деятельность раньше, а в значительной мере и сейчас жестко регламентированы цеховой или полуцеховой структурой или ее пережитками, давлением шариата, силой общественного мнения. Бюрократия, чиновничья среда исключают индивидуализм в любом обществе.
Как это ни парадоксально на первый взгляд, индивидуализм в Египте был чужд и высшим слоям общества, власть имущим, хотя бы потому, что Египет вплоть до конца прошлого века не знал феодальной земельной аристократии европейского типа.
В средние века рабская гвардия султанов — мамлюки — превратилась в господствующий слой Египта, не получив права на наследственные земельные владения. Положение в принципе не изменилось и после завоевания страны турками-османами. Мамлюкский, а затем османо-мамлюкский феодализм строился на зависимости господствующего слоя от государства, от верховной власти, на коллективной эксплуатации населения и распределении доходов сверху вниз — от верховной власти к следующим ее эшелонам.
«Он подал в отставку и уехал в свою деревню» — такая фраза, понятная и обыденная для европейских помещиков, состоявших на государственной службе, не могла быть произнесена в общественной атмосфере средневекового Египта. «В отставку» с государственных постов уходили в Египте лишь по старости или по немощи, теряя при этом почти все доходы и привилегии. «Во всех человеческих обществах богатство является источником власти, — писал египетский экономист и социолог Фуад Мурси. — В Египте же власть — источник богатства». Благосостояние и общественный статус верхов в Египте вплоть до конца XIX века и в значительной мере в наши дни определяются местом человека в гражданской и военной иерархии.
В мамлюкский и османо-мамлюкский периоды, когда военное сословие практически не знало кровнородственных связей, в его среде господствовал корпоративный дух. В современных условиях в египетских верхах он сочетается с кровнородственными и групповыми связями и обязательствами.
Для египтянина естественно подчинять свои интересы интересам группы, учитывать мнение других, следовать общественной дисциплине. Казалось бы, это утверждение противоречит практике. Иностранец в Египте с первых же шагов сталкивается с бурлящим индивидуализмом, с неразберихой аэропорта или морского порта, с невообразимым хаосом уличного движения, в котором каждый игнорирует каждого и все игнорируют все правила. Необязательность и недисциплинированность египтян на службе и работе — довольно распространенное явление. Египтяне в своем поведении как будто руководствуются лишь собственными эмоциями и интересами.
Но в городе мы имеем дело как раз с нетрадиционными, новыми для египтян сферами человеческой деятельности. Египетский феллах следует дисциплине сельскохозяйственных работ, смены сезонов, разливов Нила и, не размышляя, подчиняется распорядку труда и быта в деревне, укладу, сложившемуся за тысячелетия. Его коллективизм существует в рамках общины, деревни, традиционных социальных связей. Однако, попав в город, оторвавшись от привычного уклада, столкнувшись с чуждыми ему современной городской культурой и бытом, к тому же еще не устоявшимися, феллах просто не находит себе подобающего места. В городе, если он лишен контроля земляческой или религиозной общины, он может стать сверхиндивидуалистом, особенно в быту. Египетское общество просто не прошло через дисциплину и организацию современной жизни, современного производства. Ломка психологии и характера народа — процесс долгий, сложный и болезненный.
Созданию духа групповой принадлежности способствует также скученность населения. Она требует приспособления человека к толпе, клану, общине, вырабатывает соответствующие привычки, навыки, этические нормы.
В Египте было тесно, тесно и сейчас, а будет еще теснее. Плотность населения в пойме Нила вдвое выше, чем в Голландии. Уйти от людей некуда, только в пустыню, но пустыня враждебна, чужда и не кормит. В Египте нет гор, лесов, степей, островов, неосвоенных земель, куда можно было бы убежать или где можно было бы скрыться.
Бедуин, попавший в город, возвращается в пустыню расслабляться и отдыхать. Египтянин — горожанин и феллах — расслабляется в толпе…
Постоянно, из поколения в поколение, он живет в человеческой массе. Он — часть этой людской массы и до недавнего времени не представлял другой жизни. Миграция и эмиграция изменяют нравы, но это — явление буквально последних лет.
С соседями нужно уживаться. От них нельзя избавиться. Они всегда рядом — в радости и горе, в дружбе и вражде, в нужде и довольстве. Пословица говорит: «Не успеешь сказать: «Эй, родичи!» — соседи тут как тут». И еще: «Твой сосед — и перед тобой, и за тобой, даже если его не видно».
Сделаем небольшое отступление. Я не раз обращался и буду обращаться к египетским пословицам. Они помогают нам понять национальный характер египтян и почувствовать к ним симпатию. Но мы не должны забывать, что перевод на русский язык может передать смысл, потеряв их поэзию, игру слов, выразительность. Соответствующие русские эквиваленты, сохраняя поэтичность, могут ввести в заблуждение, поскольку родились в других условиях, в другой социально-психологической среде.
Пословица выступает как закон, судья и обществен-пый барометр поведения человека и группы. Она — педагог и воспитатель, она же — острое оружие, которым защищают традиции от покушения на них. Однако мудрость веков, сконцентрированная в пословицах, может быть не просто различной, но и противоречивой, потому ч го пословицы передают ft выражают опыт разных социальных групп и классов населения различных времен. Они — сконцентрированный, опоэтизированный опыт, но это опыт качества, а не количества. Английский философ Бертран Рассел писал: «Пословица — это мудрость коллектива и ум отдельного человека».
Варианты пословицы «Сначала ищи соседа, а потом покупай дом» известны и в других странах, но для Египта, для его деревни, и не только деревни, она звучит как непреходящая мудрость и не терпящий возражений совет. Египетские пословицы рекомендуют быть уживчивыми, достигать взаимопонимания с соседом, проявлять терпимость: «Желай добра соседу — увидишь и в своем доме добро», «Если хорошо твоему соседу, то хорошо и тебе». Интересы людей переплетаются. В деревне соседи зависят друг от друга.
В Египте известен один из хадисов — преданий о жизни пророка Мухаммеда — с изречением, приписываемым ему самому: «Архангел продолжал давать мне советы, как вести дело с соседом, пока я не подумал, что он будет его наследником».
Уживчивость требует умения находить компромиссы, избегать крайностей и именно таковы египтяне — мастера компромисса, среднего решения. Они всегда ищут и часто находят золотую середину. Они стремятся принять обновление, не отказываясь от старого, модернизироваться, сохраняя традиции, и даже хотели бы совершить революцию без насилия и… без особых перемен. Несмотря на вспышки фанатизма, и в настоящее время, и далеко в прошлом египтяне проявляют достаточно веротерпимости.
Это прежде всего относится к деревне. Урбанизация меняет и ломает прежний образ жизни. Разве большой город не приносит определенной независимости отдельному человеку? Разве горожанин не отрывается от клана, большой семьи? И да и нет. Переселяясь в город, люди сохраняют связи со своими кланами, группами, землячествами, отнюдь не сразу расстаются с прежними убеждениями. Связь человека с большой кровнородственной, религиозной, земляческой группой, как правило, сохраняется и в городе и оказывает воздействие на его поведение и образ жизни. Нравы и обычаи, выработанные в деревне, долго сохраняются в городе, даже если они утратили прежний общественно-функциональный смысл.
Сверху донизу египетское общество — и отнюдь не только в деревне — пронизано системой групповых связей. Они строятся и по кровнородственному признаку, самому надежному, хотя трайбализма, племенных связей в аравийском, не говоря уж об африканском, понятии здесь почти нет. Также и по религиозному принципу, по принадлежности к суфийским орденам — братствам мусульманских мистиков, суфиев — к сектам, по земляческим, корпоративным связям. Личное отношение в принципе важнее профессиональной компетентности, хотя современное производство и организация иногда навязывают и современные требования к подбору людей. Индивидуум силен, если сильна группа, к которой он принадлежит. Иногда иностранец сталкивается с не желанием какого-нибудь египтянина пойти на явно выгодный шаг. Дело нередко объясняется отнюдь не его «иррациональностью», а стремлением учесть не только свои, но и групповые интересы.
Египтянин боится одиночества, изоляции и инстинктивно, и вполне сознательно: в одиночку он не имеет общественного веса и престижа, в группе он приобретает уверенность в себе и ощущение надежности и безопасности. Даже яркие художники, писатели, певцы, актеры должны иметь круг друзей, единомышленников, покровителей.
Власть группы опирается на силу общественного мнения — абсолютного в деревне и относительного в городе. Общественное мнение, осуждая или одобряя отдельного человека, навязывает ему свои этические нормы, оставляя мало свободы в выборе поведения. В деревне нет аппарата для навязывания общественного мнения, но, если человек попытается уклониться от принятых норм поведения, ему напомнят о них даже с помощью физического насилия, если не подействует всеобщее осуждение.
Египтянин постоянно — сознательно или нет — соизмеряет свои слова и поступки с реакцией на них других. «А что скажут люди?» — с этой мыслью человек оценивает поступки. Отсюда — стремление сохранить лицо. «Оно означает чрезвычайную чувствительность, доходящую до болезненной реакции на все, что касается личной чести. Боязнь мнения соседей — явление, свойственное египтянам больше, чем другим народам», — пишет египетский социолог Иззат Хигази. Пожалуй, можно согласиться с ним без абсолютизации положения в Египте. В Японии, Китае, Вьетнаме желание «сохранить лицо» сильнее, чем в Египте. «Стремление избежать ошибки, не показаться смешным или недостойным часто заставляет египтянина совершать самые немыслимые поступки и в исключительных случаях совершать самоубийство, что почти невероятно для мусульманина», — продолжает Хигази. Он считает, например, что использование студентами шпаргалок на экзаменах объясняется не только стремлением сдать экзамен, но и опасением быть униженным в глазах товарищей и преподавателей.
Если египтянин делает что-либо, от чего непосредственно не зависит его благополучие, для него часто важнее не выполнение самой работы, а мнение других, что работа выполнена. Эта довольно распространенная черта характера становится всеобщей в административном аппарате. Видимость деятельности, очковтирательство, пускание пыли в глаза — свойство любой бюрократии, а уж египетской — безусловно.
Боязнь «потерять лицо», а также убежденность, что все предопределено свыше, не позволяет египтянину признать, особенно публично, свою ошибку или проступок. Самокритика невозможна, точнее, она — исключение из правил. Или египтянин прав, или виноват кто-то другой. Судьба — «кадар», потусторонняя сила, воля Аллаха. При задаче «сохранения лица» критерий правды и лжи становится второстепенным. Правда предпочтительнее. Она — идеал. Правдивый человек вызывает уважение. Но правда и «потеря лица» несовместимы. Поэтому ложь во спасение допустима. Даже улемы-богословы могут найти аргументы для отступления от правды при определенных обстоятельствах.
Когда ложь во спасение невозможна, например если нужно сообщить наверх, начальству, неприятную новость, нередко инстинктивно стараются оттянуть выполнение этой опасной и неприятной обязанности. Мухаммед Хасанейн Хейкал писал в «Аль-Ахрам» 28 июня 1968 года, что во время войны 1967 года израильтяне учли это свойство национального характера египтян. Они не могли нанести удар сразу по всем египетским аэродромам, но бомбили их последовательно с разрывом в несколько минут, верно рассчитав, что начальники баз не сообщат сразу наверх неприятную информацию, и всеобщая тревога не будет объявлена немедленно. Действительно, внезапность удара сохранилась и при бомбежке наиболее отдаленных аэродромов. «Этот порок дал врагу десять минут, в которых он нуждался для того, чтобы осуществить внезапное нападение на одиннадцать военно-воздушных баз, — писал Хейкал. — Первый удар наносился по передовым аэродромам на Синае, однако порок поведения сыграл свою роль в том, что другие не были быстро предупреждены и были потеряны драгоценные минуты». Современные требования жизни диктуют свою манеру поведения. Национальный характер не может оставаться неизменным, он меняется, но процесс этот долгий.
Все же и в Египте высшее проявление человеческого достоинства видят в том, чтобы говорить правду в лицо правителю. «Если возвышается слово, возвеличивается, дух», — говорит пословица.
Стремление «сохранить лицо» в Египте, конечно же, не абсолютно, а относительно. В первую очередь оно касается чести семьи, чести женщины. В студенческие годы и позднее я был свидетелем рукоприкладства старших по отношению к младшим, хозяина — к слуге, однажды офицера — к солдату. Тут уж не о потере лица шла речь. Терпение к гнету сверху, попрание человеческого достоинства — слишком знакомое состояние для трудящихся в Египте, и рукоприкладство не взрывается ответным насилием. Но допусти власть имущий надругательство над честью семьи, матери, жены — ответ будет дан.
Жизнь в коллективе, зависимость одного от всех выработала нормы общения между людьми, которые не могут не вызывать глубокие симпатии к египтянам, как и к другим арабам. Гостеприимство и вежливость у египтян в крови. Я уж не говорю о внимании и заботе друзей. Если ты идешь по улице и дружески кивнул и улыбнулся бедолаге, который промышляет случайным заработком, а в этот момент вскипятил себе на примусе единственную отраду — крепкий чай, его немедленная реакция будет: «Тафаддаль!» («Пожалуйста!») — он предлагает разделить с ним его скромнейшую трапезу.
Описания таких обычаев гостеприимства в Древнем Египте я не встречал. Скорее всего их принесли с собой арабы-завоеватели и влили их в характер арабского египетского народа. Гостеприимство считается долгом и честью общественного статуса. Прослыть скупым, не оказать чести гостю — для египтянина позор. Но, впрочем, и в наши дни феллах не сможет превзойти в гостеприимстве бедуина.
Гостеприимство идет рука об руку с вежливостью. С ненамеренным хамством сталкиваешься в исключительных случаях, если не путаешь его с необязательностью. Оно может проявиться в переполненном общественном транспорте или в бюрократическом учреждении, где ты забыл дать бакшиш. В сфере обслуживания, где ты за услугу платишь, оно почти исключено. Однако грубость высших по отношению к низшим, особенно в бюрократической среде, встречается нередко.
Вежливость не допускает фамильярности. Любой египтянин очень тонко реагирует на статус человека, с которым общается, на его место в социальной иерархии. Быть запанибрата с низшими означает потерять их уважение и пригласить их сесть себе на шею.
Египтянин дает группе и берет от нее, подчиняется группе и получает вознаграждение за подчинение. Не так в его взаимоотношениях с государством, с властью, с бюрократической машиной. Особые функции государства на Востоке как распорядителя общественных работ, организатора системы общенациональной ирригации отмечались еще Карлом Марксом. Но функции главного инженера-ирригатора, которым был, видимо, правитель Египта в додинастический период, уже тысячелетия назад были отодвинуты на второй план чисто классовыми функциями деспота, а для государственной бюрократии производственные задачи создания и поддержания дамб, плотин и каналов, распределение воды стали второстепенными по отношению к главному — выжиманию соков из населения, грабежу феллахов, «легальному» выколачиванию из них всего — до предела — прибавочного продукта и части необходимого, применению всех средств военно-полицейского, судебно-бюрократического, религиозно-идеологического воздействия для превращения феллаха, народа в покорную, послушную рабочую скотину. Народ или знал, или инстинктивно чувствовал, что без ирригации, организованной на государственном уровне, земледелие и жизнь невозможны. Только в этом смысле он «брал» от государства.
В наши дни он «берет» от государства возможность освоить грамоту в школе и получить кое-какую медицинскую помощь, но не более. Народ «давал и дает» всегда неизмеримо больше, служа основанием для выросшей на нем пирамиды паразитических, грабящих его классов и слоев, живя на пределе жизненных сил, чтобы купались в роскоши и наслаждении верхи. Менялись правители и режимы, языки, религии, но взаимоотношения верхов и низов не менялись. Режим президента Насера был единственной в истории попыткой изменить положение.
Игра в демократию мало что изменила во взаимоотношениях народа и власти. Сколько сарказма мы находим в описании «выборов» в «Записках провинциального следователя» Тауфика аль-Хакима и как современно они звучат!
После выборов в парламент, проходивших в мае 1984 года, газета «Аль-Ахали», орган Национально-прогрессивной левой партии, писала: «Выборы фальсифицированы. Правительство получило большинство с помощью насилия, фальсификаций и шантажа». В редакционной статье газета отмечала, что правящая Национально-демократическая партия «убила мечту о демократии и свободе в Египте… Она не только ограничилась откровенным вмешательством министров и административного аппарата в предвыборную борьбу, использованием в своих целях народных денег и общенациональных печати, радио и телевидения, но и пошла на сохранение своей власти с помощью прямого подлога и фальсификации самих выборов».
Свои дела крестьянин предпочитает решать, не обращаясь к властям, зная, что в государственных учреждениях его ждут проволочки и вымогательства. В пословицах говорится, что от власти надо держаться подальше и тот, кто живет далеко от власти, живет в мире, спокойствии и безопасности: «Султан — это тот, кто не-знает султана». Но от власти султана трудно сбежать: «Того, кого не берет правитель, настигает смерть».
Взаимоотношения между властями и народом пронизаны боязнью и сомнением. «У стен есть уши» — эту пословицу знают и египтяне. Или же: «Сабля у власти длинная». Такое же отношение к полицейским и солдатам: «Кто охраняет — тот и волк». Армия традиционно означала репрессивную силу, и пословица говорит: «Никто не скажет: «Эй, солдат, приди защити меня». Но если ты попытаешься укрыться от власти, то не очень радуйся - бежать-то некуда: «Не радуйся тому, что ты спрятался, а радуйся тому, что с тобой стало».
Пословицы говорят о том, что своих правителей надо бояться, ругая их только шепотом. Но с властью надо сотрудничать. Если нуждаешься в услуге и нужно дать взятку, то сделай это. Пословица звучит примерно так: «Положи на лапу, станешь большим шейхом». Многие пословицы говорят о покорности, униженности, непротивлении, советуют не спорить с властью, отдавая предпочтение долготерпению, повиновению воле судьбы.
Порожденные ощущением безысходности, многие пословицы сами помогали формировать общественно-психологический климат, в котором правитель мог бы злодействовать, не встречая сопротивления, «быть фараоном», а фараон в народном языке — символ угнетения и несправедливости.
Египтянин не любит нести личную ответственность, потому что он видит в ней и трудности и опасности, которые угрожают ему и его семье. Он не хочет иметь свое собственное, отдельное мнение. Есть пословица: «Спрячь свою голову среди других голов, иначе ее отрубят». Или: «Я первый, кто подчиняется, и последний, кто бунтует». Тип человека, который не говорит, не видит, не слушает.
Не таково положение людей, которые находятся при власть имущих, рядом с администрацией и ведут паразитический образ жизни. Они едят за счет феллахов, но они — слуги власти. Народ их не уважает, потому что тот, кто свое благополучие основывает на благополучии правителей и эмиров, не может вести достойную жизнь, становится карьеристом, прихлебателем.
Ряд пословиц рисует образ идеального правителя. Требования к нему у народа невелики, но, как говорится, «он — в одном вади, а народ — в другом вади», и его отделяют от народа его прихлебатели и слуги. Пословицы говорят: «Если хочешь, чтобы тебе подчинялись, то отдавай приказы, которые можно выполнить», «Не навязывай подданным слишком много солдат».
Но: «Если правитель будет умеренным, то разбегутся подданные», то есть если правитель будет править мягкой рукой, то его подданные разболтаются. Поэтому другая пословица дает жестокий совет: «Бей невинных, чтобы боялись и виноватые».
Отношения правителя и подданных — отсутствие взаимного уважения, сомнения, ненависть. Правитель никогда не чувствовал себя в полной безопасности, ощущая себя временщиком, которому грозили смерть или изгнание. Недаром одна старинная пословица говорит: «Сын правителя — сирота».
Простой человек не верит в силу закона и правосудие государственных органов. Взаимоотношения между кланами и семьями больше регулирует обычай кровной мести, видимо тоже пришедшей в Египет вместе с аравийскими арабами, чем шариат и гражданские законы.
Однако чувства населения к власти сложны и противоречивы. Власть имущим не доверяют, их ненавидят, но им и завидуют, перед ними заискивают, хотя бы внешне. «Безмерное упрямство и непокорность сочетаются у египтян с подобострастием в манерах и речах», — отмечал еще Э. У. Лэйн. Жизнь, быт, хозяйственная деятельность, успех и благополучие отдельно взятого человека зависят от его способностей и усилий в меньшей мере, чем от хороших отношений с власть имущими. Лицемерие и лизоблюдство — распространенный порок, хотя поражена им прежде всего бюрократия. Иерархичность общества требует послушания и покорности, а непротивление усиливает деспотизм. Даже небольшой египетский чиновник рад, когда получает хотя бы толику реальной власти. Обладание местечком в чиновничьей иерархии он связывает с почетом и возможностью личного обогащения. До недавнего времени самым почетным делом для получившего образование считалось стать чиновником.
Если власть не предполагает ответственности, она на вкус многих сладка, начиная с нижайших степеней. Только так я мог объяснить поведение какого-нибудь явно бедного посетителя кофейни, который с царственным видом требует свою чашечку кофе или протягивает ноги, чтобы на его туфли навел блеск мальчишка — чистильщик сапог. С не меньшим удовольствием во время киносеанса иной зритель подзывает разносчика кока-колы или жевательной резинки, хотя у лоточника при входе в кинотеатр все это дешевле. Но приятно хоть на миг почувствовать себя пашой.
Без иерархии, без власти египтянин не представляет себе общества. «У кого нет старшего, тот покупает себе старшего», — говорит пословица, а другая утверждает: «Власть в деревне — на холме». Господствует убеждение, что начальство, публичная или духовная власть обязательно нужны. Народ издевается в пословицах и в шутках над власть имущими, но где-то в глубине души у египтян сидит тоска по сильному, но мудрому и справедливому правителю.
Особенность производственной и общественной структуры Египта в том, что борьба против центральной власти необычайно трудна. Центр был сильнее любой провинции. Это объяснялось и тем, что разрубить кровеносную систему ирригации было невозможно. Наибольший упадок в стране наблюдался как раз в периоды появления элементов феодального сепаратизма — хотя бы в XVI веке накануне османского завоевания или в конце XVIII века перед экспедицией Наполеона, когда не то чтобы нарушалась целостность хозяйственного механизма, а просто он недостаточно поддерживался.
Доведенный до отчаяния народ к бунту против власти прибегал лишь в крайних случаях, но даже в этих редких случаях то были городские низы, а не крестьяне. Если, не грозила смерть, феллах предпочитал терпеть.
Крестьянин не мог бежать куда-нибудь не потому, что был формально привязан к земле, а просто в стране не было другой земли, других источников существования. Вокруг простиралась пустыня.
Помыслы и устремления крестьянина сводились к тому, чтобы выжить. Феллах Египта, однако, первым на земле стал прибегать к пассивному сопротивлению, гражданскому неповиновению. Не выполнить приказ, утаить налоги, уклониться от выполнения невыгодного для тебя распоряжения, сказать «да» и тут же сделать все наоборот, «швейковать», употребляя чешское выражение. Этими методами феллах Египта владеет в совершенстве.
Большинство простых египтян были чужими в обществе, которое жило за их счет. Они не могли воздействовать на ход событий. Чужая, враждебная сила принимала решения и навязывала феллахам их исполнение, не принимая во внимание их интересы, мнения. Это убивало в них не только способность действовать во имя изменения реального положения дел, но и веру в их право на перемены, в свои способности осуществлять перемены.
Крестьяне почитают прошлое в условиях, когда нет надежды на будущее. «Тот, у кого нет старого, у того нет и нового», — утверждает народная мудрость.
Отношение египтян к новому отличается осторожностью и подозрительностью. Когда я спросил крестьянина, наблюдавшего за работой трактора, хотел бы он стать владельцем такой машины, он осторожно ответил: «Трактор — хорошо: он пашет землю лучше, чем буйвол, его не надо кормить. Но трактор не дает молока и не приносит телят, как буйволица. Его нельзя забить, продать его мясо, кожу».
Крестьянин живет сегодняшним днем. Думать и планировать для него — тяжкая обязанность. Ведь сельскохозяйственное планирование, сельскохозяйственный год — это лишь повторение пройденного, раз и навсегда заведенный цикл смены сельскохозяйственных работ соответственно временам года.
Планируя или обещая сделать что-либо, египтянин обязательно добавляет самое распространенное в арабских странах выражение, которое знает практически любой человек, побывавший в них: «Иншалла» — «Если пожелает Аллах». Вам обещают прийти через час, если Аллах пожелает. Вам обещают починить холодильник или ботинки, принести покупку, приехать на автомашине, заказать билет или встретиться, не забывая добавить «Иншалла».
Видя, что власть постоянно лишает его права принимать решения, поставленный в жесткие рамки обычаев, египтянин нередко лишается духа предприимчивости, инициативы. Из опыта предков он усвоил, что инициатива всегда наказуема или по меньшей мере бесполезна. От его личной предприимчивости мало что зависит. Спокойствие лучше всего сохранить в подчинении или хотя бы видимости подчинения, а инициативу возложить на других. Когда нет кого-то, кто готов принять на себя это решение, египтянин предпочитает бездействовать.
Но если власть, государство — и абстрактная сила, и вполне конкретная в лице низших чиновников — занимается лишь тем, что пытается возложить ответственность на человека, на труженика, то его естественная реакция на это — уйти от ответственности, избежать ее. Разве не Аллах за все несет ответственность? Разве не судьба (кадар) определяет связь, последовательность, взаимозависимость событий? И разве не учит собственный опыт, что всегда и при всех обстоятельствах ответственность означала проигрыш, а не выигрыш? Решать — значит принять на себя ответственность, а именно такой ситуации надо избегать.
«Одна из черт египетского крестьянина — уклоняться от решения проблем, рассредоточивать усилия в условиях обострения кризиса, когда требуется мобилизация решимости или сил для борьбы, для противостояния», — пишет Иззат Хигази. Это находит свое отражение в египетском фольклоре, в египетских песнях. Крестьянин несет свои жалобы к усыпальнице местного святого или к колдуну… Но это происходило после того, как крестьяне не находили живого существа, которому они могли бы пожаловаться.
Ни разливы Нила, ни воля власти непредсказуемы, и на них крестьянин не может воздействовать. Поэтому лучше полагаться на судьбу, на Аллаха. Человеческие усилия, каковы бы они ни были, ничего не изменят. Поэтому лучше терпеть и покоряться.
«Терпение — добро», «Терпение — достоинство», «Терпение — прекрасно» — это самые распространенные в Египте пословицы. Их постоянно слышишь, их видишь выведенными вязью на бортах грузовиков, на витринах лавок, в учреждениях. «Терпение — лекарство от всех болезней, но недостаток терпения не лечит», — говорит пословица. Не инициатива, не борьба, а терпение стало путем к достижению желаемого. Это стало первой заповедью народа, идущей едва ли не впереди исповедания веры, и несокрушимой добродетелью. «Долготерпеливых любит Аллах», — говорит пословица, ставя знак божественной благодати и мудрости на этом свойстве характера. Ты терпел при фараонах и римлянах, при византийцах и халифах, при султане и короле — всегда, во все времена. Терпи и сейчас, при капиталистах и помещиках, в зной и холод, в голод и жажду, в угнетении и унижениях, терпи и полагайся на везение. Недаром «кырат удачи лучше феддана ума», — говорит пословица.
Если же тебе не повезет в этом мире, то воздастся в загробном. Единственной отрадой крестьянина становится надежда на справедливость и довольство в потустороннем мире. Религия в этом случае играет одну из своих основных функций, которую ученые называют компенсаторно-иллюзорной. Другая отрада крестьянина — дети. Поэтому терпи, египтянин, тогда ты выживешь. В терпении легче сохранить достоинство.
Терпение исповедуют низы, но его же проповедуют и верхи. Египетский социолог Хасан Ханефи назвал проповедь терпения в сочетании с упованием на потусторонние силы «опиумом для народа». Она облегчает и оправдывает гнет. Превращает бедность в достоинство. Призывает довольствоваться малым, не требовать изменения своей участи, убивает мысль о бунте, о сопротивлении, оправдывает эгоизм, паразитизм и роскошь верхов. Все к лучшему в этом лучшем из земных миров. Ничего нельзя изменить. Удел труженика — работать, уповать на Аллаха и терпеть.
Выносливость, долготерпение, фатализм делают египтянина хорошим солдатом. «Из египетских крестьян можно подготовить отличных бойцов, — говорили мне наши офицеры, бывшие советники в египетской армии, — один на один египетский солдат не только не хуже израильтянина, но, пожалуй, лучше его». Они повторяли характеристику, данную египтянам Э. У. Лэйном полтора столетия назад: «Покорные властям, феллахи проявляют мужество и храбрость в междоусобных стычках. Из них выходят прекрасные солдаты». Но современная война требует принятия быстрых решений, инициативы, обязательности, точного соблюдения времени, координации действий в сочетании с элементами общей культуры, технического образования. Поэтому израильское подразделение в среднем нередко оказывалось сильнее египетского. Соотношение сил резко менялось на уровне частей или соединений, где простое арифметическое сравнение могло бы ввести в заблуждение.
Терпение предполагает сдержанность в поведении, в словах. Достойное, солидное поведение — необходимый атрибут людей пожилого возраста или стариков.
Но терпение и стремление к сдержанности в поведении и в выражении своих чувств отнюдь не означают бесчувствия. Эмоциональность египтян идет рука об руку с их терпением. Они легко возбуждаются и приходят в ярость, которая не знает границ. Их легко может спровоцировать малейший выпад.
Я не раз наблюдал уличную перебранку, когда страсти накаляются, в выражениях не церемонятся, криков много, но до драки дело доходит редко. Турок, например, в ответ на половину бранных слов, высказанных в такой ситуации, мог бы ударить. Но египтяне чувствуют границу и отходчивы. Вспыхнувшая ссора может быстро затухнуть.
«Мы, египтяне, любим шутку, мы — большие специалисты по шуткам, — пишет египетский социолог и юрист Сейид Овейс. — Мы любим песни и развлечения, однако вместе с тем мы — народ, который много печалится. Ми плачем, когда печалимся, плачем также, когда радуемся.
Мы громко смеемся, однако мало улыбаемся. Если мы плачем, то плачем во весь голос. Мы часто печалимся, однако редко гневаемся. Однако если мы гневаемся, то гнев охватывает нас, наполняет нашу грудь и парализует наше объективное мышление. Но если мы гневаемся, то быстро успокаиваемся. Гнев проходит, как молния».
Египетскую толпу легко возбудить. Это знают и политические и религиозные деятели. Эмоциональное воздействие, взаимопонимание оратора и слушателей достигаются с помощью красноречия, а хорошим оратором — без особого труда. Искусный оратор обращается прежде всего к чувствам, а не к рассудку. Явление это не уникальное, но для египтян характерное. Подлинным кумиром толпы был Гамаль Абдель Насер, но и Садата нельзя было считать заурядным оратором. Проповеди в мечетях по пятницам могут завораживать верующих. Египтяне любят находиться в массе, в толпе, участвовать в митингах, демонстрациях, которые многие из них воспринимают как редкое в жизни развлечение. При Садате крестьянам или городской бедноте платили за участие в демонстрациях бакшиш в размере одного-двух фунтов, и люди криками, шумом, даже танцами старались «отработать» полученные деньги, не задумываясь над политическим смыслом сборища. Другой искусственный способ вызвать энтузиазм — использовать «заводил», находящихся в толпе. Они выкрикивают обычно в соответствии со смыслом произносимой речи, но нередко и без него, как правило в ритмической форме, лозунги, призывающие к преданности лидеру. Толпа с готовностью подхватывает их, особенно если энтузиазм искренен или стимулируется денежным вознаграждением, создавая единство или видимость единства говорящего и слушающего, лидера и народа. Наконец, специальные агенты полиции или правящей партии следят за тем, чтобы не допустить враждебных выкриков. Неудивительно, что массовые приветствия египтян производят впечатление даже на искушенных политических деятелей Запада, давно уже не знакомых с таким накалом эмоций.
Египет за последнюю четверть века знал три массовых эмоциональных взрыва, выражавших политические настроения египтян. Первый — после речи Гамаль Абдель Насера, в которой он сложил с себя полномочия президента вслед за поражением в войне 1967 года. Диктор, ведший тогда программу, не смог говорить после его выступления, захлебнувшись слезами. На несколько минут по всей стране наступила тишина, и затем разом вырвался многомиллионный крик: «Ля!!!» (Нет!). Рыдающие толпы запрудили улицы всех городов от Асуана до Александрии, бушевали всю ночь, выражая преданность президенту. Политики и генералы, обсуждавшие кандидатуру преемника Насера, были сметены, как щепки. Насер остался у власти.
Второй раз толпы вышли на улицы три с небольшим года спустя, провожая гроб с телом президента Насера. В Каире было пять миллионов человек, охваченных неподдельной скорбью.
Время Садата тоже знало общенациональный размах народных эмоций, на этот раз негативных.
Есть предел, ниже которого долготерпение египтян взрывается бунтом. Миллионы разгневанных людей, которые в январе 1977 года вышли на улицы египетских городов в ответ на решение правительства поднять цены, — редкий, но яркий пример такого рода.
Египтяне добились отмены решения о повышении цен. Их гнев утих. Репрессивный аппарат действовал все жестче. Было арестовано несколько тысяч людей, обвиненных в «коммунистическом заговоре». Народ терпел и молчал.
Египтяне быстро возбуждаются и быстро успокаиваются. Это справедливо и для отдельного человека, и для толпы.
После бурных январских событий люди вернулись к повседневным делам и заботам. Но не все. В армии уже зрел заговор против президента.
Когда Садата убили, ему устроили похороны. Они проходили в столице. Народа и скорби явно не хватало. За гробом Садата шло шестьсот человек. «Народ безмолвствовал».
Однажды египетский литератор Ибрахим Абдель Кадер аль-Мазни упрекнул своих соотечественников в том, что они предаются роскошной жизни и лени, уходят от борьбы. Острый и умный взгляд другого писателя, Нагиба Махфуза, сразу отметил, что эти высказывания не могут быть применимы к народу, большинство которого — трудящиеся, а они-то живут, по словам писателя, согласно лозунгу: «От каждого — по его возможностям и каждому столько, сколько ему могут вспомоществовать при его жизни».
В полемике между двумя египетскими литераторами, разгоревшейся в конце шестидесятых — начале семидесятых годов, отразились старые разногласия в оценке трудолюбия египтян. Любой мало-мальски здравомыслящий наблюдатель отметет как расистские обвинения египетского народа в лености. О трудолюбии феллаха мы уже говорили. «Праздность — черта, характерная для всех слоев населения, за исключением тех, кто вынужден добывать пропитание тяжелым физическим трудом… — отмечал еще Э. У. Лэйн. — Носильщик, конюх, бегущий перед хозяйской лошадью, лодочник, которому в тихую и жаркую погоду часто приходится с берега тянуть и вверх по течению, — такие люди трудятся в поте лица своего».
Э. У. Лэйн описывал быт и нравы египтян, прежде всего в городе. Он не упомянул феллахов только потому, что их труд и трудолюбие очевидны.
Трудолюбие — отличительная черта подавляющей части населения. Мы уже говорили, что феллах работает в жару и холод, в жидкой грязи или на сухом поле, нередко полуголодный. Он и его семья кормятся трудом. И здравый смысл, и опыт, и унаследованный от предков инстинкт требуют от него трудолюбия. Цикл и виды сельскохозяйственных работ определены с незапамятных времен. Традиционные формы социальной организации и идеологии соответствующими методами — принуждением, убеждением и моральным вознаграждением — побуждают его к трудовой деятельности.
Однако, попав в город, оторвавшись от привычных трудовых и социальных условий, вчерашний феллах не всегда сохраняет свое трудолюбие. Новые, современные формы труда и производства требуют иной трудовой дисциплины, иного отношения к трупу, ломки привычек и психологии. Все это происходит не за один день и не за год. Египтянина угнетают современные стандарты, которые требуют исполнения работы в срок, или точные часы встречи. Необязательность в смысле времени — довольно распространенная черта египтян, и отнюдь не только в наше время. «Очень редко египтянин выполняет приказ с точностью: почти наверняка он предпочтет делать все по-своему и вряд ли закончит работу к обещанному сроку», — писал Э. У. Лэйн.
В современном производстве, в современной сфере деятельности занята небольшая часть вчерашних крестьян, переселившихся в города. Безработица и полубезработица, затягиваясь, превращаются в постоянное состояние. Они разлагают людей, разрушают их привычку к труду, создают паразитические настроения.
Главными препятствиями (если не считать болезни и плохого питания) на пути увеличения трудовых усилий, как и инициативы, предприимчивости, служит социально-политическая система и груз прошлого. Кто лучше и больше трудился, с того больше брали налогов. Увеличение трудовых усилий свыше привычных, традиционных, как правило, не вознаграждалось соответствующим ростом жизненных благ. Стимула к росту производительности труда не было.
Трудовая этика египтян, да и практически всех народов Ближнего и Среднего Востока, предусматривает не любовь к труду как к таковому, а стремление к плодам этого труда. Возможность уменьшить трудовые затраты ценится выше плодов от больших усилий. Еще Э. У. Лэйн писал: «Даже рабочие, особенно жадные до денег, тратят по два дня на работу, с которой можно управиться за сутки, и способны отложить выполнение самого выгодного заказа ради того, чтобы полежать, для того, чтобы понежиться и выкурить трубку».
Известное изречение «время — деньги», высказанное в трактатах Бенджамина Франклина и ставшее лозунгом капиталистической деловитости, не находит отклика в душах большинства египтян. Зачем спешить, если спокойствие желаннее приобретательства, если кейф прекрасен? Разве не говорит пословица: «Поспешность — от черта?» Египтяне согласятся с тем, что труд — богоугодное дело, но отнюдь не станут считать грехом обеспеченную праздность, бесполезную трату времени. Они не считают труд предначертанной свыше целью существования человека.
Египетские рабочие-эмигранты пользуются спросом в арабских нефтедобывающих государствах. Конечно, их трудовые навыки несравнимо выше, чем у бывших кочевников. Зарплата у эмигрантов, по египетским стандартам, очень высокая, а контроль за трудом — жесткий. За границей они работают иногда на износ, но идеал большинства — вернуться домой, чтобы отдохнуть от трудов.
Труд всегда был тяжкой повинностью, а трудящийся — униженным, угнетенным членом общества или, точнее, человеком вне общества. Неудивительно, что для феллаха, рабочего, ремесленника плоды труда — досуг и отдых — важнее самого труда. Отношения к груду как к религиозному или общественному долгу или осуждения праздности состоятельного человека общество в Египте, как и в других мусульманских странах, в целом не знает. Хотя есть и пословицы, славящие трудолюбие, и соответствующие предания о жизни и деятельности пророка Мухаммеда. Высший идеал египтянина — райское блаженство, предусматривающее все доступные воображению наслаждения при полной праздности.
Отношение к труду с позиции его результата перекликается и с отношением к наживе. Конечно, за исключением искренних дервишей или убежденных революционеров, любой египтянин хотел бы иметь больше материальных благ, чем у него есть. Среди египтян попадаются хваткие бизнесмены, беспощадные эксплуататоры, торговцы, которые поклоняются только золотому тельцу. Но и алчный египтянин не лишен, пожалуй, приступов щедрости. Этого от него требуют общественное мнение, религия, здравый смысл. Вспомним одно из эгалитаристских положений ислама: «Легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем богатому попасть в рай».
Ни пуритански-аскетический образ жизни периода первоначального накопления капитала, ни апофеоз жадности бальзаковского Гранде не находят себе аналогов в египетском обществе. Египтянам не придет в голову считать доходность своих занятий и высокую прибыль нравственным и богоугодным делом. Слова идеологов европейского пуританства «Не для утех плоти и грешных радостей, но для бога следует вам трудиться и богатеть» вызовут в Египте недоуменную улыбку и пожатие плеч.
Тяжелая жизнь, гнет, бедность, несытный стол не лишают египтянина жизнерадостности. Его любовь к шутке, острому словцу, анекдоту, юмору, злой сатире — всему, что они обозначают словом «нукта», — поражает. Ни у кого из других народов Востока я не встречал такого чувства юмора, как у египтян. У турок юмор ближе к нашему, русскому, но не так распространен, как в Египте. «В шутке — лекарство», — говорит египетская пословица.
«Нукта» — иногда оборона, иногда нападение. Она помогает египтянину сохранить жизнерадостность в обстоятельствах, толкающих к унынию и упадку настроения, преодолеть тоску и горе, всласть поиздеваться над эксплуататорами или чиновниками, восстановить хотя бы на миг униженное человеческое достоинство, показать хотя бы фигу в кармане. Оскорбленный человек через «нукта» выпустит пар гнева и восстановит душевное равновесие, не предприняв решительно никаких действий….
Некоторые египтяне не просто уходят от тяжелой действительности в глухую оборону, а бегут от нее. Чувство безнадежности, невозможности изменить жизнь, унижения заставляют немалое их число искать забвение в наркотиках. Запрет ислама на их употребление не менее строг, чем запрет на употребление алкогольных напитков. За пьянство, торговлю алкоголем не наказывают. Торговля наркотиками — тяжкое преступление. Однако их употребляют намного больше, чем вино, виски, водку.
Но мы отвлеклись…
И осознанное и инстинктивное чувство противоположности интересов отдельного человека, группы и государства, власти привело египтянина к максимальной осторожности, ставшей для многих второй натурой. Люди научились скрывать свои мысли, чувства, намерения, говорить вслух то, что от них ждут, но во что они не верят, думать одно, а произносить другое, резко ограждая от внешнего надзора свой внутренний мир, круг своих подлинных интересов. Доверяют только своим родственникам или близким. Чужак вообще подозрителен, а власть имущий — всегда чужак. Египтяне традиционно знали много тайных обществ и секретных организаций.
«Язык твой — враг твой» — эта пословица существует и в Египте в нескольких вариантах. Народная мудрость утверждает: «Язык — твоя крепость: охраняешь его — он защищает гебя, предашь его — он предаст тебя».
«Мы говорим то, в чем мы не убеждены, и мы убеждены в том, что не говорим, — пишет египетский социолог Хасан Ханефи. — Мы видим и не говорим. Наша пословица: «Храни свой секрет, и ты будешь хозяином положения». Мы слышим и не говорим: «О сердце! Слушай слова, а само молчи». Мы избегаем свидетельствовать: «О мой глаз! Он видел, но не замечал, что-то случилось, а я сидел в своем доме». Мы предпочитаем ничего не слышать, чтобы ничего не говорить: «Одно ухо залеплено глиной, а другое — тестом».
Много раз в деликатных или сложных обстоятельствах я убеждался, насколько труден прямой и откровенный разговор с египтянином. Но он труден и между самими египтянами. Собеседник нередко скрывает свои убеждения, мысли и хочет прежде всего узнать ваши мысли и убеждения, а затем уверить вас, что согласен с ними. Египтянин должен выяснить, насколько можно доверять собеседнику, выслушать его, взвесить, прикинуть: а какой смысл скрыт между строк, нет ли тут двойного дна, уловить, когда «да» означает «нет» или «может быть», а когда «нет» означает «да» или тоже «может быть». Разговор стал искусством и средством к достижению какой-либо цели, особенно если египтянин ведет его с иностранцем или с власть имущим или думает, что его собеседник — власть имущий. Выяснить подлинные намерения собеседника — нелегкая задача.
В Египте и среди простого народа, и в литературе, и в поэзии, и в журналистике распространено двойное толкование слов, скрытый смысл, запрятанный под обычными фразами, понятный лишь посвященным. Одна из причин этого — влияние суфизма и суфийского наследия. Суфии предпочитают объясняться символами, намеками, которые остаются книгой за семью печатями для непосвященных и тем более недоступны власть имущим или ортодоксальным улемам.
В этом смысле Египет не уникален. В Иране я сталкивался с подобным же способом маскировки сокровенных мыслей и намерений, но там он распространен еще больше и достиг еще более изощренных форм — сказывается традиция шиизма, религии угнетенных, символичность и двойное дно персидской поэзии, сказывается история преследования шиитов их правителями-суннитами.
Египтяне нередко говорят обиняками, ходят вокруг да около темы. Если нет уверенности в положительном исходе беседы, в достижении цели, если собеседник не понял или не захотел понять намека, египтянин все равно доволен: ведь он не получил отрицательного ответа, не испортил отношений, «не потерял лица». «Прощупывание пульса» — важнейшее предисловие к началу важного разговора.
За обычными словами в серьезном, остром разговоре порой трудно поймать мысль. Главная цель произнесенного слова — подготовить собеседника к тому, чтобы он воспринял высказанное тобой, а вторая цель — расположить его к себе, сблизиться с ним. Поэтому египтяне очень редко позволяют политическим или научным конфликтам испортить личные отношения. Острая политическая борьба — одно, а личная вражда — другое. Личные связи не всегда совпадают с партийной преданностью, а тем более с политическими или философскими убеждениями. Газетные полемисты, обменивающиеся язвительными и порой оскорбительными выпадами или эпитетами, могут по вечерам вместе играть в домино или крикет в одном клубе.
Умение говорить то, что от тебя хотят услышать, — искусство, которым египтяне владеют в совершенстве, которое сбивает с толку многих иностранцев. «Ба! Да ведь это марксист и наш подлинный друг!» — может воскликнуть после беседы с каким-нибудь египтянином молодой советский дипломат, только что прибывший в Каир. «Вот истинный сторонник западных ценностей и друг США!» — убежденно произнесет американский бизнесмен, поговорив с тем же самым египтянином. В обоих случаях египтянин был искренен и честен… перед самим собой. Он просто хотел сделать приятное собеседнику, расположить его к себе, заручиться дружбой… на всякий случай, а слова — они и есть слова.
В Египте удивительно легко устанавливаются поверхностные контакты и псевдодружеские отношения даже в период официальной враждебности между странами. Их облегчают обычная египетская вежливость и гостеприимство. Но подлинное доверие, дружба и откровенность — дело трудное. Если иностранцу удалось внушить доверие, завести настоящих друзей, он может чувствовать себя королем.
Еще одно проявление суфийского влияния, тесно связанное с тем, о чем только что шла речь, — отделение внутреннего от внешнего, сути от ее внешнего, словесного оформления, от формы. Внутреннее всегда важнее. В глазах суфиев жалок человек, отдающий предпочтение внешнему. Египетские пословицы осуждают тех, кто пускает пыль в глаза, у кого внутреннее содержание совершенно не соответствует внешнему поведению. «На брюхе шелк, а в брюхе — щелк» — эта наша пословица имеет точный эквивалент в египетских народных изречениях. Они же с усмешкой говорят: «Он, как павлин, любуется своими перьями», или: «Не каждый, кто взгромоздился на лошадь, — всадник», или еще злее: «Внутри — хам, зато какие манеры!»
«Душа нараспашку» — и у нас эта черта характера вызывает все-таки оттенок иронии, хотя в принципе считается положительной. В Египте «душа нараспашку», особенно по отношению к чужаку, — немыслимое свойство характера.
В кругу семьи говорят об одном, в кругу друзей — о другом, а уж для всеобщего сведения и перед чужими — о третьем. Поэтому средствам массовой информации большинство просто не доверяет, отыскивая подлинный, сокровенный смысл в правительственной пропаганде. В этих условиях слухи нередко приобретают достоверность факта.
Суфии утверждают вечную противоположность внешнего и внутреннего. Однако народный инстинкт и стремление к идеалу все же выше всего ставят единство между внутренним и внешним и осуждают разрыв как нечто ненормальное: «Подобно слою масла в лампе: сверху — огонь, а внизу — вода».
Но идеалы для египтян — на то и идеалы, что труднодостижимы и чаще совсем недостижимы. В жизни не только убеждение и слово, но тем более слово и дело отнюдь не всегда совладают. «Раздвоенность египетской натуры проявляется еще и в резком различии между словом и делом, — пишет Хасан Ханефи. — Часто заявляют то, что не делают, а делают то, о чем не заявляют.
Слова стали особым полем псевдодеятельности, на котором возводят псевдосооружения и где существуют псевдореалии. Достаточно, чтобы говорящий красноречиво высказался о какой-то проблеме, будто эта проблема действительно существует. Достаточно упомянуть о решении проблемы, и кое-кому кажется, что она уже решена».
Не будем принимать саркастические слова египетского социолога за абсолютную истину: разговором о хлебе не накормишь голодного. Ханефи просто заостряет реальную проблему, существующую в египетском и в целом в арабском обществе. Народные пословицы иронизируют: «Услышал шум мельницы, а муки-то нет», «Шума много, а драки нет». Но в жизни речь, слова зачастую приобретают самостоятельное существование, независимое от дела. Эффектное, соответствующим образом поданное заявление уже становится событием хотя бы на время, даже если жизнь не подтвердит сказанного.
Одна из причин этого — отсутствие для большинства реального поля деятельности. Слова превращаются в способ иллюзорного действия, дают надежду убежать от действительности, которую невозможно изменить и которой нечего противопоставить. Поэтому слова без содержания, слово ради слова, слово, не подразумевающее действие, стали характерной чертой общества в Египте, да и во многих других арабских странах.
Толчение воды в ступе, разрыв между словом и делом — характерная особенность религиозных догматических упражнений, которые оказывают столь значительное влияние на формирование психологии и образа мышления верующих. «Толкование» какого-либо священного текста, как правило, означает повторение одной и той же мысли другими словами. Но толкователь при этом «выигрывает», потому что не несет никакой ответственности за свое «толкование», в котором нет ни грана нового.
Потенциальная творческая общественная энергия уходит в слова в том случае, если дело оказывается недостижимым или невозможным. Занимаются определением, описанием намерения, потому что способы исполнения намерения не знают. Наследие средневековья? Да. Но какого? Именно в раннеисламском средневековье, эпохе творческого, синтезирующего ислама, этого не было. Застой, самоуспокоенность, упадок привели к догматическому повторению слов, к словам ради слов.
Слова нередко завораживают египтян и вообще арабов. Красноречием упиваются и произносящий слова, и слушающий их. Арабы любят свой язык и справедливо гордятся им. Не проходя через фильтр логики или размышления, слова сразу воздействуют на эмоции. Звучный, богатый, синонимичный арабский язык был одной из основных форм проявления арабского художественного гения, для которого ислам закрыл путь в живопись и пластику. Опять же, говорить, а не действовать — самое безопасное. «Лающая собака не кусает». Может быть, лучше всего следовать совету другой пословицы: «Воспользуйся словами шейха, но не его делами».
Но не всеми «словами шейха» воспользуешься. Египетское общество — мужское общество. Отношения с женщинами жестко регламентированы обычаем и шариатом. Существует полиция нравов. В городах, да и в состоятельных семьях в деревнях требуют, чтобы женщина закрывала тело и волосы, оставляя открытыми лишь лицо, кисти рук и ступни. Но чем больше запрета, тем больше соблазна. Чем больше одежды, тем сильнее хочется оголиться… по большей части, хотя бы на словах. Святоши осуждают «испорченность нравов» на Западе, но сластолюбиво рассматривают легко одетых европейских женщин и часто говорят о вопросах пола. Об интимных сторонах человеческих отношений начинают говорить с детства. А сколько на эту тему разговоров среди молодежи, особенно при поздних браках мужчин!
Для значительной части египетской интеллигенции вопрос самооценки, определения места и роли Египта в мире всегда был одним из центральных в системе мировоззренческих ценностей. Преданность родине, гордость ее великой цивилизацией, ее блестящим прошлым сочетаются с явным или скрытым комплексом неполноценности по отношению к Западу. После поражения в арабо-израильской войне 1967 года египетская интеллигенция предалась самокритике — явлению исключительному для Египта, искала пути и средства к модернизации не только общества, социально-политической структуры, но и национального характера. Его отрицательные черты решительно, иногда чрезмерно выставлялись на свет, подвергались уничтожающей критике или осмеянию. Краткий период самовосхваления и самоуспокоенности после войны 1973 года вновь сменился тягостными раздумьями и спорами о судьбах народа и страны.
«Романтический подход к попытке понять египетский национальный характер не поможет оценке истинного положения дел, — писал египетский социолог Иззат Хигази в исследовании «Египетский национальный характер между отрицательными и положительными свойствами». — Опасные вызовы, с которыми сталкиваются египтяне внутри и вне страны, требуют реалистического подхода к своему национальному характеру. Необходимо дать объективную оценку как его позитивных, так и отрицательных черт, для того чтобы наметить здравую политику изменения общества». Основные черты национального характера египтян, считал он, — следствие общественных условий, в которых жил феллах многие поколения, и в частности взаимоотношения между властью и различными общественными силами в Египте.
«Главный ключ к объяснению национального характера, — по его мнению, — это природное и политическое единство страны и относительная стабильность на протяжении истории. Неудивительно, что относительная закоснелость — одна из основных черт египетского национального характера. Вместе с тем в египетском национальном характере постоянно происходит внутренняя борьба. Разные черты могут проявляться по-разному, в зависимости от общественных условий. И египтянин в состоянии преодолеть свои отрицательные черты».
Социолог Хамид Омар утверждал, что египтяне «отличаются гибкостью и умением подлаживаться, умением скрывать подлинные чувства за приятным обращением, преувеличенно относиться к самоутверждению, но одновременно стремятся уменьшить социальную ответственность; они отличаются склонностью к индивидуалистическим действиям и отвергают коллективизм» Его определение, как и многие предыдущие, отнюдь не бесспорно, хотя он и оговаривается, что все эти свойства характера являются «прямым следствием социальных, экономических и политических условий различных форм организации общества и разных режимов»; они, эти свойства характера, не являются «естественными» в египтянах, а «сложились при определенных обстоятельствах, они не вечны и могут изменяться». За тем египетским характером, который сконструировал египетский социолог, стоит личностный подход, определяемый болью за положение народа и состояние общества. Но его резкие суждения и упрощенные характеристики египтян, его отрицательные эпитеты в адрес национального характера не раз использовались во враждебной арабам пропаганде.
Читая горькие и порой несправедливые высказывания Хамида Омара в адрес его же соотечественников, не только ищешь аргументы для возражения ему, но и вспоминаешь личный опыт. Я встречал египтян, будто отлитых из стали.
Вожак александрийских рабочих и парламентарий Абуль Изз аль-Харири. Его били и сажали в тюрьму, оскорбляли и поносили, пытались оклеветать и даже убить. Он оставался верен своему делу. Его авторитет среди александрийских рабочих был таков, что он побеждал на выборах любого, в том числе премьер министра, и лишь наглым жульничеством могли не пропустить его в парламент. Рабочий-бедняк, он заочно окончил университет. С лицом, которое не обезобразил даже шрам, оставленный кинжалом подосланного полицией убийцы, он был олицетворением красоты и силы. Свои выступления на митингах он начинал словами: «Мир вам, мужики!» Свой говорил со своими, честно и страстно и рубил им правду, правду, правду. Униженные, задавленные, угнетенные, оплеванные расправляли плечи, чувствовали себя людьми и смотрели на него как на провозвестника будущего, хотя, откровенно говоря, и для него оно не было ясно.
Доктор экономики Фуад Мурси — большеголовый, большегубый, но с обаятельной, располагающей к себе улыбкой, низенький, широкоплечий, коротконогий — идеальный объект для карикатуристов, умный, остроумный и абсолютно честный. Один из лидеров левых, он пять лет просидел в концлагере при Насере. Прямо с — барачной койки президент передвинул его в кресло министра снабжения. Фуад Мурси усмехается: «На мою скромную квартиру и невеликие литературные доходы все жулики Египта смотрят с ухмылкой. Ты бы мог стать миллионером за два месяца и мультимиллионером за два года, говорят мне». Он стал одним из лидеров левой Национально-прогрессивной партии.
Фуад Мурси написал предисловие к египетскому изданию моей книги «Нефть Залива и арабская проблема». Я не привык к гиперболизациям египтян и долго уговаривал его снизить на несколько ступеней эпитеты в мой адрес, но он отшучивался: «Ты хочешь, чтобы твоя книга продавалась? Терпи мое предисловие!»
Потом пришла новость: в сентябре 1980 года в ходе массовых репрессий его схватили, обвинив в шпионаже в пользу Советского Союза. Ему грозило пожизненное заключение. Садата убили, обвинения рассыпались. Он вышел на свободу, и через два месяца мы встретились в Каире и горячо обнялись. Его бесил не арест, не угроза пожизненного заключения, а обвинение в шпионаже. «Я — политический лидер с известными политическими взглядами. Я готов идти за них в тюрьму. Мое убеждение — тесное сотрудничество Египта с СССР в национальных интересах Египта. Я говорил это и говорю открыто, но обвинять в шпионаже… какая безмерная подлость».
Мы встретились два года спустя в Москве. Он был спокоен и настроен философски: «Египет извлек свой национальный характер из своей земли и Нила. Нил научил крестьянина работать, а с помощью коллективного труда египтянин смог подчинить себе Нил. Такова основа египетской цивилизации и египетской души».
В Египте у меня были еще два друга. Судьбы их подобны легендам.
Поэт Ахмед Фуад Негм писал стихи, далекие от канонов классической арабской поэзии. Слепой музыкант Шейх Имам пел, импровизируя, на свадьбах чужие песни под аккомпанемент уда — струнного инструмента.
В один из жарких летних дней 1962 года их познакомили. Негм прочитал несколько стихотворений. Шейх Имам исполнил песни в своей обработке. Они решили работать вместе и не расставались много лет. Их имена стали известны в арабском мире от Атлантики до Персидского залива.
Негм родился в безземельной крестьянской семье и с семи до семнадцати лет батрачил. Характер юноши окреп в лишениях. В душе будущего поэта навсегда сохранились образы родной деревни: утренний туман над Нилом, вздохи буйволов, запахи прекрасной, доброй египетской земли. Он запомнил прибаутки бродячих торговцев, сказки, что рассказывали старики, легенды, древние, как пирамиды. Негм был чернорабочим, разносчиком, железнодорожником. Потом первые профсоюзы. Стачки. Тюрьма.
В тюрьме политические заключенные дали мне «Мать» Горького. Я был потрясен. Затем читал Чехова, Достоевского, Толстого, Тургенева, Брехта.
— Ты называешь русские имена, чтобы сделать мне приятное?
Искренние, живые глаза поэта смотрели из-под густых, слегка вьющихся, наполовину седых волос.
— Нет, потому что это было действительно так. Далекая река русской литературы пробивается среди наших пустынь, и из нее пьют все, кому дорога собственная культура.
Шейх Имам слеп почти от рождения. Сын феллаха выжил назло превратностям судьбы. Подростком он вызубрил наизусть Коран, переехал в Каир, чтобы изучать богословие. Но звуки мира, и особенно звуки музыки, переполняли его. Имама приютил в своем доме музыкант, слепой, как и он сам, и обучил играть на уде, петь и сочинять.
Негм и Шейх Имам обратились к египтянам с темами, которые волновали их сердца. Музыкант использовал народные мотивы, дервишские молитвенные гимны, но внес в них дыхание и ритмы эпохи. Песни Негма — Шейха Имама стали петь египетские рабочие, они звучали на студенческих сходках, в палестинских лагерях Ливана.
В стихах Негма — боль за Египет тружеников, в который он верил.
Мы встречались у него дома. Циновка на полу в тесной комнатушке. Полки с книгами и тахта. Маленькие стулья. За окнами — набитый беднотой квартал Эль-Гури. В соседнем помещении — Шейх Имам. Поэт был юношески легок в движениях, хотя ему тогда уже было сорок восемь и он был болен. «Меня нельзя сломить. Меня можно только убить, как убили Бико в Южной Африке», — говорил он.
Поздно вечером Негм вышел проводить меня. Темные фасады облупившихся домов, изогнутые переулочки, где не проедет автомашина, фонари прошлого века, могучая стена мамлюкской крепости над домишками…
— Здесь мои корни, мои темы, мои слушатели, — сказал Негм. — Я умру, если оборвутся мои связи с этими людьми.
Я увидел его и Шейха Имама снова в здании военного трибунала. Их обвиняли в том, что они сочиняют и поют песни, «возбуждая сомнения в честности власти». Защитник убедительно и не без иронии доказал, что трибунал некомпетентен судить поэта и музыканта и что решение передать их дело в военный суд было противозаконным.
Трибунал приговорил поэта к году каторжных работ. Со спокойной улыбкой он кивнул мне на прощание. Больше мы не встречались.
И Абуль Изз аль-Харири, и Фуад Мурси, и Ахмед Фуад Негм, и Шейх Имам — египтяне. Они тоже плоть от плоти египетского народа. Таких, как они, мало, слишком мало, но они — теин в чае, искра в хворосте для костра. Был бы только хворост сухим…
1977–1982 гг.
ГОРЬКИЕ ЛИМОНЫ КИПРА
Отсюда за пространством моря в колеблющейся дымке виден турецкий берег. С Кипра до него — три-шесть минут лета, до Ливана, Израиля, Египта — двадцать-тридцать минут. Третий по величине остров Средиземноморья — идеальный трамплин для действий на Ближнем Востоке и дальше — в богатом нефтью Персидском заливе и прилегающих к нему районах. Вот с этого очевидного факта географии и политики волей-неволей приходится начинать рассказ о Кипре.
Мать-природа с помощью разумных и трудолюбивых людей хотела сделать этот остров филиалом рая на земле. Но он известен не только горькими лимонами, роскошными плодами Средиземноморья, восхитительными пляжами, щедрым и не слишком жгучим солнцем, но и горькой судьбой. Уникальное географическое положение — и слава и трагедия киприотов. Перечислять владык острова, всех, кто даже в смертельных объятиях пытался удержать столь лакомый кусочек суши, значило бы пересказывать историю Восточного Средиземноморья с античных времен до наших дней.
Последний колониальный хозяин Кипра — Великобритания. Антианглийские демонстрации кипрских патриотов сменялись забастовками и уличными боями, поэтому англичане вынуждены были предоставить острову независимость в 1960 году. Но, уходя, они оставили за собой две военные базы, оговорив, что они якобы не находятся на земле Кипра, а являются «суверенной английской территорией» общей площадью примерно двести двадцать пять квадратных километров (больше территории государства Мальта).
Видишь английские коттеджи, стриженые газоны, футбольные поля, конюшни скаковых лошадей, казармы, а за линией холмов угадываешь главное — аэродромы, радары, систему ПВО, подземные склады; слышишь рев истребителей-бомбардировщиков и самолетов стратегической авиации; читаешь о том, что англичане фактически предоставляют свои базы на Кипре под американские «силы быстрого развертывания» и что американцы помогали верным союзникам со своих баз во время фолклендского (мальвинского) кризиса; узнаешь, что на кипрскую территорию Вашингтон перебросил из Ирана часть своих станций электронного шпионажа, направленного против Советского Союза; вспоминаешь о том, что совет НАТО де-факто распространил сферу действия этого блока на Ближний Восток, а на Синае, то есть рядом с Кипром, уже находятся подразделения стран — участниц НАТО.
Когда суммируешь все это, то становятся понятными пружины истинной политики Вашингтона, Лондона, НАТО по отношению к Кипру.
Остров, на котором проживают греки-киприоты и турки-киприоты, разделен на две части. Его северную часть оккупировали в 1974 году турецкие войска, и там существуют административные органы турок-киприотов. В южной части, что осталась в руках греков-киприотов, есть также и подразделения из континентальной Греции.
Идешь по шумной торговой улочке Лидра в центре Никосии и сразу, без перехода, упираешься в тупик. Пулеметные гнезда, мешки с песком, солдаты из числа греков-киприотов в зеленых касках. За ними — нейтральная полоса, голубые каски солдат из войск ООН, дальше — турецкий пост.
Едешь среди благоухающих полей и садов по автостраде, которая ведет в никуда — в шлагбаум, в полосу зарастающей бурьяном плодородной земли, в зеленые каски под кипрским флагом, голубые каски, снова зеленые каски под флагом с полумесяцем и звездой.
Бродишь по пляжу и вспоминаешь древнегреческую легенду о том, что где-то в этих краях из морской пены родилась прекрасная и вечно юная Афродита, и вдруг натыкаешься на колючую проволоку, а дальше — посты в том же порядке.
Парад мод белых подвенечных платьев под невыносимо сладкую музыку над искристо-голубым от подсветки бассейном, среди букетов — нет, не букетов, а снопов гвоздик и роз — в отеле «Филоксения». А дальше за вечерним полем, всего лишь в километре по прямой — настороженная тишина, и бойцы с пальцами на спусковых курках друг против друга, разделенные недоверием и узкой полосой нейтральной земли.
Во время событий 1974 года тысяча шестьсот греков-киприотов пропали без вести. Некоторые из них, молодые люди, были обручены. Парад подвенечных мод над голубым бассейном в «Филоксении» — не для их невест. На Кипре, где сильна церковь, обручение — обязательство, которое трудно расторгнуть, если ты не знаешь, жив твой суженый или погиб.
Когда западные журналисты говорят о «закоренелой вражде» и «непримиримых противоречиях» греков-киприотов и турок-киприотов, они лгут. И те и другие сосуществовали друг с другом столетия. Между ними случались разногласия, порой серьезные, бывали и столкновения. Предоставленные сами себе, они, видимо, смогли бы мирно договориться о будущем устройстве своего совместного общего дома — Кипра. Но политическая обстановка в стране развивалась так, что независимо от форм этой договоренности они предусматривали бы для республики статус неприсоединения, антиимпериалистический настрой ее внешней политики, требование убрать с острова иностранные военные базы, сотрудничество на равноправной основе со всеми государствами, в том числе с социалистическими. Именно это не устраивало ни Лондон, ни Вашингтон, ни в то время Анкару и Афины. Действительно, дело доходило до того, что турки-киприоты и греки-киприоты после завоевания независимости не раз стреляли друг в друга, накаляя взаимное недоверие, ненависть, обособленность. Однако оружие в руки и тем и другим вкладывалось извне. Еще англичане искусно разожгли огонь вражды между двумя общинами, а потом ловко и цинично играли роль «арбитра».
«Гарантами» независимости Кипра стали Англия, Греция и Турция. В результате кровавых столкновений 1963 года остров был фактически разделен на вооруженные анклавы. Именно тогда столицу прорезала так называемая зеленая линия перемирия, сохранившаяся до наших дней. В стране кроме английских войск появились официально еще и греческие и турецкие военные части. Добавьте к ним собственно кипрскую национальную гвардию под командованием греческих офицеров, войска ООН, вооруженное ополчение турок-киприотов, боевые подразделения греческих штурмовиков из фашистских банд ЭОКА-2 — и вы получите представление, как легко было в этой стране дернуть за ниточку любую из марионеток.
Спровоцированный греческими «черными полковниками» и спецслужбами НАТО взрыв произошел летом 1974 года — меньше чем через год после четвертой арабо-израильской войны. Правые банды во главе с Самсоном совершили государственный переворот.
Путчисты, не считаясь с желаниями большинства греков-киприотов (не говоря о турках), провозгласили своей целью «энозис» — слияние с Грецией. Но лишь простачки могли полагать, что Анкара проглотит эту пилюлю. Идя на путч, фашисты знали, что турки будут действовать. Видимо, «черные полковники» надеялись как минимум на «двойной энозис» — то есть на раздел острова между Грецией и Турцией.
Турки высадились, ссылаясь на свою роль «гаранта» по лондонско-цюрихским соглашениям, и в несколько этапов операции «Аттила» заняли почти две пятых территории острова. Из турецкой зоны оккупации более ста восьмидесяти тысяч греков бежали на юг. С юга несколько десятков тысяч турок-киприотов переселились на север. Через год в оккупированной турками части острова лидер турецкой общины Рауф Денкташ провозгласил образование — естественно, с благословения Анкары — так называемого «турецко-кипрского федерального государства». Его признала только Турция.
С тех пор остров расколот.
Линия перемирия превращается в глубокий ров, некоторые говорят — пропасть.
Среди старшего поколения турок и греков на Кипре было немало тех, кто одинаково хорошо говорил на обоих языках. Молодое поколение не знает и не хочет знать языка своих сограждан из другой зоны. Столетиями складывавшиеся связи рвутся. Экономический обмен между двумя частями Кипра сведен к нулю. В турецкой зоне кипрский фунт был объявлен «иностранной валютой» и введена в обращение турецкая лира.
По-разному сложилась экономическая судьба Кипра на севере и на юге.
На севере остались семьдесят процентов экономического потенциала страны, главные туристские комплексы, самые плодородные земли. Беженцы с севера вместе с остальными греками-киприотами начали трудиться с энергией отчаяния. С Ближнего Востока тек ручеек нефтедолларов, с Запада и из некоторых арабских стран — поток туристов. Временами экономический рост достигал восемнадцати процентов в год. Туризм и торговля были главным полем деятельности, но росли и легкая промышленность, и сельское хозяйство. Спустя пять лет национальный доход греческой части острова превысил национальный доход всего Кипра в 1973 году. В год южную зону стало посещать полмиллиона туристов, примерно по одному на каждого жителя-грека. В начале восьмидесятых годов экономический рост резко замедлился, появилась безработица, особенно среди высококвалифицированной и высокообразованной части населения. Неуверенность в завтрашнем дне ограничивает долгосрочные капиталовложения.
Население северной части Кипра составляет сейчас примерно сто пятьдесят тысяч человек, из них двадцать-тридцать тысяч — недавние переселенцы из континентальной Турции. Но перебравшиеся с юга турки-виноградари или бедные крестьяне из анатолийских степей не смогли освоить брошенные греками плантации цитрусовых, и они стали приходить в упадок. Туристские комплексы разрушаются, потому что у турок-киприотов просто не хватает кадров для их обслуживания и поддержания, еще не решен вопрос о собственности на отели, а проезд на эту часть Кипра для туристов слишком дорог и обеспечивается лишь турецкой авиакомпанией. Значительная часть турок-киприотов осталась без работы, так как была занята на строительстве, которое стало просто ненужным из-за избытка брошенного греками жилья. Если национальный доход на душу населения в греческой части Кипра перевалил за четыре тысячи долларов в год, то в турецкой он вчетверо ниже (хотя и выше, чем в континентальной Турции).
Субъективные условия для того, чтобы две общины нашли общий язык, есть, хотя разногласия, их разделяющие, безусловно, велики. На переговорах греки-киприоты согласились на федеративное устройство государства, но с сильной центральной властью. Турки-киприоты требовали практически децентрализации власти в рамках формально единого государства. Шел спор о размерах территорий, которые должны быть выделены каждой общине. Острыми оставались проблемы собственности на землю и другую недвижимость в той и другой частях Кипра.
Турки-киприоты провозгласили образование самостоятельного государства. Его признала только Анкара.
Но дело не в серьезных расхождениях между двумя общинами. Главное заключается в том, что именно 362 внешние силы не хотят договоренности между ними, не хотят, чтобы зарубцевалась кровоточащая рана Кипра. В Вашингтоне и Лондоне предпочли бы решать кипрские дела в кругу НАТО, в интересах США и этого блока. Там отвергают советские предложения, поддержанные правительством Кипра, созвать представительную международную конференцию в рамках ООН. Кипру мстят за то, что его правительство, которое контролирует, естественно, лишь греческую часть, требует удаления с острова всех иностранных войск и его полной демилитаризации, укрепления независимости и суверенитета кипрского государства, сохранения избранного им курса неприсоединения.
В натовских столицах не могут примириться и с тем, что победу на последних президентских выборах одержал Спирос Киприану — кандидат блока буржуазных демократов и коммунистов, созданного Демократической партией и Прогрессивной партией трудового народа Кипра (АКЭЛ), а кандидат правых, пронатовских сил Г. Клиридис потерпел поражение. Наконец, Кипру мстят за дружеские связи — политические, экономические, культурные, которые он как неприсоединившаяся страна поддерживает с Советским Союзом, за то, что позиции Кипра и СССР по важнейшим международным вопросам совпадают или близки.
…Сейчас международный никосийский аэродром, находящийся как раз на «зеленой линии», бездействует. Нм пользуются лишь войска ООН. С гражданского аэропорта Кипра в Ларнаке самолеты отвозят в разные концы света загоревших, посвежевших туристов и прекрасные овощи и фрукты. Здесь вновь убеждаешься, что киприоты мечтают о том, чтобы в их небе появлялись только гражданские самолеты, чтобы воссоединенный остров стал оазисом мира и стабильности в Восточном Средиземноморье.
1983 г.
БОЛЬ МОЗАМБИКА
Мозамбику трудно.
Это не холодная констатация факта, а жгучая реальность дружественной нам страны.
Мы в детстве узнали и полюбили ее по милым стихам Чуковского, где слово Лимпопо звучало таинственно, экзотично, жарко (слово врезалось в память, и приходится пересиливать себя, приучаясь к правильному произношению, к ударению на втором слоге — Лимпопо).
Мы ближе узнали и сильнее полюбили ее по газетным и телевизионным сообщениям в годы, когда по лесам и саваннам шли сражаться и умирать за правое дело молодые мозамбикцы (личное, хотя совершенно случайное воспоминание: в 1971 году мы снимали фильм «Горячий ветер свободы» в освобожденных районах султаната Оман на Аравийском полуострове, и наш оператор говорил: а вот в Мозамбике было гак, а в Мозамбике было эдак).
Мы помним, как с географических карт исчез Лоренсу-Маркиш, ставший в 1976 году Мапуту, а улицы в столице молодого государства зазвучали такими яркими и новыми для мозамбикцев названиями — Ленина, Маркса, Энгельса, Ньерере, Лумумбы… Были первые годы независимости, было опьянение победой и свободой, лица людей светились надеждой. Но были и все более беспощадные удары, что наносили по Мозамбику враги. Наконец, последние три года природа словно обернулась к Мозамбику лицом озлобленной мачехи.
…На берег Лимпопо мы не смогли выехать. Вернее, мы добрались на автомашине до желто-красной, мутной воды, куда проваливался размытый асфальт шоссе, а основное русло реки пролегало в десятках километров от нас. С вертолета открывалась залитая водой от горизонта до горизонта равнина, высокие деревья, увешанные гроздьями человеческих тел, кое-где армейские бронетранспортеры-амфибии, спасавшие людей, были видны плывущие соломенные хижины, трупы животных, закрученных в водоворотах. Равнодушное, палящее солнце стояло в зените над хаосом и разрушениями.
Ураган свирепствовал накануне. Воздух, ставший осязаемым, плотным и упругим, сбивал с ног человека, выворачивал с корнями могучие деревья, сносил кровли домов, рвал лопухи бананов. Десятиметровые волны накатывали на берег. Потом стала собираться гроза, сердце в груди ускоренно билось и падало в ноги, гудела голова, наэлектризованный воздух натягивал нервы. Наконец с моря и с неба надвинулась стеной вода, и пошла гулять тропическая гроза. Маленькие ложбинки (за одну ночь!) превратились в овраги в полтора-два человеческих роста. Вода залила водокачки — остановились насосы, и большой город рядом с бушующим наводнением, с рекой Умбелузи наутро проснулся лишенным воды. Стали выдавать по нескольку литров на человека — и в городской толпе появились люди с ведрами и бачками на голове.
Ливни обрушились и на соседнюю ЮАР, и там ради спасения стали открывать шлюзы в плотинах и сбрасывать воду в Мозамбик, усугубляя наводнение. В Мапуту нормальная жизнь вернулась довольно скоро, но погибли десятки тысяч гектаров полей.
Наводнение пришло после самой жестокой за полстолетия засухи, что охватила весь район Южной и Юго-Восточной Африки, но больше всего поразила несколько провинций Мозамбика. Засуха продолжалась три года. Земля отвердела и растрескалась, урожаи риса и кукурузы погибли. Начался массовый падеж скота.
В хижины пришла беда.
Ее можно было бы ослабить, отвести угрозу от миллионов пострадавших. Правительство, ЦК партии Фрелимо приняли чрезвычайные меры. Валюту, которой было так мало, тратили на закупки муки и зерна. В деревни и на хутора направлялись грузовики с продовольствием.
Однако многие грузы не попали к жертвам засухи, были взорваны или разграблены по дороге бандитами. От голода погибли тысячи и тысячи людей.
Слово «бандит» говорит о многом и о многом умалчивает. Оно говорит о хищничестве, жестокости, садизме, но скрывает политическое лицо.
«…Они учинили допрос, и три человека признались в своей принадлежности к партии Фрелимо. Секретарь местной партячейки Жоао Куно, его помощник Себастиао Матсинхе и еще трое родственников Матсинхе были выведены из толпы. Их начали бить молотками, а затем зарубили топорами, нанося удары по тыльной стороне шеи. Мятежники обезглавили троих из своих жертв и посадил их головы на колья перед входом в деревню. Они предупредили, что тот, кто осмелится их похоронить, поплатится за это жизнью…» Эти слова принадлежат не мне и не представителю «коммунистической страны». Они взяты из январского сообщения «респектабельного» агентства Франс Пресс, хозяева которого отнюдь не прониклись симпатией к мозамбикской революции.
«Они неожиданно вышли из леса, — рассказывает Мажоржи Фернанду Зембе, тридцатитрехлетний крестьянин, работающий на сахарной плантации в провинции Бузи, — схватили меня и отрезали мне уши. В следующий раз дело может кончиться еще хуже», — напечатано в итальянском журнале «Панорама».
Бандиты отрезают уши, носы, губы, груди у женщин.
Я видел ополченца со страшным, трагическим оскалом. «Когда бандиты отрезали мне губы, они сказали: «Теперь можешь идти и улыбаться Саморе Машелу». Вчерашний мирный крестьянин взял в руки винтовку и со своим искалеченным лицом, с полными ненависти глазами преследует бандитов по лесным тропам.
Но, повторяю, само слово «бандит» не говорит о политической окраске отрядов мятежников, которые называют себя «мозамбикским национальным сопротивлением» (МНС) и кричат, что хотят свергнуть «коммунистическое правительство» Фрелимо.
МНС — выкормыш Претории, а в момент создания также режима Яна Смита в нынешней Зимбабве, тогдашней Южной Родезии. После завоевания независимости Зимбабве Южная Африка снабжает его оружием, боеприпасами, продовольствием, деньгами, обучает главарей банд, контролирует их действия.
Пиратская радиостанция мятежников, которую в Мозамбике называют «голосом гиены», с 17 апреля 1983 года несколько месяцев молчала. В тот день близ Претории был убит Орландо Кристина, бывший сотрудник ПИДЕ, португальской политической полиции времен Салазара, бывший агент-провокатор, бывший наемник, служивший родезийскому белому режиму, «генеральный секретарь» МНС. Три месяца спустя руководство мятежным движением перешло к Алфонсу Длакама по прозвищу «Жакаму». Он когда-то служил в мозамбикской армии, проворовался, был с позором изгнан и вот теперь пригрет в ЮАР и выдвинут на место «лидера».
В 1983 и в начале 1984 года внимание средств массовой информации было сконцентрировано на Атлантическом побережье Африканского континента, где шла открытая война между ангольцами и вторгнувшимися в страну южноафриканцами. «Молчаливая», но не менее жестокая война, развязанная ЮАР, заливала кровью Мозамбик. «С момента получения нашей страной независимости в 1975 году, — сказал Жозе Луиш Кабасу, министр информации и секретарь ЦК партии Фрелимо, — у нас не было ни одного мирного дня. Наши противники — это банды изгоев и наемников, финансируемые ЮАР».
Мятежники из МНС совершают нападения на один из крупнейших в Африке гидрокомплекс Каборабасса, уничтожают опорные столбы линий электропередачи, взрывают поезда, мосты и склады горючего.
Удары по коммуникациям стали нарастать с лета 1980 года, когда Мозамбик пережил первую засуху. Претория решила погрузить независимый Мозамбик в пучину хозяйственной разрухи. «В 1981–1982 годах, — писал итальянский журнал «Панорама» — отборные южноафриканские подразделения, которые сражаются вместе с мятежниками (несмотря на опровержения Претории, непосредственное участие ЮАР в боевых действиях не вызывает сомнений, учитывая очень сложный технический характер акций саботажа), взорвали мост на реке Пунгве, уничтожили некоторые портовые сооружения и в декабре 1982 года взорвали в Бейре (важнейший порт Центрального Мозамбика — А. В.) 34 цистерны с горючим».
Одним Мозамбиком замыслы Претории не ограничивались. Руками бандитов она била сразу по нескольким целям. Девять независимых государств Юга Африки — Ангола, Ботсвана, Лесото, Малави, Мозамбик, Свазиленд, Танзания, Замбия и Зимбабве — объединились в экономический союз — Конференцию по координации развития стран Юга Африки. Общими усилиями они стремятся уменьшить свою экономическую зависимость от ЮАР. Шесть из них не имеют выхода к морю, поэтому ключевую роль в их усилиях играют железные дороги и порты Мозамбика. Их саботаж должен был принудить такие страны, как Зимбабве, пользоваться транспортной сетью только ЮАР и склониться перед экономическим диктатом Претории.
Летом 1983 года мозамбикская армия перешла в наступление на формирования и базы МНС. Тысячи бандитов были уничтожены или взяты в плен. Но остальные рассеялись, как саранча, по всей стране. МНС создавало угрозу для железной дороги, связывающей Мапуту с Зимбабве и проходящей через провинцию Газа. Захваченный бандитами в плен машинист поезда, подорвавшегося на мине, Жозе Кароса рассказывал, что командир банды кричал ему: «Мы не хотим, чтобы поезда ходили по этой линии. Тебе это не известно? Разве ты не знаешь, скольких твоих коллег мы уже убили? Мы не хотим больше, чтобы поезда отправлялись в Зимбабве и приходили оттуда». Локомотив Каросы был восемнадцатым, уничтоженным на этой железнодорожной линии за три года.
Природные катастрофы и действия бандитов тяжело сказались на экономике. Уже несколько лет продолжается падение промышленного и сельскохозяйственного производства, экспорта. Товары, импортируемые с капиталистического рынка, все дорожают. За каждый ввезенный грузовик Мозамбик должен вывозить в четыре-пять раз больше орехов кешью, чем десять лет назад.
Хозяйство колониального Мозамбика базировалось на денежных переводах мозамбикских рабочих из ЮАР, на транспортном обслуживании грузов из ЮАР и тогдашней Родезии, на доходах от юаровских и родезийских туристов, приезжающих на чудесные океанские пляжи этой страны. Все три источника дохода в несколько раз уменьшились. Экономическая война ЮАР против соседнего государства началась в год провозглашения независимости. Она была дополнена ползучей агрессией через бандитов из МНС.
В год получения независимости девяносто три взрослых мозамбикца из ста не знали грамоты. В школы ходило лишь полмиллиона детей. Учителя-португальцы уехали. Но сейчас учатся два миллиона. В университете среди нескольких десятков темнокожих студентов (на три тысячи португальцев) сейчас больше трех тысяч мозамбикцев. Если говорить об успехах независимого Мозамбика в образовании, то они самые ощутимые.
Сделать больше не позволяют условия географии и политики.
Масштабы и характер угрозы, нависшей над страной, в Мозамбике понимают. «Отстоим независимость! Преодолеем отсталость! Построим социализм!» Эти лозунги, как и красное партийное знамя с характерным символом — молотом и мотыгой, — встречаешь повсюду. Когда я читал лекцию в высшей партийной школе, смотрел на молодые, умные лица слушателей, а затем беседовал с ними, то верилось: эти лозунги для них — не просто слова.
Партия Фрелимо провозгласила своей целью «разрушение капиталистической системы и построение в Мозамбике общества, свободного от всякой эксплуатаций…». Но здесь убеждаешься, что поиски новых форм общественной и экономической жизни — необходимый для будущего, но мучительный, долгий процесс.
О его трудностях говорили много и откровенно на IV съезде партии Фрелимо, состоявшемся в апреле 1983 года. О многих уже рассказано в моих заметках. Делегаты съезда отмечали, что крестьянство в стране крайне отсталое, значительная часть его еще ведет земледелие подсечно-огневым способом, даже переход от мотыги к плугу и буйволу означал бы прыжок в развитии производства. Мозамбик составлен из мозаики народностей и племен (ведь государственный язык — португальский — понимает лишь пятая часть жителей).
Говорили на съезде и о проблемах другого рода.
Почему, спросил, например, секретарь ячейки партии Фрелимо на транспортном предприятии «Кометал-Мометал», зарплата мелкого служащего заводоуправления остается, как и в колониальные времена, в десять раз больше зарплаты квалифицированного рабочего? Почему сохраняется уравниловка в оплате труда тех, кто выполняет производственное задание, и бездельников? Делегаты съезда резко осуждали коррупцию, расцвет черного рынка, паразитизм спекулятивной прослойки.
Мне рассказывали, что одним из самых эмоциональных моментов съезда было посещение зала заседаний ветеранами борьбы за освобождение. Они пришли под старыми боевыми знаменами и с песнями времен партизанской войны. Они не только приветствовали собравшихся, но и предупреждали их. Один из ветеранов сказал: «Мы наблюдаем за проникновением в аппарат государства буржуазных элементов, которые пытаются блокировать проведение в жизнь политики нашей партии. Они подавляют инициативу масс. Они отказываются работать с народом».
Самора Машел, лидер партии Фрелимо и глава государства, заявил тогда: «Наше государство не столь инфильтровано врагами, сколько коррумпировано. Это проблема комфорта. Руководители, которые вышли из саванны и сейчас попали — в города, сталкиваются с риском стать пленниками своих кресел».
«Во время войны, — говорил Самора Машел по другому поводу, — меньшинство должно было приносить жертвы ради большинства. Существует ли сейчас этот дух жертвенности руководителей? Не разрушен ли он жизнью в Мапуту? Готовы ли квалифицированные работники покинуть свои комфортабельные кабинеты? Свои белые автомашины «вольво»?
В открытом признании недостатков и трудностей был залог самоочищения и движения вперед. Партия Фрелимо начала вышвыривать коррумпированных работников из своих рядов. Многие сотни специалистов и партийных активистов были отправлены из столицы в провинции — туда, где сейчас пролегает фронт борьбы за будущее Мозамбика.
Мозамбик — потенциально очень богатая страна. Его земли плодородны. На них могут произрастать хлопок и кокосовые пальмы, кешью и сахарный тростник, ананасы и сизаль. Но используются эти земли лишь незначительно. Их нужно освоить. Могучие реки протекают через его территорию. Их нужно обуздать. Его недра богаты танталом, ниобием, бериллием, бокситами, железной рудой, углем. В лесах — эбеновые, розовые, «железные» деревья…
Мозамбику нужны мир, труд, капиталы, сотрудничество друзей.
Многое в Мозамбике для гостя из Москвы кажется непривычным и незнакомым. И солнце, идущее не слева направо, а справа налево, на север. И вода, что закручивается в воронках не в ту сторону, что у нас. И ветер с юга, который здесь приносит прохладу. И такие домашние для нас фикусы, которые вымахивают в высокие деревья с толстым — не обхватить — стволом. И цветы с кулак, а то и с голову размером. И их запахи, душные, пряные, дурманящие. И эти ураганы и ливни.
Но оглядываешься кругом, ездишь по стране или летаешь в отдаленные провинции, беседуешь с крестьянами и активистами Фрелимо, учителями и солдатами, и тебя охватывает странное чувство, будто ты знаешь этих людей или встречал их в других странах или на других континентах. Что ты если и не проник в души мозамбикцев (утверждать такое было бы странной претензией), то как бы прикоснулся к их боли и надеждам, понял и разделил их мечты и чаяния. Потому, что они так близки и понятны. Потому, что они, как и многие другие, хотят «чистого неба, свежего хлеба, родниковой воды и никакой беды». А остальное приложится.
1984 г.
Минуло два года. Не ослабела, а усилилась боль Мозамбика. Все новые жертвы приносила республика, идя по избранному ею пути. Обученные, вооруженные и оплаченные Преторией формирования МНС действовали во всех провинциях страны.
По всеобщему убеждению, южноафриканские спецслужбы целились и в президента Мозамбика Самора Машела. 19 октября 1986 года самолет ТУ-134, на борту которого находился Машел, возвращался в Мапуту из Мбалы (Замбия), где состоялось совещание лидеров «прифронтовых» государств. Секретные материалы совещания находились в портфеле президента.
Внезапно уже снижавшийся самолет, который вел опытнейший советский экипаж, изменил курс, направился в сторону ЮАР и разбился в глухой, гористой местности на территории этой страны. Погибло тридцать четыре человека, включая Машела, десять осталось в живых. Уже через десять-пятнадцать минут на месте катастрофы оказались южноафриканские военные полицейские. Они собрали все документы и «черные ящики» самолета. Лишь после этого была оказана медицинская помощь раненым.
Гибель Саморы Машела не привела к разброду в руководстве Мозамбика. Председателем партии Фрелимо, президентом страны и верховным главнокомандующим ее вооруженных сил стал. Жоаким Алберту Чиссано.
1987 г.
ТРУДНАЯ ПОРА ОБНОВЛЕНИЯ
Мы привезли в Эфиопию продовольствие, медикаменты, одеяла — дар дружественному народу от советских общественных организаций.
Не радость друзей, а их беда привела сюда нас, несколько членов Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.
Беда целой страны, континента, голод миллионов. Мы увидели и запомнили сморщенные желто-коричневые лица детей с усталыми, отрешенными глазами маленьких старичков, с исхудавшими до анатомических скелетиков телами и их матерей — истощенных, тихих, задавленных горем. Мы увидели и запомнили мертвые, брошенные поля без былинки и кустика, сожженные многолетней засухой.
Но мы запомнили также прекрасные, одухотворенные лица крайне усталых эфиопских юношей и девушек, которые днюют и ночуют в центрах по оказанию помощи голодающим, и советские вертолеты, перебрасывающие продовольствие в недоступные селения в ходе операции «Надежда».
Гордый народ эфиопы. История показала, что они готовы терпеть нужду, идти на жертвы, но самостоятельно, не ожидая помощи, решать свои дела. Эфиопия была единственной страной в Африке, сохранившей независимость в черный период колониализма. И если эфиопы бьют тревогу и говорят, что нуждаются в помощи, значит, они подошли к последней черте.
Революция 1974 года вывела сорокамиллионный народ из косности средневековья, стряхнула многовековое оцепенение. Однако последовали заговоры справа и слева, белый террор, сомалийская агрессия, восстания сепаратистов в провинциях Эритрея и Тыграй. За всем этим — ЦРУ и Пентагон, потоки американского оружия и мешки денег из сейфов нефтяных аравийских монархий врагам новой Эфиопии.
Устояла революция. Окрепла новая Эфиопия. Но оказалось, что ждало ее еще одно тяжкое испытание — засуха и голод.
Многослойна, сложна проблема голода в Эфиопии, да и во всей Африке. Кто за него ответствен — человек или природа, эпоха нынешняя или прошедшая? Нет односложного ответа на эти вопросы. Есть комплекс причин и сумма последствий.
Пустыня Сахара то быстрее, то медленнее расширяется уже многие тысячелетия. Усыхание прилегающих к ней с юга саванн — так называемой зоны Сахеля — за последние годы ускорилось и приобрело грозные масштабы. Многие миллионы гектаров отнимает пустыня у скотоводов и земледельцев ежегодно. Неразумная деятельность человека усугубляет опустынивание — сводятся на топливо леса, козы обгладывают кустарник, животные копытами выбивают пастбища. В начале века в Эфиопии леса занимали тридцать-сорок процентов территории, сейчас — почти в десять раз меньше.
Значит, слепые силы природы и сами африканцы несут ответственность за беды Африки? Именно так и ставят вопрос западные средства информации, обильно сдабривая свои сообщения политическими выпадами против революционных режимов. К этим выпадам мы еще вернемся, но, говоря о засухе и голоде в Африке, разве можно забывать период колониализма? Да, пустыня наступает, да, скотоводы или земледельцы, ведущие архаическое хозяйство, не думая о завтра, сегодня рубят деревья, чтобы приготовить пищу или согреться у костра. Однако, чтобы противостоять пустыне, нужны средства, крупные капиталовложения. Где их взять Африке, которую грабили столетия и продолжают грабить сейчас? Средства, которые могли бы пойти на развитие африканской экономики, в том числе сельского хозяйства, уже вложены в бульвары Парижа, в дворцы Лондона и авеню Брюсселя, в заводы, лаборатории, исследовательские центры, автострады Западной Европы. А может ли Африка сейчас мобилизовать ресурсы, чтобы остановить наступление Сахары, если ее долговое бремя более полутораста миллионов долларов?
Может быть, французские колонизаторы в Чаде, Мали или Нигере принимали меры против опустынивания? Или эфиопские феодалы, переводившие деньги в американские банки, пытались сохранить леса? Или садист и убийца Бокасса, бывший унтер французского иностранного легиона, а затем «император», провозгласивший Центрально-Африканскую Республику монархией, занимался чем-либо, кроме скупки земель в Ницце и воровства — ящиками — алмазов?
Голод в Африке — проблема столь же социально-политическая и экономическая, как и экологическая. В конечном счете Запад, оказывая продовольственную помощь странам континента, лишь выплачивает им очень небольшую часть своего старого долга.
Засухой в 1984–1985 годах была охвачена двадцать одна страна. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), дефицит продовольствия, составлявший в прошлом году 3,4 миллиона тонн, в этом году будет 6,6 миллиона. Кроме Эфиопии голод грозит Судану, Нигеру, Гане, Мали, Мавритании, Мозамбику.
Продовольственную помощь оказывают и США, и Западная Европа, как частные организации, таки правительства. Но если бы дело ограничивалось гуманными соображениями, чистой филантропией, «христианским милосердием»…
Больше всего говорят и пишут об Эфиопии. Во второй по населению стране Тропической Африки засуха поразила десять провинций из четырнадцати, голод грозит более чем семи миллионам жителей. Урожай зерновых в 1984 году вновь уменьшился. В некоторых центрах запаса продовольствия осталось на неделю. Но редкий буржуазный орган информации посочувствует Эфиопии, не оболгав ее революционного правительства. Любой объективный наблюдатель подтверждает, что хищническая эксплуатация крестьян помещиками во времена императора настолько истощала их хозяйства и мешала их развитию, что делала их бессильными перед стихийными бедствиями. А по утверждениям западной пропаганды, в голоде виновата революция, передавшая землю крестьянам и уменьшившая налоги. «Правительство Эфиопии заварило эту кашу, систематически разоряя фермеров страны», — сказал один американский дипломат корреспонденту «Вашингтон пост». Вице-президент США Буш, разъезжая по Африке, клевету в адрес Эфиопии, перемежал угрозами.
Когда раздаются голоса экспертов, говорящих правду, американские политики затыкают уши.
Профессор экономики Торонтского университета в американской газете «Крисчен сайенс монитор» в статье под заголовком «Засуха, бедность — и все-таки прогресс» писал: «В печати изобилуют мрачные намеки: правительство пытается уморить голодом горожан, чтобы уничтожить действующие в северных провинциях Эритрея и Тыграй раскольнические движения; сейчас идет эвакуация населения, чтобы доставить голодающих в крупные коллективные хозяйства, которые поддерживает марксистско-ленинское эфиопское правительство. Такая пропаганда в целом безосновательна и связана с антикоммунистической направленностью западных средств массовой информации, с их возможным желанием сочинять драматические отчеты. Говорится лишь о засухе и бедности. При этом уделяется мало внимания тому, чтобы разглядеть истинный прогресс, достигнутый после революции, и весьма обнадеживающие черты новой экономики… В нормальных условиях Эфиопия, по-видимому, может прокормить себя, но сейчас речь идет об экстремальных условиях».
Больше всего шумят и лгут об эфиопской программе переселения крестьян из засушливых районов на новые земли. Эфиопия — большая страна, и она может прокормить гораздо больше населения, чем сейчас. Гордый народ не хочет зависеть от филантропии Западной Европы и США, он хочет решить свою продовольственную проблему раз и навсегда.
В Эфиопии есть крупные территории с плодородными землями и обильными дождями в провинциях Гэму-Гофа, Иллубабор, Уоллега. Кукуруза в тех краях вымахивает под три метра с трехкилограммовыми початками. Но земли эти почти не освоены. «Поставлена задача переселить сюда полтора-два миллиона человек, — говорил нам заместитель главы эфиопской Комиссии по оказанию помощи и восстановлению Берхане Дерраса. — Переселенцев год обеспечивают продовольствием, дают скот, строят жилье, дороги, школы, открывают медицинские пункты. Работают отряды, организованные Ассоцицией молодежи революционной Эфиопии». Осваивать новые земли необычайно трудно, но эфиопы правильно решили, что это единственный выход.
И вот западные доноры чуть ли не ультимативно требуют от Аддис-Абебы прекратить переселение. Оказывается, что частично оно идет из районов, где действуют отряды сепаратистов. От революционного правительства «благотворители» всерьез добиваются разрешения напрямую, минуя законные власти, посылать продовольствие на базы сепаратистов. Десятки тысяч тон зерна переданы в руки сепаратистов на их базах в Судане, а поставки продовольствия, обещанного эфиопскому правительству, задерживаются на несколько месяцев.
«Соединенные Штаты намерены вместе с другими странами-благотворителями оказывать нажим на эфиопские власти», — заявил с несвойственной американским дипломатам прямотой помощник государственного секретаря по африканским делам Честер Крокер.
Известный американский обозреватель Джек Андерсон раскрыл подлинные пружины политики США по отношению к Эфиопии и опубликовал их в газете «Вашингтон пост». «Еще в 1982 году, — писал он, — правительство США знало о голоде в Эфиопии, который приобретал все большие масштабы. На сверхсекретных совещаниях Совет национальной безопасности настоятельно призывал отвратить угрозу голода поставками продовольствия… И все же Совет национальной безопасности, ссылаясь на стратегические соображения, воспротивился этим поставкам. Только когда выяснилось, что миллионы людей погибнут, он… разрешил отправить кое-что в Эфиопию в порядке оказания помощи… Рейгановская администрация сочла свою продиктованную политическими соображениями враждебность к марксистскому правительству в Эфиопии более важной, чем чисто человеческая тревога о жертвах в пораженных засухой районах этой страны». И далее: «Совет национальной безопасности и его сторонники настаивали на том, чтобы использовать помощь голодающим в качестве способа добиться от Эфиопии политических уступок».
Политика Вашингтона была ясна: не удалось свергнуть революционный режим с помощью сомалийской агрессии, не удалось расчленить страну с помощью сепаратистских мятежников — значит поставить ее на колени голодом. Чем хуже, тем лучше. Чем хуже эфиопскому народу, тем лучше стратегам из государственного департамента и Совета национальной безопасности. Забыли о гордости эфиопов. Забыли о том, что у Эфиопии есть друзья. Забыли о крепнущей силе революционной власти. Просмотрели принципиально новый этап революции — образование Рабочей партии Эфиопии.
Кампания борьбы с голодом стала общенациональной. В фонды помощи из своих невеликих доходов вносили вклады рабочие, студенты и пенсионеры. Из грошей складывались десятки миллионов. В Комиссии по помощи и реабилитации сейчас работает уже одиннадцать тысяч человек. Открыты сотни лагерей, центров помощи голодающим и медицинских пунктов. Из провинций, где есть избыток продовольствия, по бездорожью, через перевалы идут караваны в пораженные засухой районы. Транспорт пришел из Советского Союза — триста грузовиков, двадцать четыре вертолета. Транспорт выделили вооруженные силы, министерство коммуникаций. Женские и профсоюзные организации взяли на себя попечение о сиротах. И наконец, началось переселение людей в районы с богатыми землями и достаточным количеством влаги. Сюда Рабочая партия Эфиопии направила две тысячи своих кадровых работников. Кстати, именно в провинции Уоллега, куда идет массовый поток переселенцев, разбил палатки советский полевой госпиталь — полторы сотни врачей и медсестер.
Даже сейчас, в таких особо тяжелых условиях, Эфиопия думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. Как восстановить экологический баланс, как обеспечить страну деревом? Нужно сажать леса. В 1984 году было распределено для посадки сто двадцать миллионов саженцев, в 1985-м намечено посадить еще больше. В лесопосадках участвуют крестьяне и молодежь. Организованы курсы по озеленению, в городе Уондо создан первый в стране институт лесного хозяйства. Идут учет и регистрация зеленых массивов. Принимаются жесткие меры против нерациональной вырубки.
Государство предоставляет крестьянам кредиты, снабжает сортовыми семенами, удобрениями. В Назарете пущен тракторосборочный завод по советским проектам. Производительность — тысяча тракторов в год.
В Эфиопии есть полноводные реки — Голубой Нил, Аваш, Гибе, но орошаются лишь сто тысяч гектаров, а можно в тридцать раз больше. Разработаны крупные ирригационные проекты и начато их осуществление.
Мы встретились с секретарем ЦК Рабочей партии Эфиопии по международным вопросам Ашагри Иглету и услышали от него анализ сложившейся ситуации: «США осуществляют подрывные действия против эфиопской революции — от вооруженного вмешательства до психологической войны. Сейчас они пытаются остановить наше продвижение по избранному нами пути, используя продовольственную помощь. Они нагло заявляют, будто причины засухи и народных бедствий — революция. Не будь революции, утверждают они, не было бы таких последствий засухи. Чтобы справиться с нею, революционное правительство должно пойти на соглашение с сепаратистскими группировками. У нас их позиция не вызывает удивления. Идет классовая борьба на международной арене, в которой они — наши противники». «Наши друзья — Советский Союз, другие социалистические страны, — продолжал он. — С самого начала нашей революции советский народ оказывал нам материальную, политическую, моральную поддержку. После создания Рабочей партии Эфиопии наши отношения с КПСС, Советским Союзом еще более укрепляются».
«Много ли вам дала красная революция? — злобно шепчут из-за углов уцелевшие и затаившиеся враги. — Разве вы стали лучше есть? На голод и войны обрекла вас ваша революция». Все меньше действует на людей отравленная демагогия «вчерашних». Интервенция, мятежи бандитов, засуха — все это ставит преграды на пути улучшения жизни масс. Но достижения Социалистической Эфиопии видны невооруженным глазом. Они не только в укреплении революционной власти, создании Рабочей партии Эфиопии, распределении земли среди крестьян, снижении квартирной платы. Половина взрослого населения за четыре года научилась читать и писать — это ли не успех?
На выставке достижений ликбеза бывший учитель Гудетта Маммо подвел нас к стенду, на котором была наклеена телеграмма, полученная от Амаду Мохтара М’Боу, генерального директора ЮНЕСКО. Мы прочитали: «Эфиопская национальная кампания по ликвидации неграмотности — источник вдохновения для всех, кто выполняет трудную задачу победить неграмотность. Ваши результаты — яркий пример успеха, который может быть достигнут, когда борьба против неграмотности ведется с убежденностью и находчивостью».
Не были ли честность и объективность генерального директора ЮНЕСКО одной из причин, побудивших Вашингтон выйти из этой авторитетной международной организации?
Вспомним плакат наших двадцатых годов: «Неграмотный — что слепой». Может быть, он навеял тему, может быть, одинаковые задачи породили похожие художественные образы, но чувствуешь эстафету революций. когда видишь эфиопский плакат: человек с завязанными глазами идет по краю пропасти. Его символику не надо объяснять. «Для того чтобы познать законы природы, чтобы противостоять ее гневу и идти вперед к процветанию, наш первый шаг должен привести к освобождению широких масс от неграмотности», — говорил Менгисту Хайле Мариам.
Накануне революции в Эфиопии было девяносто три процента неграмотных. Одна из древнейших цивилизаций в Африке передавала письменность из поколения в поколение с помощью церковных школ. Единицы попадали в них, чтобы освоить зачатки письменности на амхарском языке. Священнослужители более высокого ранга обучались, так сказать, «старославянскому языку» эфиопской церкви — геэз, прародителю амхарского.
Неграмотность породила процветающую прослойку писцов, от которых зависели многие повседневные дела жителей. Написать жалобу, подать в суд, разобраться с налогами — все делал писец… за немалую мзду.
Императорское правительство объявляло свои «кампании ликбеза», однако крестьяне о них просто не слышали. Учились в начальных школах на амхарском языке, но он был чужим для большинства населения.
В 1979 году революционное правительство объявило национальную кампанию по ликвидации неграмотности. Она стала средством массовой социально-политической мобилизации населения, не имеющей параллелей в истории страны. Каждый грамотный стал учить неграмотных. В деревню пошли шестьдесят тысяч учеников старших классов и студентов университета. «Я клянусь совмещать участие в кампании ликбеза со своей учебой», — говорили на торжественных собраниях юноши и девушки, и это не было пустыми словами. Чтобы облегчить ликбез, на основе эфиопской письменности составили алфавиты еще четырнадцати местных языков. Для пятнадцатого, самого распространенного — оромо, — это было сделано раньше.
Налажено производство классных досок, тетрадей, учебников. В дело включились национальное радио и телевидение. Важный показатель отношения населения к кампании: правительство обеспечивало лишь четвертую часть расходов на обучение, остальное вносили сами жители.
Результат: за четыре года — девять миллионов грамотных — в шесть раз больше, чем за десять лет, предшествовавших революции. Мы беседовали с теми, кто овладел грамотой, и в их словах чувствовались и человеческая гордость, и практическое удовлетворение: «Я уже больше не прошу моего сына читать мне письма… Я уже больше не спрашиваю номера автобуса, в котором должен ехать… Теперь я чувствую себя настоящим человеком… Теперь я могу звонить по телефону: ведь я понимаю цифры… Когда я получаю зарплату, я не ставлю отпечатка пальца, а расписываюсь и могу подсчитать деньги… Сейчас я могу писать моим друзьям письма и читать их письма. Теперь я могу читать газету и знать, что происходит в других частях моей страны и во всем мире… А я собираюсь учиться, чтобы стать инженером-электриком… Теперь я могу читать объявления в нашем кооперативе и понимать, что в нем происходит».
Чтобы люди закрепляли свои знания, было открыто шесть тысяч шестьсот читальных комнат, большая часть их — в деревнях. По радио передают специальные образовательные программы. Начали выходить листовки, вроде маленьких газет, на амхарском, оромо, тигринья для тех, кто недавно овладел грамотой.
И еще цифры, много цифр сообщил нам Гудетта Маммо. Число учеников начальных и средних школ за девятилетие выросло вчетверо, вечерних — впятеро, число учительских колледжей — с пяти до одиннадцати.
Рост образованности населения не ограничился ликбезом. Первый университетский колледж был создан лишь в 1950 году, в течение десятилетия к нему были добавлены сельскохозяйственный, механический, инженерный колледжи, строительный, медицинский, теологический институты. Все это стало базой университета, формально основанного в 1961 году.
Эфиопский университет в революционную эпоху не закрыл свои двери, а открыл их настежь, стал интенсивно расширяться. Ряд колледжей, особенно связанных с освоением местных ресурсов, сельскохозяйственных, а также учительских, были открыты в провинциальных городах.
Дури Мухаммед, президент Аддис-Абебского университета, сказал нам: «Нет сомнений в том, что прошедшее десятилетие для нашего университета было полно важнейших событий. Возможно, главное — феноменальный рост числа студентов. Сейчас их одиннадцать тысяч только на дневном и восемь тысяч на вечернем отделениях. Чтобы обеспечить их аудиториями, мы строим новые здания на главной территории университета и в научно-техническом центре в Арат Кило. Построены новые здания в столице и общежития в пригородах. Это еще не означает, что удовлетворены все наши запросы. Сейчас в университете семнадцать факультетов и колледжей. Прежний отдел иностранных и эфиопского языков превратился в Институт языков. Фармацевтический департамент стал факультетом. Резко расширилась аспирантура. Сейчас она есть на каждом факультете. Это способствует подготовке профессорско-преподавательского состава».
Недалеко от университета расположено современное здание аддис-абебского муниципалитета. В его зале заседаний все стены завешаны портретами, как правило увеличенными фотографиями с маленьких карточек. Лица мужчин и женщин, молодых и старых, серьезных и веселых. Но никого из них уже нет в живых. Это активисты местных органов власти, жертвы белого террора, развязанного в конце семидесятых годов.
И когда в зал собираются представители новых городских властей, они смотрят на портреты погибших товарищей.
«Еще в семьдесят пятом году квартплата была снижена вдвое и заморожена на том уровне, — сказал нам член столичного исполкома, заведующий юридическим отделом Геттачу Десета. — Это касалось массы жителей. Из пяти аддис-абебцев четыре были арендаторами. Цены на землю взлетели до небес. Квадратный метр земли стоил накануне революции до трехсот быров — примерно сто пятьдесят долларов, а зарплата рабочего составляла тогда сто быров в месяц. Жилье, сдаваемое в аренду, и земля были национализированы. На окраинах индивидуальным застройщикам выделяется сейчас до пятисот квадратных метров земли, а в других случаях сооружаются кооперативные дома».
Несмотря на испытания, столица Эфиопии растет. Все больше современных домов на дороге, ведущей в аэропорт, сооружены новые административные здания в центре, рядом с мемориалом революции. Чище стал город, упорядоченнее движение транспорта.
Городские власти ограничивают неплановую застройку в центре столицы, требуют, чтобы там он рос вверх, а не вширь. Но на окраинах столица выбрасывает в окружающие леса и поля все новые кварталы. Планируется создание городов-спутников, зеленых зон.
Органами революционной власти на местах стали кэбэле. Они родились снизу при поддержке революционного правительства. Кэбэле объединяют в себе функции городских районных муниципалитетов, следят за соблюдением революционной демократии и сами формируют суды, создают вооруженные патрули, открывают школы, детские сады, кооперативы, клубы, чайные.
Мы посетили кэбэле номер восемь первого городского района. Руководитель местного политического комитета рабочий Белайнех Лаке показал нам бухгалтерские книги местного кооператива, в которых регистрируются нормы выдачи зерна, водил нас по школе и детскому саду. Он рассказал, что из сорока сотрудников кэбэле лишь шесть получают заработную плату, остальные работают на общественных началах.
Последняя встреча на земле Эфиопии — с ее выдающимся сыном Афеворком Тэкле. Природа одарила Афеворка Тэкле талантом. Он помножил его на удивительное трудолюбие. Из-под его кисти родились великие полотна.
Он пригласил нас к себе домой. Мы любовались его картинами, сиянием и свежестью красок, зрелостью и оригинальностью композиций и говорили о том, что кроме дара и труда ему было дано еще и везение. Ему повезло, потому что расцвет его творчества пришелся на революционное время. В новой Эфиопии к искусству потянулся народ, и всенародная слава — не заграничных, хотя и почтенных выставок, не чужих, хотя и лестных титулов, — а своя, широкая эфиопская слава осветила его жизнь. Почетно, когда твою картину приобретает всемирно известная галерея Уффици во Флоренции. Но, может быть, более почетно, что местом паломничества революционной молодежи стал Центр народных героев недалеко от Аддис-Абебы в городе Дэбрэ-Зейт, где главная экспозиция — гигантское панно Афеворка «Победа Эфиопии», состоящее из семи картин, над которыми он работал два года. А вот дорогая его сердцу картина «Цветок мескеля» — прекрасная женщина, символизирующая Эфиопию, с сентябрьским цветком в руке. В сентябре наступает новый год по эфиопскому календарю. В сентябре произошла революция. За это полотно художнику предлагали сотни тысяч долларов, но он сказал:
— «Цветок мескеля» принадлежит Эфиопии и останется в Эфиопии.
Полная движения и огня картина «Танец» — воспоминание о балете Большого театра. Наброски триптиха «Единство» для витрины Дома Африки: первая картина — расчлененное человечество, вторая — дорога к единству и в центре — скрещенные руки, черные, желтые, белые, все пронизано лучами солнца.
— Если разжать руки — рассыплется единство Африки, — говорит Тэкле.
— А это моя последняя работа — «Засуха», — с посуровевшим лицом сказал он и сдернул покрывало с картины.
Нам открылся кошмар серо-коричневого цвета. На ум пришли полотна Босха, но это не было подражанием Босху, это был эфиоп Афеворк Тэкле со своим художественным видением и своим воображением, неповторимой кистью. Смерть с мечом над растрескавшейся, спаленной землей. Угрюмые маски. Грифы, пожирающие трупы, змея — символ зла, подбирающаяся к обессилевшим людям. Тарантулы и саранча размером больше людей. И истощенная женщина-мать, у ног которой могилы ее детей.
— Это набросок. Наверное, я сделаю картину в цвете, — сказал художник. — А может быть, оставить так? Ведь все сказано.
— Да, но цвет позволит мне осветить наши горе и страдания надеждой и верой в будущее. Мы преодолеем кошмар. Мы победим голод.
Он повторил слова, которые мы уже слышали из уст крестьян и рабочих, бойцов и студентов, руководителей кэбэле и врачей из лагерей помощи голодающим.
Далекой, дружественной нам африканской стране сейчас трудно, невероятно трудно. Но революционную Эфиопию поддерживают надежда и вера в завтрашний день. В победу.
1985 г.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
Васильев А. М.
В19 Корни тамариска. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1987.
384 с. с ил. («Рассказы о странах Востока»).
В 1905020000-212/013(02)-87 Без объявления
ББКл8
Алексей Михайлович Васильев
КОРНИ ТАМАРИСКА
Утверждено к печати редколлегией серии
«Рассказы о странах Востока»
Редактор Р. Г. Стороженко. Младший редактор Н. Л. Скачко. Художник Л. С. Эрман. Художественный редактор Э. Л. Эрман. Технический редактор В. П. Стуковнина. Корректоры В. М. Кочеткова и Р. М. Чемерис
ИБ № 16069
Сдано в набор 28.05.87, Подписано к печати 05.11.87. Формат 84х108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 20,16+0,84 вкладка на мелованной бумаге. Усл. кр. отт. 21.63. Уч. изд. л. 22,57. Тираж 30 000 экз. Изд. № 6333. Зак. № 511.
Цена 1 р. 50 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы.
103031, Москва К-31, ул. Жданова, 12/1
3-я типография издательства «Наука».
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
.......................FB2 - mefysto, 2021
Текст на задней обложке«Корни тамариска» принадлежит перу ученого-востоковеда и журналиста-международника Алексея Васильева, автора полутора десятков научных и публицистических книг. Его новый труд — путевые очерки, портреты людей и городов, размышления о судьбах стран и народов, рассказы о доблести и низости, голоде и роскоши. Читатель вместе с автором проедет по военным дорогам Вьетнама, услышит песню турецкого ашика, войдет в палатку аравийского бедуина, вдохнет жаркий и влажный воздух урагана в Мозамбике, почувствует вкус лимонов Кипра.