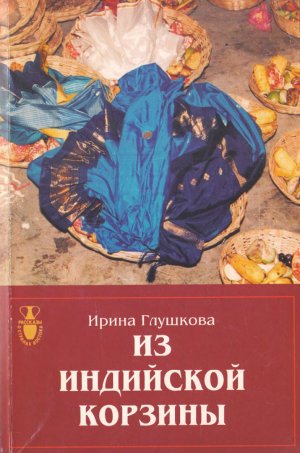
Издано при финансовом содействии Группы САН
Редколлегия серии «Рассказы о странах Востока»:
Л. Б. Алаев (председатель), Я. Б. Гейшерик,
А. Д. Давидсон, Н. Л. Жуковекая, М. В. Крюков,
Р. Г. Ланда, В. А. Тюрин
Рецензенты:
д. филос.н. Б. С. Старостин, д.и.н. Л. Б. Алаев,
д. и.н. В. Я. Белокриницкий
Редактор издательства О. В. Мажидова
© И. П. Глушкова, 2003
© Российская академия наук и
Издательство «Восточная литература»,
серия «Рассказы о странах Востока»
(разработка, оформление),
2003 (год восстановления), 2003
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Любезный читатель!
Перед Вами весьма необычная книга. Коллекция эссе видного российского ученого-индолога Ирины Петровны Глушковой «Из индийской корзины» — это не случайные заметки стороннего наблюдателя или праздного туриста, а научные тексты, талантливо написанные профессионалом, занимающимся Индией и в рабочее, и в свободное время. Название удачно передает индийский колорит и даже несет аромат этой страны. Корзинами со всякой всячиной — специями, цветами, сладостями, благовониями, отрезами ткани, монетами — наводнены многоцветные полифонические индийские мегаполисы и деревенские базары. Именно в «корзину» ученые сбрасывают триллионы отработанных гигабитов из памяти производимых в Индии суперкомпьютеров. Опять-таки в особых корзинах хранят изображения родовых и фамильных богов, укладывают приданое дочерей, переносят младенцев, а на стройках, в том числе небоскребов, — щебень и цемент. Наконец, корзиночки заполняют традиционными ритуальными подношениями, которые либо поглощает священный огонь, доставляющий эту жертву богам, либо их передают жрецам для церемонии богослужения вокруг храмовых изваяний. Корзины доминировали в быту древности, проникнув даже в названия известных произведений и положив в древнеиндийской литературе начало отдельному жанру «сборного» характера. Корзины по-прежнему определяют пейзаж современной Индии, прекрасно сочетаясь с ее ультрасовременными реалиями. В «корзину» же аккуратно уложила свои эссе И. П. Глушкова.
Важнейшим моментом выпускаемой книги является то обстоятельство, что весь материал с любовью и симпатией к индийцам собран не в уютной тиши рабочего кабинета, а прежде всего во время многотрудной, требующей предельного внимания и физического напряжения полевой исследовательской работы автора в Индии, к сожалению, практически чуждой нашим индологам с советских времен. Массив представленного материала охватывает огромное число тем, многие из которых почти не освещались или просто замалчивались в нашей индологической литературе, например, лингаяты и маханубхавы, традиция варкари (Днянешвар и Тукарам), паломничества, индийский иудаизм, индийские корни цыган и пр. Впечатляет литературно-политический портрет премьер-министра страны А. Б. Ваджпаи, созданный, в том числе, на основе анализа его поэтических произведений.
Автор свободно владеет несколькими индийскими языками, во время полевых исследований в Индии носит сари, медитирует почти в йогической позе, чтобы преодолеть усталость, от души наслаждается индийской стряпней. Она легко вживается в «индийский образ». Это происходит и потому, что это ей нравится, и потому, что она глубоко уважает традиции страны, которой посвятила жизнь, и потому, что такой модус поведения помогает достичь искомого — проникнуть в самую суть истории, литературы, верований, традиций и особенностей этой мошной историко-культурной, а ныне и вполне реальной политико-экономической сверхдержавы, которой является традиционно дружественная нам Индия. Эссе И. П. Глушковой, несомненно, обогатят сокровищницу (опять-таки корзина!) российско-индийского научного, культурного и духовного взаимодействия.
Собирательский нрав автора «Корзины» проявляется и в том, что она объединяет вокруг себя людей. В Индии ее постоянно ждут. Личные друзья, с которыми съеден не один пуд риса и лепешек. Университетские коллеги-профессора, с которыми задумано и осуществлено множество необычных и ценных научных проектов. Жрецы-приятели из известных на всю страну храмов, настолько привыкшие к ее докучливым вопросам, что они скучают, когда их нет. Ждут знакомые политики — от министров центрального правительства до лидеров оппозиционных партий, предвкушая «невосточную» и подчас «недипломатичную» прямоту суждений. Ждут И. П. Глушкову и ее бывшие студенты из Института стран Азии и Африки при МГУ и Московского государственного института международных отношений МИД России — ныне мудреющие сотрудники Посольства и генеральных консульств России, с годами осознающие величину вклада любимого преподавателя в их собственную копилку знаний.
Необходимо высказать особую благодарность Корпорации «Группа САН» и ее руководителям, известным индийским промышленникам и меценатам Нанду, Шиву Кхемкам, а также вице-президенту Корпорации И. В. Гундобину за щедрую поддержку проекта. A thing of beauty is a joy forever. Эта прекрасная «книга-корзина», в отличие от мотыльковых рекламных публикаций, останется полной на вечные времена. Тем пеннее инициатива Корпорации.
Будем надеяться, что с упорством честного и профессионального, но щедрого «индологического Гобсека» И. П. Глушкова в ближайшие десятилетия припрячет в ней множество новых индийских сюжетов, которыми, несомненно, снова поделится с читателями.
1 октября 2003 года
А. М. Кадакин,Чрезвычайный и Полномочный ПосолРоссийской Федерации в Республике Индия
Моим друзьям —
Джаянту, Мохану и Мадхури
For my friends —
Jayant, Mohan and Madhuri
ВВЕДЕНИЕ
В 2002 г. исполнилось 30 лет со времени моего первого визита в Индию. Эту страну я не только изучаю профессионально, что подразумевается моей научной и педагогической деятельностью, но и бесконечно и очень лично люблю: там жили мои учителя, там живут мои друзья и добрые знакомые. Именно поэтому то, что происходило и происходит в Индии, я не могу воспринимать отстраненно: для меня это не «там». Землетрясения, наводнения, засухи, политические и религиозные катавасии — все переполняет мою душу болью, иногда тоской безысходности, но я радуюсь каждой победе блистательного шахматиста Вишванатана Ананда, восторгаюсь успехами индийских красавиц на международных конкурсах красоты и горжусь всемирно признанными достижениями Индии в области компьютерных технологий. Меня поражает цепкость мышления индийцев, их целеустремленность и умение философски отрешиться, когда того требует жизнь.
Индия, впрочем, никогда бы не стала мне окончательно родной, если бы не конкретные люди — радушные и вопреки всему оптимистичные, не всегда обязательные (жаркий климат не располагает к точности) и все же надежные. Может быть, из-за того, что я бываю в Индии наездами — несколько месяцев в году, — мы не успеваем друг другу надоесть или взаимно разочароваться и, как следствие, потерять друг друга. Моя «неразочарованность» моими друзьями — университетскими преподавателями, актерами, врачами, писателями, их человеческими качествами и высочайшим профессионализмом — длится уже 30 лет. Если бы я меньше дорожила нашими уникальными отношениями, то, как многие мои коллеги, в нелегкое для российской академической науки время могла бы расстаться со своей специальностью и переключиться на занятие, приносящее достаток. Я не сделала этого из-за людей, уже ушедших, которые вложили в меня знания и понимание Индии, и я не сделаю этого из-за друзей, которыми очень дорожу и которые в меня верят. Самым близким — Джаянту, Мохану и Мадхури — я посвящаю «Из индийской корзины».
Название этой книги выдержано в духе традиционных «Трех корзин» («Типитак» буддийского канона), «Ящичка/шкатулки со старыми песнопениями» («Прачин гитманджуша») и тому подобных собраний, которые объединяют разнообразные по форме и содержанию произведения. Вошедшие в мою «индийскую корзину» эссе и зарисовки создавались в период с 1996 по 2002 г. Многие из них были опубликованы в «Независимой газете» и ее приложениях, некоторая часть — в журналах «Азия и Африка сегодня» и «Восточная коллекция».
Я выражаю искреннюю признательность моим коллегам из Института востоковедения РАН, которые настойчиво убеждали меня в необходимости объединения моих «исторических интерпретаций» в «единое целое». Я благодарю проф. АД.Воскресенского, заведующего кафедрой востоковедения МГИМО МИД РФ, и сотрудников кафедры за ценные советы и замечания, высказанные ими на обсуждении уже «единого целого» при рекомендации книги к публикации.
Фотографии на цветной вкладке «Картины из корзины» публикуются впервые, с сюжетами эссе не связаны и представляют собой самостоятельный рассказ о ситуациях и персонажах, с которыми меня сталкивала жизнь в Индии.
ИНДИЯ
КАК «СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ МИРОВОЙ ИСТОРИИ» И КУЛЬТУРЫ
От слепого поклонения Индии я далек; отдаю себе отчет в ее слабых и темных сторонах, а также в духовно-исторических опасностях, которые подстерегают внутри нее самой. Но она мне интимно близка так, как ни одна страна — кроме, разумеется, России.
Даниил Андреев. Роза мира
Начнем с того, что практически бесспорно и имеет некое «материальное» выражение. Индия открыла и подарила миру рис, хлопок, сахарный тростник, ряд специй, домашнюю птицу, шахматы и, может быть, самое главное — такую «абстракцию», как «ноль», и десятичную систему счисления, изобретенную в начале нашей эры. Те цифры, которые мы привычно называем «арабскими», на самом деле пришли из Индии, но достигли Европы через арабские земли и в уже изменен ном виде. Благодаря Индии миру явилась и такая «материя», как Америка, поскольку Колумб разыскивал Индию, а наткнулся на Америку.
Вообще, если поинтересоваться у случайного прохожего, чтб он знает об Индии, то потенциальный ответ окажется более или менее предсказуемым: несусветная жара и блеск драгоценных камней, богатство и нищета, змеи и слоны, йога и Кришна и далее в таком же духе. Конечно, кто-то дополнительно вспомнит о священной корове, или о доктрине ненасилия и Махатме Ганди (еще свеж в памяти блистательный фильм английского режиссера Р. Аттенборо), или даже о политике неприсоединения, одним из зачинателей которой был первый премьер-министр независимой Индии — Джавахарлал Неру. И здесь наш случайный прохожий окажется похожим на любого из 181 американского руководителя разного уровня, которые именно так отвечали на аналогичный вопрос американского ученого Гарольда Исаака. Безусловно, найдутся и люди, обладающие более глубокими знаниями в различных областях, — ну хотя бы почитатели индийского кинематографа или те, у кого в памяти осели конандойлевские сокровища Агры, беляевский «Ариель» и эротологический трактат «Камасутра», в случайных переложениях ходивший по рукам еще задолго до публикации научно-въедливого перевода А. Я. Сыркина. Во всяком случае, уверена, людей, не нашедших какого-либо ответа, не будет. И это не случайно. Какие-то образы, связанные с Индией, закреплены почти генетически и путешествуют во времени и пространстве уже не одно столетие.
В древнем мире преобладали представления об Индии как о стране сказочного изобилия и немыслимых чудес — чего только не рассказывали! Геродот, например, писал, что там существует племя людей, у которых пальцы на ногах и пятки поменялись местами и нет ртов, а существуют они за счет вдыхания запахов жареного мяса и аромата цветов и плодов; у членов другого племени уши свисают до пят, и они используют их в качестве одеял в ночное время. Плиний отметил, что сокровищница Рима тоскует по богатствам из Индии; Мегасфен восхищался роскошью двора Маурьев, при котором он исполнял посольские функции. Много позже Гегель, определяя мировое воздействие Индии, резюмировал: «Индия как искомая страна стала существенным элементом мировой истории» — и посвятил почти 100 страниц обзору гумбольдтовского эссе о «Бхагавад-гите». Строки из этого же знаменитого древнеиндийского философского трактата пришли на ум «отцу» американской атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру, наблюдавшему за взрывом в Лос-Аламосе: Если тысячи солнц свет ужасный в небесах запылает разом — /это будет всего лишь подобье светозарного лика махатмы[1].
Об Индии мечтали и во сне и наяву. Стоит вспомнить хотя бы поход Александра Македонского в Индию или неустанные поиски индийских христиан, особенно усилившиеся после того, как христианская Европа столкнулась с исламом. Португалец Васко да Гама заявил, что отправился в Индию не только за специями, но и за собратьями по вере. В Индию стремились и проникали испанцы, французы и, наконец, англичане, закрепившиеся там на целых два столетия; российский император Павел I вел тайные переговоры с Наполеоном о создании союза для совместного похода на Индию. Реминисценции этих настроений вкупе с идеей мировой революции в духе Макара Нагульнова отразились в фантасмагории Владимира Залотухи «Великий поход в Индию», опубликованной в конце 1990-х в почтенном «Новом мире». Да и небезызвестный российский политик надолго запомнится прежде всего желанием «омыть сапоги в Индийском океане». Впрочем, еще более 100 лет назад в «Путешествии наследника цесаревича» князь Э. Э. Ухтомский, сопровождавший будущего императора Николая II во время поездки по Востоку, написал: «По возвращении обратно в Европу большинству из нас, без сомнения, будет предлагаться довольно странный и праздный вопрос — любят ли и ждут ли русских за Гималаями, как будто на это может существовать какой-нибудь подходящий ответ. Народы дальнего юга (речь идет об Индии. — И. Г.) — как и вообще Востока в его органической целости — никого, кроме себя, в принципе не признают и отнюдь не жаждут иноплеменного вмешательства в их судьбу…» Тот же князь Ухтомский в поэтическом вдохновении охарактеризовал Индию как «страну безумных грез и окрыленных душ».
Восторженный или по крайней мере завороженный настрой в отношении Индии прослеживался на Руси издавна. Первое знакомство с древней Индией в русской культуре, правда опосредованное, состоялось через переработки восточнославянскими книжниками переводных сюжетов и почти совпадает с началом русской литературной традиции, возникшей после крещения Руси. Среди наиболее значимых событий, нашедших свое отражение, — индийский этап восточного похода Александра Македонского и апостольская деятельность в Индии. Так, Индия в контексте описания древних народов и их нравов появляется уже в «Повести временных лет» в цитатах из «Хроники» Георгия Амартола. А позднее (конец XV в.) отважный и предприимчивый тверской купец Афанасий Никитин в знаменитом «Хожении за три моря», подтверждая притягательность образа Индии, объяснил: «Я ж от многих бед пошел в Индию». В южнорусском фольклоре, подпитавшемся сведениями об Индии, индийские «рахмане» (брахманы) не только сохранили свое имя, но и дали русскому языку ряд новых слов и выражений: «Постимся, яко рахмане» или прилагательное «рахманный» в значении «кроткий», «тихий», «ласковый», а также знаменитую фамилию Рахманинов. В 1792 г. Н. Карамзин перевел (не с оригинала) древнеиндийскую драму «Шакунтала» и записал, что ее автор, Калидаса, столь же велик, сколь и Гомер. С упоением обрабатывали индийские сюжеты В. Жуковский и К. Бальмонт. «Индийские» темы на русской почве и пути их миграции, конечно, не остались не замеченными российскими учеными — литературоведами и историками, и в работах М. Н. Сперанского, А. Н. Веселовского, С. Ф. Ольденбурга и наших современников Г. М. Бонгард-Левина, А. А. Вигасина, В. К. Шохина и др. можно обнаружить множество инте ресных наблюдений, смелых сопоставлений и выверенных гипотез. А нежное отношение к Индии россиян XX в. проявлялось то в шум ном скандировании «хинди руси бхаи бхаи!», то в терпеливом ожидании своей очереди у дверей магазина «Ганг» (а надо бы «Ганга»: это река-женщина), открывшегося в Москве в конце 1970-х. Да и несколько поколений наших детей выросло не только на «Мухе-Цокотухе» Чуковского, но и на киплинговском «Маугли» — сначала книге, а потом и мультфильме с симпатичным мальчуганом и обворожительной Багирой с голосом Касаткиной.
Трудно переоценить вклад Индии в мировую науку и искусство — и вполне реальный, и на уровне воображения и неверных представлений (а значит, реальный по своим последствиям). Вольтер был искренне убежден, что Индия — родина всех религий в их первозданном виде и колыбель человеческой цивилизации, и писал прусскому монарху Фридриху Великому, что «наша святая христианская религия полностью основывается на религии Брахмы». Очарованный «Шакунталой» великого древнеиндийского драматурга Калидасы, Гёте выстроил пролог к «Фаусту» в духе прологов санскритской драматургии. Воздействие индийских источников испытали на себе философы и романтики Германии и Англии— Шлегель, Шиллер, Шопенгауэр, Фихте, Ницше, Шелли, Байрон, Вордсворт, Кольридж, Теннисон и позднее — Китс, Эллиот, Томас Манн, Хаксли, Герман Гессе и др. Шопенгауэр, например, пришел в восхищение от упанишад, древнеиндийских философских комментариев, прочитанных им на латыни в переводе не с оригинала, а с персидского, и назвал чтение упанишад «утешением своей жизни и утешением своей смерти». А Вагнер под влиянием Шопенгауэра увлекся буддизмом, подаренным миру все той же Индией, и даже думал о создании оперы на буддийскую тематику. Буддизмом восхищался и Ницше, считая, что тот обогнал христианство на тысячелетия, более реалистичен, обладает традицией объективной постановки проблем и их беспристрастного обсуждения. Да и Карл Маркс, основоположник мировоззрения, все еще популярного в ряде регионов Южной Азии, на протяжении всей своей жизни был особенно внимателен к событиям, происходившим в Индии. Америка рукоплескала Вивекананде, а Ромен Роллан пришел в восторг, познакомившись с идеями Рамакришны и Махатмы Ганди. Паломничество духовно истомившегося и затосковавшего от непонимания жизни Запада ко все познавшим мудрецам Индии стало одной из характеристик XX века.
Революционный переворот в гуманитарных науках был связан с проникновением в Европу древнеиндийского языка — санскрита в 1802 г., которое началось с… парижской тюрьмы, где обвиненный в чем-то служащий английской Ост-Индской компании преподал основы санскрита сокамерникам, а потом встретился с французским профессором Шези, самостоятельно изучавшим санскрит, и они вместе ознакомили с ним братьев Шлегель, которые «увезли» санскрит в Германию. Мысль о сходстве санскрита с греческим, латынью и другими европейскими языками одним из первых высказал еще в конце XVIII в. Уильям Джонс, верховный судья из Калькутты, а в результате возникла сравнительная индоевропеистика, успешно продвинутая изучившими санскрит немцами — Францем Боппом, Ф. Максом Мюллером и др. И не где-нибудь, а у нас, в Санкт-Петербурге была проделана колоссальная работа, и в свет вышел семитомный санскритско-немецкий словарь О. Н. Бетлинга и Р. Рота («Большой Петербургский словарь», 1852–1875), до сих пор считающийся в мировой индологии лучшей лексикографической работой по санскриту. А когда было обнаружено родство между санскритом и цыганским, выяснилось, что Индия подарила миру еще один феномен — удивительное бродячее племя, олицетворяющее для разных людей из разных эпох то романтическую идею о свободе и воле, то бытовое представление о сомнительных моральных качествах, но никто и никогда не относился к цыганам равнодушно.
Мы все больше погружаемся в свои проблемы и ощущения: что поделать, это — жизнь, но где-то в душе, иногда незаметно для нас, свернувшись в клубочек, дремлет наше неосознанное приятие Индии — достаточно дернуть за ниточку, и клубочек покатится. Так, «дерганьем» за ту или иную ниточку, появлялись сложенные в эту «корзину» эссе, навеянные тем, что в последние годы происходило в Индии и вокруг нее.
Послесловие. Только что вышла в свет книга американца Дика Тереси «Утерянные открытия» (Dick Teresi, «Lost Discoveries»), посвященная древним основам современных наук. Наряду с богатейшим материалом о достижениях вавилонян, майя, египтян и других древних народов исследование содержит подробное описание множества открытий, сделанных древними индийцами в математике, астрономии, химии и других областях человеческих знаний.
РЕЛИГИЯ
КОРНИ И КРОНА ИНДУИЗМА
Известная строчка Владимира Высоцкого (Хорошую религию придумали индусы…) неточна по крайней мере дважды[2]. Во-первых, в отличие от ряда других известных религий (буддизм, джайнизм, христианство, ислам и др.) в случае с индуизмом не существует основоположника, и поэтому глагол «придумать», предполагающий сознательные или осознанные позднее усилия активного деятеля (либо его соратников), здесь не подходит. Во-вторых, носители индуизма практически до начала XIX в. даже и не подозревали, что сотворили «религию» под названием «индуизм».
Это слово укоренилось в конце XVIII — начале XIX в. в результате попыток британских колониальных властей и британских ученых описать чуждую для них культурно-религиозную среду в своих обширных владениях на полуострове Индостан. Индийцы же называли комплекс своих верований и убеждений многозначным словом дхарма, означающим в общих чертах то, за что можно «удержаться», т. е. применительно к системе своего отношения к действительности и находящемуся за ее пределами — «закон», «свод установлений».
Корни индуизма теряются в глубине веков. Ясно, однако, что ко времени вторжения в Индию индоарийских племен (середина II тысячелетия до н. э.), создавших мощный корпус религиозных текстов («Ригведа» и др.), какой-то метаиндуизм уже существовал. Возможно, его зачатки были взращены мощной цивилизацией Мохенджо-Даро и Хараппы, процветавшей в середине III тысячелетия до н. э. в долине реки Инд и погибшей по неизвестной причине еще до прихода ариев. Надписи на печатках, найденных в этих очагах древнего мира, все еще не прочитаны, но в некоторых антропоморфных и зооморфных изображениях усматривается сходство с известной индусской иконографией. Элементы того, что называется индуизмом, прослеживаются и в текстах вед — сборников древнеиндийских гимнов (середина II тысячелетия до н. э.), хотя общая система взглядов на мироустройство, отраженная в ведах и известная под названием «ведизм» или «ведийская религия», содержит немало принципиально отличного от тех представлений, которые составляют сердцевину индуизма.
Собственно индуизм — в его классическом виде — зафиксирован в древних эпических поэмах — «Махабхарата» (середина I тысячелетия до н. э. — начало нашей эры) и «Рамаяна» (рубеж двух эр) и укрепился в статусе государственной религии во время правления династии Гуптов (III–IV вв.), а затем расцвел неукротимо пышным цветом в текстах пуран (вторая половина 1 тысячелетия н. э.) — священных компендиумов легенд и мифов, сконцентрированных прежде всего вокруг богов-лидеров — Вишну, Шивы и Деви (Богини-матери). А до того, как это произошло, боги пришлых племен и автохтонного населения (до сих пор нельзя с уверенностью сказать, были ли это дравиды — представители совсем иного, нежели индоарии, этнического типа, оттесненные в южную часть полуострова Индостан и живущие ныне в четырех крупных штатах Индии — Тамилнаду, Андхра Прадеше, Карнатаке и Керале, или племена групп мунда и мон-кхмер, или какие-то другие этнические группы), уподобляясь своим приверженцам, вели кровавые войны. Они побеждали и терпели поражения, включали военные и торговые союзы, наносили удары из-за спины и приходили друг другу на помощь и, конечно, вступали в брачные отношения. Эти поистине «золотые» сведения «намываются» как из нормативной литературы индуизма, так и из сохранившейся фольклорной традиции и приобретают материальное выражение при археологическом исследовании многослойное™ индийских храмов.
Представления об индуизме за пределами его распространения, как правило, ограничиваются классической формулой, выраженной рядом догм и определенных символов. Объясняется это тем, что когда Индия «открылась» миру, то именно зафиксированные тексты классического индуизма стали объектом анализа ученых и источником восторга интересующейся жизнью духа публики. Так мир узнал о стержневых концепциях экзотической религии, укрепляющих ее мощный ствол. Прежде всего о том, что мы живем в калиюге, т. е. эре упадка, и отсюда проистекают все наши беды и тяготы. Это последняя из четырех эр, образующих темпоральное пространство Вселенной, она началась в 3201 г. до н. э. (считается, что тогда произошла кровавая битва, описанная в эпосе «Махабхарата»[3]) и будет длиться 1200 божественных лет (каждый такой год равен 360 человеческим годам). Появились представления о варнашрамадхарме — законе четырех варн и четырех жизненных стадий. Этот закон упорядочивает социальную организацию общества, закрепляя деление на четыре варны-сословия (брахманы-жрецы, кшатрии-воины, вайшьи — земледельцы, скотоводы и торговцы и шудры-обслуга), и устанавливает параметры индивидуальной жизни, разбивая ее на последовательность из четырех периодов-ашрам — ученичество, пребывание в статусе домохозяина, лесное отшельничество и странничество (возвращение в мир без восстановления с ним связей). Положения о варнах и ашрамах в комплексе определяют личные обязанности и обязательства индивида. Наряду с этим в жизни каждого человека присутствуют четыре основные цели, а именно: дхарма — моральное поведение, артха — материальное благополучие, кама — любовное удовлетворение и мокша — окончательное освобождение. Наполненность этих целей корректируется в связи с принадлежностью индивида к той или иной варне и с прохождением им той или иной жизненной стадии.
Стержнем классического индуизма является учение о душе (атме, дживе), карме и самсаре, или о трансмиграции душ. Понятие «душа» в рамках повседневности в толковании не нуждается (каждый знает, что это такое, но почти никто не сможет непротиворечиво объяснить — по крайней мере так, чтобы удовлетворить думающего собеседника). Карма, т. е. «дело», «деяние», является созревающим плодом предыдущих действий и определяет тело человека (божественное, антропоморфное или зооморфное), его социальное положение (место в системе четырех варн и их подразделений), его характер, т. е. по большому счету— судьбу. Душа в последующем рождении мигрирует в то, что она наработала всеми своими предыдущими манифестациями. (Поэтому в другой строчке «Песенки о переселении душ» Высоцкий восклицает: Удобную религию придумали индусы!) Постоянный переход из одного тела в другое и есть самсара — вечный круговорот, а освобождение от этого круговорота — мокша, или мукти, — достигается слиянием индивидуальной души со вселенской, т. е. с Абсолютом. Постоянным элементом индуизма является и шаддаршана — шесть различных школ философской мысли: ньяя и вайшешнка, санкхъя и йога, миманса и веданта, имеющие различное происхождение и преследующие различные цели, но, главное, по-разному определяющие путь к освобождению. Существует несколько основных путей: путь кармы — правильного ритуального поведения, джняны — углубленного изучения священных текстов, бхакти — личностной причастности к божеству и йоги — специальных физических и духовных упражнений. Освобождение — мечта и конечная жизненная цель образцового индуса.
Все сказанное выше хотя и является вполне справедливым, но, безусловно, как и каждая схема или модель, грешит неполнотой или упрощенностью. Однако не этот недостаток следовало бы считать существенным. Принципиально важным представляется то, что все сказанное выше конструируется на основе брахманского видения мира, т. е. является выражением нормативов и идеалов, характерных для варны жрецов (и впоследствии ученых, царских советников и даже премьер-министров Индии), и за пределами этой модели остается мировосприятие кшатриев, вайшьев, шудр, не говоря уж о тех миллионных слоях населения, которые вообще оказались за пределами четырехварновой системы и, пока не был наложен официальный конституционный запрет, назывались «неприкасаемыми». Кшатрии-воины, а также представленное ими царское сословие в древней и средневековой Индии (и серьезные политические силы современной Индии), безусловно, в значительной степени смыкаются в своем мировоззрении с брахманами, но индийская мифология переполнена упоминаниями о мошных (и кровавых) противоборствах брахманов и кшатриев, свидетельствующих о столкновении их интересов в самых разных сферах — политической, экономической и, конечно, духовной. Иными во многих отношениях представляются позиции вайшьев, конечно же пытающихся повысить свой статус (как и представители любой нижестоящей варны) прежде всего путем заимствования ритуальных норм вышестоящих варн. Еще в большей степени это приложимо к шудрам, по всем параметрам существенно отличающимся от представителей трех высших варн, которых всегда называли «дваждырожденными», т. е. допущенными к сакральному знанию, закрытому для шудр. Отличительным знаком этого «допуска» был (и остается) особого плетения шнур, надеваемый на посвящаемого во время ритуальной церемонии инициации.
Таким образом, индуизм в его классическом виде — это прежде всего индуизм брахманов — религиозных законодателей и служителей культа, создавших письменные свидетельства, а также в первую очередь вступивших в контакт с иноземцами и представивших последним свою систему видения мира. Своеобразное подтверждение этому выводу можно обнаружить даже в культуре Древней Руси, хотя бы в книге «Хожение Зосимы к рахманам» (т. е. к брахманам!).
Формы и сущности индуизма древности, средневековья и наших дней не совпадают по многим параметрам. Одно из наиболее ярких тому подтверждений обнаруживается, например, в отношении к корове, которую во времена «Ригведы» забивали на скотобойнях, варили в больших котлах еще в то время, когда складывались «Махабхарата» и «Рамаяна», и которая в конце концов стала такой же неприкосновенной, как и сами брахманы. Любое передвижение по вертикали индийского общества обнаруживает и визуальное, и сущностное подтверждение существования иного индуизма. Еще более разительно отличаются друг от друга манифестации индуизма, если двигаться по горизонтали — от подножий Гималаев к мысу Канья Кумари на южной оконечности Индостана, пересекая административные и лингвоэтнические границы, перемещаясь от городка к мегаполису, а от него к деревне или стоянке скотоводческого племени. Такое передвижение внесет полную сумятицу в душу впитавшего в себя азы классического индуизма или ухватившего микроскопически малую толику трансформированного индуизма («неоиндуизма») Его многочисленные модификации известны во всем мире; в России, например, это и Общество сознания Кришны, и группы «трансцендентальной медитации» и «рациональной йоги», и даже общности тантрического (в смысле техники богослужения) толка с эротическим и магическим уклоном (почитанием, например, лингама и йони — символов мужского и женского детородных органов). Многие группки, претендующие на особую духовность, специально декорируют себя какими-нибудь индийскими атрибутами — так, Мария Дэви Христос, бывшая кумирша «Белого братства» (практически прекратившего к концу 1990-х годов свое легальное существование), соединила в своем выдуманном имени индусскую богиню Деви и Христа.
Итак, передвижение по Индии подтвердит религиозную значимость Вишну и Шивы — ведущих богов, давших имена двум основным направлениям индуизма — вишнуизму и шиваизму, а также позволит ближе познакомиться с их разнообразными манифестациями (у Вишну, например, 10 нормативных аватар, т. е. земных воплощений, и одно из них — Кришна; а Шива предстает в самых разных обликах — от Разрушителя до Созидателя; впрочем, мало кто поклоняется его антропоморфному изображению, предпочитая повсеместно символизирующий его лингам). Пристальный взгляд позволит заметить их божественных супруг — Дакшми и Парвати, которые к тому же являются их шакти (т. е. божественной энергией), шактизм (преимущественное поклонение Деви — Богине-матери) иногда выделяют в отдельное направление индуизма. Не останется незамеченным и ближайшее окружение главных богов: их ездовые животные — мифическая птица Гаруда и бык Нанди; верные помощники — слоноликий Ганеша, божественная обезьяна Хануман и др. Кроме того, взор внимательного путешественника обнаружит совершенно неизвестных за пределами Индии Виттхала и Джаганнатха, Муругана и Минакши, Тулдзу-Бхавани и Кхандобу, Бхимшанкара и Гхрунешвара, Биробу, Мхасобу, Дулаи, Бхиваи и сонмы других богов и богинь, а также бесконечное множество полубогов, демонов и духов — якш, нагов, асу ров, кин-наров и пр. — именно им, а не классическим Вишну и Шиве поклоняется среднестатистический индиец, впрочем одновременно воспринимая свой объект поклонения как Вишну или как Шиву, а чаше вовсе не задумываясь об этом.
Взгляд любознательного путешественника неизбежно отметит, что сакрализации подвергается практически все — храм, скульптура, фолиант, трещина в скале, речной исток, дерево, гора, отметина, куда попал плевок небожителя, или изваяния богов, которые прячут в корзинку, чтобы достать раз-другой в году, и изумлению и непониманию наблюдателя не будет границ. Терпеливый путешественник, несмотря на вакханалию красок и ароматов, различит самые разные формы богослужения, среди которых главной окажется пуджа — феерически пышный ритуал. Он состоит из 16 последовательных операций и воссоздает вокруг бога атмосферу этикетного приема гостя с омовением, умащением, кормлением и т. д. Наряду с пуджей нельзя не заметить реликты ведийской рецитации гимнов и священных формул; отголоски былых жертвоприношений с различными вариациями, вплоть до убиения козлов, баранов и петухов, или субституцией жертвы разбиваемым перед божественным изображением кокосовым орехом; экзальтированные песнопения и пляски, приводящие к феномену «вселения бога» в тело адепта; аскезу, посты и обеты; многодневные и многотрудные паломничества к святыням; священные действа вокруг домашнего алтаря или не требующую никакого внешнего декора медитацию. Индуизм по существу своему — религия очень терпимая, и он скорее ассимилирует, чем напрочь отвергает.
В течение нескольких десятков лет ученых устраивала предложенная американским социологом Робертом Редфилдом концепция цивилизации (и ее религиозного фона-фундамента) как «набора продуктов культуры», в котором ведущие роли принадлежат «великой» (в данном случае — классическому индуизму) и «малой» (фольклорной, простонародной, племенной и пр.) традициям. Однако вскоре стало понятно, что индусскую разноголосицу трудно уложить и в эти достаточно широкие рамки, и осознание этой реальной трудности побудило социологов-индологов француза Луи Дюмона и англичанина Дэвида Ф. Покока выделить в индуизме различные аспекты и уровни, привело немецкого историка религий Гюнтера-Дина Зонтхаймера к интерпретации индуизма как состоящего из пяти взаимозависимых компонентов единого целого (индуизм брахманов, индуизм аскетов и отшельников, племенные верования, локальные культы и бхакти) и подсказало немецкому же философу Генриху фон Штитенкрону гипотезу относительно того, что индуизм не религия, а конгломерат различных религий и верований, отстоящих подчас весьма и весьма далеко друг от друга[4].
Широко раскинулась крона индуизма. И все же, несмотря на богатейший пантеон богов, индусы считают себя монотеистами. Они признают Верховного бога в безатрибутной форме, но обычно поклоняются его конкретному воплощению (и в этом случае изящное скульптурное изображение бога из всемирно знаменитого храма в каком-то смысле ничем не лучше грубого, неотесанного камня возле дороги, если его воспринимают как объект религиозного поклонения), рассматривая прочих божеств как различные проявления божественной трансиендентальности или сопутствующую свиту. Для вишнуита Вишну — основа мироздания и источник всего сущего, а Шива — всего лишь эманация Вишну; для шиваита таковым является Шива. Некодифицированные и эластичные вишнуизм и шиваизм существуют в виде различных обшин, школ, направлений и толков, возникающих и отмирающих, противоборствующих и смиряющихся с существованием друг друга. И конечно же, только конкретная разновидность индуизма может быть описана более или менее непротиворечиво, экономно и стройно, и именно в этом смысле говорят о «локативности» этой религиозной системы.
Слишком многое осталось за пределами настоящего эссе — например, этика и эстетика индуизма, хотя именно они играют немаловажную роль, и без представления о них иноземец (в том числе и дипломат), попавший в Индию, может оказаться в конфузной ситуации. Тем не менее презентация индуизма «с высоты птичьего полета» имеет право на существование хотя бы для того, чтобы создать у российского читателя представление о неоднородности и неоднозначности индуизма, о разных плодах, которые вызревают на его древе. Одна и та же «Бхагавад-гита» — философская интерполяция в «Махабхарату» — вдохновляла и «Великую душу» Махатму Ганди (выходца из вайшьев), и его убийцу Натхурама Годсе (брахмана-ортодокса). Приверженцы и пропагандисты доктрины ненасилия, индусы отдают предпочтение вегетарианству — и одновременно с этим разрушают мечеть Бабура в Айодхъе; запрещают поцелуи на экране и сцене — и восхищают весь мир эротическим буйством храмов Кхаджурахо и чувственной утонченностью (но и искусственностью) «Камасутры». Несмотря на то что все чаше и чаше начинают говорить об индусском фундаментализме, само это сочетание представляет собой оксюморон — у индуизма нет единого фундамента, нет всеми признанного и почитаемого текста, а следовательно, фундаментализм может возникнуть только в результате сознательного упорядочивания, упрощения, укладывания живого и животворящего организма под названием «индуизм» в прокрустово ложе. Противоречиям и парадоксам индуизма нет числа. Было бы только желание в них разобраться. И своей песенкой тонко чувствовавший Высоцкий предлагал двигаться именно в этом направлении.
ГАНЕША — ЛЮБИМЕЦ ИНДУСОВ
Следовало бы нарушить логическую последовательность изложения и эссе о Ганеше поместить в начало настоящего сборника, что соответствовало бы характеру обращения к этому богу в контексте индийской культуры: сначала молитва слоноголовому покровителю, а потом все остальное. Это соответствовало бы и тому, как начиналась моя самостоятельная жизнь в Индии, когда через полгода после первого визита я оказалась на годичной практике в Университете г. Пуны, и еще до того, как смогла добраться до учебного заведения, окунулась в праздничную атмосферу города, отмечавшего ежегодный фестиваль Ганеши. Однако возобладал рационалистический подход: частности предваряются общим, поскольку Ганеша также существует не сам по себе, а неотделим от системы, которая его породила[5].
Бог Ганеша принадлежит к териантропоморфным образам, т. е. совмещает в себе признаки животного (слоновья голова с отломанным бивнем/клыком) и человека (упитанное тело с круто выпирающим животом и короткими ножками). В современной Индии Ганеша почитается как бог — устранитель и чинитель препятствий, даритель успеха и поражений, исполнитель желаний, воплощение мудрости и образованности, патрон искусства и литературы; его изображение можно увидеть повсюду — от рисунка над входной дверью до фигурки или аляповатой олеографии в домашнем алтаре, от изящного изваяния в храме до выкрашенного красной краской придорожного камня с угадывающимся изгибом хобота; он встречает верующих у входа в храмы других богов и восседает в своих собственных святилищах. Любое дело или мероприятие, частное или общественное, — рытье колодца, строительство нового здания, создание литературного труда, показ театрального представления — начинается с молебна Ганеше как гаранту благополучия, и даже обращение к другим богам следует предварять умилостивлением Ганеши. В отличие от прочих небожителей, традиционно почитаемых в определенных районах многонациональной и многоязычной Индии, Ганеша обладает повсеместной популярностью, хотя в разных регионах он выглядит по-разному, с ним связывают разные легенды и ему приписывают разные свойства.
Ганеша изображается сидящим, стоящим или танцующим; у него может быть от двух до десяти рук и два или три глаза; в руках он может держать топорик и бодец, которым погоняют слонов, модак — куполообразную сладость, формой похожую на редиску, или даже свой собственный бивень — по некоторым легендам (не ранее IX в.), он собственноручно отломал его, чтобы под диктовку мудреца Вьясы записать им «Махабхарату». Изображения Ганеши классифицируются и в зависимости от того, в какую сторону повернут его хобот, и находятся ли с ним рядом Сиддхи и Буддхи — его жены в представлениях одних индийцев или шакти, т. е. энергия, в представлениях других.
В многочисленных преданиях, которые зафиксированы в древних и средневековых текстах, а также существуют в устном виде, в первую очередь разрабатываются три темы; кто является родителями Ганеши, каким образом он появился на свет и как стал обладателем слоновьей головы. Один из вариантов рассказывает, что Шива и Парвати (пожалуй, самая мощная божественная пара индусского пантеона) решили насладиться обществом друг друга и направились к лесу, но по дороге наткнулись на слонов, занимающихся любовью. Заинтригованные супруги обратились в слонов и с божественным размахом воспроизвели увиденное, в результате чего на свет появился ребенок с головой слона. Согласно другому варианту, упоминаемому во многих пуранах, боги, убоявшись могущества, которым могут оказаться наделенными потомки Шивы и Парвати, убедили Шиву не испускать семя в лоно жены. Тогда Парвати, снедаемая жаждой неутоленного материнства, слепила фигурку Ганеши из собственных нечистот, смешанных с ароматическими веществами, вдохнула в нее жизнь и поставила у дверей в свои покои. Шива, которому перегородили дорогу, пришел в ярость и отрубил Ганеше голову. Впоследствии, раскаявшись в содеянном, он приставил к туловищу голову первого встречного — слона — и признал Ганешу своим сыном. Третий вариант сообщает, что Ганеша родился из сияния, которое вырвалось изо лба Шивы, и Парвати, увидев прекрасного юношу, появившегося на свет без ее участия, произнесла проклятие: «Пусть его голова станет как у слона, а тело изуродуется большим животом!» И на это Шива ответил, обращаясь к сыну: «Ты будешь главным над ганами (людские толпы. — И. Г.) и винаяками (полудемонические существа злобной и доброжелательной природы. — И. Г.) и источником успеха и разочарования; велико будет твое влияние среди богов, и тот, кто при любом начинании или обращении к другим богам не почтит тебя первым, ничего не добьется». Имя Ганеша, составленное из двух частей, означает «Владыка ган», а Винаяк является одним из имен-субститутов наряду с Вигхнешваром («Владыка препятствий»), Экадантой («Одноклыковый»), Ламбодаром («Толстопузый»), Гаджананом («Слоноликий»), Акхуратхой («Восседающий на крысе») и др. Последний из эпитетов связан с тем, что у Ганеши, как и у всех других индусских богов, есть собственное верховое животное — крыса.
Кстати, богатая мифология, связанная с Ганешей, предоставляет щедрый материал для психоаналитиков, которые трактуют непростые семейные отношения Шивы, Парвати и Ганеши в духе индийского эдипова комплекса, интерпретируют обезглавливание как метафорическую подмену кастрации и рассматривают инертно свисающий хобот и отломанный бивень как пассивные фаллические символы.
Когда б вы знали, из какого сора/Растут стихи… — заметила как-то Анна Ахматова. Из лоскутов можно сшить ослепительное платье, и многие яства достигают совершенства при, казалось бы, немыслимом соединении исходных продуктов. История восхождения Ганеши достаточно ярко характеризует пути формирования того явления, которое в конце концов стало называться индуизмом. Бесконечно упрощая вехи, которыми отмечен путь слоноголового бога, упомянем об… индо-греческих монетах с изображением восседающего на троне Зевса и слоновьей морды, которые чеканили в азиатских владениях, находившихся под греческим влиянием, еще в 170–150 гг. до н. э. Монетная легенда на оборотной стороне гласила: «божество города Капиши» (нынешний Баграм на территории Афганистана). Помимо того что «капи» означает «слон», мы располагаем и более поздними, но уже развернутыми свидетельствами китайского путешественника Сюань Цзяна, который гостил в тех же краях и рассказал о горе возле Капиши и слоновьем божестве этой горы, охраняющем город. А на монете последнего индо-греческого царя, Гермея (90–70 гг. до н. э.), которая хранится в нумизматической коллекции Британского музея, уже зафиксирована комбинация слоновьей головы и человеческого тела. Самые ранние скульптурные изображения Ганеши датируются III–IV вв. н. э. и обнаружены на территории Афганистана; здесь Ганеша не столь толст и обладает развитой мускулатурой, в чем проявляются следы эллинистического влияния. И в тех же краях когда-то проживало племя хастика («хасти» означает «слон»), почитавшее слона в качестве тотема.
Самые древние индийские тексты — веды, которые датируются серединой II тысячелетия до н. э., содержат упоминания о «владыках ган». В других древних текстах описываются винаяки, из которых состояли ганы (войска) Шивы. Винаяки могли вселяться в людей и обрекать их на неудачи: царевич не получал трона, девушка не выходила замуж, желающая детей оставалась без потомства, а потому следовало всячески задабривать тех, от кого это зависело. Среди прочих приношений винаяки особенно любили редиску и такие же по форме сладкие модаки. Затем винаяки, в которых не было ничего слоноподобного, «сцепились» в единый образ по имени Винаяк. Впоследствии именно под этим именем стал известен бог с головой слона и человечьим туловищем, и еще позднее к нему «прилипло» имя Ганеша.
К VI в. н. э. Ганеша занял прочное место в индусском пантеоне наряду с древними и уважаемыми богами Брахмой, Вишну и Шивой, хотя многое указывало (и указывает) на его низкое происхождение: связь с толпой, короткие ручки и ножки, напоминающие о классе троллей и гоблинов, и даже любовь к редиске — корнеплоду, растущему под землей и наряду с луком и чесноком считающемуся неблагородным. Красный цвет, характерный для его изображений, возможно, напоминает о практике кровавых жертвоприношений; Ганеше до сих пор подносят только красные цветы. Плебей, естественно, нуждался в облагораживании, и возникли родственные связи с аристократическими Шивой и Парвати.
Обычно выделяют религии политеистические, т. е. признающие множество богов, и монотеистические, сосредоточенные на одном боге как Высшей реальности. Высшая реальность может восприниматься как имманентная, т. е. присутствующая в мире, или трансцендентная, т. е. существующая вне и над материальным миром. Считается, что первое противоречит второму и не может сосуществовать с ним. Приходится констатировать, что эта европейская одномерность, наработанная западным менталитетом, неприложима к тому, что называется индуизмом.
Посреднические функции Ганеши вытекают из его комплексной природы — он находится между всем и вся: между животными и людьми, между Шивой и Парвати, между людьми и богами как страж храмовых дверей, между успехом и поражением как божество с двойными функциями, между знанием и невежеством. Можно обращаться к Ганеше мысленно, призывая его в союзники с помощью ритуальной формулы, или устраивать пышные церемонии, омывая бога в «пяти нектарах» — молоке, простокваше, топленом масле, меде и сахарном сиропе — с последующим окатыванием водой, возложением любимых Ганешей красных цветов и модаков Именно в качестве бога-посредника Ганеша почитается всеми этносами, кастами и социальными группами на всем пространстве от Гималаев на севере до мыса Канья Кумари на юге; именно изображение слоноголового бога можно чаше всего увидеть на глянцевой обложке новогоднего календаря или на свадебном приглашении; именно его имя пишут на бумажках индийские студенты и только после этого приступают к сдаче экзамена.
Однако существует и другой взгляд на Ганешу. Из философского трактата «Победа Шанкары», датируемого X в., мы узнаем о существовании шести сект, которые воспринимали Ганешу как Бога-Абсолюта, единственную и конечную Высшую реальность. Собственно, задачей трактата являлась жесткая критика эксклюзивных поклонников Ганеши — ганапатито (от Ганапати — еще одного из имен Ганеши), в процессе которой известный индийский философ Шанкара поочередно развенчивал взгляды каждой из сект и тем самым давал о них вынужденную информацию. Ганапатиты поклонялись разным формам Ганеши под разными именами. Наибольшей эзотеричностью веет от взглядов приверженцев четырехрукого Уччхишта-Ганапати («Нечистый Ганеша») красного цвета, на бедре которого восседает спутница-шакти, в чье лоно погружается конец слоновьего хобота. Члены этой секты признавали соитие мужчины и женщины как способ постижения Абсолюта, при этом особой, священной силой наделялся сексуальный контакт, устанавливаемый с женщиной в период ее месячных. Знаки, символизировавшие лицо и клык Ганеши, раскаленным железом наносились на лоб и руки ганапатитов.
С XVII в. начинает накапливаться информация о ганапатитах, процветавших в местечке Моргав в Западной Индии (на территории современной Махараштры) и по сегодняшний день сосредоточенных вокруг тамошнего храма, где восседает «самовозникший, самосущий», т. е. нерукотворный, Ганеша в виде окрашенной красным каменной глыбы с внушительными бриллиантами, вставленными в глазницы и пупок. Храмовая легенда, зафиксированная в священных мифологических компендиумах — пуранах, подробно рассказывает о появлении в этих краях Ганеши: демон Синдху, аскезой добившийся необычайной силы, уверовал в свое могущество и предался чувственным удовольствиям. Он осквернил все божественные изваяния, а самих богов упрятал в темницу. И только возникший в виде изначальной энергии Ганеша смог нанести ему поражение и тем самым спасти мир от хаоса, а три главных индусских бога — Брахма, Вишну и Шива — стали поклоняться Ганеше в знак признания его безусловного превосходства. Брахма к тому же отдал ему в жены двух своих дочерей — Сиддхи («Успех») и Буддхи («Разум»), Там же, в Моргаве, протекает река Карха, которую «принес» в те края неутомимый и непобедимый Ганеша.
Вот в таком благословенном месте в конце XVI — начале XVII в. оказалась некая бесплодная пара, которая в течение многих лет истово поклонялась тамошнему изображению слоноголового бога, и в конце концов явившийся супругам в видениях Ганеша сообщил, что доволен их услужением и будет самолично воспроизводиться в их потомках на протяжении семи поколений. Так появился на свет Морайя Госави — первый из череды «живых богов», земных воплощений Ганеши.
И Морайя, и последующие инкарнации прославились совершением множества чудес, к ним стекались толпы поклонников и приносили им в дар пищу, деньги, драгоценности, земельные наделы и целые деревни. Эдвард Мур, офицер английской армии, получил аудиенцию у шестого по счету «живого бога» 10 января 1800 г. и подробно записал свои впечатления. Отмечая, что как предшествующие воплощения, так и это характеризуют эпитетом «дивана», т. е. «чокнутый», он пояснял: «Бог» полностью отстранен от происходящего и способен поддерживать беседу только отрывочными заявлениями, репликами или возражениями, и то в ребячливой, плаксивой манере. На некоторые вопросы, касающиеся будущего, он отвечает четкими отрицаниями или утверждениями; на другие — загадочно, благосклонным или негодующим жестом; иногда он не произносит ни звука и, будучи погруженным в отвлеченные размышления, не реагирует на посетителя. Все это служит основанием для того, чтобы понять, благоприятна или нет воля Всемогущего в отношении дела просителя».
Подобно тому как «короля играет свита», фигура бога наполняется значимостью в зависимости от отношения к ней окружающих. «Живые боги» Моргава постепенно становились персонами государственного культа, им оказывали царские почести и по их поведению предсказывали, что ожидает местные этнополитические образования в ближайшем будущем. Спокойный ночной сон «бога» предвещал националы ную безопасность, а кашель и чиханье — грядущие политические катаклизмы; если названной им в озарении случайной мерой риса удавалось досыта накормить собравшихся людей, то это предвещало хороший урожай. Что же касается «чокнутости», то отклонения от нормы, выражающиеся в придурковатости и даже прямом сумасшествии, в ряде религиозных систем как раз считались знаком божественной отмеченности. Современные Муру жители Моргава рассказали, что в случае с «земными Ганешами» эти знаки становились все менее заметными по мере удаления от самого первого воплощения.
На расстоянии 100–200 км от Моргава расположены еще семь храмов «самовозникших» Ганеш — грубых камней красного цвета. Все вместе они составляют знаменитую «восьмерку (ашта) Винаяков», но в каждом из них проживает особый Ганеша — под именем, соответствующим тому подвигу, который он совершил, оказавшись в этом конкретном месте: где-то он победил изводившего всех демона, а где-то спас от преследований своего преданного приверженца. Каждый из храмов славится чем-то своим, а некоторые изображения из «восьмерки» наделяются способностью отзываться на просьбу, подкрепляемую материальным даром. Подобное «корыстолюбие», кстати, обычно не свойственно богам нормативного индусского пантеона, которых следует чтить или любить ради них самих, и характеризует божков простонародья с глубокими местными корнями. Сейчас, когда в Индии совершенствуется мощная индустрия «святого туризма», все восемь храмов охвачены единым автобусным маршрутом, рассчитанным на четыре дня. Укрепилось даже мнение, что благоприятнее посетить храмы в рамках одного непрерывного паломничества — возникающая в результате «благость» будет превышать суммированные результаты несвязанных, отдельных визитов в каждый из храмов.
Среди совершающих паломничество к аштавинаякам есть те, кто желает разорвать черный период, в котором оказалась семья, благополучно выдать замуж засидевшуюся в девицах дочь или избавиться от недомогания, а кто-то приходит в эти храмы потому, что именно там ощущает себя в непосредственной близости от Всевышнего и даже растворяется в нем во время истовых молений, т. е. хоть и временно, но достигает предела мечтаний каждого образцового индуса — слияния индивидуальной души с Верховной, т. е. с Абсолютом.
Если метафорически рассматривать индуизм как сад, то среди деревьев этого сада будут сухие, с уже ушедшими жизненными соками, и буйно цветущие и плодоносящие. Герой настоящего сюжета бурлит жизнью, и продуктивность его теологии, вероятно, превосходит таковую других индусских богов. Поднявшись из низов, Ганеша вошел в семью лидирующих небожителей, стал необходимым для всех богом-посредником, Высшим богом избранных и воплотился в семи зафиксированных исторически инкарнациях (не считая десятков мифологических). А в конце XIX в. Ганеша оказался среди участников национально-освободительного движения, и узкосемейному религиозному празднику ганеш-чатуртхи, отмечаемому в августе-сентябре каждого года, был придан общественный характер: из-за закрытых дверей празднование переместилось на улицы и площади городов и деревень.
Задолго до праздника жители одного квартала или улицы собирают деньги на изготовление «своего» Ганеши, после чего с помощью различной декоративной параферналии (папье-маше, керамика, пластмасса, фарфор и т. д.) на возведенных крытых помостах выстраивается сюжет, центром которого является изготовленная фигура. Когда Бал Гангадхар Тилак, один из лидеров борьбы против английских колониальных властей, спровоцировал вовлечение Ганеши в политику, то «общественный» Ганеша стал использоваться как символ: на помосте вокруг его изображения толпились сочувствующие ему персонажи, а он к чему-то призывал и топтал ногами демона, в облике которого угадывался намек на колонизаторов. Активисты движения раздавали листовки и распевали религиозные песнопения, вплетая и них общественно-политические мотивы. В дальнейшем сюжет вокруг Ганеши начал выстраиваться в соответствии с духом времени: Ганеша отзывался на первый космический полет, коррупцию местных властей, официальный визит советской делегации[6], убийство Джона Кеннеди, а потом Джона Деннона и т. д.; он неустанно протестует против загрязнения окружающей среды, призывает к снижению рождаемости, агитирует за какого-либо политического лидера и ратует за вовлечение женщин в общественную жизнь. Кварталы и улицы соревнуются друг с другом, пытаясь создать более значительный (и по форме, и по содержанию) образ популярного бога. Недавно в одном из городов Западной Индии, где этот праздник отмечается с особым размахом, на плошали восседал Ганеша, сложенный из 2,5 тыс. кокосовых орехов. Торжества продолжаются десять дней, в течение которых вокруг Ганеши гремит музыка и сверкает иллюминация, и в последнюю ночь торжественная общегородская процессия совершает церемонию ритуального расставания с богом — все Ганеши опускаются в близлежащий водоем. В 1999 г. только в городе Пуне было выставлено, а значит, и утоплено 600 «общественных» Ганеш! Так же поступают и с небольшими по размеру глиняными фигурками Ганеши, устанавливаемыми на время праздника в домашних алтарях.
Ганеша, вернее, его скульптурное изображение может потеть, как произошло в одном из индусских храмов, и пришлось срочно организовывать «охлаждающие» ритуальные процедуры, чтобы уменьшить концентрацию накопившегося в небожителе жара. А в 1995 г. удивленная Индия со слов жрецов и просто прихожан узнала, что практически во всех индусских храмах изображения Ганеши в течение нескольких дней действительно выпивали предлагаемое им в качестве ритуальной пищи молоко. По крайней мере подносимая к хоботу плошка оказывалась пустой. Аналогичные свидетельства поступили и от разбросанной по всему свету индусской диаспоры: молоко пил даже Ганеша, находившийся в квартире у одного из индийских дипломатов в Москве! В последние годы на севере Индии возник новый культ богини Сантоши Ма — Матери, приносящей успокоение поклоняющимся ей женщинам. По представлениям приверженцев Сантоши Ма, отец богини — не кто иной, как Ганеша.
Ганеша является к тому же и паназиатским богом: под разными именами он уже много веков почитается в Тибете и Китае, Непале и Японии, на Яве и Борнео и усвоен такими религиозными системами, как буддизм и джайнизм. Слоноголовый бог может преподнести еще множество сюрпризов и оказаться причастным к любому событию в любой части земного шара.
Послесловие. Хотя Ганеша — общеиндийский бог, он все больше и больше «приживается» в Махараштре, которая не жалеет сил на оказание ему почестей. Любопытно, что у Ганеши есть младший брат — Картикейя, который под именем Муруган[7] (или Субрахманья) превратился в почти национальный символ другого индийского штата — Тамилнаду.
Происхождение Картикейи, бога войны и полководца небесных войск, передвигающегося на павлине, также весьма необычно. Победить демона Тараку, терроризировавшего и людей, и богов, по предсказаниям семерки древних мудрецов, мог только сын Шивы и Парвати, но они отказывались произвести потомство. И тогда небожители отправили к услаждавшейся супружеской паре бога Агни, который в облике голубя сначала терпеливо, но не без удовольствия наблюдал за происходящим, а потом, когда удовлетворенный Шива ушел, а Парвати заснула, склюнул с ее живота семя Шивы и полетел к другим богам. Но семя было тяжелым, к тому же весьма жгло (и не кого-нибудь, а Агни — ведийского бога огня!), и голубок уронил его в Гангу (реку-женщину, а не Ганг, как неверно прижилось в русском языке), и оттуда появился мальчик невероятной красоты. Шесть царевен по имени Криттики в это время оказались на берегу, и каждая назвала его своим сыном и предложила ему грудь. Картикейя никого не хотел обидеть, у него появилось шесть голов, шесть ртов, и он припал к шести соскам. Впоследствии за право материнства между Парвати, Гангой и Криттиками возник нешуточный спор.
По другой легенде, энергия, выпушенная из третьего глаза Шивы, расположенного на лбу, попала в озеро и превратилась в шесть младенцев неописуемой красоты, которых воспитывали Криттики. Но однажды малышей увидела Парвати и от восторга сжала их так сильно, что их тела слились в одно. Еще одна легенда увязывает происхождение Картикейи только с одним Агни, который испытал неистовую страсть к женам семи мудрецов, но, поскольку не мог подступиться к добропорядочным женщинам, отправился охлаждаться в лесную чащу. А к нему воспылала любовью некая Сваха, но не вызвала в Агни ответных чувств. Тогда хитрая дама приняла облик одной из жен и приблизилась к Агни. Тот поколебался — все-таки чужая жена, — но уже не мог сдержать себя и овладел ею. Так в общей сложности повторилось шесть раз (а не семь, хотя жен было семь). Выпавшее на ее долю семя Сваха собрала в золотом «депозитарии», мудрецы совершили вокруг него молитвы, и на свет появился шестиголовый и 12-рукий Картикейя. Кстати, когда Картикейя наконец поразил демона Тараку, Парвати, которая в индийской мифологии все-таки считается его матерью, в качестве вознаграждения разрешила ему развлекаться как он хочет. И Картикейя поочередно овладел женами всех богов, и боги пришли с жалобой к Парвати.
А в Махараштре Картикейя считается холостяком и даже женоненавистником, поэтому женщинам не рекомендуется поклоняться ему. Более того, если какая-то из них совершит богослужение Картикейе, она может вскоре оказаться вдовой и будет терять мужей в последующих семи рождениях.
То, что разные легенды рассказывают о Картикейе (или о Ганеше, или о любом другом индийском небожителе) совершенно разные истории, а разные регионы помещают его (или Ганешу и других богов) на разные места в индийском пантеоне, находится в полном соответствии с подлинной — всеохватывающей — природой индуизма, хотя технический прогресс последних двух столетий, безусловно, несет с собой и закрепление устойчивых религиозных стереотипов, а следовательно, объективно содействует унификации неоднородного пространства индуизма. Красочная олеография «святого семейства», где Шива, Парвати, Ганеша и Картикейя изображены рядом чуть ли не в райских кущах, кочует из издания в издание и отодвигает на периферию другие версии божественных родословных. Одновременно укрепляются мифы «интимного характера», рассказывающие о буднях богов. Как и в любой семье, братья Ганеша и Картикейя время от времени соперничали друг с другом, а однажды неожиданно изъявили желание взять в жены одних и тех же девушек — двух сестер. Тогда родители объявили, что сестер получит тот, кто первым совершит кругосветное путешествие. Простодушный Картикейя во всю прыть побежал вокруг земли, а хитроумный Ганеша, по одной легенде, обошел вокруг своих родителей, а по другой — вокруг священных книг индуизма: и то и другое приравнивается по своему значению к масштабам вселенной. Когда вернулся запыхавшийся Картикейя, Ганеша был давно и счастливо женат на Сиддхи и Буддхи.
БХАКТИ
Индуизм исповедуют около миллиарда человек — в Индии и Непале, Шри-Ланке, Индонезии и Сингапуре, Южно-Африканской Республике, на Маврикии, в Кении и Объединенных Арабских Эмиратах, Гайане и Суринаме, США, Канаде, Великобритании и т. д., но при этом индуизм мировой религией не считается, поскольку повсюду его приверженцами являются выходцы из Индии и их потомки. Теоретически индуизм — не прозелитская религия, т. е. индусом надо родиться, обращение в индуизм невозможно, хотя такие попытки предпринимались и предпринимаются.
Индуизм не является стройной и непротиворечивой доктриной, он включает в себя конгломерат самых разнообразных верований и видов ритуальной деятельности, мировоззренческих принципов и теологических постулатов, некоторые из них восходят к IV тысячелетию до н. э. Традиционно считается, что исповедующий индуизм стремится к конечному освобождению (мокше, мукти), для чего следует вырваться из бесконечного круга перерождений (самсары), высвободив свою душу (атму, дживу) из телесной оболочки в надежде на ее приближение к Мировой душе (или Абсолюту) или воссоединение с ней. Для того чтобы добиться этого, теоретически предлагаются четыре способа — неукоснительное исполнение своих обязанностей и обязательств (путь кармы), углубленное погружение в знания (путь джинны), совершенствование физических и психомоторных особенностей организма (путь йоги) и установление особых, личных отношений с богом (путь бхакти). Любой индус волен избрать наиболее подходящий для себя вариант, но считается, что путь бхакти может осилить каждый.
Бхакти (букв, «участие, сопричастность») подразумевает ряд концептуальных положений, определяющих специфику именно этого способа богопочитания: 1) поклонение единственному богу, пронизанное чувством истовой веры (бхавы), в ожидании нисходящего мистического опыта; 2) направление всей мыслительной активности на образ любимого бога, рецитирование его имени, исполнение песнопений и танцев во славу бога; 3) отказ от посреднических услуг жрецов и усложненного ритуала поклонения; 4) использование разговорных языков как средства коммуникации с богом; 5) признание равенства (на религиозном, а не на социальном уровне) всех каст и полов.
Самыми первыми бхактами (VII–XI вв.), своей массовостью, экстатической безудержностью и высокой поэтической одаренностью придавшими теологической концепции бхакти форму религиозного движения и литературного направления, стали альвары (поклонники бога Вишну-Кришны) и наянары (поклонники бога Шивы) — жители индийского юга (Тамилнаду). Используя родной — тамильский (а не официальный ритуальный санскрит) — язык для выражения своих неудержимых эмоций, тамильские бхакты превратили бхакти-«со-участие» в бхакти-«страстную любовь» и нередко воображали себя юной девушкой, готовой затрепетать под опытными руками возлюбленного бога, подразумевая соединение индивидуальной души с Абсолютом. Полумесяцем украшен, /белым пеплом обметен, /Сердца моего похитчик, гордо восседает он/На быке. Его сияньем / сам Создатель посрамлен. / В многославном Брахмапуре / он воздвиг свой дивный трон[8] — так восхищался Шивой поэт Тируньяна Самбандар (VII в.), чье имя означает «человек, познавший божественную мудрость».
Бхакти распространялось по всей Индии, обретая по пути характерные черты того или иного региона, подстраиваясь под того или иного бога, используя исключительно местные диалекты (тем самым давая стимул к формированию новых индоарийских языков), и к XV–XVI вв. докатилось до индийского севера. Наиболее одаренные и собирающие толпы последователей харизматические проповедники стали называться сайтами, что очень условно можно перевести как «святые», а в бхакти выделилось три направления — сагун, ниргун и «смешанное». Первое признавало бога, наделенного атрибутами, т. е. зримо выраженного; второе — безатрибутного; третье считало материально оформленного бога необходимым при первой, более простой и удобной ступени концентрации мысли и внимания и допускало безатрибугность на высшей ступени постижения божественной сущности. На самом деле философия не всегда дружна с религией: восприятие Абсолюта как ниргуна в конечном счете совпадает с идеями адвайты (недвоичности, монизма), отрицающей реальное различие между индивидуальной душой и богом, что естественным образом лишает бхакти какого бы то ни было смысла. Даже Кабир, более всех приверженный ииргуну, не всегда был последователен и называл своего безатрибутного бога Рамой (Тяжелым Раму назову— солгу, /затем что Раму взвесить не могу, /И легким Раму я не назову: /ведь я его не видел наяву[9]); элементы явной атрибутики угадываются и в тех песнопениях, где Кабир воображал себя страдающей в разлуке с любимым девушкой (Моя душа так тяжело больна, /Мои глаза давно не знают сна. /Где милый мой? Я жду его призыва, /В отцовском доме стало мне тоскливо…[10]). Большинство индийских исследователей называют ниргун-бхакти «сыном бесплодной женщины».
Огромную роль в распространении и укоренении идей бхакти и в его философском обосновании сыграли фигуры общеиндийской значимости — Рамануджа (XI в.), Нимбарка (XII в.), Мадхва (XIII в.), Чайтанья (XV–XVI вв.), Валлабха (XV–XVI вв.) и Рамананда (XV–XVI вв.). Чайтанья, идентифицировавший себя с Радхой — любимой подружкой играющего на свирели бога, основал в Бенгалии кришнаитскую общину, проповедовал экстатическую любовь к Кришне и стал почитаться своими последователями как аватара (нисхождение в земном облике) Кришны. Ниточка от Чайтаньи тянется к Международному обществу сознания Кришны и к российским кришнаитам. В образе младенца (и тогда Кришну любили по-матерински) или легкомысленного юноши (и тогда Кришну любили чувственной любовью) на просторах области Брадж (с которой связываются основные проделки Кришны) воспевал самого популярного бога бхакти Валлабха, а потом его знаменитые ученики (Влюбленные женщины Браджа, не помня занятий вчерашних, / Уходят за Кришною следом, навек покидая домашних[11] — Сурдас).
Бхакти не провозглашает уход от мира, но истовому бхакту не удается жить в миру и ладить с ним: всеобъемлющая любовь к богу толкает к крайностям или по крайней мере к пренебрежению условностями и обязанностями. Полностью посвящая себя Шиве, отказывается от привлекательной внешности Кареиккал Аммеияр; тоскующая по Кришне Мира убегает из дома (Подружка! Сегодня Владыка смиренных женился на мне — во сне./В свадебном шествии боги шли с роднею моей наравне — во сне. / Обряды свершились, он за руку взял меня в тишине — во сне. /Прошлых рождений моих плоды воплотились в пришедшем дне — во сне. / Невиданное блаженство даровано было жене — во сне. /Подружка! Сегодня Владыка смиренных женился на мне — во сне[12]); в знак полной самоотдачи Шиве Лалдэд не носит одежды (Наставленье дал мне гуру, лишь одно — на времена. / «Внутрь души войди, — сказал он, — и познаешь все сполна». /Это слово душу Даллы пробудило ото сна, /С той поры она танцует, круглый год обнажена[13]); Кабир сам провожает свою жену к бакалейщику, чтобы та расплатилась телом за взятую в долг еду для гостей — приверженцев бога Рамы; Цокха Мела приходит в ужас от грядущих родов жены, опасаясь, что это нарушит его ежедневный диалог с богом, покидает дом и возвращается только через несколько месяцев; в экстазе песнопений Гора Кумбхар втаптывает в глиняное месиво своего малолетнего сына; Рамдас спасается бегством в ту самую минуту, когда он должен стать мужем.
Генезис бхакти логичнее всего конструировать как постепенное смешение идеологии «высокого» индуизма конца прошлой — начала нынешней эры (называемого обычно брахманизмом — системой религиозных взглядов и обрядности жреческого слоя — брахманов, отраженной в классе текстов под названием «брахманы») с практикой региональных локальных культов, сосредоточенных вокруг «своего» объекта поклонения, при наделении местного объекта чертами и мифологией общеиндусского бога. Таким образом в сферу воздействия «нормативного» индуизма оказывались включенными не только местные божества со своими особыми функциями и антуражем, но и их адепты (как один из примеров — пастушеские или лесные племена, воспринимавшие контакт с божеством через сексуальный союз мужчины и женщины). Именно об этом напоминает сине-черный цвет излюбленного Кришны, его тесная связь со стадами коров и эротическое почитание его как «божественного любовника», способного привести в экстатическое состояние 16 тыс. пастушек одновременно (Наедине поиграть с ним одна пожелала, других избегая./Кришну влечет она в лес; в тростниках с ним, однако, таится другая[14] — Джаядева[15]). О том же свидетельствует и ритуал изготовления деревянного изображения Джаганнатха — Владыки мира из храма в городе Пури (Орисса): поиски сакрального дерева в лесной чашобе и в наши дни осуществляют потомки проживавших здесь лесных племен.
Формирование бхакти не только расширяло пространственную протяженность индуизма, но и содействовало становлению индуизма в том виде, как он существует сегодня. Подключение широких аборигенных слоев обеспечило победу индуизма в противоборстве с конкурирующими буддизмом и джайнизмом — религиозными системами, возникшими как ереси изнутри индуизма и отрицавшими ряд ключевых концепций последнего; одновременно с этим бхакти впитало в себя некоторые из притягательных идей буддизма и джайнизма — равнодушие к ведийскому канону и кастовой системе, усвоение философии ненасилия (ахимсы) и пр.
Идею бхакти теперь уже традиционно связывают с «Бхагавад гитой» — религиозно-философской вставкой в пространном тексте древнеиндийского эпоса «Махабхарата»: считается, что бог Кришна, объясняя Арджуне, почему он все-таки обязан убивать своих родственников на поле Курукшетре (в битве между Кауравами и Пандавами), сформулировал принцип поклонения персонифицированному божеству. Справедливости ради следует отметить, что само слово бхакти встречалось и в упанишадах, предшествовавших «Махабхарате», например в «Шветашватаре», а образ бога Кришны, соответствующий представлениям о нем в рамках бхакти, был раскрыт не в «Махабхарате», а позднее — в «Харивамше» и «Бхагават-пуране». «Бхагавад-гита» действительно постулирует бхакти как способ приближения к богу, но наряду с другими известными, например кармой и джняной, а уж дальше — за какую ниточку потянешь, та и раскрутится. Возможности интерпретации сакрального текста (в соответствии с различными потребностями или пристрастиями) неистощимы, и в случае с эклектичной «Бхагавад-гитой» их насчитываются сотни. Одним из последних (1989 г.) — впрочем, неканонических — примеров является многосерийная экранизация «Махабхараты» индийским режиссером Б. Р. Чопрой, где «Бхагавад-гите» уделено три серии (в целом 135 минут; для сравнения — в «Махабхарате», поставленной англичанином Питером Бруком, — всего 7). Ставящий все точки над i итог кинематографического прочтения «Бхагавад-гиты», высказанный заэкранным «Голосом Времени», таков: «Каждая эпоха имеет свою Курукшетру, и для преодоления бед следует искать ответ у Кришны…» А Кришна, чья божественность подчеркивается всеми доступными аудиовизуальными средствами (например, эхом, сопровождающим каждое его слово), уточняет: «Дблжно бороться против не-дхармы (нарушения Основного закона. — И. Г.) следует оказывать сопротивление врагам общества…»
Исторические судьбы бхакти в различных индийских регионах сложились по-разному, но абсолютное большинство ростков окрепло и превратилось в мощные традиции религиозного, литературного, националистического или даже политического характера, дошедшие до наших дней. Ярким примером, объединяющим все указанные выше параметры, является традиция сикхов («учеников»), основы которой заложил Нанак (1469–1539), проповедовавший на севере Индии, в Пенджабе, преданность Божьему Имени. Постепенно стал складываться свой ритуал и возникали свои священные места. Рост числа приверженцев при последующих гуру привел к созданию территориальных объединений с назначаемыми главами. Четвертый гуру (1534–1581) основал город Амритсар, а пятый — Арджуна (1563–1606) завершил строительство священного пруда, заложил в его центре Золотой храм (ныне — одна из главных сикхских святынь) и, собрав воедино сочинения сикхских гуру, учредил главный объект религиозного почитания — священную книгу «Ади Грантх». Арджуна погиб от руки мусульманских правителей, его смерть была признана мученической; окрепшая к тому времени в экономическом отношении община обрела все необходимое для самоидентификации и стала вооружаться. При последнем, десятом гуру — Гобинде Сингхе (1666–1708) борьба с мусульманами приняла регулярный характер и была образована хальса — воинственное бескастовое братство-орден. В конце XVII в. Ранджит Сингх создал независимое сикхское государство и короновался махараджей Панджаба. Сикхи были последней этноконфессиональной общиной Индии, павшей под вооруженным напором англичан (1849 г.). В 1921 г. сформировалась «Акали дал» — партия сикхских конфессионалистов, в 1940 г. на конференции партии была принята резолюция с требованием в случае раздела Индии создать отдельное сикхское государство Халистан. В 1984 г. при проведении индийскими властями операции против сикхских экстремистов и сепаратистов сильно пострадал Золотой храм, и в том же году от руки своего телохранителя-сикха погибла премьер-министр Индии Индира Ганди; в последовавших за этим сикхских погромах в Дели погибло около 3 тыс. человек. 1,9 % населения современной Индии исповедует сикхизм как самостоятельную религию, отказываясь воспринимать ее в русле индуизма. А все начиналось с бхакти.
Трудно удержаться от искушения и обойти вниманием индийский кинематограф, музыкально-песенный аспект которого сформировался под непосредственным эстетическим и содержательным воздействием бхакти: песни из первых фильмов звукового кино представляли собой строчки из палов и абхангов знаменитых средневековых мистиков; типология нынешних кинематографических песен любви, а еще чаще — разлуки тоже указывает на классический канон бхакти: сначала мимолетный союз души с богом, потом долгое разъединение и страдания из-за невозможности встречи и, наконец, happy end. Материалом для популярных и поныне шедевров раннего индийского кино, сыгравших огромную роль в его становлении и развитии, служили легенды и предания о жизни выдающихся бхактов — Видъяпати, Днянешвара, Тукарама, Мирабаи и др.
В книге «Открытие Индии» первый индийский премьер-министр, Джавахарлал Неру, написал: «Индуизм как вера расплывчат, аморфен, многосторонен, каждый понимает его по-своему». Полиморфизм и полифункциональность характерны и для бхакти. Бхакти — это не только способ достижения основной цели индуизма (а иногда избравшие этот способ, следуя логике собственных рассуждений, приходят к отказу от мокши), но и исторический и концептуальный этап развития индуизма, реформаторское движение внутри индуизма и одновременно одна из наиболее распространенных форм его существования. Методология исследования разнородного индуизма или далекого от единообразия бхакти требует четкого определения объекта, на который направлено внимание: можно описать систему религиозных взглядов индивида или семьи, ритуальную деятельность храма или деревни, календарный праздник региона, теологические постулаты корпуса текстов или ежедневный ритм жизни и чрезвычайную практику группы людей, объединенных общими ценностями, — например, считающих себя бхактами. Такие группы (хочу избежать слова «секта» вследствие отсутствия в Индии церковной структуры и общепризнанного канона) — в их самоназваниях обычно присутствует слово «путь» (пантх) или «практика, обычай» (сампрадай) — существуют по всей Индии; количество, например, приверженцев Кабир-пантха оценивается в 2,5 млн. Однако перечисление имен и цитирование религиозных строк не является самой убедительной иллюстрацией — чтобы получить некоторое представление о бхакти, полезнее обратиться к конкретным общностям (маханубхавам из Махараштры и лингаятам из Карнатака) или к конкретным персонажам (Днянешвару и Тукараму).
Моя позиция в отношении бхакти, сформировавшаяся в результате исследований этого явления, не противоречит (в отдельных своих положениях или в их совокупности) взглядам ряда других специалистов в этой области. Естественно, существуют и другие мнения, а также страстное желание высказать сомнения и оценить роль бхакти, как и харизматических бхактов в прошлом, настоящем и будущем Индии, — именно поэтому раз в три года проводятся международные конференции по изучению этого феномена в его социальных, культурных, психологических и прочих измерениях. Последнюю, X конференцию такого рода в 2000 г. провел Католический университет Дёйвена (Бельгия); председателем оргкомитета стал профессор Винанд Каллеворт, посвятивший всю жизнь поискам, приведению в порядок и сохранению, а теперь и компьютеризации рукописей и критическому изданию текстов, созданных средневековыми проповедниками бхакти.
МАХАНУБХАВЫ
Лучше спать, чем говорить о мирском.
Чакрадхар
В 1907 г. в Верховном суде Бомбея слушалось дело о диффамации: свою честь и достоинство отстаивали маханубхавы. С целью иллюстрации основных принципов предписанного им поведения они извлекли из тайников свои священные книги, записанные секретными шифрами. Индия ахнула: в богатейшем панно религиозно-философской литературы появилась новая, но обладавшая к тому времени почти семивековой историей блистательная (с собственными красками и неожиданным в агиографии разухабистым юмором) деталь. Более того, изобилующая различными поэтическими жанрами индийская литература вплоть до XIX в. знала очень мало прозы, и обширная прозаическая (хотя и поэтическая тоже) литература, созданная маха-нубхавами, оказалась уникальным явлением в масштабах всей Юж ной Азии.
Маханубхавы — «обладающие опытом» — сформировались как самоидентифицируемая общность (пантх, «путь») в XIII в. и нарушили почти все основные положения нормативного (классического, ортодоксального) индуизма. Они признавали реальность только одного бога — Парамешвара («Наивысшего бога») с пятью антропоморфными аватарами-инкарнациями (земными воплощениями), называемыми «пятеркой Кришн», в которую входили Даттатрейя и Кришна (обшеиндусские боги), Чангдев Раул, Бундам Раул и Чакрадхар (исторические личности); отрицали авторитет вед — древнеиндийских священных книг; отрицали идолопоклонство; отказывались признать ритуальное превосходство брахманов — потомственных жрецов; отвергали институт каст, закрепляющий пожизненную социальную и духовную иерархию, и возможность ритуального осквернения; признавали равенство женщин (и даже не считали их источником скверны в период месячных — небывалая деликатность по сравнению со многими религиозными системами!).
Бог Даттатрейя встречается как даритель в древнеиндийском эпосе «Махабхарата», упоминается в пуранической литературе раннего средневековья как рожденный Анасуей и Атри «фрагмент Вишну» и как забавляющийся со своей спутницей Йогишвар: он меняет характеристики от текста к тексту и в современном индуизме превращается в трехликое божество, символизирующее симбиоз Брахмы, Вишну и Шивы. В маханубхавскую пятерку он, вероятно, оказался включенным (этот вопрос дискутировался исследователями, но потом повис в воздухе) по территориальной сопричастности — в маратхиязычной части Деканского плато храм Даттатрейи в Махуре находился неподалеку от тех мест в северной и восточной Махараштре, где проповедовали исторические лица пантха, — и таким образом достигалось перетекание адептов Даттатрейи в ряды маханубхавов. Считается, что Датгатрейя в образе тигрицы неожиданно возник перед Чангдевом Раулом, возложил ему на голову лапу и так поделился с ним своей шакти — энергией. Вообще внезапность является наиболее очевидным качеством Даттатрейи и отражена в пословице «Возник перед носом словно Датта», т. е. нежданно-негаданно. Маха-нубхавский Кришна — не любвеобильный юнец, развлекающийся с пастушками, но суровый и умудренный жизненным опытом советчик из «Бхагавад-гиты» и верный супруг Рукмини. Их бракосочетание — один из излюбленных сюжетов маханубхавских поэтов, а поэтесса Махадайсе (XIII–XIV вв.) создала в их честь свадебные приветствия, каждая строка которых начинается с нового слога алфавита девана-гари (письмо деванагари — слоговое).
Определяющей характеристикой любой общности внутри индуизма является наличие гуру-первопроходца. Основателем пантха маханубхавов считается Чакрадхар — последнее земное воплощение Парамешвара. Легенда о Чакрадхаре рассказывает, что Харпалдев, сын министра гуджаратского раджи, картежник и лентяй, почувствовав укоры совести, отправился в паломничество, встретился с Гундамом Раулом и получил от него наставление, а через обглоданный кукурузный початок, которым Бундам с ним любезно поделился, — его шакти. По другой легенде, Харпалдев умер, но, когда его несли к месту кремации, в его тело вселилась душа умершего в тот момент Чангдева Раула — гуру Гундама Раула. В свое время Чангдев также своеобразно инициировал Гундама — возложив на его голову веялку, а потом швырнув в него метлу; этот вот Гундам и стал впоследствии гуру Харпалдева, приобретшего известность под именем Чакрадхар. В течение 12 лет Чакрадхар нагишом бродил по Западной Индии, осознал себя носителем божественной сущности, осел в районе нынешнего Пайтхана на реке Годавари, у него появились ученики, в том числе упомянутая выше Махадайсе.
Чакрадхар проповедовал абсолютно спартанскую доктрину: постоянное передвижение с места на место с отречением от мирских уз; предпочтение безлюдья (бросить жизнь к подножью дерева), попрошайничество; постоянную реиитаиию имени бога и безусловную ахимсу: непричинение вреда живому, ненасилие (даже муравьиху не должно делать вдовой). Организационное оформление общности произошло уже после смерти Чакрадхара (поскольку его постулаты вели не к объединению, а к разобщенности) — при назначенном им преемнике Нагдеве, и сама доктрина претерпела ряд модификаций, приспосабливающих ее не только к странническому, но и к оседлому образу жизни. Тогда же были заложены основы богатейшей литера турной традиции маханубхавов и созданы главные произведения: «Лила-чаритра» (1278 г.) — биография в анекдотах (количеством 1200), рассказывающая о лидах (деяниях) Чакрадхара; «Руддхипур чаритра» (1287 г.) — биография Гундама Раула; «Сутра-патх» (1290 г.) — сборник этических и философских изречений Чакрадха ра (количеством 1250), высказанных им в беседах со своими учениками, в них выстраиваются философские пролегомены маханубхавов; «Смрути-стхал» (1312 г.) — воспоминания Нагдева о словах и поступках Чакрадхара, по сути являющиеся комментарием к «Сутра-патху», и многие другие. Поскольку Чакрадхар был последним из «пятерки», признаваемой маханубхавами, в отсутствие земного воплощения бога авторитет лидерства перешел к священным текстам.
Агиографические и дидактические тексты, раскрывающие образы пяти инкарнаций Парамешвара и их учение, нанизанное на двайту (дуализм; представление об отдельности лживы — жизненной монады и Парамешвара), отличаются не только конструированием идеалы ной модели, на которую должен ориентироваться любой «обладающий опытом», но и пропитанностью «крепким земным духом», а также чувством юмора, подчас доходящим до эпатажа. Вот, например, зарисовка из ежедневного ритуала одного из «пятерки Кришн»: Госави (Гундам Раул. — И. Г.) имел обыкновение приходить к колодцу. Он вставал на край и разглядывал свое отражение в воде. Он разговаривал с собой. Он рассказывал себе истории. Он расчесывал бороду ногтями. Он смеялся. Он опускал в колодец свою святую руку. А иногда он садился на край колодца и свешивал вниз свои святые ноги. Он забавлялся так, а потом уходил. Гундам Раул, кстати, отличался не только повышенной игривостью (он оседлывал валуны, воображая, что мчится на конях, и подбрасывал тяжелые груди проходивших мимо женщин, приговаривая: До чего свеженькие — так и хочется съесть!), но и очевидными признаками неординарности (его тело иногда светилось, он мог на расстоянии выдоить корову, вернуть речь немому или оживить мертвого) и ненормальности, т. е. придурковатости и сумасшествия (что во многих религиозных культурах является безусловным доказательством божественности): Госави (Гундам Раул. — И. Г.) вышел через восточные ворота. Поравнявшись с храмом Парашурама (одна из аватар бога Вишну. — И. Г.), возле его северо-восточной части он громко пукнул. И сказал Госави: «Умри, задница, умри! Ты почему шумишь?» И он шлепнул себя по заднице и засмеялся, а потом ушел.
Деревня Руддхипур (с семью тысячами населения, часть которого — маханубхавы-миряне) в округе Амравати, где происходили все эти события, расположенная почти в географическом центре Индии, является местом паломничества современных маханубхавов. Там же сейчас располагаются и наиболее известные десять маханубхавских монастырей. Монахи-маханубхавы носят серые или розовые одежды, монахини обриты наголо и одеты в черные сари. Еще 150–200 лет тому назад земля Руддхипура считалась чересчур священной, и рядовые маханубхавы мыслили себя недостойными находиться на ней длительное время: вынужденная провести там четыре дождливых месяца группка паломников ежедневно выносила продукты своей жизнедеятельности далеко за пределы деревни. Вообще же их монастыри находятся в максимально глухих местах, как правило на расстоянии одного дня пути от ближайшей железнодорожной станции или шоссе.
Вираха, т. е. безысходное отчаяние и скорбь из-за разлуки с почитаемым божеством, является общим местом в индийском бхакти, но вираха маханубхавов особенная, потому что они тоскуют и по тому, кого хорошо знали. Пораженный вестью о смерти Чакрадхара, Наглев (преемник) удаляется в леса, и его двоюродная сестра отправляется вслед за ним: Она (Махадайсе — поэтесса, о которой шла речь выше. — И. Г.) искала его в гуше лесов и на вершинах холмов. Она расспросила пастухов, и они ей ответили: «Да, мы видели его. Мы отжали ему в рот сок лесных плодов». И тогда Махадайсе нашла его. Она привела его в чувство, стряхнула грибы, которые уже успели вырасти на нем, закутала в накидку и отнесла на спине в ближайшую деревню. Там где-то она его усадила, а сама раздобыла немного молока и, смачивая в молоке конец тряпицы, напоила его. Когда Наглев окончательно пришел в себя, он вместе с группой сподвижников отправился по местам, где когда-то бывал Чакрадхар, — так сложились ритуальные основы «пути» маханубхавов: боль от разлуки можно смягчить только постоянным воспоминанием о боге, паломничеством и почитанием реликвий. Там Наглев увидел место, где Госави (Чакрадхар. — И. Г.) однажды сплюнул на камень полуразрушенной стены. Его обуяла тоска, он припал к камню губами и получил прасад (материализованный дар бога адепту, здесь — слюна. — И. Г.). И в это время появился Баидевобас. Когда-то Наглев посвятил его в ученики. И Наглев рассказал ему о плевке: «Этот плевок, Баидевобас — прасад от Госави, возьми его». Услышав это, Баидевобас бросился на землю. И каждый испытал еще большую тоску. Он изо всех сил стал лизать прасад. Он разодрал себе весь язык… Воспоминания и необходимость возвращения им остроты каждым новым поколением маханубхавов послужили основным мотивом для составления священных текстов традиции.
После смерти Нагдева (XIV в.) преемник не был назначен, традиция децентрализовалась, и ученики Нагдева, наделив себя правом инициации новичков, организовали 13 ответвлений, отличавшихся трактовкой различных теологических нюансов. Суровая доктрина Чакрадхара {Мы не должны быть привязанными к кому-либо и должны предупреждать чью-либо привязанность к нам), предусматривающая отказ от ритуальной практики в любом ее виде (паломничество к святым местам, обряды, преклонение перед гуру), по сути, давно трансформировалась в обычную разновидность популярного индуизма, но формально около 200 тыс. современных маханубхавов поклоняются своим собственным 1650 сакральным объектам — отам — крытым белой известью кирпичным или цементным плитам. Оты сооружены на местах, связанных с активностью кого-либо из «пятерки Кришн» и сохранивших частицы божественной шакти, могущей подпитать приверженцев традиции. Маханубхавы всячески подчеркивают, что они — не идолопоклонники, что почитают оту не как бога и не бога в оте, а лишь как место, отмеченное деятельностью Парамешвара. Наиболее богатыми с точки зрения количества шакти считаются те места, где аватары испражнялись, поскольку там они порой подолгу просиживали на корточках и тамошняя земля аккумулировала максимальное количество их энергии. Священными считаются и предметы, принадлежавшие кому бы то ни было из «пятерки Кришн», — зубы, ногти и пряди волос; клочки одежды; камни, которых коснулась чья-либо рука и которые современные маханубхавы трут в ладонях и прикладывают к лицу; некоторые крупные элементы декора. Деревянную дверь, лежанку, порог, сохраняющие энергию инкарнаций, разбирают на части и раздают наибольшему числу последователей, т. е. реликвии не считаются нерушимыми и их святость подчиняется человеческим потребностям.
Первоначально маханубхавы были весьма популярны среди простонародья как не признающие кастовой иерархии и подвергались нападкам со стороны традиционных жреческих кругов — брахманов. Но начиная с XIV в. что-то стало происходить на берегах Годавари — то ли маханубхавов обвинили в сексуальной распущенности (хотя ни их тексты, ни строгие правила поведения в современных монастырях не дают оснований для подобных обвинений; более того, Чангдев Раул, по преданиям, отрешился от мирской жизни в связи с тем, что его жена слишком часто требовала близости, и добровольно завершил земной путь, поскольку его домогалась посторонняя женщина; к тому же маханубхавы, избавляясь от притязаний, специально создавали себе сексуально непривлекательный облик), то ли жившим там индусам показалось подозрительным, что мусульманские правители тех времен освободили маханубхавов от религиозной подати (из-за их монотеизма? из-за аниконического богопочитания?). В результате отношение к маханубхавам резко изменилось, они стали прятаться и уходить в другие регионы; начали записывать свои тексты путем установления новых соответствий между символами алфавита и фонетическими слогами (сохранив таким образом тексты в их первозданности, при последующей переписке они могли воспроизводиться только буквально). Создававшаяся на протяжении семи веков литература разбросана не только по территории Махараштры, области распространения языка маратхи, но и далеко за ее пределами; в XIV–XV вв. взгляды маханубхавов нашли приверженцев в районах современных индийских штатов Андхра Прадеша и Карнатака, а в XVI в. проникли в Панджаб и Афганистан, где последователи маханубхавов стали известны под именем джай-кришнаитов. Их монастыри, а соответственно, и неисследованные рукописи существовали до недавнего времени в Амритсаре и Кабуле[16] в отличие от разрушенных в братоубийственной бойне времен раздела Индии (1947 г.) монастырей Лахора, Равалпинди и Пешавара. Записанное секретными шифрами и надежно укрытое за монастырскими стенами или в домашних сундуках религиозно-философское наследие маханубхавов насчитывает более 600 произведений, созданных в период с XIII по XVII в. Ряд текстов дешифрован и издан; некоторые прочитаны в рукописях; четыре переведены на английский язык. Будущее обнаруженных и необнаруженных шедевров, раскрывающих теологические, культурные, исторические и социальные нюансы индийского средневековья, — в тумане. В 1990-х годах умер индийский историк литературы и издатель маханубхавских текстов Ш. Г. Тулпуле, ослеп блистательный знаток хитросплетений маханубхавских тайнописей и арбитр всех теологических споров современных маханубхавов индиец В. В. Колте, отказался от продолжения научных штудий ушедший на пенсию дотошный англичанин Ян Резайд и переключилась на другую проблематику энергичная американка Энн Фелдхаус. В отечественной индологии никто никогда маханубхавами не занимался, переводов на русский язык текстов маханубхавов не существует. И не предвидится.
Однажды я разговорилась с двумя братьями-маханубхавами, мирянами. На прощание они сказали: «Сутра-патх» учит, что освобождение достижимо, если божественное воплощение находится в непосредственной близости. Последняя аватара Парамешвара нисходила на землю в XIII в., сейчас — начало XXI в. Ты много путешествуешь, встречаешься с разными людьми, будь внимательней — не пропусти аватару нашего времени».
ЛИНГАЯТЫ
В южной части Индии на берегу Аравийского моря расположен штат Карнатак, многомиллионное население которого говорит на дравидском языке каннада. Столица штата — Бангалор, один из красивейших городов мира, — широко известна за пределами Индии мошной электронной, космической и оборонной промышленностью и носит название индийская «Силиконовая долина». В самой Индии эти края имеют славу климатически благоприятных и санитарно чистых. Возле Бангалора находится знаменитое поместье с огромными плантациями редчайших эфироносов, принадлежавшее Святославу Николаевичу Рериху; в бангалорской гостинице «Ашока» он прожил несколько последних лет своей жизни. В конце 1990-х Бангалоре проводился конкурс красоты на звание «Мисс мира».
Около 20 % жителей штата причисляют себя к лингаятам и поклоняются лингаму — детородному органу бога Шивы. Культ фаллоса возник в Индии в доисторические времена. Пришедшие с севера арийские племена в «Ригведе», первом литературном памятнике древней Индии второй половины II тысячелетия до н. э., отмечали, что некоторые аборигены почитают «шишна-дева» («шишна» — лингам, «дев» — бог). Нынешние лингаяты (этнические дравиды, чьи предки предположительно заселяли полуостров Индостан до прихода ариев и впоследствии были вытеснены пришельцами на его южную оконечность) увязывают объект своего поклонения с доведийским религиозным мировоззрением, отраженным в артефактах цивилизации Хараппы и Мохенджо-даро (ныне — на территории Пакистана), датируемой III тысячелетием до н. э. Среди прочих доказательств непременно фигурирует одна из обнаруженных при археологических раскопках печаток с итифаллическим изображением божества. Вообще же лингамы, являющиеся, без преувеличения, неотъемлемым компонентом индийского ландшафта, воспринимаются индусами разных толков весьма отстраненно от соответствующего анатомического референта; для них это — метонимический символ бога Шивы, к нему с уважением относятся представители всех направлений индуизма — и шиваизма, признающего в качестве Верховного бога Шиву, и вишнуизма, считающего таковым Вишну. Лингаяты же, или, как они теперь предпочитают себя называть, «героические шиваиты», отрицая идолопоклонство в принципе, не признают антропоморфных манифестаций Шивы и воспринимают лингам как подлинное вместилище Наивысшей Сущности. Каждый лингаят — мужчина или женщина — является обладателем персонального (т. е. переносного, а не стационарного) лингама, который он/она носит при себе с рождения до смерти и после нее.
Из пупка Вишну, могучего бога, удобно устроившегося на огромном змее Шеше и наслаждавшегося первозданным покоем среди вод Мирового океана, вырос цветок лотоса. В центре лотоса восседал великий бог Брахма. Обнаружив присутствие друг друга, боги заспорили о том, кто из них создал Вселенную. Каждый приводил аргументы в свою пользу, пока рядом с ними в виде столба яркого света не возник огромный лингам. Изумленные Вишну и Брахма решили выяснить, где начало и конец этого гигантского предмета: Брахма, обратившись в лебедя, воспарил ввысь, а Вишну, приняв облик вепря, отправился вниз. Их путешествие длилось тысячу лет, но ни один не обнаружил ни начала, ни конца. Спор между богами закончился вынужденным признанием превосходства Шивы. Этой легендой шиваиты вообще и лингаяты в частности утверждают величие своего бога.
Вишнуитские предания уточняют, что лингам отделился от своего обладателя в результате проклятия мудрецов, чьих жен обольстил Шива. Впоследствии, правда, мудрецы пожалели калеку и обратились к богине Парвати с просьбой найти достойное место для лингама ее супруга, и Парвати укрепила лингам в своем детородном органе — йони.
Иконографически лингам представляет собой простой столб или конус, выделанный из глины, камня, дерева или металла, нижним концом уходящий в йони — треугольную призму или овалообразный камень; в Гималайских отрогах Кашмира, в Амарнатхе, известном центре паломничества, поклоняются гигантской сосульке, которая в зависимости от времени года то увеличивается, то уменьшается. Оба символа бесконечно варьируются по внешнему виду и размерам, украшениям и убранству, сакральной ценности и функциональной значимости. Главными считаются разбросанные по всей Индии «двенадцать огненных лингамов». Они «самовозникли» во время преследования Шивой небесной красавицы Мохини (чье обличье на самом деле принял Вишну), когда перевозбужденный Шива двенадцать раз обронил на землю семя; в этих местах сформировались общеиндийские центры паломничества с внушительными храмовыми комплексами, многочисленным жречеством и расписанным ритуалом.
Лингаяты как носители идеологии бхакти — религиозно-реформаторского течения в русле индуизма, возникшего в индийское средневековье, пересмотрели все основные постулаты шиваизма и отказались не только от антропоморфного образа Шивы, но и от сочетания лингама с июни, исторически восходящего к идее общеприродного плодородия и изобилия. Они оставили лингам единственным, не имеющим соперников атрибутом веры как концентрированную идею Верховного бога Шивы и компромисс между формой и ее отсутствием. Проповедники лингаятизма отвергли четырехварновое деление индийского общества со стержневой концепцией кармы, определяющей социальное происхождение индуса, и теорию переселения душ. Согласно их учению, религиозное освобождение (мукти) доступно каждому еще в земном существовании и достижимо через бескорыстную физическую работу (кайяк) и почитание лингама — надежного средства, чтобы уцелеть в бурном житейском море. Они критиковали формализм обрядов и, как следствие, отрицали необходимость возведения пышных храмов, отправление сложных ритуалов и посреднические услуги варны жрецов — брахманов. Они не признавали жестокую аскезу и длительные паломничества, перечеркнули идею ритуальной чистоты и скверны (Еще никто не родился через материнское ухо, — утверждали они), воспринимали женщину как полноправного члена общества и разработали тактику духовного совершенствования, состоящую из шести фаз, — шаштастхала. «Героические шиваиты» средневековья своими поступками подтверждали преданность идеалам.
Возникновение лингаятизма связывают с фигурой Басавы (1105–1167) — долгожданного сына благочестивой брахманской четы, назвавшей его одним из имен ездового животного бога Шивы: каменные изваяния мощного быка под общеиндийским именем Нанди охраняют вход во все шиваитские храмы Индии. В юношеском возрасте Басава, испытав разочарование в изощренной ритуальной практике, являвшейся основой материального благополучия брахманов-жрецов, разорвал брахманский шнур и ушел из дома. Он поселился в священном месте слияния двух южноиндийских рек — Кришны и Малапрабхи, возле храма, святыней которого был лингам Шивы, называемый «Богом сливающихся рек». Вскоре «Бог сливающихся рек» в виде аскета появился перед юным Басавой, благословил его и определил в ученики к известному гуру. Через 12 лет, в течение которых Басава изучал священные книги шиваизма и приносил цветы для украшения храмового лингама, «Бог сливающихся рек» явился ему во сне с повелением отправиться в мир, а конкретно — ко двору князя Бидджа-лы, наместника царской династии Чалукъя. Басава не был готов покинуть полюбившееся место, но на следующий день, когда он стоял возле фигуры Нанди, из раскрытого рта скульптуры по свисающему языку прямо к нему в ладонь скатился маленький лингам, и Басава ощутил себя посвященным: Необъятность твоя — как необъятность мира, /Как необъятность свода небес и даже шире его. /Корни твои— в тверди земной, глубже подземного царства, /Ввысь воспаряет корона твоя, выше Вселенной. / Огромный такой, что взор пред тобою бессилен, / Но, оказавшись в ладони моей, / Сжимаешься до полного исчезновения, став легким и незаметным, / О Бог Сливающихся рек!
Мистический опыт пробудил в Басаве поэта, и, став главным министром при Бидджале сначала в городе Мангалведе, а потом, когда Бидджала узурпировал власть законной династии, — в столице Кальяни, он сочинил тысячи вачан — белых стихов, в которых в прямой или аллегорической форме, сжатым, доходящим до афористичности языком рассказал о своей жизни и изложил основные принципы философско-религиозной и социальной концепции лингаятов. Принадлежащие ему вачаны опознаются по последней строке, в которой он называет Шиву именем, связанным с собственным мистическим переживанием. Верный провозглашенному им демократизму, Басава организовал в Кальяни дискуссионное общество «Павильон опытного постижения Шивы», в котором собрал своих сторонников — носителей новых и радикальных для того времени религиозно-духовных и социальных идей. Известность «Павильона» при весьма примитивных способах распространения идей в XII в. была столь широка, что привлекала сторонников из самых отдаленных частей Индии, — в Кальяни потянулись единомышленники из Кашмира и Гуджарата, Тамилнаду и Ориссы. Среди прочих заметную роль играли Аллама Прабху и Махадеви-акка.
Аллама, не менее долгожданный сын преданных адептов Шивы, был талантливым храмовым барабанщиком. Легенды сохранили историю его неистовой страсти к танцовщице Камалате, чья неожиданная смерть привела Алламу к отказу от прежней жизни. В глубоком горе он бродил по лесам и равнинам и наконец оказался в безлюдной рощице. Голодный и измученный жаждой, в одежде, превратившейся в отрепья, полубезумный, он сидел понурив голову и бездумно ковырял землю пальцами ног. Неожиданно из земли показался маленький золотой купол, как затвердевший сосок на груди Богини, по признанию самого Алламы. Он бросился копать землю и, разодрав в кровь руки и ноги, обнаружил подземную пещеру с закрытым входом. Аллама вышиб дверь и в темноте разглядел светящийся силуэт находящегося в глубоком трансе йога с лингамом на ладони. При появлении Алламы йог встрепенулся, переложил лингам в руку Алламы и испустил дыхание. Это стало посвящением Алламы, а упоминание в последней строчке «Бога пещеры» — его поэтической подписью: Боже, ты в горах, /в пещерах и долинах, /на пастбищах, в полях. /Куда бы ни смотрели мы, /Повсюду ты, о Боже. / Недосягаемый для мысли, непостижимый чувством. /И здесь, и там — повсюду Бог пещеры.
Красавица Махадеви-акка, дочь благочестивых шиваитов, сразила сердце князя Каушики и была выдана за него замуж. Однако она предупредила мужа, чтобы он не прикасался к ней против ее желания, и когда Каушики трижды нарушил условие, покинула его. Отрицая свое прошлое и связанные с ним обязательства, т. е. то, что традиционно составляет смысл жизни индуски, Махадеви отринула и всю одежду, пустившись в странствия нагишом. Едва прикрытая роскошными волосами, но полностью распахнутая для общения с Шивой, чьей женой она собиралась стать, Махадеви бродила в поисках родственных душ и называла всех «братьями» и «отцами», а себя «сестрой» — аккой: Ты подошел, узрев красоту / Округлой груди и молодости пышность, брат. /Брат, я не женщина! / Брат, я не шлюха! / Брат, ты все еще смотришь на меня —/Ради кого ты пришел? / Послушай, брат, вида любого мужчины, /Если он не Бог — белый, как жасмин, /Не выношу я. Поэтическая подпись Махадеви-акки — «Бог — белый, как жасмин» — свидетельствует о том, что мистический контакт между нею и богом состоялся где-то в жасминовых зарослях.
Исследователи насчитывают от 300 до 600 вачанкаров (авторов вачан), творивших между X–XVII вв., среди них фигурируют более 30 поэтесс. Хотя лидеры лингаятизма, определившие четкий абрис монотеистического учения, были выходцами из высших каст, абсолютное большинство их приверженцев принадлежало к низшим слоям индийского общества. К настоящему времени издано около 12 тыс. вачан разного объема, но обнаруживаемые рукописи приносят новые и новые шедевры из духовного наследия «героических шиваитов», в которых они рассказывают о себе и своем времени.
Продолжая провозглашать всеобщее равенство главным принципом идеального мироустройства и настаивать на прочих идеалах, сформулированных великими вачанкарами, лингаяты уже давно сошли с радикальной колеи и фактически вернулись в кастовое лоно индуизма. Во время переписи 1891 г. они неожиданно потребовали предоставления им брахманского статуса, но добились только выделения в отдельную категорию: с тех пор лингаятизм — не только религиозное направление, но и отдельная (лингаятская) каста. Внутри лингаятской общины также действует строгий иерархический критерий, по которому община подразделяется на три группы, а они, в свою очередь, делятся на три десятка эндогамных подкаст.
Штат Карнатак (до 1973 г. — Майсур), получивший административный статус в 1956 г., возник во многом благодаря решительной борьбе «героических шиваитов» за объединение каннадаязычных индийцев. В отдельных округах штата лингаяты составляют до трети населения; они являются одной из наиболее сплоченных религиознополитических группировок, успешно выдвигаются на руководящие должности в государственные учреждения, активно занимаются бизнесом и сельским хозяйством и контролируют более 80 % образовательных учреждений штата; хорошее образование можно получить и в любом из многочисленных лингаятских монастырей. В течение 15 лет (1957–1972) в результате побед на общих выборах лингаяты формировали правительство штата. На всеиндийских лингаятских съездах они выдвигают требование о признании лингаятизма самостоятельной религией. В прошлом к лингаятской общине принадлежали один из вице-президентов Индии, один из председателей партии Индийский национальный конгресс, губернаторы ряда штатов.
Ритуализм и собственное жречество занимают важное место в жизни современных лингаятов, сопровождая все этапы жизненного цикла человека. Наивысшим почетом пользуются духовные наставники — гуру и функциональные жрецы — джангамы, они же признанные хилеры и экзорсисты. Считается, что гуру направляет индивидуальную душу (дживу) на союз с Шивой, а джангам технически способствует этому: семейный гуру наделяет новорожденного персональным лингамом, а джангам проводит официальную церемонию посвящения ребенка Шиве. Падодака, вода, которой омывают ноги гуру и джангамов, используется затем для «умиротворения» дома, омовения индивидуальных лингамов и выпивается всеми присутствующими как символ всеобщего единения: Шивы — с лживой, гуру и джангамов — с рядовыми верующими и всех вместе — с лингамами — персональными и космическим.
Персональный лингам вытесывают из местной породы сланца в виде двух разделенных желобком маленьких дисков с небольшой припухлостью на верхнем. Чтобы защитить лингам на протяжении всей жизни его обладателя, сланец покрывают коркой из прогоревшего коровьего навоза и глины, замешенных на ореховом соке и растительном масле, в результате чего лингам превращается в гладкий усеченный конус черного цвета. Затем его привязывают к шнурку или кладут в серебряную коробочку и прикрепляют к поясу или носят перекинутым через плечо и левую руку. Лингам не должен спускаться ниже пупка, и его запрещено показывать тем, кто не является обладателем индивидуального лингама. Потеря лингама рассматривается как наихудшая из бед, аналогичная духовной смерти, но после ряда ритуальных процедур утраченный лингам заменяют на новый. Лингаяты не кремируют, а хоронят своих покойников в сидячем положении лицом к северу — там обитает Шива; в левую руку умершего вкладывают его персональный лингам, а на шею прикрепляют записку, заверенную гуру: «Эй, Шива, дай своему адепту место на Кайласе (мифическая гора, где обитает Шива. — И. Г.)!»
Знаменитые вачанкары прошлого уже давно приравнены к богам, и в местах, связанных с их жизнедеятельностью, сооружены внушительные храмы. Сиддхарам, соратник Басавы, Алламы Прабху и Махадеви-акки по «Павильону опытного постижения Шивы», освятил своим пребыванием город Солапур (ныне — на территории штата Махараштры), расположенный поблизости от когда-то знаменитых Мангалведы и Кальяни. Более 800 лет назад великий подвижник установил в окрестностях Солапура 68 лингамов, а однажды, когда он предавался медитации, сосредоточившись на одном из них, в него влюбилась Ганга-баи, дочь горшечника. Девушка поведала Сиддха-раму, что хочет стать его женой, и на его отказ пригрозила покончить жизнь самоубийством. Чтобы предотвратить несчастье, Сиддхарам выдал девушку замуж за свой йога-данд — магический жезл, символизирующий сдерживаемую, а потому особенно мощную духовную и сексуальную энергию своего владельца. В память об этом событии лингаяты Солапура ежегодно устраивают пятидневные торжества, во время которых носят по городу бамбуковые шесты 15-метровой длины. Мускулистые юноши удерживают тяжеленные шесты в руках, укрепляя нижний конец в чехле из плотного джута, прикрепленном к набедренному поясу. Движущиеся по городу под грохот музыкальных инструментов и вспышки салюта величественные шесты, как бы вырастающие из чресл тех, кто их поддерживает, — абстрагируйся не абстрагируйся — не могут не напомнить о главном объекте поклонения «героических шиваитов».
Под впечатлением от участия в «процессии шестов» я решила отправиться к месту впадения в Кришну Малапрабхи, к «Богу сливающихся рек», определившему судьбы Басавы и лингаятизма в целом. Но удержали знакомые лингаяты, предупредив, что несколько лет назад в результате сооружения на Кришне ирригационной дамбы просуществовавшую более 800 лет святыню затопило водой.
ДНЯНЕШВАР
В 1996 г. вся Индия и с особым усердием один из ее национально-политических регионов — штат Махараштра (столица — г. Бомбей/Мумбаи) — отметили 700-летнюю годовщину завершения земного существования великого средневекового поэта-философа Днянешвара (1271/75-1296)[17]. За несколько лет до этого Литературной академией Индии весь 1990 год был объявлен годом 700-летнего юбилея одного литературного произведения — «Бхавартхадипика» («Светоч истинной веры»). Называемый обычно метонимически ласково — «Днянешвари» (по имени его создателя), «Светоч» является комментарием к древнеиндийскому религиозно-философскому трактату «Бхагавад-гита» («Божественная песнь»), одному из наиболее авторитетных и уважаемых текстов индийской культуры.
Наверное, не будет преувеличением сказать, что в значительной степени благодаря усилиям неокришнаитов, в последние годы внедривших на российских просторах лозунг-рекламу «Бхагавад-гита как она есть», сочетание «Бхагавад-гита» перестало быть полностью чужеродным. К тому же к нашему времени «Бхагавад-гита» переведена примерно на 75 языков мира, а общее число ее различных переводов перевалило за 2 тыс., и вряд ли кто будет отрицать, что «Песнь» заняла достойное место в мировой литературной сокровищнице. Дошедшая до нас в составе знаменитого древнеиндийского эпоса «Махабхарата» «Бхагавад-гита» (стихотворный текст длиной в 700 строф-двустиший) представляет собой беседу бога Кришны с одним из главных героев эпоса — воином Арджуной. Беседа происходит в преддверии великого сражения между двумя ветвями родственников, и Арджуну терзают сомнения в нравственной правомерности надвигающегося кровопролития. Кришна, несмотря на свою божественную природу, выступает в качестве возничего боевой колесницы Арджуны и устраняет сомнения воина относительно природы долга каждого отдельного человека, объясняя ему принципы всеобщего мироустройства. Смысл непростых рассуждений Кришны, дополнительно замаскированный сформированной веками сакральностью «Песни», труднодоступен для понимания, и поэтому «Бхагавад-гита как она есть», представляемая членами Международного общества сознания Кришны, на самом деле является не такой «как она есть», а такой, как ее понимают (своеобразным доказательством специфики понимания неокришнаитов является миссионерский характер их деятельности, несвойственный индуизму). Не случайно российский индолог С. Серебряный, подводя итоги мирового опыта освоения «Бхагавад-гиты», отмечает: «…один из главных итогов… изучения «Бхагавад-гиты»… заключается, говоря кратко, в следующем: «единственно верная» интерпретация «Бхагавад-гиты» (как, впрочем, и многих других индийских и неиндийских текстов) состоит в том, что «единственно верной» интерпретации быть вообще не может… Если предположить, что у данного текста должен быть (или должен был когда-либо быть) некий «доподлинный» или «первоначальный» смысл, то, вероятно, следует пытаться определить его, исходя из сведений о времени, месте и исторических условиях создания (возникновения) данного текста. Однако в результате двухсотлетних усилий (изучения европейскими историко-филологическими методами. — И. Г.) стало вполне очевидно, что сколько-нибудь достоверно и точно определить время, место и условия возникновения «Бхагавад-гиты» (как, впрочем, и многих других древне индийских текстов) практически невозможно и, следовательно, невозможны (или слишком ненадежны) любые интерпретации, которые пытались бы опираться на подобные опоры»[18]. Именно поэтому герменевтические проблемы в связи с «Бхагавад-гитой», безусловно, стали возникать практически одновременно со становлением «Песни», происшедшим между серединой I тысячелетия до н. э. и серединой I тысячелетия н. э. А возникновение проблем сопровождалось созданием комментариев, пытающихся эти проблемы разрешить.
Каждый из комментариев оказывался окрашенным региональной и философско-религиозной принадлежностью автора и выражал его понимание сути сакрального текста, а фактически служил средством презентации собственных взглядов. Известно около 50 различных комментариев, созданных индийскими мыслителями с IX по XIX в. Наиболее ранний из дошедших комментариев принадлежит выдающемуся индийскому философу Шанкаре (VIII–IX вв.). Среди прочих великих комментаторов — Абхинавагупта (X–XI вв.), Рамануджа (XI–XII вв.) и Мадхва (XIII в.). Неужели юбилейная годовщина каждого из созданных ими комментариев становилась объектом пристального внимания почтенных членов индийской Литературной академии и отмечалась годом всенародного празднования? Неужели печальная дата, связанная с уходом из жизни каждого из них, объявлялась всеиндийским мероприятием? Нет, подобной чести удостоились только «Днянешвари» и Днянешвар. Трудно соразмерить превосходства и достоинства того или иного комментария, и вряд ли Шанкара и Аб-хинавагупта уступают Днянешвару в философской изысканности и глубине, а Рамануджа и Мадхва — в стройности и убедительности изложения. Причина кроется в другом: впервые в истории религиозно-философской мысли Индии комментарий к сакральному тексту был составлен не на санскрите — нормативном языке науки и ритуала, ставшем мертвым, вероятно, уже к началу I тысячелетия н. э. и бытовавшем среди узкой прослойки брахманов (сословия жрецов и ученых), а на живом языке — старом маратхи (в современной Индии маратхи является родным языком около 95 млн. индийцев, населяющих Махараштру).
Уже в пьесах великого индийского драматурга V в. н. э. Калидасы на санскрите изъясняются только «высокие» персонажи — цари, министры и служители культа; все же прочие действующие лица в зависимости от социально-иерархического положения прибегают к различным пракритам, буквально «неочищенным», в отличие от рафинированного санскрита, разговорным языкам. К такому же «неочищенному» языку осмелился обратиться и Днянешвар, с одной стороны, не сомневавшийся в богатстве и выразительной силе маратхи, а с другой — отказом от санскрита обеспечивший доступ простонародью к священному тексту. По своему значению это событие сопоставимо с аналогами периода европейской Реформации, а фигура брахмана Днянешвара вызывает в памяти Яна Гуса, пытавшегося использовать чешский язык вместо латыни во время богослужений, и Мартина Дютера, переведшего Библию на немецкий язык. Превышающий более чем в 10 раз по размеру (9 тыс. строф!) комментируемое произведение, «Светоч истинной веры», который сам автор определил как «поэтическую презентацию дхармы», т. е. основного закона миропорядка и мироустройства, стал прецедентом и в результате языковой доступности приобрел невероятную популярность в регионе, а следовательно, непререкаемое влияние.
Автор этого прецедента, Днянешвар, был, безусловно, необычной и незаурядной личностью, и такими же необычными (во всяком случае в дошедшей до наших дней версии) были его жизнь, уход из жизни и последовавшая за этим жизнь.
Некий брахман Виттхалпант, испытывая неприятие мирской суеты, оставил свою жену Ракхумаи и отправился в священный город Бенарес, где был посвящен в санъяси (отрешенный от жизни и семейных радостей праведник). Собственно говоря, подобный поворот событий не стал бы чем-то исключительным в индийском контексте, если бы Витгхалпант выполнил дхарму предыдущей жизненной стадии, когда он был домохозяином, и оставил потомство. Его жена Ракхумаи, тяжело переживавшая свое собственное несоблюдение дхармы (отсутствие детей), предалась жестокому истязанию и 125 тыс. раз обошла вокруг фигового дерева (Ficus religiosa), растущего в деревушке Аланди, расположенной на берегу реки Индраяни в западной части Индии, на территории современной Махараштры. Ставший невольным свидетелем ее аскезы, некий гуру благословил ее обычной формулой, подразумевающей радости материнства. Узнав же о целибате, соблюдаемом супругом Ракхумаи, он отправился в Бенарес, «расстриг» Виттхалпанта и велел ему вернуться в Аланди. Один за другим у супружеской пары родились трое сыновей — Нивругтинатх, Днянешвар, Сопандев — и дочь Мукта-баи. Все лети оказались наделенными блистательными качествами, затмевавшими блеск золотого солнца, поэтому дерево, сыгравшее определенную роль в их зачатии, стали называть «золотой» фигой. Говорят, что в Аланди и поныне растет та самая высоченная фига с огромной кроной и притягивает бесплодных женщин, которые повторяют аскезу матери Днянешвара. Идиоматическое выражение «совершать обходы вокруг фигового дерева» означает «изводить себя, чтобы добиться желаемого». Считается, что листья «золотой» фиги тяжелее обычных и тонут в воде.
Однако Витгхалпанту и Ракхумаи не суждено было испытать простое человеческое счастье. Деревенская общественность, и в первую очередь брахманы — блюстители законопорядка и морали, не приняли превращения санъяси в мирянина и подвергли супругов остракизму. Супруги построили за пределами деревни небольшую лачужку, в которой обитала вся семья. И в наши дни на том же месте стоит лачужка, конечно не та, но к ней относятся как к той самой. Непризнание общиной Виттхалпанта и Ракхумаи имело для них и их потомства самые тяжкие последствия. Никто из брахманов не соглашался совершить церемонию надевания священного шнура, т. е. посвящения в дваждырожденные (наделенные собственно жизнью и знанием) Ниврутгинатха, Днянешвара и Сопандева, а без этого они не могли стать полноправными членами брахманского сообщества. Не легче было и на бытовом уровне — семью прогоняли с мест общего омовения на реке, запрещали пользоваться брахманским колодцем. Во искупление греха Витгхалпант и Ракхумаи совершили ритуальное самоубийство — погружение в воды реки, но это не очистило их потомство от скверны. Понуждаемые брахманами, деревенские ремесленники отказывались обслуживать детей Виттхалпанта и Ракхумаи, и когда в доме не осталось глиняной утвари, Мукта-баи замесила тесто и выпекла лепешки на раскаленной силой духа спине Днянешвара. В Аланди существует храм, который так и называется — «Мукта-баи печет лепешки на спине Днянешвара», а центральным ритуальным объектом в храме является скульптурная композиция, отображающая этот процесс.
Кто-то посоветовал братьям и сестре отправиться в город Пайтхан на реке Годавари — авторитетный религиозный центр, брахманы которого были наделены правом принимать окончательные решения по спорным правовым и ритуальным вопросам. Брахманы встретили молодежь неприветливо и не преминули посмеяться над именем Днянешвара — «Бог знаний». Днянешвар попытался убедить их в том, что его «божественность» проявляется лишь в полном единении со всем сушим. Один из брахманов изо всех сил хлестнул кнутом проходившего мимо буйвола, и на спине Днянешвара вздулся след от удара. Это, однако, ни в чем не убедило жреческую элиту, и они, продолжая насмешки, предложили Днянешвару заставить буйвола продекламировать веды — древнеиндийские священные тексты. В ту же минуту буйвол открыл рот, и оттуда полилась фонетически безупречная рецитация ведийских гимнов. Духовное превосходство, а также ритуальная чистота Днянешвара и его братьев были доказаны, и пайтханские брахманы выдали им письменное свидетельство. В Пайтхане любой покажет место, где развертывались эти события. А в Аланди не так давно (в середине XX в.) появился небольшой храм под названием «Днянешвар заставляет буйвола произносить ведийские гимны». Современные же индийцы продолжают заинтересованно обсуждать вопрос, была ли после этого совершена церемония надевания священного шнура или братья с достоинством воздержались от того, что досталось такой ценой.
Веды и буйвол… Явная несовместимость членов этой оппозиции стала как бы прелюдией к последующему эпатажу — «Бхагавад-гита» и живой язык. На обратном пути братья и сестра остановились отдохнуть в старом храме в местечке Невасе. Днянешвар прислонился спиной к храмовой колонне и на богатейшем маратхи с упоительными тропами и тончайшей звуковой ритмикой продиктовал «Светоч истинной веры», ставший известным как «Днянешвари». Не отрицая пути кармы (деяний) и джняны/дняны[19](знаний), Днянешвар сделал упор на бхакти (сопричастности) как способе постижения Всевышнего. Сопричастность, т. е. личные и непосредственные отношения между верующим и богом, была куда как невыгодна брахманской прослойке, посредничеством между людьми и богом обеспечивавшей свое благосостояние. Точно неизвестно, как реагировали на комментарий ученые брахманы, но среди народа мгновенно разнеслась слава о Днянешваре, и у него появилось много почитателей и последователей из самых разных каст. Именно из поэтического наследия наиболее одаренных из них и стали известны факты и вымыслы из жизни Днянеш-вара. История «Днянешвари» представляет собой тот редчайший случай, когда оказываются зафиксированы время, место и условия создания произведения. Старого храма давно нет, но на том же месте возведен «храм колонны», в котором убежденно поклоняются колонне, еще хранящей, кажется, тепло спины юного поэта и философа (было ему тогда, по одним представлениям, 19 лет, по другим — 15).
Днянешвар и «Днянешвари» уникальны еще в одном, уже совсем особом аспекте. И автор, и его комментарий демонстрируют собой сплав двух основных направлений в индуизме — вишнуизма и шиваизма. Сам Днянешвар — урожденный шиваит, получивший инициацию от старшего брата Нивруттинатха, принадлежавшего к шиваитской секте нагхов — почитателей Адинатха, т. е. Шивы. Для комментирования же Днянешвар выбрал «Бхагавад-гиту» — откровения Вишну в его аватаре Кришны. «Днянешвари», в свою очередь, содержит упоминания обоих богов — и Хари (Вишну), и Хары (Шивы) — и не усматривает принципиальной разницы, кому из них поклоняться. В том, что, в отличие от некоторых других частей Индии, на протяжении всей истории последнего тысячелетия Махараштра благополучно избегала противостояния вишнуитов и шиваитов, нельзя не увидеть прямого воздействия «Днянешвари».
Кажется, в том же Невасе Днянешвар создает еще один трактат. «Анубхавамруга» («Нектар познания») — небольшой по размеру и апеллирующий не к массам, но к умудренным философскими знаниями мужам — является оригинальным произведением, содержащим размышления о единстве индивидуальной души и Верховной, а также опровержение доктрины майя — иллюзорного восприятия.
К моменту возвращения Днянешвара с братьями и сестрой в Аланди о нем стало известно великому йогу Чангдеву, силой йоги-ческих совершенств продлившего свою жизнь на 14 столетий. Йог, преисполненный недоверия к Днянешвару, решил высказаться в послании, но, не зная, как следует обращаться к юнцу, отправил чистый лист. На том же самом листе Днянешвар моментально начертал знаменитое «Чангдев-пасашти» («Шестьдесят пять строф, [обращенные к] Чангдеву»), где кратко изложил основные принципы своей теории спхуртивады — мироустройства как спонтанного проявления божественной сущности. Разгневанный поучениями йог верхом на тигре отправился проучить мальчишку. Днянешвар в это время вместе с братьями и сестрой сидел на деревенской стене и, узнав о приближении йога, двинул стену ему навстречу. Ошеломленный Чангдев признал, что его физические, психические и духовные возможности значительно уступают таковым, заложенным в Днянешваре, и стал его верным последователем. А в центре Аланди стоит макет той самой стены с четырьмя восседающими на ней фигурами как один из объектов ритуального поклонения Днянешвару. Любой житель покажет место, где находилась оригинальная стена, естественно давно разрушенная временем, и какой путь она проделала. За свою короткую жизнь Днянешвар успел совершить немало чудес, и каждое из них локализовано в определенной пространственной точке.
Через некоторое время Днянешвар посчитал, что выполнил свое земное предназначение, и принял решение «взять самадхи» (буквальный перевод с маратхи), т. е. в обиходном смысле умереть, а в философском — волевым усилием направить индивидуальную душу на слияние с Верховной. Словом самадхи называют и то место, где это происходит. Несмотря на уговоры семьи и последователей, Днянешвар приготовил небольшую пещеру под землей, вошел в нее и велел завалить проход валуном. Произошло это 700 с небольшим лет тому назад — в 1296 г.
Теперь над самадхи Днянешвара возвышается храмовой комплекс, а четырехступенчатая плита черного цвета в алтарном помещении, доступная обозрению, отмечает потолочную часть пещеры. В дневное время плиту драпируют богатыми тканями, украшают цветами и венчают серебряной маской, изображающей Днянешвара. В нескольких метрах от алтаря сохраняется лаз, по которому Днянешвар спустился в пещеру. С внешней стороны алтаря находится дерево адзан (Terminalia alata glabra), выросшее из посоха, воткнутого Днянешваром в землю перед уходом в самадхи. Под его развесистой кроной всегда сидят несколько человек, поглощенных чтением «Днянешвари». Считается, что съеденный лист дерева вкупе с чтением комментария дарует абсолютное знание. Много читающих и в самом храме — возможно, это единственный храм в мире, куда приходят не только молиться, но и читать. Среди маратхов немало и таких, кто знает весь «Днянешвари» наизусть — в некоторых семьях его заучивают чуть ли не с младенчества многотрудным ежедневным повторением отдельных фрагментов. Распространена и практика переписывания «Днянешвари» — налагая на себя аскезу или следуя духовному порыву, изо дня в день трудятся давшие обет, переделывая заново любую страницу, где допущена хотя бы одна помарка. Полностью переписанный текст преподносят в дар какому-нибудь храму, связанному с традицией Днянешвара и его последователей. В Аланди таких списков тысячи и тысячи.
Вскоре после того, как Днянешвар «взял самадхи», в Махараштре наступили смутные времена — начались сменяющие друг друга вторжения иноверцев-мусульман. Вероятно, память о Днянешваре теплилась в людских сердцах, но последующие два столетия не оставили практически никаких свидетельств. И только в середине XVI в. проживавшему в том самом Пайтхане великому философу и проповеднику брахману Экнатху явился во сне Днянешвар и сообщил, что задыхается. Экнатх отправился в Аланди, где с большим трудом обнаружил забытую и заброшенную самадхи Днянешвара. Проникнув внутрь, Экнатх увидел, что разросшиеся корни дерева адзан обвили горло Днянешвара. Он не только освободил своего гениального предшественника от цепких корней, но и обнаружил возле него экземпляр рукописи «Днянешвари». Об этом становится известно из произведений самого Экнатха, а найденная им копия послужила основанием для очищения бытовавших версий «Днянешвари» от позднейших наслоений: в современной терминологии Экнатх выступил в роли редактора критического издания. Кроме того, Экнатх сообщил, что увиденный им Днянешвар — живой, т. е. пребывает в состоянии «живой самадхи», продолжая усилием воли направлять свою индивидуальную душу на слияние с Верховной. Никто из верующих, уже давно воспринимающих Днянешвара как земную инкарнацию бога Вишну, не сомневается в том, что Днянешвар жив. Все предложения ученых о проведении раскопок наталкиваются на яростный протест храмового комитета, заправляющего всеми делами в комплексе, да и самих верующих.
Более невероятным, чем помощь Экнатха задыхавшемуся Днянеш-вару или его же свидетельство о «живом состоянии» автора комментария, представляется то, что примерно тогда же (в середине XVI в.) была предпринята первая попытка перевода «Днянешвари» на… португальский язык! Португальцы к тому времени уже обосновались в Западной Индии (Гоа), начали торить дорогу к индусским текстам, и местный прозелит Мануэль д’Оливейра осуществил перевод на португальский нескольких отрывков великого произведения.
Каждый год в конце июня — начале июля Днянешвар в виде падун (отлитых из серебра оттисков следов) отправляется в многодневное путешествие в город Пандхарпур, где находится главный храм Виттхала — одного из самых популярных богов Махараштры. При церемонии торжественного выноса падун макушка храма начинает раскачиваться — так Днянешвар дает согласие на паломничество. Момент некоего покачивания или просто утраты контуров в знойном мареве был зафиксирован с помощью видеокамеры немецким индологом Гюнтером Зонтхаймером, но, когда мне однажды посчастливилось оказаться в Махараштре в то жарко-изнурительное время, в разгар церемонии вдруг хлынул сильнейший ливень. Как бы пристально я и мои спутники ни всматривались, никаких колебательных движений ни мною, ни нехотя признавшими это моими друзьями замечено не было.
Основные торжества, связанные с 700-летней годовщиной самадхи, конечно же, были проведены в Аланди с невероятным размахом: кроме рядовых верующих на разнообразных ритуальных мероприятиях присутствовали высокие гости со всей Индии, а кружившие над храмом вертолеты осыпали его цветочным дождем. Там же в 1996 г. прошел и очередной съезд писателей маратхи. Впрочем, независимо от юбилейных дат Днянешвар и его комментарий к «Бхагавад-гите» давно стали национальным символом маратхиязычного региона Индии, потеснив с пьедестала почета сам оригинал. Региональные радиостанции ежедневно транслируют программы, передающие отрывки из «Днянешвари» и комментирующие уже каждую строчку самого комментария. Научные дискуссии, связанные с обсуждением тех или иных эпизодов из легендарной жизни Днянешвара либо с пониманием того или иного пассажа из «Днянешвари», публикуются не только в академических изданиях, но и на страницах массовых газет и журналов (у нас, на моей памяти, в последний раз историко-литературоведческая дискуссия такого характера выплеснулась за пределы академических кулуаров в 1970-х годах, когда происходило отторжение книги Олжаса Сулейменова «Аз и я», предлагавшей новое прочтение «Слова о полку Игореве»).
Вообще же герменевтические проблемы, связанные уже не с «Бхагавад-гитой», а с «Днянешвари», совершенно естественно и без всякого дополнительного повода обсуждаются на махараштранских кухнях, в переполненных автобусах или в ожидании электричек. Особенно жаркие дебаты разгораются относительно того, можно ли в таком юном возрасте создать столь блистательный философский и поэтический шедевр, и недоверчивые (или не проникнутые чувством бхавы — истовой веры) предлагают другие даты жизни Днянешвара, основанные на иных — астрономических и астрологических подсчетах. Некоторые утверждают, что на самом деле Днянешваров было два, а может быть, и больше, но и это обычный при обсуждении харизматических деятелей бхакти сюжет. Вновь и вновь разгораются споры по поводу нюансов переводов «Днянешвари» на английский язык, спонсированного ЮНЕСКО нового издания комментария и перспективы более точных и изящных переложений на современный маратхи и европейские языки. «Днянешвари» давно доступен на сакральном санскрите и региональных языках современной Индии; перевода на русский язык не существует. А в Махараштре продолжают нарекать младенцев архаически звучащим именем Днянешвар.
ТУКАРАМ
Как-то мне позвонили знакомые — из любителей на досуге разгадывать кроссворды — и попросили подсказки: «Средневековый индийский поэт?» Я перебирала имена, спрашивала, какие буквы имеются в наличии, и… сдалась. Получив следующий номер с ответами, знакомые перезвонили и небрежно процедили: «Это был Тукарам». Сначала я ломала голову — кроме меня, специально этим занимающейся, и двух-трех моих коллег, откуда кто-нибудь еще (в данном случае — составитель кроссворда) знает Тукарама[20]? Убежденная в его полной у нас безвестности, я и не отозвалась его именем на вопрос. В конце концов в «Советском энциклопедическом словаре» (80 тыс. слов) я обнаружила: «ТУКАРАМ (1608-49), инд. поэт. Писал на маратхи. Автор коротких лирич. стихов, в к-рых отразились жизнь народа, его сопротивление феод, эксплуатации. Выступал против кастового неравенства». Хотя почти все сообщенное — искажение, источник вдохновения прояснился, а имя — что ж, весьма удобное по буквенному составу, да и сам Тукарам, человек сверхэмоциональный, как-то сказал про себя: «Тука — размером с небо!» — а небо у нас на всех одно.
Когда-то я перевела несколько гимнов Тукарама, а потом их зарифмовал один поэт, и получившийся кошмар был опубликован в томе «Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама и Японии», вышедшем в 1977 г. За Тукарама стало больно и обидно. Конечно, сочетание академических знаний (или по крайней мере знания языка оригинала) и поэтического дарования в одном лице если и не часто (теперь, а раньше, похоже, было нормой), но встречается, вспомним хотя бы не столь удаленные во времени имена замечательных переводчиков Шекспира — Бориса Пастернака или Михаила Лозинского, но поскольку я занята только научным аспектом, то решила больше Тукарама никому не отдавать[21]. И держала при себе, пока составители кроссвордов не разбередили душу.
Может быть, судьбы многих великих поэтов средневековья схожи между собой, и мало кто из них с рождения угадывает в себе поэтический дар. Во всяком случае, к Тукараму полностью приложимы слова Льва Гинзбурга (создателя восхитительного перевода «Рейнеке-лиса»), сказанные о немецком современнике Тукарама: «Первые искры поэзии Грифиуса возникли среди праха, среди ночи отчаяния… Если окинуть взглядом жизнь Грифиуса, можно бы сказать, что скорбь питает поэта. Смерть, болезни, война, скитания — все, что другого бы опустошило, разрушило, послужило для Грифиуса как бы стимулом к творчеству». И дальше: «…страшные удары судьбы, страшные утраты, горе молотит, молотом обрушиваются удары — один за з другим — на его голову…»[22].
Именно так обстояло дело и с Тукарамом. Он родился, возможно, в 1608 г., и вполне определенно— в семье шудр (представителей низшей в социальной иерархии индуизма варны), занятой мелкой бакалейной торговлей и, по случаю, ростовщичеством. Семейной профессией предстояло овладеть и Тукараму. Во всяком случае, уже с 13 лет именно он заправлял всеми делами, поскольку отец чувствовал приближение старости, а старший брат с малолетства смотрел на жизнь отрешенно и безучастно. Тукарама женили, и у него родился сын, а через некоторое время ему привели вторую жену, поскольку у первой была астма и она не поспевала по хозяйству. Кажется, жизнь шла своим чередом, но скоропостижно один за другим умерли родители, и началась эпоха великого недорода —1628, 1629, 1630 годы. От голода умерла жена старшего брата, и тот покинул дом; умерла первая жена Тукарама и его сын; сам Тукарам разорился… Может быть, он бы и попытался снова встать на ноги — в житейском смысле, но измученный взор его обратился к храму родового божества Виттхала — время не пошалило и святилище. Собрав последние крохи, которые остались, и даже взяв что-то взаймы, Тукарам все эти средства потратил на восстановление храма. А потом пошли сны. Сначала явился некто Баба Чайтанья (до сих пор ученые пытаются установить степень реальности этой личности) и сообщил самое важное в жизни того, кто посвящает себя богу, — индивидуальную мантру. Через некоторое время привиделся Намдев — бывший портняжка, отдавший всего себя поклонению Виттхалу и ставший одним из самых мощных проповедников бхакти — мистической традиции индуизма. Индийские мистики отвергают посредничество жрецов и устанавливают прямой контакт с излюбленным богом, который для них — не один из множества, а единственный, Верховный бог — Парамешвар, Верховная душа — Парамартха. Намдев обратился с просьбой завершить то, что не успел он сам, т. е. создать еще 10 миллионов гимнов во славу Витгхала — темнокожего коренастого божества, главное скульптурное изображение которого находится в священном городе Пандхарпуре. А потом приснился сам Виттхал, убедивший сомневающегося Тукарама, что тот — «поэт милостью Божьей». Пробудившийся Тукарам — к собственному изумлению и досаде окружающих — заговорил стихами: Ты ласковей, чем мать, прохладней, чем луна, / Ты жиже, чем вода, Ты всплеск любви. / Ну с чем еще сравнить? И для чего сравненья?/ Пронзило Твое Имя мою земную жизнь. /Нектар придумал Ты, но слаще Ты его. / Все элементы создал, Ты властелин всего. /Довольно говорить, к ногам Твоим склоняюсь. /Владыка Пандхарпура, прости грехи мои.
Вообще, передать средствами русского языка тот звукоряд, который до сих пор приводит в религиозное или эстетическое неистовство современных индийцев, практически невозможно. В гимнах Тукарама совпадают только последние слоги строк (типа «палка — белка»), что для русского уха рифмой не является, а ритм задается равномерным чередованием одинакового количества «легких» и «тяжелых» слогов и музыкальным сопровождением, насыщенность которого легко преодолевает земное притяжение и приводит и исполнителей, и слушателей к постижению мистического опыта. Сам Тукарам аккомпанировал себе на вине (струнном щипковом инструменте), а поклонники его неожиданно проявившегося таланта подыгрывали на маленьких тарелочках и трещотках.
Тукарам отстранился от жизни, но его беды и страдания не кончились. Против него ополчились и внешние и внутренние силы. Брахманов, наследственных жрецов и знатоков священных текстов, приводило в ярость то, что шудра осмелился выйти на прямой контакт с богом и говорить с ним на равных. При этом неистовый Тукарам не ограничивался только ласковыми эпитетами в адрес Виттхала, и если бог долго «не являлся», то обрушивал на него град язвительных попреков и прямых оскорблений (известный общественный деятель времен индийского национально-освободительного движения Виноба Бхаве назвал три фигуры, в ругательствах которых он обнаружил «сладостную доброту», — Христа, Тукарама и Льва Толстого). В не меньшую ярость впала и жена Тукарама — Джидза-баи, местная Ксантиппа: нецензурщина в адрес мужа, переложившего все мирские заботы на ее плечи, зафиксирована самим Тукарамом в его стихах — диалогах с женой. Он ей о вечном, а она — что в доме как шаром покати, он ей о том, что Виттхал позаботится, а она — ненавижу и тебя, и его. Один раз Джидза-баи совсем уж потеряла голову и вызвалась вместо Тукарама «покормить» скульптурное изображение бога. Вскипятив молоко, она опрометью бросилась в храм и, приложив раскаленную плошку к устам бога, резко накренила ее. Ошпаренный бог дернул головой, и неестественный изворот божественной шеи до сих пор демонстрируют посетителям храма в Деху. Кстати, к этому же способу выражения негодования прибегали и жены тех мужей, которые подпали под очарование музы Тукарама и просиживали, внимая его гимнам, на ступеньках храма Виттхала. А Тукарам терпел и философствовал о превратностях жизни: Когда — таскаешь воду, когда — возлежишь в покое, /Как выпадает на долю, так себя и ведешь. /Когда — различные яства, когда — сухая лепешка, /Когда — сидишь на повозке, когда — идешь босиком. /Когда — в роскошных одеждах, когда — в потертых лохмотьях. /Когда — в доме полный достаток, когда — приходит беда. /Когда — посреди достойных, когда — посреди никчемных. /Знай, говорит Тука, счастье и горе — одно.
Голос Тукарама заворожил и христианских миссионеров, к XVII в. проникших в Индию в достаточном количестве: свои проповеди об учении Христа они излагали на маратхи в ритмике Тукарама и с использованием его экспрессивных метафор. Кстати, Тукарам, призывая своих соплеменников отрешиться от сиюминутного, вовсю «торговал» богом, используя привычную для него лексику лавочника: Купите, купите бога! / Вот разложил на прилавке, /Цена совсем небольшая, /А выглядит — хорошо. Эпизод из жизни-легенды Тукарама, когда, понуждаемый брахманами, он выбросил все свои творения в реку, а через несколько дней они всплыли в целости и сохранности, наш современник прославленный индийский поэт Дилип Читре приравнивает по значению к чуду воскрешения Христа.
Мое сближение Тукарама с Грифиусом верно в рамках хронологии и их похожей реакции на обрушивавшиеся на них несчастья, стимулировавшие выплески их поэтической одаренности. В остальном же они совершенно несопоставимы: перу Грифиуса были подвластны все эпохи и народы — от «Екатерины Грузинской» и «Дьва Армянина» до «Эмилия Павла Папиниана» и «Карденио и Целинды», диапазон же Тукарама ограничивался скученными домишками деревеньки Деху, местным храмом Виттхала и вожделенным храмом Виттхала, расположенным на расстоянии 200 км в священном Пандхарпуре, — мы даже не знаем наверняка, удалось ли ему хоть раз побывать там. Он не сопротивлялся феодальной эксплуатации и был замкнут на своих отношениях с богом, который был для него — все эпохи и все народы и при этом — каждый человек в отдельности. Именно поэтому его мистические озарения наполнены правдой о природе человека, а это уже задевает всех. Точно неизвестно, как завершилась его жизнь, — привычно верят, что за ним была прислана небесная колесница и вознесла его, продолжавшего распевать гимны, в небесную обитель Виттхала, а внизу стояла беременная Джидза-баи и посылала ему вслед последние проклятия.
Для индуизма в обретении человеком божественного статуса нет ничего удивительного, поскольку граница между миром богов и миром людей в нем весьма условна. Канонизация святых, их деификация происходят спонтанно и не требуют официальных решений верховного церковного органа, которого в индуизме и не существует. Кто-то возложит гирлянду на памятное место, исполнит гимн, придет еще раз — и вот конкретная точка на локусе сакрализуется и вырастает храм, а в храме — жрецы, которые прикладывают к данной конкретности вариант общеиндийской ритуальной модели, и какой-нибудь правитель остановит свой царственный взор на святыне и отпишет ей дарение — деревню с правом сбора налога, и храм начнет обустраиваться: стены выложат серебряной чеканкой, пристроят два или три помещения, вымостят мраморными плитами храмовой двор, и расцветший храм привлечет еще больше верующих, и власти снова обратят на него внимание и в конце концов создадут попечительский совет храма. Почти так произошло и в случае с Тукарамом, почти, но не совсем, потому что обращенный к богу, и только к богу, Тукарам был еще… и отцом шестерых детей, последний из которых родился уже после исчезновения Тукарама из Деху. А у этих детей появились свои дети, и сейчас этих потомков насчитывается никак не меньше трех-четырех тысяч: совсем недавно ушел из жизни один из патриархов этого разветвленного семейства — представитель седьмого со времени Тукарама поколения, и уже появилось на свет двенадцатое поколение. Они бесконечно преданы памяти своего великого предка, в его храм стекаются сотни тысяч паломников, а Деху претендует и на статус религиозной святыни, и на статус местного «Стратфорда-на-Эйвоне».
«Прабхат филм компани», знаменитая киностудия, стоявшая у истоков современной мошной индийской киноиндустрии, в середине 1930-х годов сняла фильм «Сант (святой. — И. Г.) Тукарам», завоевавший высокую награду на Венецианском кинофестивале. Фильм в прокате уже более семидесяти лет, записан-перезаписан на видеокассеты и разошелся по миру: он по-прежнему оказывает какое-то магнетическое воздействие на аудиторию, даже духовно и культурно не привязанную к Индии. Группа научных сотрудников из индийского Института кинематографии и телевидения проводит сейчас серьезное исследование, пытаясь определить слагаемые этой феноменальной популярности, казалось бы, кинематографически устарелого творения. Роль Тукарама сыграл известный актер Вишнупант Пагнис. По завершении съемок он не смог выйти из образа и умер в сумасшедшем доме, продолжая воображать себя Тукарамом. А поскольку портрета бедного лавочника из деревушки Леху, естественно, не сохранилось, а вернее, и не существовало, то уже давно ставшие привычными и обычными изображения Тукарама — не что иное, как воспроизведение физиогномических черт Пагниса.
Может быть, сказанное выше прольет немного света на неодолимую тягу составителей кроссвордов к Тукараму, не вполне осознан но, но очень мистически оказавшихся втянутыми в его магическое поле.
ИНДИЙСКОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Путешествие индивидуальной души к Абсолюту
«Паломничество для индийцев не обязательно, но только добровольно и Достойно похвалы. Оно состоит в том, что паломник отправляется в какую-нибудь чистую местность, к какому-нибудь почитаемому идолу или к одной из священных рек. Там он совершает омовение, поклоняется идолу, принося ему дары, произносит перед ним обильные славословия и читает молитвы, постится и раздает милостыню брахманам, жрецам и прочим, бреет волосы на голове и бороду и возвращается домой»[23] — так писал, основываясь на собственном опыте, в «Книге, содержащей разъяснения принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом или отвергаемых» аль-Бируни, посетивший Индию в начале XI в.
И за десять веков до Бируни, и через десять веков после Бируни паломничество остается одной из самых ярких примет социальнокультурного ландшафта Индии. В любом индийце на генетическом уровне заложено понимание того, что для достижения главной жизненной цели индуса — мокши, т. е. освобождения от цепочки перерождений и слияния с Верховной душой (Абсолютом), следует приложить множество усилий и совершить определенные поступки: предаться аскезе и воздержанию или принести жертвоприношения и заняться благотворительной деятельностью. Перечисленное требует огромных духовных и материальных затрат, а потому под силу очень небольшому количеству верующих. Для основной же массы индусов самым действенным способом приобретения заслуг, дающих надежду на конечное освобождение, является паломничество — выраженное в километрах (милях, косах, йоджанах и т. д.) движение к Богу. Хотя для большинства индусов путешествие к земным местам божественной манифестации не является канонической обязанностью, как, например, для мусульман паломничество в Мекку (хаджж), они фактически чаше представителей других религий отправляются в религиозные странствия — краткие и длительные, совершаемые из года в год в одно и то же место или в разные. Точное количество индусов, ежегодно устремляющихся к вожделенным святыням, никто подсчитать не в состоянии, но называют цифры от 30 до 80 млн. (при общем населении, превысившем 1 млрд.).
Индийская религиозность в значительной степени пребывает в «локативном падеже», и вектор паломничества всегда нацелен на ярко выраженные ориентиры ландшафта — горы, леса, границы между окультуренным и необжитым пространством и т. д. Однако классическое (настоящее, полноценное) индусское паломничество чаще бывает связано с водой — реками и морями и находящимися на них тиртхами — местами, характеризующимися наибольшей концентрацией сакральной энергии, т. е. смешением земного и небесного. Этимологически слово тиртха восходит к идее «брода», пересечения реки в доступном месте, и свою жизнь индус клиширование воспринимает как бешено несущийся водный поток, через который предстоит перебраться на другой — безопасный и осененный присутствием Всевышнего берег. Слово тиртха подразумевает и святую воду, обладающую уникальной очистительной способностью; человек, прошедший очищение в тиртхе, тоже становится тиртхой и источником очищения для других. Безусловно, нынешние центры паломничества, расположенные вдоль речных и морских берегов, приобрели сакральный статус прежде всего в качестве мест омовения, так необходимого в жарком индийском климате. Уже позднее в эти места «пришли боги», для которых выстроили храмы, и слово тиртха стало означать весь священный комплекс, паломничество к которому получило название тиртха-ятра.
Таким образом, «чистая местность», «почитаемый идол» и «священная река» из наблюдений аль-Бируни в индийском контексте чаше собраны в одно целое; если же возле храма отсутствует водный источник, то создают искусственный, а если этому препятствует рельеф, то специальные водоносы осуществляют ритуальную доставку речной воды в храм. Путешествие к тиртхам в сегодняшней Индии являет собой демонстрацию массового благочестия в его наиболее концентрированном виде и характеризует «практический», а не «декларативный» («текстовой»), индуизм.
Мотивация тиртха-ятр в большой степени создается нематериальными устремлениями — надеждой на очищение от грехов или на приобретение духовных заслуг, ведущих к более высокому статусу в последующем рождении и в конечном счете к освобождению. Многие считают это моральным долгом — дхармой или испытывают потребность переживания религиозного катарсиса и устремляются к святыням абсолютно бескорыстно. Ятра может быть стимулирована и религиозным любопытством, желанием охватить весь широчайший (во всех географических направлениях) спектр материализовавшейся сакральности — от Кедарнатха и Бадринатха в Гималаях до Сомнат-ха на берегу Аравийского моря, Пури на берегу Бенгальского залива и Рамешварама или Канья Кумари на берегу Индийского океана. В отличие от санскритского слова ятра, его модифицированный в современных индоарийских языках вариант джатра все чаще начинает обозначать паломничество, направленное на заключение с божеством сделки по принципу «ты — мне, я — тебе». Искомым обычно является то, в чем паломник испытывает нужду: обретение потомства, заключение удачного брака, получение работы или продвижение по службе, исцеление от недуга и т. д. Если просьба услышана, то бог получает обещанное «вознаграждение» за свое участие в мирских делах. Ятры обычно совершаются к богам классического пантеона — Вишну или Шиве в их многообразных ипостасях, в то время как джатры характерны для индуизма простонародья и направлены на умилостивление местных богов и даже существ демонической природы. Джатрам обычно сопутствуют ярмарки, на которых продается домашний скот и сельскохозяйственная продукция, что свидетельствует о самостоятельном генезисе этой разновидности паломничеств в связи с развитием товарооборота между кочевыми племенами и оседлым населением далекого прошлого. Впрочем, противоположные по существу мотивировки всего лишь очерчивают параметры, в которых они могут пересекаться (как пересекаются ятра и джатра) и дополнять друг друга: так, более высокий статус предполагает и более высокую степень материального благополучия; благое любопытство, утоленное лицезрением святынь, все равно ведет к накоплению добродетелей, а достижение материального успеха обеспечивает необходимую экономическую свободу для попыток духовного совершенствования.
Приверженные классификаторским взглядам на мир и законченным геометрическим формам, индусы предпочитают отправляться в паломничество по типологически замкнутой, обладающей цифровой значимостью схеме и посещать, например, двенадцать «огненных лингамов» (фаллических символов) Шивы, разбросанных по всей Индии, восемь храмов слоноголового Ганеши, сконцентрированных в одном округе, или шесть центров бога Муругана, расположенных на территории одного штата (Тамилнаду). Индусы сакрализуют также круговое движение (по часовой стрелке, т. е. повернувшись правой — ритуально чистой — стороной к святыне) и совершают многокилометровые обходы-прадакшины, посещая множество важных точек на окружности, как, например, места юношеских забав любвеобильного бога Кришны на берегах Ямуны во Вриндаване или все тиртхи Каши (Бенарес), расположенного на Ганге. Последний обладает не только статусом самого священного города Индии, но, с точки зрения индусов, является Космополисом — городом, который олицетворяет весь мир; образцовый индус мечтает умереть именно здесь, возле «брода» к космическому существованию. Одна из самых грандиозных — прадакшина вокруг священной Ганги. Она начинается от истоков Ганги в Гималаях, проходит вдоль одного берега с последующим перемещением через устье на другой берег (возле Калькутты) и заканчивается в исходной точке. Сакральная мощь Ганги, в мифологические времена сошедшей с небес на землю, столь велика, что уже одно ее лицезрение освобождает от всех прошлых и будущих грехов. Другой впечатляющий круговой маршрут включает Бадринатх (обитель четырехрукого Вишну-Нараяны) в труднодоступном районе Гималаев; Пури (храм бога Джаганнатха, воплощения Вишну) на восточном побережье; Рамешварам (лингам Шивы, установленный Рамой, героем эпической поэмы «Рамаяна» и аватарой Вишну, перед его отбытием на остров Ланку для сражения с демоном Раваной) на крайнем юге и Дварку (столица государства, где царствовал Кришна) на восточном побережье. Еще один из излюбленных «челночных» маршрутов, обогащенных материальной символикой, подразумевает обмен дарами между тиртхами: зачерпнутая в Ганге вода выливается на лингам в Рамешвараме, после чего песок с берега Рамешварама доставляется в русло Ганги.
Многообразие и разнообразие индусских центров паломничества объясняется в первую очередь многообразием и разнообразием слоев и компонентов, формирующих не закрепленный единой церковной организацией индуизм, а также свободно сосуществующими различными направлениями и течениями внутри неоднородного пространства коренной религии Индостанского полуострова. Наряду с вишнуитскими, шиваитскими и шактистскими (т. е. связанными с поклонением миротворяшей женской энергии) святынями общеиндийского значения (Айодхъя, Матхура, Дварка, Каши, Рамешварам, Удджайн и др.) существуют центры супрарегионального, регионального, субрегионального и локального притяжения. Посещением первых на протяжении веков осуществлялась интеграция населения Индостанского субконтинента и формировалось чувство конфессионального единения и общности всех индусов, вне зависимости от национальной, языковой или территориальной принадлежности; перенос воды и почвы обеспечивал органическую основу единения; этот семиологический аспект паломничеств был особенно значим в эпоху, предшествовавшую «печатному капитализму». Путешествия к центрам супрарегионального, регионального, субрегионального и локального значения в рамках единого целого выделяли (и выделяют) людские коллективы, объединяемые принадлежностью к определенным социальным группам или чувством «малой родины».
В идеале в паломничество нужно отправляться пешком и босиком; воспользовавшийся каким-либо транспортным средством лишится половины заслуг, а надевший обувь и укрывшийся от солнца или дождя зонтиком уменьшит оставшуюся часть; отвлекающийся в дороге на посторонние дела расстанется с тремя четвертями заслуг, на которые он мог бы рассчитывать, а принявший что-либо в дар не приобретет ничего. Однако если человек стар или немощен, то не возбраняется устроить паломничество более удобным для него образом, а искусно владеющая своими чувствами личность может совершить паломничество, приносящее не меньше заслуг, не выходя из дома — посредством особой концентрации мыслительной энергии. Главным считается наличие бхавы — чувства безоглядной и даже неистовой веры в бога. Именно бхавой, как утверждают некоторые (но не все) священные тексты, паломники отличаются, например, от рыб, обитающих в священной Ганге, или птиц, порхающих вокруг верхушки храма, — лишенные бхавы, рыбы и птицы не приобретают никаких заслуг.
Вообще, традиционное паломничество должно быть сопряжено с трудностями и лишениями в процессе движения: только их преодолением верующий способен по-настоящему подготовиться к встрече со святыней; только так создается правдоподобная имитация сближения индивидуальной души с Абсолютом. Индийские паломники, отправляющиеся, например, к богу Айяппе (сын от союза Шивы с Вишну в образе небесной девы Мохини) в его приют на горе Шабари (штат Керала), не только в абсолютном молчании карабкаются босиком по поросшему лесом склону (общая длина маршрута — 61 км) с кокосовым орехом, наполненным простоквашей, на голове, но и, высвобождая духовные силы, предаются умерщвлению плоти в течение 41 дня, предшествующего путешествию, — ни секса, ни мяса, ни алкогольных напитков; воздержание сопровождается чтением религиозных текстов и молитвами. В течение месяца в городе Рамнагаре (штат Уттар Прадеш) на открытом воздухе разыгрывается во всех деталях жизненная эпопея Рамы (рам-лила); присутствующие на ней зрители называют себя паломниками, аргументируя эту дефиницию не только тем, что они прибыли из других мест, но и повышенным содержанием сакральности в общей атмосфере — актеры, воссоздающие жизнеописание Рамы, его брата Лакшманы и жены Ситы, признаются «живыми» богами.
До 45 дней продолжается движение паломников из разных частей Махараштры к священному городу Пандхарпуру, где их подбоченившись поджидает бог Виттхал (Витхоба), местная ипостась Кришны[24]. Паломники несут с собой паланкины, в которых лежат падуки — отлитые из серебра оттиски воображаемых стоп великих средневековых поэтов-проповедников (например, Днянешвара и Тукарама), воспевших красоту и милосердие Витхобы; их непрерывное творчество (с XIII по XVII в.) способствовало формированию языка маратхи и послужило основой для консолидации маратхского этноса. Движение к Пандхарпуру осложнено непрерывно сменяющими друг друга ритуалами и церемониями приветствий паломников жителями и властями всех встречных населенных пунктов; в определенные моменты к паломничеству подключаются губернатор и главный министр штата, лидеры ведущих политических организаций и общественные деятели. События каждого дня перехода отражаются в массмедиа, а ежегодно обрастающее нововведениями мероприятие уже называют не только ятрой, но и «празднеством паланкинов». Интересно, что многие из достигших наконец Пандхарпура довольствуются лицезрением макушки храма Витхобы и, не встречаясь с самим богом, удовлетворенные, возвращаются домой.
А в это время по параллельному шоссе мчит комфортабельный автобус с удобно устроившимися пассажирами и за три (пять, десять, двадцать) дня охватывает максимальное количество традиционных мест паломничества; оплатившие тур рассчитывают на «комплексное» приобретение заслуг, их всюду ждут пища и ночлег. Совершенно очевидно, что все эти явления не похожи друг на друга, хотя их участники, несомненно, переживают определенные религиозные эмоции и гордо называют себя паломниками (многие исследователи считают фактор самооценки решающим).
Прижившееся в русском языке слово «паломник» восходит к латинскому palma («пальма») и означало «носителя пальмы» к Гробу Господню; английское pilgri восходит к старофранцузскому pélerinage, которое, в свою очередь, связано с латинским peregrinatio («пребывание на чужбине»); многозначное санскритское ятра прежде всего передает идею движения, а также храмового празднества. Время расширило значение этих слов (паломничество, pilgri, pélerinage, ятра и их функциональные аналоги в других языках), и в результате они оказались очень «просторными», обозначая семантически и структурно разнородные явления. Попытки выстроить универсальную теорию паломничеств приводили разных исследователей к разным результатам; критерии некоторых построений, предполагающих в паломничестве дух «ритуалов перехода» и мощный элемент эмоциональной компенсации, позволяют еще больше расширить диапазон этого института за счет включения в него таких явлений, как туристский поход или посещение мавзолея Ленина (Мао Цзэдуна или Ким Ир Сена; визит в последний к тому же сопровождается длительным подземным передвижением, дополнительно взвинчивающим душевное состояние посетителей).
На самом деле, похоже, современная сфера применения разноязычных аналогов слова «паломничество» вполне может быть сужена за счет выделения того, что, оставаясь в рамках религиозной активности, характеризует иные формы религиозности[25]. Например, можно терминологически узаконить категорию (внутреннего и международного) «религиозного туризма» (популярного во всех странах и повсюду поставленного на коммерческую основу); категорию «религиозного театра» (род мистерии) и категорию «национального символа (идеи)», вылившуюся в одном из описанных выше сюжетов в «празднество паланкинов» (сходные признаки прагматизании коллективных странствий можно обнаружить и в других национальных регионах Индии, а также в других странах — например, паломничество под лозунгами национального суверенитета в период борьбы за независимость к Гваделупской Богоматери в Мексике). Индийский материал, во всяком случае, дает основания для такой классификации, оставляя за словом «паломничество» (ятра) право метафорического обозначения мучительно трудного пути индивидуальной души к Абсолюту, материально воплощенного в освященном духовным взлетом движении, сопровождающемся физическими тяготами.
КУМБХ-МЕЛА
НА БЕРЕГАХ СВЯЩЕННОЙ ГАНГИ
Экстравертная душа индийца-мирянина всегда чутко отзывается на происходящее за пределами его собственного дома. Пандемическими событиями последних нескольких лет стали, например, похищение известного актера Раджкумара бандитом Вираппаном[26], затем Олимпийские игры, потом повальное помешательство на лицензионной телеигре «Кто станет миллионером» с блистательным суперменом индийских боевиков Амитабхом Баччаном в роли ведущего, вытесненное со страниц и экранов грандиозным «духовным мероприятием», беспрецедентным по количеству участников и накалу страстей. В традиционной литературе, посвященной индуизму, это «мероприятие» — кумбх-мела — называется «паломничеством», а все его участники — «паломниками».
Индийские боги, в незапамятные времена проклятые обладавшим гневливым характером мудрецом Дурвасом, утратили бессмертие и стали проигрывать в непрекращающейся борьбе своим противникам — демонам. В результате умилостивления разбушевавшегося Дурваса богам открылось, что скрывающаяся на дне космического океана амрита (жизненная амброзия) вернет им неуязвимость, и они рьяно принялись за пахтание океана. Поскольку работа предстояла не из легких, были приглашены на условиях долевого участия и демоны. Выкорчеванная из земли гора Мандара послужила мутовкой, а привязанный к ней змеиный царь Васуки — веревкой, за которую поочередно дергали то боги, то демоны. Сбиваемые воды океана, смешиваемые с соком трав и деревьев с Мандары, превратились сначала в молоко, а потом в масло, и наконец участникам многотрудной эпопеи явились 14 сокровищ. Последним со дна океана вышел бог врачевания Дханвантари с горшком (кумбх) бессмертного напитка в руках. С воплями «мое, мое!» устремились демоны к горшку, но хитрый бог Вишну обернулся прекрасной небесной девой, и очарованные ее красотой демоны сами отдали ей (т. е. Вишну) амриту. Потом они, конечно, опомнились, и за горшок разразилась настоящая битва, но воодушевленные удачным началом боги одержали победу. Правда, пока горшок менял владельцев, часть амриты расплескалась и четыре драгоценные капли упали в речные воды в тех местах, где сейчас находятся индийские города Аллахабад, Насик, Удджайн и Хар(и)двар. Битва длилась двенадцать лет, капля падала раз в три года, поэтому каждый из этих городов, расположенный на берегу одной из священных индийских рек-богинь, раз в двенадцать лет, когда планета Юпитер занимает на небе то же положение, что и при падении капли, объявляется местом проведения знаменитого «горшечного сборища» — кумбх-мелы. Юпитер заново «сбивает» воды рек, и амрита становится достижимой для простых смертных: миллионы паломников, совершающих омовение в дни кумбх-мелы, не только смывают собственные грехи, но и очищают от скверны 80 поколений своих предков, а также навсегда освобождаются от цепочки земных перерождений.
Аллахабад (древний Праяг) оспаривает славу «самого священного» города Индии у Каши (Бенареса/Варанаси), поскольку располагается у высокочтимого в индуизме места слияния Ганги и Ямуны. Святость места слияния усиливается за счет «тройственного союза» — в видимые воды Ганги и Ямуны вливается и визуально не подтвержденная, мифологическая Сарасвати. Сложные астрологические расчеты по поводу кумбх-мелы 2001 г., смешивающие принципы солнечного и лунного календарей, увязали ее начало с последним полнолунием зимы (9 января), совпавшим к тому же с лунным затмением, и определили даты и благоприятные часы для коллективных омовений: в дни зимнего солнцестояния (14 января), «безмолвного» новолуния (24 января), «пятого дня весны» (29 января) и очередного полнолуния (8 февраля). В эти дни, казалось, вся Индия стремилась оказаться в Аллахабаде, а транспортные министерства работали только на перевозку паломников. «Духовный» марафон завершился в «великую ночь» поклонения богу Шиве, выпавшую в 2001 г. на 21 февраля.
Эта кумбх-мела стала первой в третьем тысячелетии, и в эпоху ускоренного технического прогресса и глобализации превратилась в зрелише мирового масштаба. Ведущие телевизионные компании, газеты и журналы направили к месту «тройственного слияния» мощные команды операторов и репортеров. Только британский 4-й канал командировал группу в 60 человек, затратив на это 1 млн. фунтов стерлингов — 30 % годового бюджета, отпущенного на религиозные программы: «Это величайшее из всех шоу, и мы не можем его пропустить». Власти штата Уттар Прадеша, в котором находится Аллахабад, предприняли беспрецедентные усилия по обустройству 30 кв. км по берегам Ганги и Ямуны для проживания паломников, были возведены сотни тысяч палаток и шалашей, протянуты 145 км труб временного водопровода, обустроены 20 тыс. туалетов и 50 тыс. «посадочных месп> вдоль борозд, огороженных бамбуковыми циновками; для поддержания порядка и чистоты задействовали 20 тыс. служащих и расквартировали 200 временных полицейских участков; берега Ганги и Ямуны соединили 25 понтонными мостами. Туристическая компания «Кокс и Кингз», привлекшая через Интернет большое число иностранных туристов, установила на берегу роскошные шатры, ночлег в которых стоил 481 американский доллар с человека. Во избежание террористических акций все пространство находилось под наблюдением телевизионных камер; были задействованы силы быстрого реагирования, обученные поиску взрывных устройств собаки, команды саперов и водолазов, военная техника; небесное пространство бороздили вертолеты индийских ВВС. «Если бы Оскар вручался за искусство контролировать людские массы, он достался бы индийцам!» — воскликнул один из аккредитованных иностранных журналистов.
В индуизме отсутствует сплошная церковная иерархия, и кумбх-мела, становление которой уходит в доисторическое время, приняла на себя функции естественного регулятора в расстановке сил между соперничающими группировками, направлениями и школами индуизма. Ведущая роль в декоре «горшечного сбориша» принадлежит представителям 13 главных и 12 второстепенных акхар — многотысячных братств, объединенных объектом почитания и фигурами основоположника и действующего преемника. Акхары делятся на шиваит-ские (признающие главным богом Шиву) и вишнуитские (почитающие Вишну); последние (в зависимости от того, в какой ипостаси почитается Вишну) подразделяются на кришнаитские и рамаитские. Лидер акхары является народу, не иначе как восседая на богато украшенном слоне, коне или в паланкине, который несут на плечах верные соратники. Какая из акхар будет совершать омовение первой, а следовательно, будет признана как бы главенствующей, вплоть до конца XIX столетия решалось в потасовках между так называемыми нагами — воинами-аскетами, составляющими боевую единицу каждой акхары: притягивающими взор приметами бойцов, сохранившимися и в наши дни, являются их полный отказ от какой бы то ни было одежды и всклокоченные лохмы, иногда уложенные в причудливые прически.
Кровопролитные баталии между акхарами были остановлены сначала британской колониальной администрацией, а в наши дни за этим усиленно следят силы безопасности независимой Индии. В дни очередной кумбх-мелы обычно происходят выяснения отношений в форме рафинированных религиозных диспутов, время от времени перетекающих в невыдержанные словопрения. В последние десятилетия утвердился порядок, по которому вишнуиты первыми омываются в Удджайне и Насике, а шиваиты — в Хар(и)дваре и Аллахабаде. Конкурируют между собой, впрочем, не только приверженцы разных богов, но и акхары внутри одного направления, а внутри акхар — наиболее харизматические личности; летосчисление в акхарах осуществляется в терминах кумбх-мел и случившихся на них событиях. В эти же периоды происходит и инициация новых членов в различные акхары, и пропагандисты из каждой стараются не щадя сил: в ход идут мегафоны и листовки, а накопленная духовная мощь каждой акхары иллюстрируется, как правило, экзотическими физическими подвигами — многодневным пребыванием под землей или поднятием тяжестей деликатным органом человеческого тела. Как бы то ни было, именно абсолютно нагие наги, потрясая копьями и трезубцами, издавая устрашающие боевые кличи, плечо к плечу и нога к ноге первыми устремляются в воды «слияния» в дни массовых омовений, и не дай бог оказаться у них на дороге! Чтобы запечатлеть этот поразительный по живописности и невообразимости момент, фотокорреспонденты и операторы, несмотря на официальные запреты, заранее забирались в реку, отплывая на лодках или заходя по пояс в воду. Именно этими кадрами в дни массовых купаний начинали свои новостные программы ВВС и CNN.
Рядовые индусы стремились в Аллахабад на протяжении всех 44 дней кумбх-мелы; в «Горшечный городок» потянулась индусская диаспора со всего света. Некоторые совершали омовение, возносили поминальные молитвы предкам и, одарив жрецов-посредников, возвращались в родные места; другие поселялись на берегу на целый месяц и мужественно окунались в воду каждый день — январь и фев раль считаются в Индии холодными месяцами, а в январские ночи 2001 г. температура воздуха опускалась до нуля градусов по Цельсию. В человеческом столпотворении семьи неминуемо разлучались, а дети терялись, но многочисленные добровольческие организации успешно помогали воссоединению родных и близких. Общее количество посетивших «Горшечный городок» с 9 января по 21 февраля превышает 50 млн.
Однако современные кумбх-мелы характеризуются не только повышенным религиозным накалом. Речные берега возле прославленных городов в последние десятилетия естественно превратились в арену «политического пахтанья» за обладание «горшком с политическим нектаром». За 34 года до последней кумбх-мелы, в 1967 г., на аллахабадской кумбх-меле была создана новая общественная организация — «Вишва хинду паришад» (ВХП, Всемирный совет индусов), а во время «горшечного сбориша» в 1989 г. верхушка ВХП приняла решение любым способом «отвоевать» «историческое место рождения» бога Рамы, занятое мечетью Бабура в городе Айодхъе (в том же Уттар Прадеше). 6 декабря 1992 г. резолюция была проведена в жизнь: разрушение мечети повлекло за собой тяжелейшее индусско-мусульманское противостояние; по сей день спорное место находится под надежной защитой полиции. В преддверии кумбх-мелы 2001 г. активисты ВХП доставили на берег Ганги внушительную модель (длина — 6,5 м, ширина — 3,6 м, высота — 2,7 м) храма Рамы, который предполагается возвести на месте разрушенной мечети. Освещенная 51 тыс. маленьких лампочек, модель превратилась в самостоятельный сакральный объект, притягивавший толпы паломников; последние допускались для лицезрения только после прохода через металлический детектор. Разогревая страсти, ВХП созвал «религиозный парламент (19–21 января), на котором объявил ультиматум индийскому правительству: к 12 марта 2002 г. (сроку очередных выборов в законодательное собрание штата Уттар Прадеша — одного из опорных округов «Бхаратийя джаната парти» (БДП), возглавляющей нынешнюю правительственную коалицию[27]) все преграды для возведения храма Рамы должны быть устранены!
Раздраженные лидеры авторитетных религиозных групп и направлений дружно бойкотировали широко разрекламированный «религиозный парламент» и, отложив на время теологические и прочие дрязги, провели свой собственный «совет акхар», на котором гневно осудили ВХП за использование религии в политических целях вообще и за политизацию «вопроса о храме Рамы» в частности. Уважаемые ачарьи и маханты единодушно заявили: «ВХП не обладает признанным местом в системе индуизма и не может претендовать на представительство всех индусов».
Одновременно с этим индийское общество всколыхнуло еще одно неординарное событие. Пресс-секретарь Сони Ганди, президента старейшей политической партии страны — Индийский национальный конгресс (ИНК) и лидера парламентской оппозиции, вдовы Раджива Ганди и невестки Индиры Ганди, сообщил о ее намерении посетить кумбх-мелу и совершить омовение и положенные по случаю ритуалы. Власти Уттар Прадеша запротестовали: «Нет! Мы не сможем обеспечить надежную охрану!» (Пресс-секретарь парировал, назвав имена действующих министров посетивших кумбх-мелу[28].) Индусские фундаменталисты возмутились: «Она же итальянка, католичка! Это чистой воды популизм!» Доброжелатели разъясняли: «Это демонстративный шаг, чтобы показать, что ВХП, дружественный БДП, не обладает эксклюзивными правами на кумбх-мелу», а прочие недоуменно пожимали плечами. Соня же тем временем в плотном кольце советников появилась в Аллахабаде, заглянула ненадолго в Ананд Бха-ван — родовое гнездо семьи Неру-Ганди — ив окружении эскорта из четырех моторных лодок прибыла на место «тройственного слияния». Опустив ноги в воду по колени, Соня вслед за жрецом повторила ведийские мантры и окропила себя зачерпнутой в ладошку речной водой. Вопрос ушлых репортеров: «Не стали ли Вы индуской?» — президент ИНК оставила без ответа. «Нырять-то нужно с головой, а так — фарс один», — усмехнулись злопыхатели, на что последовал комментарий ВХП: «Приобщение к древним индусским ценностям не возбраняется никому».
Нескончаемый поток информации из «Горшечного городка», раскинувшегося возле знаменитого «тройственного слияния», был прерван форс-мажорными обстоятельствами: угром 26 января, когда Индия готовилась отметить национальный праздник День Республики, в западноиндийском штате Гуджарате разразилось чудовищное землетрясение, повлекшее огромные человеческие жертвы. Кумбх-мела плавно докатилась до 21 февраля — последнего дня 44-дневного «сборища», но нация уже развернулась липом к другому событию. Правда, стихийное бедствие, перевернувшее земные пласты в Гуджарате, привело к неожиданному обнаружению неизвестных подземных вод. «Не Сарасвати ли это?» — задумались ученые.
Послесловие. В 2003 г. мне удалось стать непосредственной участницей событий на берегах реки Годавари возле города Насика в Махараштре, где происходила очередная кумбх-мела, на которую Центр и штат выделили 4 млрд. 480 млн. рупий (около 100 млн. долларов). Ее особенностью стало то, что «астрологически точно» удалось доказать беспрецедентную протяженность мероприятия как во времени — с 30 июля 2003 г. по 27 августа 2004 г., так и пространстве — кроме Насика многотысячные толпы заполнили находящийся на расстоянии 30 км Тръямбакешвар. Небольшой городок, известный тем, что там находится один из двенадцати храмов «огненного лингама» и берет начало Годавари, уже давно оспаривает право на одну из капель амриты: по утверждению местных пандитов, она приземлилась именно в их краях, а не в Насике. С этим категорически не согласны жители местечка Кавнаи в 35 км от Насика, утверждая, что до 1700 г. кумбх-мела отмечалась только у них и лишь потом, по решению местных правителей — пешв, была переведена в Насик. Выше по течению Годавари, уже на территории Андхра Прадеша, отмечали пушкарам — собственную 12-дневную «южную» кумбх-мелу, во время которой Чандрабабу Найду, главный министр штата, трижды с головой окунулся в речные воды.
А в Насике 27 августа 2003 г. одно из основных массовых омовений, в котором, по разным подсчетам, принимали участие от 5 до 7 млн. паломников, закончилось трагически: около 40 человек погибли в давке, несколько утонули, более 150 получили различные травмы. Тогда же приблизительно в том же месте в многотысячной толпе, где традиционно промышляют профессиональные воришки, я лишилась фотоаппарата с уникальной съемкой и портмоне.
А тем временем в других частях Индии уже полным ходом идут усиленные приготовления к очередным кумбх-мелам: «половинчатым»[29] (Ришикеш, штат Уттаранчал), основным (Удджайн, штат Мадхъя Прадеш) и «южноиндийским» (Кумбаконам, штат Тамилнаду). Похоже, из периодического кумбх-мела превращается в постоянный признак индийского пейзажа.
МУСУЛЬМАНСКАЯ ГРОБНИЦА
Каждый мусульманин мечтает отправиться в Мекку, признавая хаджж канонической обязанностью, заложенной в догматике ислама. На практике, однако, это удается не многим, и абсолютное большинство из 130-миллионной конфессии индийских мусульман в реальности совершают паломничества (зийарат) к гробницам местных святых (даргах), что признается актом личного благочестия. Самой почитаемой в Индии суфийской святыней является священный комплекс в Аджмере (штат Раджастхан), выросший вокруг гробницы Му'инуддина Сиджзи (1142–1236). Эта полулегендарная фигура считается первым последовательным пропагандистом ислама в Индии.
Экспансия ислама (впрочем, как и любой другой институциализированной веры) осуществлялась посредством святых подвижников-суфиев, торговцев и воинов. Первые входили в различные братства, возникшие в основном за пределами Индии; братство Чишти (чиштиев), к которому принадлежал Му'инуддин, сформировалось в местечке Чишт (современный Афганистан), но превратилось в реальную духовную и политическую силу уже в Индии благодаря деятельности самого Му'инуддина, а затем его последователей — Фаридуддина Чишти и Низамуддина Чишти и поэтому представляет собой чисто южноазиатский феномен.
Агиография Му'инуддина сообщает, что он родился в Сиджистане (отсюда Сиджзи) на территории Ирана и в раннем возрасте остался сиротой, питаясь на скудный доход от отцовского сада. Духовное пробуждение будущего святого началось с предложенного ему странствующим дервишем кунжутного семечка: пожевав его, Му'инуддин продал сад и отправился в Бухару и Самарканд изучать коранические науки. Затем Му'инуддин провел 20 лет в качестве ученика главы (шейх) братства чиштиев и получил от последнего традиционное рубише и молитвенный коврик — предметы, символизирующие наследование духовной силы (барака) учителя. Последующие странствия оказались прерванными видением Пророка, возложившего на Му'инуддина миссию обращения неверных в Индии. Так, уже в 50-летнем возрасте, около 1192 г. Му'инуддин оказался в Аджмере, и это событие по времени совпало с казнью знаменитого раджпутского князя Притхвираджа Чаухана, последнего героя домусульманского периода истории Индии.
Аджмер, расположенный на традиционном торговом пути из береговых районов Гуджарата в глубь страны, перешел в руки мусульман ских правителей, и удачное сочетание географического и политического факторов, подкрепленное многочисленными слухами о чудесах, совершаемых харизматическим проповедником, заложило фундамент для исламизации города и окрестностей. Духовный наставник (пир), каковым стал в Аджмере приобретший множество учеников Му'инуддин, традиционно осуществляет посредничество между верующим и Всевышним, но при этом ему самому поклоняются как живущему на земле богу, наделяя способностью влиять на материальное, физическое и духовное состояние прихожан. Это поклонение продолжается и после его смерти, которая рассматривается как смерть тела, но не души, продолжающей свое существование ради встречи со Всевышним. Поэтому ежегодная годовщина кончины святого отмечается как брачная церемония — урс; во время ритуальных мероприятий в связи с памятной датой даргах посещают сотни тысяч правоверных, и пространство почти непрерывно оглашается духовными песнопениями (сама): считается, что музыка удачно аккумулирует и разносит бараку усопшего, в которой так нуждаются паломники. Пир и после смерти остается целителем физических и душевных ран и духовным учителем.
Первоначально могила Му'инуддина была выложена из кирпичей. Позднее над ней было выстроено покрытие из камня, а затем один из учеников возвел гробницу, которая впоследствии неоднократно перестраивалась и расширялась. В XV в. правитель Малвы Махмуд Хилджи распорядился возвести парадные ворота — «Буланд дарваза». Акбар, правивший империей Великих Моголов в XVI в., 14 раз посещал даргах Му'инуддина и для удобства сообщения приказал построить прямую дорогу между своей столицей Фатехпур-Сикри и Аджмером. Здесь родился наследник Акбара Джахангир, одаривший даргах ритуальной утварью и именно здесь принявший верительные грамоты от первого британского посла, отправленного к могольскому двору королем Яковом I в 1615 г. Здесь же вымолил своего первенца и император Шах Джахан, построивший на территории гробницы беломраморную мечеть, а затем еще одни ворота. Вплоть до наших дней аджмерский даргах посещают президенты и премьер-министры Пакистана и Бангладеш и рассыпанные по всему миру представители южноазиатской мусульманской диаспоры.
Жизнь сегодняшнего Аджмера по-прежнему определяется мероприятиями вокруг усыпальницы. К даргаху ведет множество узких улочек с лавками по обеим сторонам, где продаются товары, сопутствующие правильному ритуалу поклонения: розовые лепестки, сласти, курительные палочки, ароматические масла и, конечно же, покрывала (чхадар) для надгробия святого — от самых дешевых из плохо обработанного хлопка до шедевров из тончайшего шелка или изысканного бархата с искусной вышивкой, стоимостью в десятки тысяч рупий. Проулки оказываются перекрытыми процессиями паломников, несущих на поднятых над головами руках приготовленные в дар чхадары — нищие или случайные прохожие не упускают возможности дотронуться до ткани, которая через некоторое время наполнится духовной мощью усопшего пира. В кульминационный момент паломничества, уже оказавшись внутри даргаха, верующие передают служителю принесенные дары, встают на колени, просовывают голову под покрывающую надгробие ткань и на мгновение прижимаются к святыне.
Дважды в день осуществляется раздача пиши (похлебка из чечевицы и сладкая рисовая каша), приготовленной на кухне даргаха и заключающей в себе огромную концентрацию вожделенной бараки, а потому добыча пищи напоминает отчаянный штурм крепости: к котлам удается подобраться только натренированным профессионалам, которые, рискуя получить ожоги и задыхаясь от пара, зачерпывают варево ведрами и перепродают уличным торговцам. Последние раскладывают еду по кулькам и пальмовым листьям и вновь перепродают паломникам.
Приехав в Аджмер, по совету знакомых я обзавелась провожатым: поторговалась и наняла гида-мусульманина, имеющего своего рода лицензию от духовного руководства на «экскурсионное обслуживание». Непосредственно перед входом в даргах сидевшие на ступеньках упитанные и неулыбчивые служители подсунули мне амбарную книгу, разные графы которой были заполнены скорописной вязью урду. Провожатый моментально извлек из нагрудного кармана рубахи ручку и вынудил меня поставить подпись, после чего мне объяснили, что тем самым я объявила о своей готовности принести пожертвование священному комплексу. «Ислам» означает «покорность», и мне ничего не оставалось, как полезть в кошелек.
Послесловие. 27 марта 2002 г. в аджмерском даргахе произошло чудо: в темноте на куполе гробницы, освещенном электрическими лампочками, ясно обозначилась тень бородатого старца, держащего в руках посох, исписанный арабской вязью. Очевидцы свидетельствуют: четко очерченный силуэт был виден с 8 часов вечера до 5 часов утра и поблек с первыми лучами солнца. Та же картина повторилась на следующий день, и потом опять. Чудо было зафиксировано на кинопленку членами попечительского совета ааргаха, а снимки размещены на веб-сайте религиозного учреждения (www.chistyshrineajmer.com). «Никогда ничего подобного не происходило», — заявил Сарвар Чишти, пресс-секретарь ааргаха, выступая перед журналистами.
Исламская теология признает карам — чудеса, совершаемые мусульманскими мистиками и святыми, ибо тот, кто полностью подчиняет себя Аллаху, обретает духовное знание, которое и продуцирует карам, т. е. в конечном счете чудо воспринимается как личное послание от Всевышнего. Именно поэтому прославленные суфии в состоянии угадать приближение катастрофы, прочитать душу страждущего и помочь больному. Сам Му'инуддин Сиджзи всегда имел репутацию защитника, приходящего на помощь в минуты наиболее тяжких испытаний. Таковыми индийские мусульмане посчитали события, развернувшиеся в штате Гуджарате в конце февраля 2002 г., когда мусульманские экстремисты, по одной версии, и повздорившие с пассажирами поезда торговцы-мусульмане — по другой, подожгли поезд с индусами-активистами движения за строительство храма Рамы на месте разрушенной в декабре 1992 г. мечети Бабура в Айодхъе. После этого в штате резко обострилось индусско-мусульманское противостояние, повлекшее за собой человеческие жертвы: большинство из более чем тысячи погибших были мусульмане. Появление на куполе ааргаха тени почтенного старца было воспринято правоверными Индии как свидетельство постоянного божественного присутствия в их жизни.
ЛИТЕРАТУРА
АВТОРИТЕТ ВЕД
В 1966 г. Верховный суд Индии сформулировал правовое определение индуизма, с тем чтобы в сфере юрисдикции отличать его от других индийских религий, а в 1995 г., рассматривая дела о религиозной принадлежности, уточнил семь основных положений, свидетельствующих об «индусскости» их носителя. Первым было названо «признание вед в качестве наивысшего авторитета в религиозных и философских вопросах и единственного фундамента индусской философии».
В сентябре 2000 г. своды американского Конгресса, уже знакомые с христианскими и иудейскими молитвами, огласились ведийскими песнопениями в исполнении жреца-профессионала из индусского храма в Огайо. Это стало увертюрой к обращению премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпайи, прибывшего в США с визитом, к обеим палатам американского парламента.
Словом «веда» — «священное знание» (ср. рус. «ведать», «ведовство») — называют четыре свода, в которых отразилась вся совокупность представлений древних индийцев об окружавшем их мире, где неразрывно, а вернее, взаимозависимо существовали люди и боги. Эти памятники индийская традиция относит к категории шрути. т. е. «[откровение], услышанное» обладавшими особым слухом и видением мудрецами-риши, которые и донесли непреложную истину до своих соплеменников. Самая древняя и обширная из вед — «Ригведа» (РВ), веда гимнов, содержит 1028 гимнов разного объема (от 1 до 58 стихов при среднем размере в 10–11 стихов, всего — 10 462 стиха) и состоит из 10 циклов (мандал), связанных с определенными кланами древнеиндийских мудрецов. Кроме РВ существуют еще три веды — «Самаведа» (веда напевов), «Яджурведа» (веда жертвенных формул) и «Атхарваведа» (веда заклинаний и заговоров).
РВ — культовый (в первозданном смысле этого слова) памятник, и в ее основе лежит ситуация обмена, выраженная в ритуальных жертвоприношениях, совершаемых людьми, и ответной милости богов. При этом не только благополучие адептов зиждется на воле небожителей, но последние буквально и фигурально зависят от количества совершаемых в их честь жертвоприношений и качества прославляющих их гимнов: Агни, огонь жертвенного костра, а потому посредник между просителем и дарителем, ярко вспыхивает, когда в него подливают жертвенное масло, а Индра, бог-громовержец, «разрастается», если ему подносят сому, напиток-стимулятор. Гимны, как правило, состоят из двух частей: в одной части настойчиво повторяется просьба адепта (об увеличении поголовья скота, излечении от болезни, обретении потомства, победе над врагом и т. д.), а в другой — содержится описание божества, к которому взывают. Наряду с лестными эпитетами («могущественный», «ярко сияющий», «прозорливый», «самый щедрый», «сильнейший» и т. д.) гимны содержат мифологические отсылки-намеки, которые образуют основу для реконструкции древнеиндийской — а через более архаические пласты и индоевропейской — мифологической системы.
Стержень этой системы создают космогонические мифы, представленные в различных версиях. Существовавший первоначально хаос, т. е. отсутствие каких бы то ни было элементов в их взаимозависимости, «перетекает» в воды, из которых родилась вселенная, в том числе — путем сгущения (пахтанья) вод — и земля. В другом варианте из вод произошло яйцо, а из него — демиург Праджапати; яйцо раскололось, и золотая половина стала небом, а серебряная — землей. В третьем варианте вселенная, а также социальная организация общества и даже сами веды сотворяются жертвоприношением первочеловека — тысячеглавого, тысячеглазого, тысяченогого Пуруши. Наличие в значительной степени несовместимых вариантов (как в ведах, так и в примыкающих к ним более поздних жанрах ритуального и философского характера — брахманах, араньяках и упанишадах) как раз и объясняет, почему нет ничего противоестественного в том, чтобы считать ведийские источники «единственным фундаментом индусской философии». Сформировавшиеся впоследствии различные философские школы сначала производили селекцию, а потом подвергали отобранное непротиворечивой интерпретации. Ведийский язык (ведийский санскрит), на котором созданы веды, еще в процессе кодификации памятника, последовавшей через значительный период времени после создания отдельных гимнов, был малодоступен для понимания, и наиболее ранние из (известных) комментариев, например к РВ, стали появляться уже в середине 1 тысячелетия до н. э. Неясность, непрозрачность и неоднозначность усугубляли сакральность текстов и открывали широкий простор для взаимоисключающих построений.
Высший божественный уровень в РВ представлен 33 богами, подразделяемыми на земных (например, Агни и Сома), атмосферных (Индра, Вайю и др.) и небесных (Варуна, Сурья, Дьяус, Митра и др.). Наибольшее число гимнов (250) посвящено гиганту-громовержцу, могущественному Индре, богу, наделенному неистовой жадностью, утоляемой лишь морем сомы и трапезой из 300 быков. Он вправе претендовать на лидерство в ведийском пантеоне, поскольку ведет неукротимую борьбу с противниками богов — демонами-асурами (Вритрой, Валой и др.) и выходит безусловным победителем, освобождая то упрятанный скот или украденное солнце, то пропавшую утреннюю зарю или запруженные скалой воды. Таким образом, восстанавливающий упорядоченный космос Индра осуществляет и акт «второго творения».
Ведийская космогония определяла также характер ритуала, который воспринимался как образ космогонического акта. Ядром этого ритуала было возжигание добытого трением огня и поддержание его в течение 12 дней с возлиянием в огонь пьянящего галлюциногенного напитка сомы (ср древнеиранское «хаома»). При этом огонь персонифицируется богом Агни, которому посвящено 200 гимнов, а слово сома одновременно означает растение (вероятнее всего, эфедру; по другой гипотезе — мухомор), отжатый из него сок и бога Сому, воспетого в 120 гимнах. На лидерство среди ведийских богов претендует и Варуна (хотя он прославляется всего лишь в 12 гимнах), как блюститель космического и нравственного закона рита, приложимого и к людям, и к богам.
Мифологическое пространство ведийских сводов не пронизано четкой иерархией: главным и единственным может становиться любой бог, чьего расположения добивается адепт обильными жертвоприношения ми, и тогда этот бог награждается самыми превосходными эпитетами и званиями, а искусство сотворения гимна уподобляется выделыванию драгоценной ткани или вытачиванию изукрашенной колесницы.
Этот «размытый» политеизм, стремящийся в каждый отдельный момент к монотеизму, настолько смущал западных исследователей XIX в., впервые занявшихся ведами, что глубокий знаток индийской древности немец Ф. Макс Мюллер предложил самостоятельный термин — генотеизм — для обозначения гибкой религиозной системы, позволяющей по мере надобности наделять любого бога статусом Всевышнего.
Современный индуизм многое почерпнул из ведийской религии, отдельные элементы которой с течением времени трансформировались и заняли свое место в новой системе. Прежние боги закрепились на «мелких ролях», уступив лидерство Вишну, Шиве и Деви (Богине), а Индра к тому же скомпрометировал себя неуемными любовными похождениями. Обезображенный проклятием мудрецов-рогоносцев, он вынужден был отмываться от грехов в священных водах индийских рек — таких точек на речных берегах, оспаривающих пальму первенства в возвращении Индре пристойного облика, в Индии насчитывается не одна сотня. Веды на протяжении тысячелетий передавались устной традицией: главным было не понимание, но фонетически безупречная артикуляция, ибо ведийские мантры сопровождали (и сопровождают) индуса на протяжении всей его жизни, маркируя ключевые этапы: рождение, наречение именем, посвящение в дваждырожденные, свадьбу и похороны. Ни на мгновение, несмотря на ересь отдельных индусских толков, веды не теряли своего непревзойденного авторитета, хотя давно и прочно стали абсолютно непонятными.
Однако в XIX в. на волне складывавшегося национального самосознания индийцев и попыток сознательной реформации индуизма веды оказались в центре общественного внимания и стали объектом не механического повтора, а тщательного изучения с последующей реконструкцией и введением в практику ведийской ритуальности.
Рам Мохан Рой (1772–1833), основатель знаменитого реформаторского общества «Брахмо самадж» и первый индийский брахман, нарушивший запрет на пересечение морей, считается «отцом современной Индии». Страстно выступая против политеизма и идолопоклонства, он доказывал подлинность «индусского монотеизма» ссылками на веды. Ф. Макс Мюллер по этому поводу ехидно заметил, что Рой просто не представлял себе содержания вед. И тем не менее именно этот человек, поддержанный группкой соратников, привлекая цитаты из священных книг, в том числе вед, добился того, что в 1829 г. был законодательно запрещен обычай сати — самосожжения вдовы на погребальном костре умершего мужа. В дальнейшем Дебендранатх Тагор (1817–1905, отец Рабиндранатха Тагора), возглавивший «Брахмо самадж», отправил в священный Бенарес четверых молодых людей для изучения каждой из четырех вед и поиска в них монотеистической концепции, а потом сам присоединился к компании и, устроив диспут с тамошними знатоками, совершил эпатажный поступок — отказался от догмата о непогрешимости вед.
Даянанда Сарасвати (1824–1883), еще один великий индиец и основатель общества «Арья самадж», всю свою жизнь посвятил доказательству высочайшего авторитета вед. Он обнаружил в них не только кладезь сведений о прошлом, но и информацию об огнестрельном оружии, паровозах, химических формулах, достижениях медицины и т. д., не выявленную ранее вследствие неумелого толкования текстов. Он декларировал: «Нигде в четырех ведах нет упоминания о множестве богов, скорее есть ясное утверждение, что бог — един». Сарасвати считал, что множество имен лишь индивидуализирует различные аспекты божественного. К тому же он не сомневался, что веды могут стать подлинной основой для объединения всей страны, и совершил сенсационный поступок, переложив их на разговорный хинди — так доступ к священному знанию получили женщины и низшие касты. От Сарасвати тянутся и ниточки к не существовавшему ранее индусскому прозелитизму — именно он переосмыслил традиционный индусский ритуал шуддхи (очищение), применяя его для возвращения в индуизм индийских мусульман и христиан.
Еще более известный за пределами своей страны индиец Ауробиндо Гхош (1872–1950), чье имя носит Ауровиль, город всемирного духовного братства (Индия), писал: «Даянанда утверждает, что в ведийских гимнах можно найти истины современного естественно-научного знания. Я хотел бы добавить к этому, что, по моему твердому убеждению, веды содержат в себе, кроме того, ряд таких истин, которыми еще не обладает современная наука»[30].
В 1987 г. в Индии разразился грандиозный скандал, когда на свет извлекли пролежавшие почти 30 лет в железных сундуках неизданные труды Бхимрао Рамджи Амбедкара (1891–1956), создателя индийской Конституции, «отца индийского федерализма» и инициатора перехода неприкасаемых каст в буддизм. На страницах «Загадок индуизма» утверждалось: «Веды — никчемный набор книг. Нет никакого резона считать их священными или непогрешимыми»[31]. Далее Амбедкар объяснил, что за непомерным возвеличиванием вед стояли заинтересованные во власти брахманы, чье происхождение все тот же гимн о жертвоприношении первочеловека связывал с устами Пуруши (Его рот стал брахманом… X. 90, 12).
РВ неоднократно переводилась на западноевропейские языки. Первый полный перевод на французский был выполнен к середине XIX в. Затем последовали сразу два немецких перевода — стихотворный (1876–1877) и прозаический (1876–1888). Позднее на немецком же был издан перевод К. Гельднера, ставший вехой в ведологии, а за ним последовали другие. На русский язык первые восемь гимнов РВ были переведены Н. Крушевским в 1879 г., значительно позднее по нескольку гимнов перевели Б. Ларина (1924 г.) и В. А. Кочергина (1963 г.). И только в 1972 г. русскому читателю представилась возможность познакомиться сразу с десятой частью РВ (104 гимнами) в переводе Т. Я. Елизаренковой. В 1989 г. в издательстве «Наука» вышел первый том первого полного научного перевода РВ на русский язык: мандалы I–IV в переводе Т. Я. Елизаренковой с примечаниями и объемной статьей ««Ригведа» — великое начало индийской литературы и культуры». В 1995 г. вышел второй том (мандалы V–VIII), а в 1999 г. — третий том (мандалы IX–X); оба содержат скрупулезные примечания и обширные исследовательские статьи, реконструирующие мир идей и вещей древних индийцев. Недавно все три тома были переизданы. Доступна на русском языке и антология заговоров в переводе Т. Я. Елизаренковой — «Атхарваведа. Избранное» (М., 1976).
«Ригведа», созданная предположительно в конце II — начале I тысячелетия до н. э., является последним памятником общей индоевропейской традиции и первым памятником собственно индийской культуры. Прародина авторов РВ — индоевропейских племен, называвших себя ариями и вторгшихся в Индию в середине II тысячелетия, локализуется достаточно широко — от Балканского полуострова до Приуральских степей; согласно последней гипотезе, она обнаруживается в Малой Азии. Было бы избыточным объяснять, насколько тексты РВ важны для филологов, историков и прочих специалистов узкого и широкого профиля: можно напомнить, что становление сравнительной грамматики индоевропейских языков связано с изучением древнеиндийского языка, так же как и при создании сравнительной мифологии данные ведийской мифологии имели первостепенное значение. Но будет нелишним уведомить (опять корень «вед»!), что гимны РВ могут быть интересны и полезны любому, кто задумывается о корнях (в самом глубинном значении этого слова) и истоках. И даже могут вдохновлять на поэтические экзерсисы — как, например, одного из моих студентов, выступившего с «поэтическим» докладом о древнеиндийской игре в кости на основе гимнов «Ригведы» и заговоров «Атхарваведы»: …Что я сказать могу об игроке?/Его судьба с костями в кулаке. /Игрок теряет связь с семьей, /Весна становится дождливою зимой. /Он одинок и ходит сам не свой, /Его молитва о деньгах, как вой… Но ямка вырыта и кости брошены, / А волосы страдальца в ожидании взъерошены…
Послесловие. Непосредственным стимулом для появления этой статьи стала случайно попавшаяся на глаза брошюра «Религии Индии и христианство», выпушенная по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия издательством Сретенского монастыря в 2000 г. На 63 страницах, написанных князем Н. С. Трубецким, конфессионально беспощадной теологической критике подвергаются все этапы становления индуизма, в том числе и ведийский период (боги, например, дефинированы как «бесы»), а также буддизм («сатана… свил себе в религиозном сознании Индии прочное гнездо» — так анонсируется содержание брошюры на обложке). Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1939), сын первого выборного ректора Московского университета С. Н. Трубецкого, — всемирно известный языковед, один из теоретиков знаменитого Пражского лингвистического кружка и основоположник фонологии. Вряд ли талантливый ученый был бы обрадован тем, что его малоудачный юношеский опус, никак не продолженный в его профессиональной деятельности и не вошедший ни в одно из академических изданий его работ на разных языках мира, вдруг оказался задействованным в целях лобовой религиозной атаки в России III тысячелетия. Вряд ли это переиздание было бы одобрено наследниками Н. С. Трубецкого, проживающими в Чехии, которые, к слову, являются и держателями авторских прав.
ЭПОС И СОВРЕМЕННОСТЬ: «МАХАБХАРАТА»
Дхарма не увядает!
Я полюбил индийцев потому,
Что в их словах — бесчисленные зданья,
Они растут из яркого страданья,
Пронзая глубь веков, меняя тьму.
К. Д. Бальмонт
Атал Бихари Ваджпайи, поэт и премьер-министр Индии, в одном из своих творений, наполненном гражданским пафосом, обратился к хорошо известной индийцам дилемме: Кто Кауравы, а кто Пандавы, вопрос непростой. /В обе стороны Шакуни сеть обмана раскинул, /Царь закона не бросил в кости играть дурной привычки, /В каждом собрании Драупади подвергается унижению. /Без Кришны сегодня будет вершиться битва. /Кто бы ни выиграл — плакать будет бедняк. О чем идет речь и почему стандартная метафоризания знаковых в индийской культуре фигур упирается в легко улавливаемые моральные колебания?
О «Бхагавад-гите» наслышаны многие, но не все знают, что «Божественная песнь» представляет собой философскую вставку из 6-й книги древнеиндийского эпоса «Махабхарата», самого большого по размеру памятника мировой литературы. Созданная на эпическом санскрите, «Махабхарата» состоит из 18 книг (более 90 тыс. строф) и превышает совместный объем «Илиады» и «Одиссеи» в 8 раз. Уже сложившаяся к середине I тысячелетия до н. э. и просуществовавшая почти тысячелетие в устной передаче, «Махабхарата» была записана в III–IV вв. н. э. Сотворенная коллективными усилиями раскиданных во времени сказителей, «Махабхарата» тем не менее приписывается мифическому мудрецу Вьясе, который три года подряд, поднимаясь на заре, «сочинял сказание дивное».
Стержнем повествования является битва за власть между сыновьями двух братьев — Дхритараштры и Панду, состоявшаяся на поле Курукшетре, которое ныне локализуется в 100 км к северу от Дели. У слепого Дхритараштры была сотня сыновей, известных под родовым именем Кауравы. Болезненный Панду считался отцом пятерых Пандавов, которые имели общую жену — Драупади. Собственно Драупади «с глазами — лепестками лотоса», обладательница «прекрасных ягодиц» и «бедер, напоминающих хобот слона», и стала непосредственным поводом к войне между родственниками.
На официальной церемонии выбора жениха, устроенной отцом Драупади, только Арджуна, третий из Пандавов, попал пятью стрелами в глаз рыбы, глядя на ее переменчивое отражение в сосуде с маслом, и стал избранником красавицы. Кауравы изошли злобой, а примкнувший к ним Карна, тайный добрачный сын Кунти (матери трех старших Пандавов) от Сурьи (бога Солнца), брошенный ею и воспитанный возничим, был персонально оскорблен Драупади, не пожелавшей видеть низкорожденного претендентом на свою руку. Возле дома гордые победой Пандавы похвастались: «Нам сегодня досталось удивительное сокровище!» — «Так владейте им сообща», — ответила из дома Кунти. Слово матери — незыблемый закон. Пятеро братьев заключили брачный союз с Драупади, но перед каждым супругом она, проявляя божественную сущность, представала девственницей.
Поскольку Кауравы и Пандавы не могли ужиться рядом, мудрый Бхишма, общий двоюродный дед, поделил царство на две части. Пандавы отстроили прекрасный град Индрапрастху и зажили счастливо и дружно, вызывая зависть у недругов. Через каждые два месяца и 12 дней Драупади переходила к следующему мужу, почитая его как единственного, а любой из Пандавов, нарушивший уединение царицы Индрапрастхи с «дежурным» мужем, наказывался годичным изгнанием. Так проштрафился Арджуна, который, впрочем, за год бродяжничества умудрился приобрести еще четырех жен.
Юдхиштхира (старший из Пандавов) почитался повсюду как воплощение Высшей Справедливости, но и на солнце бывают пятна: «Царь Закона» был страстным игроком в кости. Злобствующий Дуръйодхана (старший из Кауравов) по подсказке коварного советника Шакуни послал в Индрапрастху вызов на игру. Осознавший подвох Юдхиштхира все же явился вместе с братьями и проигрался в пух и прах. Опьяненные победой, Кауравы силком притащили в зал собраний Драупади, которую ее старший муж также поставил на кон, один из них стал прилюдно срывать с нее одежды, а вошедший в раж Дуръйодхана непристойно похлопывал себя по обнаженному бедру, не скрывая намерений в отношении жены побежденных. Незримо помогавший ей Кришна (не только правитель, но и бог) обеспечил нескончаемость срываемых одежд, и устыдившийся царь Дхритараштра аннулировал проигрыш. Однако Юдхиштхира вторично сел за игру и, снова проиграв Индрапрастху, был вынужден вместе с братьями и женой на 12 лет отправиться на жительство в леса, а 13-й год провести неузнанным.
Хотя Пандавы честно выполнили все условия, Кауравы не желали вновь делить царство; к тому же Драупади беспрестанно подзуживала супругов к мести, напоминая им о необходимости восстановить на земле дхарму — нравственный баланс мироздания, и война стала неотвратимой. Именно на поле брани, увидев перед собой родственников, ужаснулся предстоящему кровопролитию Арджуна, но соратник Пандавов Кришна, ставший возничим на его боевой колеснице, отмел его сомнения, напомнив о необходимости выполнять долг-дхарму воина, т. е. биться насмерть. 700-строфное откровение Кришны стало известно как «Бхагавад-гита», а описание явленного Арджуне божественного лика: Если тысячи солнц свет ужасный в небесах запылает разом — /это будет всего лишь подобье светозарного лика Махатмы[32] — процитировал вслух «отец» американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, наблюдая за взрывом в Лос-Аламосе. Описание 18-дневной войны занимает четыре книги: полегли все, за исключением пятерых Пандавов и Кришны. Юдхиштхира был помазан на царство, которым он правил по совести еще много лет, но его мучило раскаяние за убийство родственников, и вместе с братьями и Драупади он отправился в Гималаи в мир богов.
Основной сюжет занимает четверть общего объема «Махабхараты»; остальное пространство эпоса насыщено полифункциональными вставными эпизодами с религиозно-мифологическим, философским, социально-политическим и этико-эстетическим подтекстом. «Махабхарата» признается энциклопедией классического индуизма, и она же знаменита систематизированным изложением науки о политике. Умудренный опытом и высоко всеми чтимый Бхишма, честно бившийся на стороне Кауравов, но желавший победы Пандавам, подло раненный на поле брани, оттягивает свою смерть и обращается к будущему царю Юдхиштхире с прощальным напутствием длиной в две книги. Бхишма разделяет политику на внутреннюю и внешнюю. Применительно к внутренней политике его сентенции нацелены на всеобщий нравственный долг — дхарму и моральные качества правителя, который должен быть свободен от приступов гнева, не запятнан дурными привычками и умерен при выборе наказания. «Как пребывающая в тягости оберегает свой плод, так царь должен все внимание уделять своему народу. Как носящая в чреве, отвергая себе приятное, делает полезное для плода, так, исполняя свою дхарму, должен вести себя царь по отношению к подданным»; «дхарма — основа миропорядка, царь — стержень дхармы», а правитель, не выполняющий своих обязанностей перед народом, «может быть умерщвлен, как взбесившаяся собака». Внешняя политика, по мысли Бхишмы, оценивается по конечному результату — победе, которая приобретается вовсе не соблюдением дхармы, но приложением силы. Сила же, в свою очередь, подпитывается /кармой того, кто ее проявляет. Таким образом, концепция дхармы оказывается весьма эластичной: «Недоверие — вот вкратце главная особенность внешней политики, — суммирует Бхишма, — и дхарма определяется в конечном счете обстоятельствами».
Малолетняя дочь моей индийской подруги, рожденная в обществе с устоявшимся набором идентификационных признаков, изводит мать вопросами, какая фамилия у того или иного индусского бога. Сама подруга в минуту задушевного разговора призналась, что нередко задумывается о взаимоотношениях Драупади с пятью синхронными мужьями. Ее любопытство утолила известная писательница Пратибха Рай, непременный лауреат общенациональных и региональных литературных премий. Роман «Яджнясена» (одно из имен Драупади), созданный на языке ория в начале 1990-х годов, переведен на другие индийские языки и зачитывается женской аудиторией до дыр.
Повествование в «Яджнясене» ведется от лица Драупади, т. е. психологическая реконструкция событий и оценок осуществляется на основе эмоций виновницы эпохальных событий. Драупади, потрясенная тем, что ей предстоит стать женой сразу пятерых, оправилась от шока быстро. В эпосе вездесущий мудрец Нарада объяснил не менее потрясенному отцу Драупади, что его дочь была в предыдущем рождении женщиной, страдавшей от того, что ее муж подался в отшельники, и когда умилостивленный ею бог Шива спросил, чего ей надобно, она истошно завопила: «Хочу мужа, мужа, мужа, мужа, мужа!!!!!» Романная же Драупади, пытаясь сохранить достоинство (в древней Индии нормой была полигамия, а не полиандрия), т. е. укрепить прецедентами зашатавшуюся под ней почву, стала ворошить частную жизнь уважаемых женщин прошлого. И что же выяснилось? Она вспомнила о некой Джатиле, обладавшей семью мужьями, и еще об одной добродетельной женщине, супруге одиннадцати! Дальше — больше. У Сатьявати, общей прабабки Кауравов и Пандавов, имелся добрачный сын Вьяса, т. е. автор «Махабхараты», которого (в силу обстоятельств) призвали поддержать угасающий царский род. Он-то и стал биологическим отцом Дхритараштры и Панду! Добрачный сын (Карна) имелся и у (слава богу, единственной) свекрови Драупади; к тому же Панду в силу наложенного проклятия воздерживался от близости со своими женами Кунти и Мадри, в результате чего Кунти призвала на помощь сразу трех богов и родила Юдхиштхиру, Бхиму и Арджуну, а Мадри предпочла небесных братьев Ашвинов и дала жизнь близнецам Накуле и Сахадеве! Размышляя о свекрови, романная Драупади заметила, что Кунти прибегала к услугам разных богов поочередно, но эпическая логика мышления, подаренная автором своей героине, напомнила Драупади, что ее будущие мужья — это жемчужины благородной страны, призванные возродить попираемую дхарму. И она сразу же представила себя нитью с нанизанными на нее жемчужинами, т. е. осознала свое высокое предназначение — скреплять единство Пандавов: прочь мысли о бесчестье, если ее миссия — защита дхармы!
Учитывая пуританство современной индийской жизни, Пратибха Рай, естественно, не могла обойти стороной вопрос о первой брачной ночи героини, а точнее, о пяти ночах. Решила она его целомудренно-изобретательно: поскольку церемонии бракосочетания проходили в порядке старшинства братьев и заняли пять дней, Драупади каждый раз являлась к алтарю со священным огнем девственницей, а предшествующая ночь с уже приобретенным супругом проходила в беседах, вернее, в монологах мужской стороны. Так, образцовый во всем Юдхиштхира поведал изумленной Драупади о своей пагубной страсти (игре в кости) и провел остаток ночи, играя сам с собой. Силач Бхима честно предупредил Драупади о неуемном аппетите и необузданности чувственных порывов, пригрозив, что, если она не будет покорна его воле, он отправится в лес к своей жене-демонице (Драупади тут же почувствовала укол ревности). Обиженный больше всех таким раскладом Арджуна прежде пожурил жену за то, что она согласилась на всю пятерку, а потом меланхолично объяснил сложившуюся ситуацию необходимостью зашиты дхармы; завершилась ночь совместными песнопениями в честь бога Кришны. Красавчик Накула сначала распространялся о своей неординарной внешности (Драупади почувствовала разочарование, что он говорил не о ней, а о себе), а потом перепоручил новобрачной заботы о своих любимых лошадях. Сахадева неутомимо вешал о том, какой он молчаливый.
Талантливой лицедейке пришлось осваивать сразу пять ролей, а поскольку дхарма не только эластична, но и иерархична, специфику своего поведения героиня Пратибхи Рай объясняет требованиями особой дхармы идеальной супруги, в основе которой лежат самоотречение и всепрощение. Применительно к Драупади, впрочем, эти понятия носят декларативный характер, поскольку движущей силой сюжета (и в эпосе, и в романе) являются наносимые героине оскорбления и реализующиеся в поступки клятвы об отмщении. Романная Драупади при этом бесконечно рефлексирует. Она невысоко оценивает Юдхиштхиру: во-первых, когда решались практические аспекты пятимужества, он предлагал оставить брак без консумации, что было воспринято Драупади как кощунственный выпад против ее женских достоинств; во-вторых, она видит в нем источник бед, постигших Пандавов, и, сомневаясь в его способности быть достойным правителем, все же неустанно побуждает к мщению. Впрочем, его отстраненность от сиюминутных страстей помогает Драупади разглядеть в нем божественную субстанцию, и она в сердцах признается: «Он не человек, и все человеческое ему чуждо. Любая была бы с ним несчастна».
В этом смысле ей больше по нраву прямолинейный Бхима, который клянется разорвать грудь и напиться крови Духшасаны — Каурава, срывавшего с Драупади одежду. Да и сама Драупади оповещает всех, что не будет убирать волосы, пока не омоет их в крови обидчика. Тот же Бхима, в нарушение правил честного боя, сражает Дуръйодхану ударом палицы по бедрам, выполняя принятый им во время оскорбления Драупади в зале собраний обет. Однако более всех смуглолицая красавица желает Арджуну, но тот то < изгнании, куда отправляется (в романе) на 12 лет, причем до наступления срока своего «дежурства», то в силу небесного проклятия пребывает в состоянии «третьего пола», то занимается другими женами, испытывая чувства Драупади. «У пылающей страстью женщины, — учит и здесь Кришна, — ум и логика должны отсутствовать», но та, ничем не отличаясь от женщины с единственным мужем, печально замечает: «У меня пять мужей, но, когда нужно, ни один не дает того, чего не хватает». Братья действительно то и дело валят вину на общую жену и больше думают друг о друге (и маме), а Арджуна просто-таки требует, чтобы Драупади любила его не больше, чем других мужей.
Пратибха Рай не изобретает деталей, но прилежно вычерпывает их из бездонной «Махабхараты», аранжируя в духе «мифологического реализма». И все же ее социальная позиция засвечивается в размышлениях Драупади о тяжкой судьбине женщины в патриархальном обществе, а душевный настрой писательницы прорывается через шитые белыми нитками реплики героини: «Только женщина поймет женщину», «Ожидание лучше свершения», «Если судьбою суждено горе, то женщина рождается красавицей» и «Не дай бог другой пережить то, что пережила я». История, изложенная в «Яджнясене», записывается самой героиней в предгорьях Гималаев, куда она последовала за своими мужьями. По дороге силы покинули ее, она рухнула на землю, и когда встревоженный Бхима оповестил об этом братьев, «Царь дхармы» — Юдхиштхира ответил: «Продолжайте восхождение, не оборачиваясь. Драупади грешна, потому что любила Арджуну больше остальных». Наряду с этим прегрешением Драупади «Махабхарата» называет и другое: та несколько раз засматривалась на Карну из лагеря Кауравов, и глаза ее выражали вожделение. Как бы то ни было, в раю места для Драупади не нашлось, хотя ее интерес к Карне никоим образом не нарушал ее дхарму идеальной супруги: внебрачный сын Кунти был по существу старшим Пандавом, а значит, мог владеть «удивительным сокровищем» наравне с братьями. Об этом, пытаясь перед сражением переманить Карну на свою сторону, говорила ему сама Кунти, и этот же аргумент выдвигал Кришна, предпринявший неубедительную попытку примирить Кауравов и Пандавов.
С середины I тысячелетия нашей эры сюжеты и персонажи «Махабхараты» начали вторгаться в авторское творчество — драматургию, региональные эпопеи и (позже) поэмы и романы. Эпические гиперболизация и стилистика либо механически переносились в новое произведение, либо уступали место индивидуализации образов и рационализации мотивировок и развязок. Шаши Тхарур, автор «Великого индийского романа» (1989) и глава Департамента общественной информации ООН, проторил принципиально иную дорогу, а его детище удостоилось Премии стран [британского] Содружества. Международный чиновник с глубокими познаниями в истории и блестящим слогом переплавил бессмертные коллизии и идеи эпоса в роман о борьбе Индии против британского колониализма, обретении ею независимости через болезненный раздел на Индию и Пакистан и построении собственной государственности. Перевод действия на Курукшетру XX в. был осуществлен путем создания коллажных образов, обладающих биографиями и функциями центральных персонажей «Махабхараты» в сочетании с внешностью и политической ролью лидеров национально-освободительного движения.
Мифологический Вьяса, диктующий мемуары молодому стенографисту, вспоминает события, в которых он принимал непосредственное участие, и оценивает их с точки зрения современной социально-политической ситуации в Индии. Объяснив свою донорскую роль в рождении Дхритараштры и Панду заботами о сохранении княжества, которое при отсутствии прямых наследников аннексировалось колониальными властями, рассказчик мастерски рисует портреты своих сыновей, соратников-соперников по деятельности в Кауравской партии, точь-в-точь похожих на лидеров партии Индийский национальный конгресс (стоявшей в авангарде борьбы за независимость) Джавахарлала Неру (впоследствии первого премьер-министра независимой Индии) и Субхаса Чандру Боса (впоследствии вступившего в союз с Германией и Японией ради поражения англичан). По поводу слепоты Дхритараштры Вьяса замечает: Я всегда размышлял, что могло бы произойти, если бы он, как мы все, был способен видеть мир вокруг себя. Могла бы тогда история Индии сложиться по-другому?
Носители эпических имен из романа Шаши Тхарура проживают жизнь исторических деятелей XX в.: тщедушный, прикрытый лишь набедренной повязкой Бхишма-Гангаджи несет в массы идеи Махатмы Ганди; вышедший из рядов Кауравской партии и возглавивший Мусульманскую группу (Мусульманская лига) Карна с родимым пятном в виде полумесяца на лбу реализует мечту основателя Пакистана Мухаммада Али Джинны о государстве для «чистых»; сотня Кауравов, включая Дуръйодхану, преобразуется в одну-единственную Прийю Дуръйодхани, «превосходящую по силе тысячу сыновей», в которой невозможно не узнать Индиру Ганди, а братья Пандавы (их зачатие от разных отцов объясняется требованием плюрализма) ассоциируются с плеядой политиков второго поколения, совместно владеющих Драупади, т. е. Индией.
Принципы политической тактики и стратегии, провозглашенные «Махабхаратой», оказываются верными на все времена, и Шаши Тхарур, периодически срываясь на поэзию, излагает их близко к тексту первоисточника: На ультиматум зря не трать /Энергии своей. /Пусть враг не хочет убивать — /Ты сам его убей. //Пусть будет выпад твой в борьбе /Внезапен и могуч. / Держи оружье при себе, /А спишь — так дверь на ключ. //Скрой злобу ласковым словцом, / С улыбкою убей / И над поверженным врагом / Потоки слез пролей[33]. Но Бхишма-Ганди выдвигает и претворяет в жизнь и новаторские формы политического воздействия, оказавшиеся впоследствии затребованными на всех континентах. По этому поводу Вьяса резонно замечает: Мы, индийцы, обладаем величайшим талантом извлекать положительное из отрицательного. Не-насилие, не-сотрудничесгво, не-присоединение — все это означает гораздо больше, чем концепции, которые они отрицают, а затем признается: Всегда было легче восхищаться принципами, которые он выдвигал, и способами, которыми он за них боролся, чем следовать тому и другому. Рассказывая о голодовках, которым подвергал себя уже немощный телом, но твердый духом Махатма, всезнающий летописец словно пишет одновременно два учебника — индийской истории и прикладной политологии: Только индийцы могли изобрести такой метод политической торговли, который опирается на угрозу причинения вреда самому себе, а не оппоненту. Впрочем, подобно другим великим инновациям, запушенным нашей страной, голодовки также были бесстыдно дискредитированы. Как оружие голодовки эффективны только тогда, когда мишень ваших действий ценит вашу жизнь больше, чем свои убеждения, или по крайней мере чувствует, что ее ценит общество в целом.
В XX в. Индия пережила множество «великих сражений»: это сражение за независимость и участие во Второй мировой войне в составе Британской империи; это противостояние между расколовшимися на разные политические фракции на основе религиозных убеждений индийцами; это внутрифракционные баталии за личное лидерство и острое соперничество в постнезависимой Индии за право рулить страной. Накануне выборов (проводившихся после введенного в 1975–1977 гг. Индирой Ганди чрезвычайного положения), которые принесут Прийе Дуръйодхани провальное поражение от оппозиции, дотошный журналист преследует Вьясу вопросом: «Не считаете ли Вы, что эти выборы станут современной Курукшетрой?» Участник и комментатор всех событий, Вьяса отвечает: Надеюсь, нет, потому что на Курукшетре не было победителей. Потому что за битвой последовали трагедия, страдание, пустота и смерть… Эти выборы — не Курукшетра; Курукшетра — это жизнь, Курукшетра — это история. Сражение между дхармой и не-дхармой — это сражение, в котором наша нация и каждый из нас участвует каждый день своего существования на этой земле. Но, перебрасывая мостик к оригиналу, тхаруровский Кришна, персонифицированный образ Политики Вообще (состоящей из частичек конкретных политиков), обращается со своей «Бхагавад-гитой» к неуверенным Пандавам-оппозиции накануне решающего дня: Обжорство или пост, блаженство или мука, /Победа иль разгром, жара иль холода /Пройдут как летний дождь, и в этом вся наука. / Ничто ведь не навек, ничто не навсегда. / Чего здесь нет, без пользы нам, конечно, /А то, что есть, пребудет с нами вечно[34].
Некоторые критики охарактеризовали жанр «Великого индийского романа» как политическую сатиру, с чем я решительно не согласна, поскольку в романе отсутствует «резко выраженная негативная окрашенность эстетического объекта», а присутствует невыносимая боль, которую мужественно прикрывают иронией. «Над кем смеетесь?» — мог бы повторить вопрос гоголевского персонажа Шаши Тхарур, но вместо этого он, соблюдая собственную дхарму мыслителя, создал роман-притчу. Ты считаешь, что я преувеличиваю, не так ли? — обращается тхаруровский Вьяса к своему писцу. — Ты полагаешь, все это гиперболы прошлого, героика ностальгического. Ты просто не можешь понять со своими купонами на скидки и черным рынком, с циничным материализмом твоего поколения, как было в те дни, какие чувства обуревали, когда мы нашли ДЕЛО, когда мы принадлежали к БОРЦАМ, когда мы ВЕРИЛИ.
Во вступлении к великому эпосу говорится, что однажды божественные мудрецы положили на весы с одной стороны четыре веды, а с другой — «Махабхарату»[35]. И тогда последняя по величине и весу превзошла веды, поэтому она стала называться «Махабхаратой» — «Великим [сказанием о потомках] Бхараты». Историей о том самом Бхарате зачитывался Н. М. Карамзин, а через век К. Д. Бальмонт вдохновенно переложил на русский язык пьесу древнеиндийского драматурга Калидасы, рассказавшего романтическую историю любви и появления на свет Бхараты. Этот легендарный персонаж — далекий предок Пандавов и Кауравов — считается эпонимом, давшим название «Бхарат» стране, которую благодаря древним грекам весь мир знает как Индию.
«Махабхарата» щедро одарила мир и преданиями о женской самоотверженности, на которых во все времена воспитывались молодые индианки. Пронзительные истории Душьянты и Шакунталы, Наля и Дамаянти, Сатьявана и Савитри[36] к концу XVIII в. стали известны в Европе, надолго приковав к себе внимание образованной публики.
В 80-е годы XX в. «Махабхарата» совершила новое пришествие в Европу, а потом и другие континенты и страны — Соединенные Штаты, Японию, Австралию и др. Застрельщиком триумфа великого индийского эпоса стал знаменитый английский режиссер Питер Брук. Сначала он поставил спектакль на французском языке, который продолжался 9 часов, затем создал его англоязычный вариант. Спектакль шел на специально подготовленных площадках (например, в Авиньоне и Перте — в карьерах) беспрерывным (дневным или ночным) марафоном или разбивался на три части («Игра в кости», «Лесная ссылка», «Война»), После гастролей Брук продолжил работу над осмыслением «Великого индийского» и в 1988 г. снял 6-часовой фильм для телевидения и 3-часовой — для кино.
К концу 1980-х, официально поддержанный индийским правительством, режиссер Рави Чопра смастерил 93-серийную телевизионную продукцию, по полной программе начиненную аудиовизуальными эффектами. Сериал показывали в течение почти двух лет по воскресеньям с 10 до 11 утра: многомиллионная Индия превращалась в безлюдную пустыню — от экрана не отводили глаз 92 % индийских телезрителей. Индийская детвора играла только в «Махабхарату», за роли главных персонажей велись настоящие, а не бутафорские бои. Видеовариант этого сериала, который занимает 90 кассет (по 45 мин.) и длится 72 часа, был раскуплен многомиллионной индийской диаспорой.
По эпическим законам между характерами героев и их антагонистов нет принципиальной разницы: формально одержавшие победу Пандавы не реже Кауравов совершали сомнительные поступки, а доблесть последних ничуть не уступала мужеству и искусности первых. Вопрос: Кто Кауравы, а кто Пандавы? — действительно не простой (а мучительно сложный), как верно заметил посвятивший жизнь политике Атал Бихари Ваджпайи. Использованные в качестве метафор имена персонажей из «Махабхараты» сохраняют способность вызывать неоднозначные ассоциации (а потому не превращаются в имена нарицательные) и занимают прочные позиции в менталитете индийцев. И неутомимый Вьяса — рассказчик на все времена — готовится к созданию новой «Махабхараты», замечая на последней странице романа Шаши Тхарура: …истории никогда не заканчиваются, они просто продолжаются где-то еще. На холмах и на равнинах, в домах и сердцах Индии…
ЭПОС И СОВРЕМЕННОСТЬ: «РАМАЯНА»
Равнение на Раму!
Индия традиционно богата не только на идеи, но и на идеалы, которыми она щедро делится со всем миром. Духовно и физически прекрасный Рама, держащий наизготове лук и стрелы, безупречный государственный муж и примерный семьянин, к началу XXI в. превратился в наивысший образец для подражания и поклонения не только в Индии, но и во многих других азиатских странах.
Эпопея «Рамаяна» состоит из семи книг и повествует о подвигах царевича Рамы, совершенных в еще более древние, чем описанные в «Махабхарате», другом знаменитом индийском эпосе, времена. Во всяком случае, в «Махабхарате» присутствует вставной эпизод, когда обитающие в лесу Пандавы, главные герои сказания, горюют в связи с похищением Драупади, их общей супруги, и им рассказывают историю Рамы, потерявшего и вновь обретшего свою Ситу. Первую и седьмую книги «Рамаяны» ученые считают более поздним добавлением к основному тексту, который, в свою очередь, складывался и редактировался на протяжении столетий. Индийская традиция приписывает создание «Рамаяны» мудрецу Вальмики, который, как и мифологический автор «Махабхараты» Вьяса, одновременно является участником описываемых событий.
Дашаратха, старый царь государства Айодхъи, решает уйти на покой и назначает наследником справедливого и мужественного Раму, своего старшего сына. Однако, поддавшись козням второй жены, Кайкейи, царь оказывается вынужденным отправить Раму в изгнание и передать трон Бхарате, своему среднему сыну от Кайкейи. Вместе с Рамой в изгнание на 14 лет отправляются его жена — добродетельная Сита — и преданный брат Лакшмана. Во время их жизни в лесах Рама становится объектом притязаний со стороны уродливой демоницы Шурпанакхи, сестры кровожданого ракшаса Раваны, правителя острова Ланки, Полагая, что Сита является помехой на пути к сердцу Рамы, Шурпанакха угрожает ей, и, прогоняя демоницу, Лакшмана отрубает ей нос и уши. Разгневанный Равана решает отомстить за увечья, нанесенные сестре, и одновременно в нем вспыхивает страсть к Сите, которую он обманным путем похищает и увозит на свой остров. В поисках жены Рама встречается с изгнанным царем обезьян Сугривой, помогает ему вернуть трон и в результате приобретает надежных помощников — бесстрашную обезьяну Ханумана, сына бога Вайю, и обезьянье войско. С их помощью Рама узнает о местонахождении Ситы, переправляется вместе с единомышленниками на Ланку и в кровопролитном сражении убивает Равану. К этому времени истекает срок его изгнания, и он вместе с Лакшманой и Ситой, сохранившей в неволе верность мужу, возвращается в Ай-одхъю, занимает престол и открывает эру идеального правления, известного как рам-раджья — «царство Рамы». В народе, однако, поднимается ропот по поводу репутации Ситы, и хотя по прибытии в Айодхъю она уже прошла испытание огнем, подтвердившее ее чистоту, Рама, уступая молве, отправляет ее в лесную обитель к мудрецу Вальмики. Там у нее рождаются близнецы Куша и Лава; через некоторое время семья вновь соединяется, но новые пересуды вынуждают Ситу, чье имя означает «борозда» (она была обнаружена своим отцом в распаханном поле), обратиться к матери-Земле, и та, раскрыв лоно, возвращает дочь к себе.
Такой финал, по мнению ортодоксальных индусов, нисколько не умаляет величия Рамы, но свидетельствует о том, что превыше всего он чтил собственную дхарму (моральный закон) правителя, призванного обеспечить благосостояние всех подданных, а не счастье единственной — пусть и идеальной — супруги. Поведение совершенного Рамы оправдало многочисленное воспроизводство сходного сюжета в индийской литературе и кинематографе XX в. Знаменитый фильм «Бродяга» с любимцем российских зрителей старшего поколения Раджем Капуром как раз строится на отвержении мужем похищенной, но ни в чем не виновной, к тому же ожидающей ребенка жены. Известный писатель Яшпал в одном из своих произведений обратился к трагической теме раздела Индии на два государства (Индию и Пакистан) в 1947 г., результатом которого стали изломанные судьбы вынужденно мигрирующих людей, а также подвергшихся насилию женщин. Героиню «Ложной правды» семья, не уверенная в ее чистоте, не впускает в дом, и она в отчаянии разбивает голову о порог. В обоих случаях принимаемые мужьями несчастных женщин кардинальные решения объясняются ссылками на авторитет Рамы, создавшего подобный прецедент.
Собственно, ничто не мешает воспринимать «Рамаяну» как героическую поэму, но в системе индуизма она приобрела особый — сакральный — статус, поскольку в ее вводной и заключительной книгах раскрывается божественное происхождение Рамы: как и Кришна в «Махабхарате», он рождается на земле, чтобы восстановить попранную дхарму. Если в первом случае адхарма (не-дхарма) — беззаконие — персонифицировалась коллективным образом Кауравов и их сторонников, враждующих с Пандавами, то в «Рамаяне» мировой баланс нарушается деятельностью Раваны. Десятиглавый правитель Ланки, сумевший аскетическими подвигами умилостивить непредусмотрительного бога Брахму и получить от него в дар неуязвимость от всех сверхъестественных существ, возомнил себя владыкой мира. Он начал изводить благочестивых отшельников, издеваться над богами и даже полонил «царя богов» Индру. Победить же Равану мог только не предусмотренный в условиях дара человек, и Брахма уговаривает Вишну спуститься на землю в виде царевича Айодхъи. Так в индуизме закрепляется теория аватар («нисхождений», инкарнаций) бога Вишну, неоднократно рождающегося на земле, чтобы предотвратить ее гибель.
В еще большей степени, чем «Махабхарата», «Рамаяна» оказалась продуктивным и жизнеспособным произведением. На протяжении более чем двух тысячелетий она не только непрерывно воздействовала на религиозную образность индуизма в Индии, но и в преломленном виде проникала в священные каноны джайнизма и буддизма и распространилась по всей Юго-Восточной Азии. Довольно рано начали появляться региональные версии[37] «Рамаяны», которые создавались на местных языках и отражали социокультурную и религиозную специфику того или иного индийского региона. Не оставляет равнодушными «Рамаяна» и моих российских студентов-индологов, побуждая их к поэтическому оформлению своих мыслей:
Я отвлекся, извините. Еще в первой книге Рама женился на Сите.
Из божественного лука он умел стрелять; брахманов не переставал уважать.
Был щедр и красноречив, к тому же ликом был красив.
Подданные души в нем не чаяли, даже собаки на него не лаяли.
Долг свой всегда выполнял, жены, кроме Ситы, он не желал.
Не искал пороков в других… А я увлекся, завершаю свой стих.
Рама царство детям даровал, умер в лесу и на небо попал.
Встретился там с Стой. Куша и Лава жили жизнью счастливой и сытой.
Самой ранней авторской интерпретацией, дошедшей до наших дней, считается тамильская «Рамаяна» Камбана (Х-ХП вв.), придворного поэта знаменитых южноиндийских правителей Чола. В описании Камбана «человечность» Рамы полностью вытесняется его божественным статусом, а взаимная преданность Рамы и Ситы объясняется тем, что Вишну и его божественная супруга Лакшми вновь обрели друг друга на земле после долгой разлуки. Вследствие абсолютной деификации персонажей устранены всякие детали, снижающие или подвергающие сомнению нравственный облик небожителей: так, например, Равана при похищении Ситы не оскверняет ее прикосновением, а переносит на Ланку прямо в лесной хижине, вырванной из земли. Равана также изображается великим героем, т. е. достойным своего божественного противника: он могущественный правитель и воин, ценитель музыки и знаток вед; его страсть к Сите идеальна, и он терпеливо надеется пробудить в ней ответное чувство. Подобная трансформация образа антагониста в Южной Индии окажется весьма значимой и в дальнейшем будет искусно использоваться в культурном и политическом противостоянии арийского Севера и дравидского Юга.
Свои версии «Рамаяны» возникли и в других индийских регионах: в XV в. Критгибас создал бенгальское переложение, затем Баларамдас — версию на ория, Гирдхар — на гуджарати, Экнатх — на маратхи и т. д. Североиндийский вариант — поэма «Рама-чарита-манаса» («Море подвигов Рамы»)[38] была создана в XVII в. на предшествующих хинди диалектах (авадхи и брадже) брахманом Тулсидасом, который начал писать ее в Айодхъе, а завершил на берегу Ганги в Бенаресе (Каши, Варанаси) — одном из самых священных городов индуизма. В произведении Тулсидаса сакрализация главных героев достигла своего апогея: Рама окончательно утвердился в образе воителя и хранителя индусских ценностей, что было особенно актуально на фоне начавшегося распада Могольской империи и возрождения индусских княжеств; Сита, уже давно ставшая эталоном идеальной супруги, ни при каких обстоятельствах не могла оказаться в доме постороннего мужчины, а потому в руки Раваны попадала иллюзорная копия Ситы, предусмотрительно сотворенная мудрым Рамой. Все остальные персонажи стали рассматриваться через призму личного служения Раме. Так, оказался возвышенным образ преданного слуги Ханумана, который со временем обрел самостоятельное место в индусском божественном пантеоне. Более того, во многих частях Индии, и прежде всего в столице, можно увидеть многометровой высоты уличные скульптуры готового отразить любую атаку Ханумана. С подачи воинствую-ших проповедников индуизма этот образец надежной и даже безрассудной отваги превратился в атакующий, наступательный символ: одно из его имен — Баджранг — стало названием группировки воинствующей индусской молодежи, образованной в начале 1990-х годов. В задачи «Баджранг дал» входит насильственное освобождение Индии от всех иноверцев.
В хиндиязычном ареале «Рама-чарита-манаса» приобрела статус произведения категории шрути, т. е. божественного откровения, а потому стала называться «пятой ведой». Первоначально созданная в письменном варианте, поэма в передаче бродячих рассказчиков обрела новую жизнь в устном жанре катха и стала основой для многодневных театрализованных постановок — лил (рам-лип): исполнители ролей Рамы, Ситы и Лакшманы на весь период представления приобретают статус «живых богов», а наблюдающие за перипетиями сюжета зрители, совершая ларшан, т. е. лицезрение божественных ликов, накапливают религиозные заслуги. В 1960-х годах в Бенаресе был сооружен храм «Тулси манас», на стенах которого воспроизведен полный текст «Рама-чарита-манасы» и где осуществляется его ежедневная рецитация, приравниваемая по значимости к ведийскому ритуалу жертвоприношения. Это послужило вдохновляющим примером и инициировало возведение храма «Вальмики бхаван», расписанного 24 тыс. шлок (стихотворная строфа) на санскрите, — впрочем, и здесь исполняется не «Рамаяна» Вальмики, а тулсидасовская «Рама-чарита-манаса»: причиной этого является не только непонимание санскрита большинством современных индийцев, но и то, что Тулсидас давно признан новым воплощением, т. е. аватарой, Вальмики. Уже на протяжении многих лет Всеиндийское радио начинает свои утренние передачи с 15-минутного пения отрывков из «Рама-чарита-манасы». С 1984 г. ортодоксально настроенные пропагандисты индуизма проводят ежегодные Международные конференции по различным версиям «Рамаяны», стараясь превратить их в события мирового масштаба, а потому организуя их в странах разных континентов, в том числе в США, Суринаме, Голландии, Китае и др. При проведении конференции в Индии ее работа сопровождается «выездными сессиями» всех участников в места, освященные стопами Рамы во время его передвижения по полуострову.
Вместе с «Рамаяной» Вальмики «Рама-чарита-манаса» была взята за основу при создании телевизионного сериала режиссера Рамананда Сагара, демонстрировавшегося по индийскому телевидению на протяжении полутора лет (1987–1988). Телезрители готовились к показу как к богослужению: до начала сеанса совершали ритуальное омовение, украшали телевизор цветочными гирляндами, как бы предлагая их в дар божественному Раме, и возжигали благовония.
Поскольку подвергшийся изгнанию Рама беспрестанно находился в движении по направлению к югу Индостана, то практически весь субконтинент так или иначе освящен следами царевича и его спутников. Например, название махараштранского города Насика народная этимология объясняет как «относящийся к носу», поскольку именно здесь свершилось отсечение носа у и без того безобразной Шурпа-накхи, а местная храмовая архитектура и легенды изобилуют подробностями о проживании здесь в изгнании божественной аватары. Мест, где вершилось то или иное событие, упоминаемое в эпосе, в Индии насчитываются тысячи, и нередко один и тот же эпизод локализуется сразу в десятках точек земли. Впрочем, ни одна из них не претендует на то, чтобы считаться «местом рождения бога Рамы» — рама-джанма-бхуми, и эту славу уверенно удерживает ничем другим не примечательная Айодхъя.
Мифологическую Айодхъю, где родился и наконец воцарился Рама, уже давно отождествляют с провинциальным городком Айодхъей, расположенным на реке Сарайю в 120 км от Лакхнау, столицы самого многонаселенного штата Уттар Прадеша, находящегося в так называемом хиндиязычном поясе Индии. В связи с тем, что это место отмечено земным пребыванием бога, оно считается пропитанным божественной святостью и поэтому притягивает верующих из разных частей Индии. Они прибывают на железнодорожный вокзал, здание которого построено в виде индусского храма и украшено изображениями Рамы, Ситы и Лакшманы, а затем посещают многочисленные «точки», освященные деятельностью Рамы и его окружения.
Местный фольклор, подкрепленный типографски изданными путеводителями по Айодхъе, рассказывает, что «место рождения бога Рамы», утраченное в третаюгу, «серебряную эпоху прошлого», было вновь обнаружено легендарным царем Викрамадитьей, который отстроил здесь великолепный храм. Когда же в начале XVI в. в Индию пришли Моголы, то Бабур, мечтавший о подчинении всей Индии, уверовал, что это случится после того, как на месте храма будет возведена мечеть. Мир Баки, верный полководец, храм разрушил, но ему никак не удавалось заложить на этом месте мечеть, поскольку все, что возводилось днем, чудесным образом исчезало ночью. По совету факиров он немного передвинул постройку в сторону, оставив для индусов проход к тому, что осталось от алтарного помещения, где раньше находилась скульптура Рамы в виде младенца. Так, в результате компромисса, в 1528 г. была завершена мечеть, которой присвоили имя Бабура. В XIX в., после того как навабы Айодхъи перенесли столицу сначала в расположенный поблизости Фаизабад, а потом в Лакхнау, местные индусы высказали притязания на место, где красовалась мечеть, и уже в 1855 г. возвели стену между мечетью и оставшимся от храма клочком земли, над которым затем соорудили соломенный навес. Как бы то ни было — до поры до времени — сначала британские колониальные власти, а потом правительство независимой Индии сдерживали накал межконфессиональных страстей. И все же в 1947 г. в ночь с 22 на 23 декабря в охраняемой вооруженными солдатами мечети неожиданно появилось… изображение Рамы-младенца. Индусы восприняли это как теофанию и возликовали, а мусульмане посчитали мечеть оскверненной, и в результате последовали индусско-мусульманские столкновения, которые с большим трудом удалось остановить при помощи сил армии и полиции: индусам отказали в праве на возведение храма, но и мечеть была закрыта для посещения. С этого момента началась эскалация конфликта, который был передан на рассмотрение в судебные инстанции, где и находится по настоящее время.
Однако в самой Айодхъе противоборство продолжалось. Организация «Рама-джанма-бхуми сева самити» (Комитет служения месту рождения Рамы) в 1950 г. получила разрешение на ежегодное проведение богослужения перед образом Рамы в ночь с 22 на 23 декабря, а затем стала устраивать многодневные песнопения перед мечетью. Правительство ни во что не вмешивалось, но и не снимало полицейской охраны со спорного объекта. А в октябре 1984 г., в результате ряда изменений, произошедших как в политической жизни самой Индии, так и на международной арене, «Вишва хинду паришад» (ВХП, Всемирный совет индусов), выступающий за консолидацию индусов в мировом масштабе, провел 130-километровый марш с требованием освободить священное место: «Тала кхоло!» («Уберите запоры!»)[39]. За этим последовал еще ряд акций, и наконец в 1989 г. лидеры ВХП обратились к жрецам индусских храмов с призывом изготовить по кирпичу (шила) с вытесненным на каждом именем Рамы и направить его с процессией в Айодхъю. Разгоряченная полуторагодовым показом телесериала «Рамаяна» индусская Индия принялась за дело, и даже Раджив Ганди, в то время лидер светского Индийского национального конгресса (ИНК), поддержал идею ВХП. В 1990 г. Лал Кришна Адвани, на тот момент лидер «Бхаратийя джаната парти» (БЛП), разделявшей многие положения, выдвигаемые ВХП, инициировал марш длиной в 10 тыс. км — от Сомнатха (также священного города) в Гуджарате до Айодхъи в Уттар Прадеше, но при пересечении Бихара Л. К. Адвани был арестован правительством штата. В 1992 г. уже центральное правительство, сформированное ИНК, безуспешно попыталось наладить переговорный процесс между ВХП и организацией, представлявшей позицию мусульманской общины (Muslim Babari Masjid Action Committee), но затянувшееся противостояние стало уже необратимым и в конечном счете вылилось в трагедию 6 декабря 1992 г.: в результате целенаправленной политики ряда праворадикальных индусских организаций толпа индусских экстремистов разгромила мечеть Бабура.
По Индии прокатилась волна индусско-мусульманских погромов, приведших к гибели около 3 тыс. человек. За десять лет, прошедших с того момента, ничего не изменилось: пустынное место, где когда-то красовалась мечеть, охраняет полиция, ВХП продолжает усиленно готовиться к возведению храма, а отношения между индусами и мусульманами дошли до крайней точки. 27 февраля 2002 г. на станции Годхра в штате Гуджарате был подожжен вагон поезда, в котором находились карсеваки — активисты движения за строительство храма Рамы на месте разрушенной мечети. Взрыв взаимной ненависти между двумя конфессиями привел к гибели еще около тысячи человек и раскалил до предела сложную межрелигиозную обстановку в стране. Массовые требования отставки главного министра Гуджарата Нарендры Моди, хлынувшие в индийскую прессу, и акции протеста против антидемократической политики БДП, возглавляющей правительственную коалицию, настолько обострили накопившиеся в стране внутренние противоречия, что потребовали немедленного переключения внимания. Непрекрашаюшаяся конфронтация между Индией и Пакистаном с избытком предоставляет любые поводы, и в мае-июне 2002 г. Южная Азия оказалась в одном шаге от ядерной войны.
Нет ничего удивительного в том, что из всех аватар Вишну современный индуизм, стремящийся к унификации понятий и образов, предпочел безупречного Раму. В отличие от Кришны (не персонажа из «Махабхараты», а героя «Бхагават-пураны»), любителя краденого масла и 16 тыс. пастушек, аморальный облик которого, а также его последователей становился поводом для судебных исков еще в XIX в., Рама нечеловечески (все-таки — бог) хорош. Правда, как минимум три поступка классического Рамы все же иногда вызывают недоуменные вопросы: как он допустил, чтобы Лакшмана так варварски изуродовал Шурпанакху — женщину, хоть и демонического происхождения; как мог из укрытия пустить стрелу в Валина, сражавшегося в честном поединке со своим братом Сугривой, и, наконец, как осмелился отвергнуть идеальную Ситу? Уже средневековые авторы региональных версий давали казуистические ответы в зависимости от собственных пристрастий и вкусов аудитории; та же тенденция сохраняется и в современной Индии, где поступки эпических и мифологических персонажей неустанно пытаются объяснять с точки зрения общечеловеческой психологии и логики, снимая с них флер непредсказуемости и иррациональности.
В 1975 г. Нарендра Кохли написал роман «Восхождение» на языке хинди и получил за него премию Литературной академии Индии. Чтобы донести многостраничный двухтомник до читателей нового тысячелетия, журнал «Навнит» в 2000 г. предпринял его переиздание. Роман все объясняет и раскладывает по полочкам: Рама изображен в духе критического реализма со всеми свойственными человеку эмоциями: ему ведомы боль и гнев, страх и отчаяние. Ракшасы, война с которыми и составляет основной этап в восхождении Рамы, — не чудовища, а народ, создавший высочайшую цивилизацию, но погрязший в пороках, эгоизме, потребительстве и разврате. Впрочем, богатство их приобретено не честным трудом, а грабежами, захватом чужих земель, эксплуатацией рабов (от тирана Раваны стонет его собственный народ) и покоренного населения, в первую очередь ванаров-обезьян. Обезьяны же и медведи, помогающие Раме, — всего лишь отсталые племена неарийского происхождения[40], не знакомые ни с луком, ни с колесом. Зато они мечтают освободиться от гнета ракшасов и живут в ожидании вождя, которым становится Рама, создающий из полудиких, вооруженных камнями и палицами дружин боеспособную армию арийского образца.
В роман активно вторгаются современные социальные идеи, которые изначально будоражат преисполненного справедливыми помыслами Раму. Собственно, он жаждет изгнания, чтобы начать наконец преобразовывать общество, бороться за равенство каст и полов и т. д. Участники баталий неоднократно заявляют, что освобождение Ситы — всего лишь предлог, что это справедливая война угнетенных против угнетателей. Крестьяне и рыбаки тысячами присоединяются к армии Рамы: У кого из нас ракшасы не похищали жен, не грабили ломов, не уволили в рабство детей? В столице Раваны на Ланке рядом с роскошными дворцами простые люди прозябают в нищете, и даже жена Раваны, Мандодари, не может удержаться от упрека: Когда их лети умирали от голода, Вы не вспоминали, что они — Ваши подданные! Усиливая реалистический аспект (а следовательно, и историзм произведения), автор снимает мифологические и фантастические элементы, находя всему здравое объяснение. Так, Хануман не перелетает, а переплывает Полкский пролив, разделяющий Индостан и Ланку; ванары не строят мост через пролив из своих тел, а сооружают дамбу на обнаруженной с помощью рыбаков отмели; Индраджит, сын Раваны, сражается не невидимкой, а из-за дымовой завесы и не змеями, превращенными в стрелы, а стрелами, смоченными змеиным ядом. Вообще все волшебное оружие эпоса трансформировано в баллисты, катапульты, зажигательную смесь, вроде греческого огня, и т. д. Умирающих же в страшных муках от ран, причиненных ядовитыми стрелами, Раму и Лакшману спасает не птица Гаруда (средство передвижения бога Вишну), а искусный врач по имени Гаруда. Возникающие то тут, то там фигуры богов напоминают правителей неких «сверхдержав», стремящихся использовать в своих интересах войну между Рамой и Раваной.
Стараясь не упустить ни одной из знаменитых деталей эпоса, Кохли обыгрывает многие эпизоды, перенося их в область метафористики. Если эпический Хануман выдирает с корнями гору, поскольку не знает, какое из лечебных растений следует принести, то романный Хануман добывает мешок со снадобьями, и раненые говорят, что он притащил «целую гору»! Если наказанная мужем за прегрешение с Индрой-соблазнителем эпическая Аханья превращается в соляной столб и пребывает в таком состоянии до тех пор, пока ее случайно не коснулась нога Рамы, то Ахалья из «Восхождения» сохраняет человеческий облик, но она словно «окаменела». Ситу же Рама ни в чем не упрекает, а всего лишь мягко, но настойчиво выспрашивает, не согрешила ли она, и, во-первых, замечает, что она и так «прошла испытание огнем», поскольку на Ланке отбушевали пожары, а во-вторых, декларирует: Я тоже получил много ран, нанесенных ракшасами, — ты же из-за этого не считаешь меня оскверненным? Важна чистота души, а не тела!
Роман завершается сиеной радостного воссоединения супругов на Ланке, и ни о каком последующем изгнании Ситы речи не идет. Снивелированы также и два других эпизода, слегка затемняющих светлый образ Рамы. Шурпанакха изображается как стареющая женщина, искренне полюбившая Раму и под напором чувств набросившаяся на Ситу, в которой она видела счастливую соперницу: тут Лакшмане ничего не оставалось, как встать на защиту невестки, и он только слегка поранил нос и уши демоницы. Недостойное пособничество Рамы Сугриве объясняется столь муторно и многословно, что становится уже все равно — лишь бы поскорее перебраться на следующую страницу. Впрочем, голая дидактика и прагматическая хватка всего произведения если и вызывают какие-то ассоциации, то исключительно с кирпичами-шилами с именем Рамы.
Совершенно другой путь избрал Шаши Тхарур, уже известный как автор блистательного «Великого индийского романа», описавшего историю Индии XX в. через призму событий и персонажей эпической «Махабхараты». Его новое произведение — «Бесчинства», — вышедшее в 2001 г., представляет собой документальную стилизацию в виде газетных информаций и журнальных вырезок, интервью и показаний, дневниковых записей и писем, и каждый из «документов» раскрывает одну грань правды о происшедшем — гибели 24-летней американки, а собранные вместе, по выражению одного из литературных критиков, эти свидетельства «ваяют ту ложь, без которой Индия не может жить»[41]. События романа, т. е. собственно «бесчинства», происходят в 1989 г. в вымышленном окружном центре Дзалигархе, расположенном в штате Уттар Прадеше недалеко (четыре часа по железной дороге) от Айодхъи, и связаны с церемонией отправки освященных кирпичей, предназначенных для возведения храма Рамы на месте, где еще стоит мечеть Бабура. Во время подготовки и совершения рама-шила-пуджана («молебна [в честь] кирпичей [с именем] Рамы») в отмечаемый по всей Индии день, когда, по мифологическим представлениям, Рама одержал победу над Раваной (виджай-дашами), в более чем 100 городах Северной Индии произошли индусско-мусульманские столкновения. Среди жертв бесчинств, захлестнувших Дза-лигарх, оказались не только индусы и мусульмане, но и католичка Присцилла Харт, находившаяся в городе в качестве волонтера неправительственной индийско-американской организации «Помоги нам!», занятой пробуждением самосознания в женщинах, и в частности распространением среди беднейших слоев населения элементарных знаний о способах контрацепции.
«Бесчинства» не раскрывают тайны гибели Присциллы: она могла стать как случайной жертвой неуправляемого человеческого «амока», так и целенаправленной мишенью для сведения счетов. Во время почти годичного пребывания в городе она приобрела не только сторонников, но и откровенных противников: среди них как мусульмане, так и индусы, чьих жен она учила отстаивать право распоряжаться собственным телом. В скучном пыльном городишке, где каждый друг у друга на виду, Присцилла нашла и запретную любовь, которая не могла долго оставаться тайной. Хорошо образованный, не чуждый поэтического дара В. Лакшман, глава администрации округа и образцовый семьянин, с риском для собственной репутации в условленные дни и часы встречался с эмансипированной американкой в заброшенных покоях когда-то величественного замка-форта, единственной достопримечательности Дзалигарха. Об этом узнают и начальник местной полиции, друг и однокашник В. Лакшмана, и его жена — бесконечно скучная, но добропорядочная Гита, и другие недоброжелатели деятельного и принципиального чиновника — каждый из них рассчитывает так или иначе воздействовать на ситуацию.
Такой разброс потенциально криминальных вариантов вкупе с разножанровой эластичностью повествования предоставляет Тхаруру возможность создать целую галерею стереотипов и вложить в их уста все, что волнует Индию последних десятилетий (политическая и экономическая нестабильность, административно-бюрократический и демографический беспредел, классовая и кастовая дихотомия, становление хиндутвы, т. е. индусского фундаментализма, обострение индусско-мусульманских отношений и, конечно же, образ Рамы и ситуация в Айодхъе). Читатель же как бы приобщается к курсу новейшей истории страны, где отдельные главы стилизованы под письма Присциллы к подруге в Америку, или многословные объяснения В. Лакшмана в своем дневнике, или интервью, которые поочередно дают американскому журналисту Рэнди Диггсу главарь воинствующих индусов Дзалигарха Рам Чаран Гупта и либеральный мусульманин Мухаммад Сарвар. Первый с упоением пересказывает мифологию вокруг Рамы и легендарно-историческое прошлое Айодхъи, захлебывается от восторга по поводу предполагаемого восстановления храма, перечисляет промахи, допущенные предыдущими (секулярными) правительствами страны в отношении мусульманского меньшинства, включая громкий процесс по иску Шах Бану[42], и завершает сентенцией: Мусульмане — просто-напросто лимон, выжатый в индийские сливки, которые из-за этого свертываются. Мухаммад Сарвар пытается взглянуть на ситуацию по-другому. Он оспаривает тождество современной и мифологической Айодхъи и отрицает наличие фактов, доказывающих существование храма Рамы на месте, занятом мечетью Бабура: У нас есть и история, и мифология. И иногда мы не можем сказать, в чем между ними разница. Он также поднимает весьма злободневный для сегодняшней Индии, занятой ревизией собственной исторической науки, вопрос: Кому принадлежит индийская история? Разве есть моя история и его история, а также его история моей истории? Во многих отношениях именно это и составляет суть всей шумихи вокруг рама-джанма-бхуми — это не что иное, как истребование истории теми, кто чувствует, что в какой-то момент их не оказалось в сценарии. Но могут ли они написать новую историю, не совершая насилия над наследниками старой?
Редьярд Харт, приехавший в Индию в связи с гибелью дочери, как бы подводит черту под этой «заочной» дискуссией: Я вам скажу, в чем ваша проблема здесь, в Индии. У вас слишком много истории. Значительно больше, чем вы можете мирно использовать. Так перестаньте же размахивать своей историей, как боевым топором, перед носом друг друга. А В. Лакшман в одном из пространных объяснений о природе индуизма говорит: В Индии, Присцилла, легенды и мифы умирают очень медленно. И та не удерживается в ответ: В отличие от людей.
Самый неожиданный результат от этого очевидно программного (для мировоззрения Тхарура) и злободневного (для индийской жизни) произведения, на который, вероятно, сам автор и не рассчитывал, заключается в том, что В. Лакшман, по сути, копирует поведение Рамы, т. е. следует архетипу. Сохраняя свой имидж и рассчитывая на перспективу карьерного роста, он, может быть, в душе переживая, делает вид, что его не волнует смерть возлюбленной, и тем самым отказывается от нее, не позволяя себе ни раскрыться в разговоре с матерью Присциллы, уверенной в том, что В. Лакшман — тот человек, о котором писала ей дочь, ни использовать свою власть для обнаружения подлинного убийцы. Когда пресс-атташе американского посольства в Индии, комментируя смерть Присциллы, говорит, что она просто оказалась не в том месте не в то время, «..и не с тем возлюбленным», — трезво добавляет уже упоминавшийся выше литературный критик. В. Лакшман же на вопрос журналистов отвечает: Мы там, где мы есть, в единственное время, которым мы располагаем. Возможно, мы были предназначены для того, чтобы там оказаться.
В блокноте, который был обнаружен возле тела погибшей и благоразумно изъят начальником полиции из перечня улик, Присцилла пересказывает финал классической «Рамаяны» и заключает: Рама потерял женщину, из-за которой была развязана война, зато он правил как мудрый и уважаемый царь. Видимость гораздо важнее, чем правда. Сплетня сильнее факта. Верность — однонаправленна, от женщины к мужчине. И когда общество сгребает в кучу все, что можно предъявить женщине, той лучше не рассчитывать на поддержку мужчины. У нее не остается другого выхода, кроме как покончить с жизнью. А я влюблена в индийца. Наверное, я сошла с ума.
Опьяненная не только плотской, но, как ей казалось, духовной и интеллектуальной близостью, Присцилла пытается построить планы относительно совместного с В. Лакшманом будущего. И… наталкивается на решительный отказ: Это не та любовь, о которой говорили мои родители, чувство, бросившее якорь в семье, которая и есть твое единственное место в мире и которая скреплена узами крови такой густоты, что нельзя даже и помыслить о том, чтобы разорвать их. Это, наоборот, такая любовь, о какой я читал в западных книжках или видел в западных фильмах, — индивидуальное притяжение между мужчиной и женщиной, чувство, не зависящее от социального контекста или семейных связей. Когда Присцилла, как и Сита перед изгнанием из Айодхъи, ждущая ребенка, но не сказавшая об этом возлюбленному, пытается объяснить безнравственность и бесплодность союза в отсутствие любви, В. Лакшман бьет по больному месту и напоминает ей о ее предыдущих увлечениях, о которых сам же увлеченно выспрашивал: В моей культуре ни один уважающий себя мужчина не отдаст свою мангалсутру (брачное ожерелье. — И. Г.), свое кольцо, свое имя женщине, которая уже была с другим мужчиной. Женщина, на которой ты женишься, — хранилище твоей чести. Так Рама из «Восхождения» Нарендры Кохли, готовый принять любую Ситу, оказывается менее похожим на классического Раму, чем В. Лакшман, получивший образование в элитном делийском колледже, цитирующий Оскара Уайльда и останавливающий бесчинствующий из-за Рамы город.
Еще не перевернута одна из самых трагических страниц в истории Индии конца XX — начала XXI в., еще несомненно будут написаны десятки новых «Рамаян», повествующих о новых, этически безукоризненных Рамах, совершивших свое «восхождение» и вернувшихся к людям, чтобы остановить «бесчинства» на земле, и остается надежда на появление Рамы, который будет не разделять, а примирять.
МИРОВАЯ КЛАССИКА ПО-ИНДИЙСКИ
Перевод — дело тонкое. Между исходной точкой и результатом переводческого творчества происходит сложный процесс «перевыражения» жизни. В зависимости от цели затеянного и качества конечной продукции полисемическое слово «перевод» может высветить все свои скрытые ресурсы. Это: 1) переложение с одного языка на другой (в случае удачи), 2) пустая растрата оригинального текста и даже его полное истребление, 3) перемещение из одного места в другое. Последнее (применительно к теме настоящего эссе) может быть обозначено как национальная адаптация, или, в духе времени, римейк.
Жанр адаптации (не путать с сокращением и опрощением текста) известен практически всем литературам. Существовал он и в России. Например, в XVIII в. комедия Ричарда Шеридана «Школа злословия» была приспособлена к русским нравам и получила название «Лукавины» — по фамилии семьи главного героя. Один из известных переводчиков-адаптаторов той поры, Владимир Лукин, обосновал подобную практику и теоретически, отталкиваясь от морали и назидательности как побудительных мотивов творчества: «Многие зрители от комедии в чужих нравах не получают никакого поправления. Они мыслят, что не их, а чужестранцев осмеивают… Что же к поправлению оного потребно? Мне кажется, переделывание или склонение на свои нравы для представления на театре. Тут надлежит не столько красоту и силу чужестранного писателя показывать, сколько исправлять пороки»[43].
Безусловно, прагматизм и антиэстетизм или, наоборот, усиленный эстетизм — не единственные стимулы для «переодевания» чужого при переносе на национальную почву. У адаптаций существуют и этнопсихологическая, и этическая, и социально-временная мотивации. Своеобразной хронологической адаптацией-переписыванием отмечены и наши дни. Один из недавних примеров — кинофильм «Подмосковные вечера» Валерия Тодоровского, «перевыразивший» не инонациональную, но отечественную «Леди Макбет Мценского уезда» в лексике и стилистике сегодняшнего дня (да и Николай Лесков, как явствует из названия, позаимствовал общечеловеческую идею «убийственной любви» у Уильяма Шекспира, который также обращался к различным источникам в поисках сюжетов).
В литературно-театральный обиход в Индии уже давно вошли два термина — бхашантар («разница в языке», т. е. собственно перевод) и рупантар («разница в облике», т. е. адаптация). Перевести (без длинного комментария) политические, культурные или религиозные нюансы намного труднее, чем создать на понятной и родной основе новые. Множество европейских концепций не находит аналогов в различных индийских регионах: хотя бы утреннее приветствие типа «доброе утро!», обращение «моя дорогая» или выражение благодарности бесконечным «спасибо». Последнее не только утомляет индийцев (если не всех, то маратхов точно!), но и вызывает удивление — за что благодарить, если взаимопомощь и взаимовыручка естественным образом заложены в природе человека? Невозможно ухватить стиль жизни, нормы поведения, обычаи, климатические особенности и характер отношений между людьми и группами людей только на основе чтения пьесы (рассказа, повести), а потому такой мир и невозможно адекватно выстроить (иллюстрацией к этому положению может послужить известный американский фильм «Доктор Живаго» — полная «клюква» по части изобразительного ряда, хотя музыка в нем действительно замечательная). Вспомним, например, сиену с могильщиками из «Гамлета». Индусы кремируют усопших, и в традиционной индусской культуре отсутствует концепция могилы; череп не может сохраниться во всепоглощающем жаре погребального костра, и поэтому он не может быть центральным объектом эпизода. А как перевести фитонимы, называющие не существующие в других широтах реалии растительного мира, а пищевой колорит (Ничего не упомяну ни о мнишках в сметане, ни об угрибке, которую подавали к борщу, ни об индейке со сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе… — Николай Гоголь)? Даже сейчас, в век мощного взаимного познания и сближения, социальные или бытовые нормативы одного общества поражают, а то и вгоняют в ступор членов другого общества. И индийцу все еще сложно принять свободу, доступную младшим членам семейства или его женской части, добрачные отношения, независимость суждений подчиненного в диалоге с начальством, а в результате оригинальное произведение искусства частично приносит себя в жертву, приспосабливаясь к инонациональному бытованию, — переводчик/адаптатор/римейкер рассчитывает на востребованность.
Шекспир укоренился в Индии в середине XIX в., когда были основаны университеты в Бомбее, Калькутте, Мадрасе и колледжи в других городах, вводившие европейскую систему образования. Чтение шекспировской драматургии являлось неотъемлемым компонентом учебного курса «Обязательный английский», и проникновение Шекспира в индийскую среду было первоначально исключительно литературным, а не сценическим. И все же получавший образование индиец с изумлением обнаруживал, что драматургия может существовать не только для переложения мифологических историй; зарождавшаяся театральная критика отмечала, что в противоположность великим драматургам индийской древности Калидасе и Бхавабхути, в пьесах которых преобладали любовно-эротические и патетические элементы, Шекспир перехлестывает через край всеми девятью расами (эстетические переживания, формируемые в процессе восприятия произведения искусства, — любовь, веселье, скорбь, отвага, гнев, страх, отвращение, удивление и покой, необходимые для создания подлинного шедевра) и отражает как внутренний мир самого человека, так и мир вокруг него.
Шекспир — безусловный лидер среди переводных драматургов: все его 38 пьес переведены и адаптированы на все 18 индийских языков, признанных Конституцией Индии в качестве официальных. Например, только на маратхи существует шесть переводов-адаптаций «Ромео и Джульетты», причем некоторые из них имеют счастливую развязку; четырьмя вариантами представлены «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Гамлет», «Двенадцатая ночь», «Комедия ошибок» и др. Создатель «Шашикалы и Ратнапала» (в каждой адаптации Джульетта и Ромео выступают под новыми именами) еще в 80-х годах XIX в. пояснял, что «роковой исход оригинала не соответствует тонкому душевному устройству благородного индийца» и, добавлю, противоречит жестко сформулированным канонам древнеиндийского трактата о театре — «Натьяшастра», — разрешавшим только благополучный, не омрачающий зрителя финал: Шашикала и Ратнапал воссоединились, при посредничестве мудрого раджи примирились и враждующие кланы. Счастливо завершается и «Король Дир», главный персонаж которого в различных индийских адаптациях выступает то как покинувший сцену престарелый актер (отец двух сыновей и супруг благочестивой Корделии), то как ушедший от дел бизнесмен. Героиня «Укрощения строптивой» превратилась из Катарины в Тратику, а адаптация, превысив размер оригинала почти в два раза, стала эталоном, по которому создавались собственные комедии.
Шекспировские пьесы становились хитами во многом благодаря тому, что они нередко попадали в талантливые руки оригинальных драматургов, например Бхаратенду Харишчандры (XIX в.) или В. В. Ширвадкара (недавно умерший наш современник), а шекспировские страсти разыгрывались блистательными актерами. Например, Ганпат-рав Дзоши (индийский Дэвид Гаррик!) в период с 1882 по 1929 г. считался наилучшим из исполнителей шекспировских ролей в Индии — он был непревзойденным Гамлетом, несравненным Отелло (Дзхундзар-рав), выдающимся Макбетом (Манаджи-рав), бесподобным Петруччио (Пратап-рав). Современники отмечают, что он обладал удивительным голосом — слово, сказанное шепотом, без труда доносилось до последнего ряда галерки, а мощный яростный рык продолжал оставаться мелодичным. Вплоть до 1932 г. женские роли исполняли мужчины — зрительный зал впадал в экстаз, когда на сцене появлялся кумир музыкального театра Балгандхарва, а вернее, его героиня — утонченная, элегантная и сладкопоюшая. В 1910-20-х годах в Индии стали невероятно популярны пьесы Ибсена (драматургия которого также вошла в университетские курсы), соответствующим образом приспособленные к социально-культурным традициям различных индийских регионов. В «Кукольном доме» маратхская Нора, по замыслу автора адаптации, перед тем как покинуть дом, должна была сорвать с себя мангалсутру — ожерелье, непременный атрибут замужней женщины. Балгандхарва был настолько шокирован этим подрывающим все освященные веками устои эпизодом, что категорически отказался от роли. Автор адаптации, заинтересованный в первоклассном исполнителе, переписал концовку, добавив лишний акт: Нора ничего с себя не срывает, хлопает дверью, уходит, раскаивается и возвращается.
Среди других получивших признание в Индии драматургов — Мольер, Бернард Шоу (особенно «Пигмалион»), Бертольд Брехт (особенно «Трехгрошовая опера» и «Кавказский меловой круг»), а в последние годы — Альбер Камю, Жан-Поль Сартр и Эжен Ионеско. Из русской классики, возможно, все рекорды (не только в Индии, а на Востоке вообще) побил гоголевский «Ревизор». В переводах и национальных адаптациях «Ревизор» растиражирован на японском и китайском, турецком и арабском, вьетнамском и монгольском; в афганском варианте пьесы действуют мэр Кабула и афганские чиновники; впрочем, и наш среднеазиатский Хлестаков метался по сцене в халате и тюбетейке. Персидский Осип жалуется: Есть так хочется, как будто в животе моторизованная дивизия движется (в оригинале — трескотня такая...), а персидский Хлестаков бахвалится: Суп для меня самолетом из Америки доставляют (в оригинале — Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа). «Ревизор» переводился, переизлагался и переиначивался на индийских языках много раз и с различными коннотациями в зависимости от региона, доминирующих социально-политических реалий и событий, таланта, личных пристрастий и чувства юмора римейкера. Один из индийских Хлестаковых, требуя от трактирного слуги еду и настраивая его против капиталистической эксплуатации (в лице владельца постоялого двора), осложненной в Индии кастовой дискриминацией, пускается в революционную риторику (дело происходит в 50-х годах XX в.): Мы все равны: и ты — бедный, низкокастовый, и я — богатый из благородных. Не приемлю я неравенства. Вот в России его нет, а у нас почему есть?.. Ты в поте лица своего выпекаешь лепешки, а деньги за них кто получает — твой хозяин? Дом строит! Машину покупает!.. Не склоняй голову перед диктатурой имущих, не становись безмолвным агентом капитализма!.. А ну тащи сюда баранину! Незадолго до этого Харбхат и Нарбхат (Бобчинский и Добчинский) — жрецы из храма божественной обезьяны Марути (Ханумана), сына бога ветра, перебивая друга друга, уже поведали коллектору (главе административного округа) о приезжем из Дели.
Наряду с адаптациями, безусловно, существуют и переводы в более привычном смысле этого слова. Шекспир скрупулезно переложен на многие индийские языки без «перемещения из одного места в другое» (а Антон Павлович Чехов — болезненная и нежная любовь эстетствующих индийцев — словно является табу: его переводят, им восхищаются, но редки смельчаки, рискнувшие адаптировать его сюжетно надломленную и жанрово обманчивую драматургию); некоторые театральные труппы предпринимают попытки не индианизировать западную пьесу — однако тяжелые королевские мантии не соответствуют жаркому климату, а голые коленки живьем претят сразу всем религиям, одновременно существующим на индийской земле. Индийский театр вообще — демократический, а не элитарный институт, и массовый зритель тяготеет к более узнаваемому и менее шокирующему.
Рупантар давно и крепко утвердился на индийской сцене и решительно шагнул в кинематограф. В 1950 г. на хинди заговорили персонажи «Ревизора» в фильме Четана Ананда. Гениальный Сатьяджит Рей перенес ибсеновского «Врага народа» в свою родную Бенгалию. Осмелевший рупантар вырвался из рамок чистой драматургии, и в результате в 1991 г. появился пятичасовой телесериал по «Идиоту» Достоевского: действие происходит в современной Индии, Настасья Филипповна приобретает фамилию Мукхопадхъяя.
Самая свежая продукция этого жанра — «История двух Ганпат-равов», поставленная бомбейским режиссером Аруном Кхопкаром (почитателем Сергея Эйзенштейна и поклонником русской литературы XIX в.) по гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Действие происходит в вымышленном Аккадгаве (т. е. Миргороде) в 60-е годы XX в., вскоре после получения Индией независимости и ликвидации княжеского статуса Аккадгава. Городок — тихий и мирный, даже несколько сонный, и компания обывателей развлекается сплетнями и пересудами. Холостяки Ганпат-рав Море и Ганпат-рав Туре — соседи и давние друзья. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собой — отталкиваясь от гоголевской ремарки, режиссер эстетствует в духе театрального гротеска. Склонный к полноте, с трудом пробуждающийся ото сна Море (Мохан Агаше) — неряшлив и малоподвижен; сухощавый, упоенно совершенствующий свое тело Туре (Дилип Прабхавалкар) — элегантен и деятелен. Семейная жизнь обоих не сложилась, поскольку в молодости они поклялись друг другу, что женятся только в том случае, если выбор одного будет одобрен другим, — этого не случилось. Мелодия взаимной приязни связывает эпизоды, где друзья еще не враги.
Во время генеральной уборки в доме Море обнаруживается искусно выделанный меч, принадлежавший его родовитым предкам. Туре охвачен маниакальной идеей завладеть им, но Море не желает расставаться с находкой. Обратите внимание: гоголевское ружье — причина ссоры (Скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем?) — заменено на меч. Заимствованное и появившееся сравнительно поздно огнестрельное оружие не могло бы стать убедительной причиной конфликта: во все времена в Индии меч ценился не только как боевое оружие, но и как феодальная и родовая ценность. И если Иван Никифорович купил свое ружье (Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщете нигде. Я, еще как собирался в милицию, купил его у турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его? Как можно? Это вещь необходимая!), то Море унаследовал меч от родовитых предков, игравших видную роль в княжеском Аккадгаве, и это фамильная реликвия, на которую претендует представитель другого рода! Украшенный драгоценными каменьями меч блестит на солнце, отблески ослепляют одного из Ганпат-равов: в мечтах проносится сладостная картина — острый меч споро входит в спелое чрево арбуза (гоголевский Иван Иванович — любитель дынь и собиратель дынных семечек). В фильме страстное желание обладать редкой вещью и терзания человеческого нутра усиливаются музыкальной темой пронзительной зависти. Ганпат-рав Туре не может уяснить, почему друг не желает расстаться с ненужной вещью, и получает преисполненные здравостью ответы: «Нос мой и меч мой — свое не отдают; глухому уши ни к чему, но он их не отрезает!» Гоголевское оскорбление «гусак» заменяется на «петуха», и Атья-баи, дальняя родственница Море (у Гоголя — Агафия Феодосьевна — ни родственница, ни свояченица, ни даже кума), подливает масло в огонь ссоры между старыми друзьями.
Бурая хавронья, выкравшая из присутствия прошение Ивана Никифоровича, превратилась в козла, дабы не вносить ненужный религиозный привкус в отношения бывших друзей (свинья воспринимается как ритуально нечистое животное и индийскими индусами, и индийскими мусульманами). Среди тех, кто пытается примирить бывших друзей, — диван-джи, бывший главный министр княжества, и пуджари, жрец местного храма. Шаровая молния крутится по комнате и разбивает вдребезги застекленную фотографию двух индийских Иванов. Несмотря на экзотический наряд, гоголевский ёрнический дух и сопутствующая человеческая боль по поводу бессмысленности взаимоненависти бережно сохраняются. Зрителю уютно и тревожно — в промежутках между приступами хохота он задумывается о том, из-за чего происходит «перевыражение» наших собственных жизней…
Скучно на этом свете, господа! — такими словами завершает повесть Гоголь. Все то же поле, мокрые птицы, однообразный дождь, слезливое без просвету небо и такая же беспросветная вражда между двумя бывшими друзьями-неразлейвода. В индийском варианте «скука» повседневности отражается ярким солнцем, непреходящим зноем, экзотической флорой, а также непременными для индийского массового кино танцами и песнями — по сути, танцует и поет весь Миргород, т. е. Аккадгав. У каждого режиссера в запасе множество историй со съемочной площадки. Арун Кхопкар рассказал мне, что его главной головной болью стал козел, которому надо было скормить петицию одного из Ганпат-равов: козел, впрочем, оказался смышленым и быстро развил в себе неистовую страсть к поглощению бумаги — несколько раз на грани полного истребления оказывался сценарий, созданный с любовью к оригиналу литературным критиком и публицистом Шантой Гокхле, с блистательными диалогами известного драматурга Сатиша Алекара.
Как ссорятся между собой герои маратхского рупантара, россияне увидели в 1997 г., когда «История двух Ганпат-равов» была показана на XX Международном Московском кинофестивале.
ПЕРВЫЙ ИНДИЙСКИЙ
АНТИФАШИСТСКИЙ РОМАН
Любовь Вишрама и Малги,
Чакрадхара и Херты
Более шестидесяти лет тому назад, в сентябре 1939 г., через две недели после начала Второй мировой войны, одно из бомбейских издательств выпустило в свет произведение под названием «Театр военных действий». Это был первый в истории индийской литературы антифашистский роман; на обложке имя автора отсутствовало, на титульном листе стояло посвящение: «Мадемуазель Роллан». Критика восприняла роман отстраненно, посчитав его переводным и отметив ломаные контуры текста и шокирующую вольность в описании отношений между мужчиной и женщиной — индийцем и немецкой еврейкой. Уже с именем автора роман был переиздан через несколько лет после окончания войны, опалившей хотя и далекую от европейских перекрестков, но признанную воюющей стороной Индию: в качестве британской колонии она поставляла на фронты Второй мировой природные и человеческие ресурсы.
Вернувшись в Индию после двухгодичного проживания в Европе, Чакрадхар неожиданно для самого себя не спешит увидеться с родными, а, испытывая странную опустошенность и даже стыд от собственной беспомощности, останавливается в номере одной из бомбейских гостиниц. Через несколько дней затворничества, листая страницы англоязычной прессы, он узнает, что пассажирка парохода «Британская принцесса», доставившего его самого на индийскую землю и взявшего курс на Шанхай, погибла, бросившись в море; в той же «Хронике происшествий» сообщалось об изуродованном трупе молодого немца, обнаруженном в лесу под Берлином. Имена обеих жертв — Херты Байн и Карла Франца — знакомы Чакрадхару, и он начинает ворошить в памяти историю 11-дневнего путешествия на пароходе, большинство пассажиров которого были депортированные из Германии евреи.
Чакрадхар весьма цинично оценивает завязывающиеся на пароходе амурные отношения, но неожиданно обнаруживает, что сам всерьез увлекся Хертой. Душевно надломленная трагическим прошлым и неведомым будущим, Херта постепенно оттаивает в компании Чакрадхара и рассказывает ему шаг за шагом события последних лет жизни в фашистской Германии — о том, как крушили дом ее отца, ветерана Первой мировой, как она потеряла работу и осталась без денег с больной матерью на руках, как ее жених Карл Франц, чистокровный ариец, когда она покидала Германию, на вокзале не посмел к ней приблизиться, но передал записку, которую туг же отобрали люди в форме. Чакрадхар видит, как насмешливо-презрительно относится к евреям команда корабля, состоявшая в основном из итальянцев, он поражается, что среди путешествующих индийцев некоторые считают немецких евреев действительно виновными во всех бедах Третьего Рейха — «Не спрашивай, что они сделали, лучше спроси, чего они не сделали». Жизнь оказывается насквозь пронизанной убийственным противостоянием людей — расовым, конфессиональным, бытовым; споря об отношении к евреям, уже пассажиры-индийцы (индусы и мусульмане) объединяются в группы по религиозному признаку.
В Бомбее Чакрадхар получает несколько писем от Херты — она еще пытается найти силы, чтобы, потеряв все, в том числе и его, начать новую жизнь. Последнее письмо приходит одновременно со свежим номером газеты.
Вишрам Бедекар вернулся в Индию в июле 1939 г., не завершив стажировки в кинематографической школе в Англии: ощущалось приближение войны, и покидавшие европейские воды суда были забиты отъезжающими; Бедекару с трудом достали билет на итальянский пароход, отплывавший из Генуи. В бомбейском порту его встречала жена — индийская писательница и общественная деятельница Малти Бедекар; до отъезда в Англию стаж их совместной жизни исчислялся двумя днями. Инициатором их знакомства и последующего супружества была Малти (немыслимое по индийским меркам поведение!). Уже будучи известной, она нанесла визит Бедекару, дебютировавшему в качестве автора пьесы «Дочь Брахмы», созданной по мотивам индусской мифологии. У них обнаружились общие интересы, оба были сильно увлечены Роменом Ролланом (в тот период отношение к Ромену Роллану было для Бедекара определяющим в восприятии любого нового человека) — Бедекар не выпускал из рук «Жан Кристофа», а Малти бредила Аннет из «Очарованной души». В общем, они почувствовали себя единомышленниками, и через некоторое время их интеллектуальная опьяненность друг другом перешла в чувственную. 30 декабря 1938 г. они поженились, а 1 января 1939 г. расстались: Бедекар отправился в Англию, а Малти — в город, куда она как госслужащая получила назначение на один из высоких постов. Последовавший за ней по возвращении из метрополии Бедекар неожиданно оказался в роли мужа своей жены: у нее были положение, солидная зарплата и имя, у него — кроме одной пьесы и двух-трех неудачных попыток кинорежиссуры, ничего.
Антифашистский роман Вишрама Бедекара вырос из семейной ссоры и угнетенного чувства собственного достоинства: «Я никогда раньше не предполагал, что мужчина в своем доме может занимать второстепенное положение». Он рассказал об этом в автобиографии «Две птицы на одном дереве», вышедшей в 1984 г., а как-то, поддавшись на мои расспросы во время одной из наших бесконечных бесед, уточнил некоторые детали откровенно, с невыгодной для автора прямотой (история создания романа переплеталась с дополнительной внутрисемейной коллизией, поскольку на тот момент у Бедекара оказалось сразу две жены — неграмотная деревенская женщина, на которой его, по ортодоксальному индусскому обычаю, женили в отроческом возрасте и которая проживала вместе с его родителями в захолустном городке, и просвещенная экстравагантная Малти, печатавшая свои романы под мужским псевдонимом[44]):
Как-то мы сели обедать. Разговор зашел о романах Малти. К тому времени все только о них и говорили. Они и вправду были хороши. Естественно, жену переполняла гордость. Особенно мне нравились две ее первые книги, но хвалить прямо в лицо язык не поворачивался. Однако хотя бы несколько слов сказать было нужно: все-таки я ел ее хлеб. На нее же как будто что-то нашло, и она спросила напрямик: «А ты читал «Растаявший сон»?» Этот роман она написала вслед за повестью «На качелях». Я ответил: «Читал, а что?» — «Да ничего особенного, просто ты ни слова не произнес о нем, вот я и спросила». Туг мне в голову пришла идиотская мысль расставить все точки над i: «Чем меньше говорить об этой книге, тем лучше, вот я и молчал». — «Что ты имеешь в виду?» — «А то, что она ничего из себя не представляет. Издатель — муж твоей сестры, вот он и решил подзаработать на твоей известности и спровоцировал тебя. А ты пала жертвой».
Малти бросило в жар, лицо ее стало пунцовым, потом она побледнела до синевы, и мне это напомнило газовую конфорку — когда в струю газа попадает искра, пламя вспыхивает и рвется в разные стороны, меняя цвета. Малти, наверное, подумала: «Все хвалят, а он? Пока еще только привыкает к совместной жизни, поэтому большей частью помалкивает. А сам что написал? Одну-единственную пьеску, да и та приказала долго жить через полгода после премьеры! Да еще послания из Англии, полные орфографических ошибок!», а вслух с вызовом сказала: «Болтать легко. Сначала сам сделай, а потом говори».
В ее замечании я не мог не услышать издевку. Никогда заранее не знаешь, какой эффект могут произвести те или иные слова. Они вылетают сами по себе, а потом так же неожиданно исчезают, сотворив нечто непредсказуемое. Я решил тотчас же написать роман и показать Малти, на что я способен. Я ни секунды не сомневался, что у меня получится. На следующий день я взял карандаш и бумагу и закрылся в комнате… Я писал уже несколько дней, но украдкой. Едва Малти возвращалась со службы, я припрятывал бумаги, а как только она уходила, снова принимался за работу. На задуманное ушло 10–12 дней, после чего под предлогом поездки в Умравати к отцу я направился в Бомбей. Там я встретился с Хари Моте /издатель. — И. Г.) и отдал рукопись, предупредив, что при публикации нигде не должно упоминаться имя автора. Через месяц вышла книга. Я ждал. Как-то раз Балутаи /добрачное имя Малти Бедекар. — И. Г.) показала мне мой собственный роман и оживленно заговорила: «Замечательно! Ты читал?» — «Нет, не читал. Я написал». — «Ты? Ты и вправду его написал?» — «Ты разве мне не сказала: сначала докажи делом, а потом болтай? А я сделал наоборот». В книге было посвящение — «Мадемуазель Роллан».
В Индии «Театр военных действий» теперь уже считается классикой, но оценить его по-настоящему читатели смогли только лет через десять после окончания войны. Роман многократно переиздавался, был переведен с маратхи (родного языка автора) на основные индийские языки и, наконец, на английский; современные критики отмечают удивительную свежесть и сочность языка произведения. В послесловии к новым изданиям автор признавал, что нарушил многие пространственные и временные рамки — например, письма Херты, отправленные бортовой почтой из разных точек маршрута, никак не могли так молниеносно достичь Бомбея и, оказавшись в руках Чакрадхара, усугубить его чувство личной вины не только перед Хертой, которой он бессилен помочь, но и перед остальными ее соотечественниками — и плывшими на «Британской принцессе», и уже погибшими в нацистских застенках, и обреченными на скорую гибель. Еще большую, впрочем пророческую, вольность Бедекар проявил в отношении сроков начала войны (напомню, роман создавался в августе 1939 г.!): обладательница немецкого паспорта, Херта лишена возможности сойти с парохода в Бомбее, одном из портов Британской империи, поскольку «Англия находится в состоянии войны с Германией», — известие об этом настигает «Британскую принцессу» в середине маршрута. Политику массовой и целенаправленной сегрегации евреев, проводившуюся в Германии начиная с 1933 г., Бедекар преподнес в концентрированном виде через истории не только самой Херты, но и Марты, Кайтеля и других беженцев (хотя убежать можно было только в самом начале нацистского правления). Рассказывая о масштабной сегрегации евреев в Германии, в том числе о запрете сидеть на парковых скамейках и посещать общественные туалеты, Херта вспоминает, как она, пытаясь сохранить себя как личность, все-таки решилась на нарушение и ночью, тайком, буквально на две секунды коснулась края скамьи в сквере, а потом, охваченная ужасом, бежала по темным улицам, продуваемым ветром: Мне запрещено все… почему тогда этот ветер так свободно дотрагивается до моего тела? Он разве не понимает, что я еврейка? А когда на пароходе Херта и Чакрадхар, осознавая отсутствие у них общего будущего, все-таки не сопротивляются взаимному притяжению, то Чакрадхар говорит ей не обычную фразу любовников: «Какая ты сегодня красивая!», но: Ты сегодня похожа на человека, и Херта расцветает от счастья. Принимая неотвратимость расставания с Чакрадхаром, Херта рыдает, уткнувшись в колени своей уже почти безумной матери: Мама, ты должна меня защитить, смотри, какой ветер дует в этой жизни, мне не устоять!
В автобиографии Бедекар вспоминает, что, когда он возвращался из Англии в Индию, на пароходе вместе с ним плыли полторы сотни евреев; он неимоверно страдал от их рассказов, и его душила ярость от собственного бессилия. По его роману, безусловно, нельзя восстановить историю начала Второй мировой войны или историю Холокоста, но авторский художественный вымысел контаминировал все знания и догадки о ситуации в Германии и определенно предвосхитил многое из того, что впоследствии было создано в европейской литературе и кинематографе. Уплотнив сюжет ярко вспыхнувшим и прерванным на взлете чувством, автор, конечно, вложил в Чакрадхара еще одну толику собственных терзаний, не ведая (во время создания романа), сохранится ли их с Малти любовь (Чакрадхар, в частности, высказывает сомнения в целесообразности брака по любви).
В те годы у Бедекара, несомненно, преобладало профессиональное кинематографическое видение: мир романа состоит из четко отобранных деталей — изгиба шеи, покроя одежды, цвета океана; искусно воссоздан интерьер парохода и прорисованы лица людей, окружавших самого автора в путешествии из Англии в Индию. Бедекар в конце концов станет одним из лучших сценаристов и режиссеров серьезного индийского кинематографа, абсолютно неизвестного в России. В «Театре военных действий» повествование ведется то от первого лица (когда Чакрадхара захлестывают эмоции), то от третьего. Эту «бегающую точку отсчета» Бедекар затем блистательно воплотит в автобиографии «Две птицы на одном дереве», которая получит все самые престижные индийские литературные награды (название автобиографии навеяно притчей из «Мундака-упанишады», в которой рассказывается о двух птицах, сидящих на древе жизни: одна находится в заботах о пропитании, а другая предается созерцанию и в результате приобретает духовный опыт). Бедекар на всю жизнь сохранит мощную творческую потенцию и будет признан классиком нескольких направлений, он наживет немало врагов и завистников и избавится от комплекса неполноценности перед Малти Бедекар.
Вишрам Бедекар родился в 1906 г. и умер в 1998 г. До последних мгновений он оставался красивым, мудрым и духовно сильным; его невозможно было назвать стариком — он был элегантен во всех движениях уже слабеющего тела и проницателен в самых тривиальных высказываниях. 93-летняя Малти — «Мадемуазель Роллан» — осталась одна. Бедекар мне как-то рассказал, что критики нередко упрекали Малти в том, что ее героини неправдоподобно инициативны и напористы, что они насквозь выдуманы и не несут в себе ничего индийского, «они неестественны прежде всего потому, что все как одна забегают в любовных делах вперед мужчин». Малти посмеивалась во время его рассказа, а потом они в лицах разыграли передо мной сиену их знакомства — Малти наступала, а Бедекар пятился в угол. Прожившие вместе 60 лет, они, конечно же, понимали, что невечны. Когда Бедекар умер, свое горе Малти выразила совершенно по-индийски: она рвалась совершить сати — самосожжение на погребальном костре мужа. Этого, конечно, не допустили. Кстати, в романе «Театр военных действий» именно Херта активно ищет сближения с Чакрадхаром, тем самым напоминая о напористости и самой Малти, и ее героинь.
Послесловие. Этот этюд был написан в 1999 г. Малти Бедекар пережила мужа на два года. Я навещала ее во время своих приездов в Пуну, где они жили последние десять лет, переехав из душного и беспокойного Бомбея. О Вишраме мы не говорили, но когда однажды я попросила на несколько дней какую-то книжицу с полки, Малти мне отказала: «Это книга мужа, я не могу дать, не спросив его».
БОМБЕЙ В РОМАНАХ САЛМАНА РУШДИ
Утроба родного города
Представьте, если сможете, изощренно верное ритуалу (о! и матримониально-одержимое) официальное общество времен Джейн Остин, причеренкованное к зловонно-кишащему Лондону, воспетому Диккенсом, полное неразберихи и неожиданностей. как рыбья утроба, набитая извивающимися червями; соедините все и взболтайте в мешанине из имбирного пива с аракой, добавьте для цвета фуксина, вермильона, багреца и известки; спрысните все это проходимцами и шлюхами, и вы получите нечто, напоминаю шее мой потрясный родной город.
Салман Рушди. Земля под ее ногами
«Я приехал, чтобы восстановить утраченную связь», — объяснил Салман Рушди, неожиданно возникнув перед журналистами, ловившими его по всему Дели в середине апреля 2000 г. Формальным поводом для тщательно скрываемого визита была торжественная церемония вручения Литературной премии стран [британского] Содружества, на которую был номинирован (но не удостоен) последний[45], седьмой, роман скандально известного автора — «Земля под ее ногами» (1999). Получив индийскую визу и вернувшись в страну после 12-летнего перерыва, Рушди привычно скрывал места своего пребывания и график передвижений. Наиболее рьяные представители 130-миллионной конфессии индийских мусульман были разгневаны приездом автора «Сатанинских стихов» (1988), запрещенных в Индии после фетвы аятоллы Хомейни, — в Дели жгли изображения Рушди и устраивали марши протеста. «Собираетесь ли Вы посетить Бомбей?» — «Не в этот раз», — ответил Рушди, родившийся в Бомбее в 1947 г., за несколько недель до провозглашения независимости Британской Индии и раздела ее на два государства — Индию и Пакистан. За лапидарностью ответа скрывались тоска и боль. В романе «Прощальный вздох Мавра» (1995), по сути отрезавшем Рушди от родного города, герой-рассказчик поясняет: Дом — это место, куда ты всегда можешь вернуться, какими бы болезненными ни были обстоятельства твоего ухода. В значительной мере авторские alter ego, главные персонажи четырех романов Салмана Рушди[46] — уроженцы Бомбея, до бреда влюбленные в свой город, — воспринимают его как пуп земли и расстаются с ним, как правило, вынужденно, только для того, чтобы всю оставшуюся жизнь грезить: Бомбей всегда находился в самом центре, он был таким с момента своего порождения — неполноценный плод португальско-английского брака и тем не менее наиболее индийский из индийских городов. В Бомбее встретились и слились все Индии. Именно в Бомбее Индия вообще столкнулась с тем, что-не-было-Индией, что пришло через черные воды, чтобы влиться в наши вены. Все к северу от Бомбея называется Северной Индией, все к югу от Бомбея называется Югом. К востоку лежит индийский Восток, а к западу— мировой Запад. Уроженец Бомбея Редьярд Киплинг (чей отец Джон Локвуд Киплинг — художник и архитектор — основал в Бомбее первую в Индии Школу искусств и украсил барельефами представительное здание Крауфордского рынка) называл Бомбей «матерью всех городов». В посвящении «Городу Бомбею» он, похоже, предвосхитил изломанную судьбу самого Рушди и его героев: Те, кто в городе рос таком, /Редко путь выбирают прямой, / Но всегда мечтают тайком, / Словно дети — прийти домой[47].
Вероятно, то, на чем стоит город, оказывает воздействие на его биографию и судьбы населяющих его людей. Лондон, например, выстроен на речном галечнике, Нью-Йорк — на скальном массиве, Санкт-Петербург — на болоте, Калькутта — на зыбком черном шламе речного устья, а Бомбей — город-гумус, город-компост — на перегнившей рыбе и перепревших пальмовых листьях. На семи островах Аравийского моря, названных Птолемеем Гептанезией, произрастали кокосовые пальмы, манговые и тамариндовые рощи и жили рыбаки-коли. Коли поклонялись богине Мумба-аи (Мумба-матушке) — окрашенному густо-оранжевым цветом круглоголовому идолу.
В средние века вокруг этих мест разбушевались страсти — побережье манило как индусских раджей, так и султанов-мусульман, но появившиеся здесь в 1509 г. португальцы положили глаз на удобную гавань — buan bahia, и в 1534 г. договорились с тогдашним султаном о передаче островов португальскому королю. Истово насаждая веру, португальцы застроили острова церквами и монастырями — в таком охристианенном виде «семерка» стала частью наследства португальской принцессы Катерины Брагансы, выданной в 1662 г. за английского короля Карла II. Потом, правда, португальцы засомневались (Португалия потеряет Индию в тот день, когда англичане обустроятся в Бомбее, — поплыло в Лиссабон пророческое послание) и до 1665 г. цепко держались за прежние владения. Британцы проявили упорство, и будущий Бомбей стал самым ценным даром, который был получен от оказавшейся бесплодной королевы и который Карл II, остро нуждавшийся в деньгах, уже в 1668 г. отдал в аренду Ост-Индской торговой компании за 10 фунтов годовых.
Чтобы подтвердить право собственности на острова, Корона неустанно засылала сюда официальных лиц, но влажный жаркий климат, а также болотная гниль и жиревшие на рыбьих отходах навозные мухи делали свое дело: губернаторы отправлялись на тот свет один за другим. Тем не менее местность стала постепенно англицизироваться — появились форт и таможня, затем суд и милиция, доки, типография и плавильный двор. Джеральд Онгьер, названный впоследствии отцом-основателем города, за короткий срок (1669–1677) успел многое, а главное — проявил широту души. Посетивший эти края французский лекарь Деллон с восхищением писал о Бомбее как о городе, где «свободу обретает любой чужак, независимо от религии и национальности». К уже осевшим в Бомбее маратхам-индусам, мусульманам и португальцам присоединились гуджаратские торговцы и ткачи, затем парсы — последователи зороастризма из Ирана, арабы с берегов Персидского залива и армяне; позже появились греки и евреи-сефарды, а затем потекли нескончаемые этнические потоки со всех уголков Индостана. Одна из дефиниций Рушди сравнивает город с греющейся на летнем солнцепеке кровососущей ящерицей: Наш Бомбей напоминает руку, на самом деле это рот, всегда открытый, всегда голодный, заглатывающий еду и таланты со всей Индии. Обаятельный кровопийца…
Гибридный, гетерогенный характер города укреплялся и в результате межконфессионального и межэтнического смешения кровей: полукровки всех мастей и оттенков долгое время являлись социально признанной частью бомбейского общества. Впрочем, руководство Ост-Индской компании неуклонно стимулировало «поставки» добропорядочного женского контингента из метрополии; к тому же индийские просторы, заселенные английскими чиновниками, торговцами и солдатами, увеличивали матримониальные шансы бесприданниц и перезрелых. Томас Худ, английский поэт-юморист начала XIX в., так отразил это в одной из баллад: Твердит мне мать, твердит отец: / «Хоть ты и молода, /Пора бы, дочка, под венец, /Пришли твои года. /Не упускаем мы в страду /Погожих летних дней». / Но ярче солнце я найду, /И потому— в Бомбей[48]. Жена одного из бомбейских губернаторов записала в своем дневнике: Прибытие карго (если мне позволят употребить такой термин) юных дамочек из Англии является одним из волнующих событий, которым ознаменован приход холодного сезона[49].
Урбанизация ландшафта сопровождалась постоянной борьбой с морем за каждый сантиметр суши: сначала строили мосты, затем возводили дамбы, осушали болота и, наконец, перешли к наступлению на водные просторы. Названия «семерки» отпечатались в топонимике городских районов, а имена влиятельных англичан, парсов и евреев, в наибольшей степени определивших облик города, — в названиях улиц, фонтанов, рынков, площадей, банков и театров. Город горел и отстраивался заново: в нем перемешались все существующие на земле архитектурные стили, здесь Запад воочию сошелся с Востоком.
Первое официальное владение англичан в Индии — Бомбей не играл не только заметной, но вообще никакой роли в подъеме и укреплении английской власти на полуострове Индостан; основными сценами политического театра являлись Калькутта и Мадрас. Свой стратегический вес Бомбей начал набирать с того момента, как был освоен морской путь через Средиземное и Красное моря; его звездный час наступил с открытием в 1869 г. Суэцкого канала — это превратило Бомбей в главный порт Индии, мировой торговый и финансовый центр, место делового сотрудничества Запада и Востока. Таковым он остается по сей день, включив в свой актив грандиозную «фабрику грез», известную как «Болливуд». Изменения, однако, затронули «компостную ауру» города — в 1960 г., в результате административного реформирования, Бомбей стал столицей Махараштры, штата, образованного по монолингвистическому принципу; коренные жители Махараштры — маратхи — начали прибирать хрестоматийно космополитический метрополис к своим рукам.
Я родился в городе Бомбее… — так начинает повествование Салим Синаи, герой второго романа, «Дети полуночи» (1980), принесшего Салману Рушди Букеровскую премию. В эссе «Воображаемые родины» (вероятно, названном так по созвучию с популярным на Западе трудом Бенедикта Андерсона «Воображенные общности. Размышления о происхождении и распространении национализма») Рушди, которому приходится разъяснять практически все свои произведения, рассказал, что возле его писательского стола висит старая фотография, на которой запечатлен дом его детства. В конце 1970-х Рушди простоял перед родовым гнездом в Бомбее, не заходя внутрь, несколько часов, и тогда, по его признанию, у него зародился замысел «Детей полуночи» — эпического полотна об Индии XX в. и о судьбах детей, рожденных одновременно— в полночь с 14 на 15 августа 1947 г. — с независимой Индией. Судьба Салима (как и самого Рушди) расколота на несколько частей. Рожденный в семье бомбейских мусульман, он после раздела утратил почти всех родственников, переехавших в Пакистан, «страну чистых». Еще через некоторое время сохранившийся от прежних времен штат Бомбей был разделен на Махараштру и Гуджарат, и приобретший статус столицы маратхов Бомбей стал активно «маратхизироваться». Позднее, оказавшись против своего желания в Пакистане (как и Рушди), Салим, «навечно зараженный бомбейскостью», не может справиться с тоской по Бомбею: Я никогда не простил Карачи за то, что это не Бомбей, — жители его издавали запах молчаливого смирения[50], что угнетающе действовало на мой нос, привыкший к избыточно наперченному бомбейскому бунтарству.
Действие романа, развивающееся не линейно, а ассоциативно, по закону фрагментарного диктата памяти, периодически замирает на торжественном перечислении бомбейских кварталов, улиц и магазинов: Школьный автобус ехал мимо Чаупатти Бич, сворачивал налево от Мэрин Драйв, проезжал Виктория Терминал, направлялся к Фонтану Флоры, мимо станции Черчгейг и Крауфордского рынка… Уорден-роуд, храм Махалакшми, Уиллингдонский клуб, Хорнби Веллард, стадион им. Валлабхаи Патела, Уолсингхэмская школа для девочек на Нипен Си-роуд, больница Брич Кэнди, гробница Хаджи Али и еще около десятка бомбейских топонимов не сходят со страниц романов Рушди. Практически все его герои появляются на свет в родильном отделении при монастыре сестер Девы Марии Благодатной на Алтамонт-роуд, а их жизнь крутится вокруг элитарного района Малабарского холма. Иногда эти словесные формулы заключаются в скобки, не укладываясь в колею, проторенную памятью, и тогда Рушди вкладывает в уста, например, Мораиша Загойби из «Прощального вздоха Мавра» объяснение того, что и так ясно: О, благословенная мантра моего утраченного города! Эти места навечно ускользнули от меня, я властвую над ними только в своей памяти. Извините, если я поддаюсь соблазну оживить их перед своим взором, повторяя как заклинания их имена.
Когда после многих лет скитаний Салим возвращается в Бомбей, «вместилище глубочайшей ностальгии», он истошно вопит на весь поезд: «Back-to-Bom! Back-to-Bom!» Но Бомбей изменился, как и сам герой: Наш Бомбей, Падма! Он тогда был совсем другой — не было ни ночных клубов, ни маринадных фабрик, ни Обероев-Шератонов, ни киностудий; но город рос с умопомрачительной скоростью, приобретая собор и конную статую маратхского воина-императора Шиваджи, который (так мы думали) оживал по ночам и мчался галопом, вызывая трепет, по улицам города — прямо вдоль Мэрин Драйв! По пескам Чаупатти Бич! Мимо величественных домов Малабарского холма, огибая Кемп Корнер, как угорелый несся вдоль моря к Скэндэл Пойнт! Ну да, а почему бы нет, вперед и вперед и затем вниз по моей собственной Уорден-роуд, прямо вдоль огороженных бассейнов на Брич Кэнди, точно по направлению к огромному храму Маха-лакшми и старому Уиллингдонскому клубу… На протяжении всего моего детства, когда в Бомбее наступали плохие времена, какой-нибудь ночной гуляка, страдающий бессонницей, обязательно сообщал, что видел, как статуя движется: беды города моего детства танцевали под оккультную музыку копыт из серого камня.
«Дети полуночи» были названы индийской критикой «пессимистическим произведением»; до сих пор компании Би-би-си не удалось получить от сменяющихся индийских правительств разрешение на съемки в Индии одноименного фильма. Ничего удивительного в этом нет: дебютируя в амплуа enfant terrible, характерного для «детей полуночи» и ставшего впоследствии жанровым для автора, Рушди умудрился «раздать всем сестрам по серьгам». Он выступил с жесткой критикой ведущих индийских политиков (коррупция, непотизм и т. д.), обозвал Индиру Ганди «Черной Вдовой» (открыто напоминая об отрицательной символике вдовства в индийской культуре, а заодно намекая на паучий род с одноименным названием, самки которого пожирают самцов после совершенного соития), а время ее правления — в особенности период «чрезвычайного положения» (1975–1977), — «тиранической паранойей», подверг центральных персонажей романа насильственной стерилизации, навязывавшейся младшим сыном Индиры — Санджаем Ганди, и произнес сакраментальную фразу: «Эти Неру не успокоятся, пока не станут наследственными правителями». Как утверждает Салим: Я рассказал правду… Правду памяти, потому что память обладает своей особой правдой. Она отбирает, опускает, изменяет, преувеличивает, преуменьшает, обеляет и также очерняет и в конечном счете создает свою собственную реальность, гетерогенную, но обычно последовательную версию происшедшего, и никакой здравый человек не поверит в чью-нибудь версию больше, чем в свою собственную. Сам же Рушди убежден, что «противники по своей природе, политики и писатели борются за одну территорию».
Трагические события, перевернувшие жизнь вымышленных Джибрила Фаришты и Саладина Чамчи (а потом и Салмана Рушди), начинаются после того, как они покидают Бомбей. Джибрил, кстати, живет в пентхаусе высотного дома на Уорден-роуд в районе Малабарского холма (построенном, совершенно очевидно, на месте родного дома Салима Синаи из предыдущего романа), откуда видна половина Бомбея, в том числе вечернее ожерелье (огни. — И. Г.) набережной Мэрин Драйв, Скэндэл Пойнт и море. Саладин родился в просторном, но уже изъеденном временем и ветрами парсийского стиля особняке из природного сульфата с колоннами, ставнями и маленькими балкончиками, расположенном почти на самом берегу Аравийского моря, у Скэндэл Пойнт. На предприимчивый ум юного бомбейца произвел неизгладимое впечатление случайно найденный на улице бумажник с фунтами стерлингов, и, совершая меркантильное предательство по отношению к родному городу, он окунулся в мечты о Лондоне: …он стал невероятно уставать от этого Бомбея с его пылью, вульгарностью, полицейскими в шортах, трансвеститами, киношными fanzines, спящими на тротуарах бомжами и притчей во языцех — поющими шлюхами с Грант-роуд, начинавшими как поклонницы богини Иелламы в Карнатаке и закончившими здесь как танцовщицы в более прозаических храмах плоти. Он был сыт по горло текстильными фабриками, внутригородскими электричками, всей неразберихой и культурой чрезмерности во всем, чем обладало это место…
Недовольство Саладина отражает элементы разочарованности самого Рушди, уловившего глубинные метаморфозы в городе детства и обнаружившего появившуюся в нем несамодостаточность: Бомбей оказался культурой римейков. Его архитектура передразнивала небоскребы, его кинематограф бесконечно перепевал «Великолепную семерку» и «Историю любви», заставляя всех своих героев защитить по крайней мере одну деревню от бандитов-убийц и всех своих героинь, хотя бы раз в их карьере — желательно в самом начале, умереть, предпочтительнее от лейкемии. Но, прижившись в Англии, Саладин начинает постепенно отвоевывать (как сушу у океана) обратно свой Бомбей — через попытки примирения с постаревшим отцом, что по сути означает признание кровного и духовного родства. Вот он снова оказался на Скэндэл Пойнт: Саладин почувствовал, как, словно прилив, нахлынуло прошлое, утягивая за собой, наполняя его легкие соленым вкусом возвращения после долгого отсутствия. Я сегодня не в себе, подумал он. Сердце прыгает… Когда он увидел грецкий орех, в дупле которого, как утверждал отец, спрятана его душа, руки у него затряслись. Так или иначе — душа героев Рушди всегда принадлежит Бомбею, и родной город дает им новый шанс на жизнь и смерть; в ценностной иерархии Рушди из четырех якорей души (место, язык, люди, обычаи) решающим является место. Полемизируя с высказыванием «Прошлое — это чужая страна», в «Воображаемых родинах» Рушди утверждает: «Прошлое — это дом». Оно не только было, но есть, даже если отчий дом подвергается физическому уничтожению: Он стоял у окна своего детства и смотрел на Аравийское море. Детство было позади, и вид из этого окна был не более как старое и сентиментальное эхо. К черту! Пусть приходят бульдозеры. Если старое отказывается умирать, новое не может быть рождено.
Пророческое проклятие Епифании, прабабки Мораиша Загойби: Пусть твой дом навсегда останется расчлененным — пусть его основы обратятся в пыль, пусть твои дети восстанут против тебя и пусть твое падение будет тяжким! — наполнено не мистикой, но человеческим опытом, постигшим, что «разделенный дом не устоит». Вскоре после выхода (1995 г.) в свет «Прощального вздоха Мавра» оно поразило и самого автора: путь в Бомбей ему оказался перекрыт.
Главный герой шестого романа-апокалипсиса Салмана Рушди, сын христианки Авроры и иудея Авраама, рожденный, естественно, на Алтамонт-роуд и живущий на Малабарском холме, признает: Я глубоко и навсегда влюбился в неистощимое излишество Бомбея. «Излишество», взращенное на благодатной почве города-гумуса, города-компоста, заключалось не только и не столько в эклектичной архитектурной всеядности города лачуг и небоскребов или мешанине запахов и цветов («слишком много багрянца и пурпура») либо уживающихся социальных контрастах, но и в том, что все реки впадали в его человеческое море. Он был океаном историй, и все мы были его сказителями и говорили одновременно. Какая магия была намешана в этот человеческий суп, какая гармония извлекалась из этой какофонии! За время своего существования Бомбей никогда не доходил до крайностей, как Дели или Калькутта, Ассам, Кашмир или Панджаб, где могли порешить за то, что ты обрезан или, наоборот, обладал крайней плотью, носил длинные волосы или коротко стригся, был светлокож или темнокож и у тебя был не тот язык… В Бомбее такого никогда не случалось. — Вы говорите никогда? — Ну ладно, «никогда» сказано чересчур сильно. Бомбей не получил прививки от остальной страны, и то, что происходило где-то еще — например, распри из-за языкового вопроса, — также расползалось по его улицам. Но по пути к Бомбею реки крови обычно разжижались, в них впадали другие реки, и к тому времени, когда они достигали городских улиц, уродства становились не так заметны. — Я сентиментальничаю? Теперь, когда я оставил все это позади, неужели наряду с другими потерями я утратил и ясность видения? — Может быть, и так, но я все равно стою на своих словах. О, Украшатели Города, неужели вы не понимаете, что в Бомбее было красиво то, что он не принадлежал никому и в то же время всем? Разве вы не видели ежедневные «живи-и-дай-жить-другим» чудеса, бурлившие на его переполненных улицах? На протяжении долгого времени невозможность межконфессиональной агрессии оставалась специфической приметой города-гиганта.
Магическая проза Рушди наполнена совершенно реальными фактами (от мировых до внугрииндийских), и поэтому коммуналистские силы, стремящиеся обезличить Бомбей и превратить его в однородную субстанцию, называются автором напрямую или наделяются такими прозвищами и характеристиками, что не узнать их невозможно. Красивая Мумбаи, маратхская Мумбаи, — ласкает словами город-женщину главарь мафиозной банды Майндук («лягушка-придурок»): однажды моя прекрасная Мумбаи, названная именем богини, а не этот грязный англофильский Бомбей вспыхнет пламенем по нашему знаку. И тогда Малабарский холм превратится в пепел и наступит рам-раджья (царство бога Рамы. — И. Г.). Майндук, целенаправленно прибирающий к своим рукам город, есть не кто иной, как Бал Тхакре, одиозный лидер воинствующей партии «Шив-сена» («Армия Шиваджи» — того самого галопирующего по ночам национального героя маратхов). Рушди с академической скрупулезностью — от побед на муниципальных выборах («Бомбей для маратхов!») до торжества в рамках штата — восстанавливает этапы прорыва к власти региональной «Шив-сены» и разрастание ее в общеиндийскую партию, сотрудничающую с фундаменталистскими организациями индусов. Рушди пишет о «маленьких гитлерах в стиле Майндука», хотя такое сравнение может обидеть Бала Тхакре, в своих речах часто апеллирующего к образу Гитлера, только эпитетом «маленький».
В Бомбее, «лучшем из индийских городов», «славе своего времени», по мысли Рушди, утвердилась новая Индия — «Бога-и-Маммоны», деградирующие нравы превратили его в Содом и Гоморру, и ему уготована судьба Трои: …мы оказались несостоятельны. Варвары были не только у наших ворот, но и под нашей кожей. Мы были нашими собственными конями, забитыми нашим собственным роком. Мы были и бомбардирами, и бомбами. В одурманенном миазмами коррупции и торжествующего коммунализма городе происходят политические убийства и криминальные разборки, гремят взрывы, практически стирающие его с лица земли, и Мораиш Загойби покидает родину: Больше ничто не удерживало меня в Бомбее. Это был уже не мой Бомбей, уже не особый, уже не город перемешанной, полукровной радости. Что-то закончилось (мир?), и я не знал, что осталось. «Прощальный вздох Мавра» был запрошен в Махараштре, столицу которой в 1997 г. местные власти переименовали из Бомбея в Мумбаи. Во время недавнего визита в Индию Рушди отказался от мысли посетить Мумбаи, вероятно, не только из соображений собственной безопасности: он не хотел причинить боль любимому городу.
Кочующие (кстати, как и ряд персонажей) из романа в роман названия бомбейских ориентиров служат не только магическим заклинанием, вызывающим чувственно осязаемый облик родного города, — это и реквием уходящему в небытие: прежние улицы переименованы, дома-символы разрушены, наступление на море и возведение многоприбыльных высотных зданий {как снаряды на обесцвеченной стартовой площадке} уничтожило природную красоту; «королевское ожерелье» Мэрин Драйв превратилось в удавку. В принципе опирающийся на эстетику противопоставления, в последнем романе Салман Рушди возводит эту методику в абсолют: движущей силой сюжета становится отношение героев к Бомбею.
«Бомбейский копатель», В. В. Мерчант, отец героя Умида Мерчанта, одержим прошлым Бомбея: Остальная Индия не представляла для В. В. никакого интереса, тогда как его родной город, одно-единственное зернышко, вращающееся в космической необъятности, содержало все загадки вселенной. Как единственный сын, я, естественно, был для него предпочтительным объектом применения его знаний, его накопительным счетом, его тайным ящиком. Каждый отец хочет, чтобы сын унаследовал лучшее, и мой отец отдал мне Бомбей. Современный Бомбей, забывающий свою историю с каждым заходом солнца и переписывающий самого себя с восходом, становится камнем преткновения между искренне любящими друг друга В.В. и его женой Амир, жаждущей перекроить город в цинично-прагматическом духе «констракторов, билдеров и девелоперов», разрушающей то, что красиво, ради того, что выгодно. Оба обладали городом с такой полнотой, что Умид чувствовал — эта земля не принадлежит ему: …может быть, я покинул Бомбей потому, что весь чертов город напоминал материнскую утробу (womb), и я должен был уехать из него, чтобы почувствовать себя рожденным.
Великую любовь родителей Умида разрушает единственный достойный соперник (соперница) — Бомбей: они восстают друг против друга, и Амир погибает от скоротечной злокачественной опухоли, а В.В., похоронив ее и кинув прощальный взгляд на обезображенные предпринимательским нажимом жены части Бомбея, кончает жизнь самоубийством. Бесконечно ревновавший город к своим родителям, Умид признается: После того как они умерли, я ходил по улицам города, который они любили по-разному, не примиряясь друг с другом. Их любовь нередко угнетала и удушала меня, но сейчас я снова желал ее для себя самого, желал вернуть моих родителей, любя то, что любили они, и таким образом становясь тем, кем были мои родители. Так Умид обрел в наследство любовь к Бомбею, разрушаемому и разрушающему городу.
Другой любовью Умида стала рок-певица Вина Апсара, а соперником — Ормус Кама, приятель по детству и Малабарскому холму. Их противостояние, естественно, затронуло и родной город: В отношении Бомбея, города, который мы оба покинем, Ормус и я никогда не соглашались. В его глазах Бомбей всегда был чем-то вроде захолустья, трухлявой деревни. Более престижные подмостки, подлинный Метрополис, нужно было искать где-то еще — в Шанхае, Токио, Буэнос-Айресе, Рио, и в первую очередь в легендарных городах Америки с их остроконечной архитектурой, перевалившими через разумные пределы лунными ракетами и гигантскими гиподермическими шприцами, громоздящимися над кавернами улиц… Мое отношение было другим. Не презрение, но пресыщение и клаустрофобия вынудили меня покинуть Бомбей. Бомбей слишком уж принадлежал моим родителям, В. В. Мерчанту и Амир. Он был продолжением их тел, а после их смерти — их душ… Молодежь покидает дом, чтобы обрести себя; я должен был пересечь океан, чтобы только вырваться из Утробея (Wombey), родительского тела. Я улизнул, чтобы родиться.
Расставанье с материнской утробой по мере взросления оборачивается желанием в нее вернуться; в минуты отчаяния человек забывается тяжким сном, свернувшись в позе зародыша; родной город видится как утроба с гумусной флорой транскультурности, разрушаемой бактериями коммунализма. Вопреки утверждению Рушди (в статье «В Бога мы веруем»), что «город как реальность и метафора является сердцевиной всех моих произведений», его Бомбей всегда гиперреален (а не «воображаемая родина») и только единожды превращается в фонетически и семантически емкую метафору — «Утробей».
Певец гумуса и компоста, Рушди без устали напоминает, откуда он родом, тоскует по утраченному и для себя, и для других поколений миру плюралистической толпы, которая для него была определяющим образом Индии: Если честно, до сих пор, каждую ночь, я улавливаю сладкий, с привкусом жасмина, озон Аравийского моря… Забудь о Мумбаи, я помню Бомбей. Герои двух последних романов Рушди не только не могут, но и не хотят вернуться в Бомбей — обратного хода в утробу нет.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ ХИДЖРЫ
Превосходство неопределенности
Их называют хиджрами. От мужеподобных фигур, выряженных в женскую одежду, шарахаются прохожие в некоторых кварталах Дели, Бомбея, Лакхнау и Ахмадабада. Их недовольства панически боятся и, чтобы отделаться, бросают деньги в протянутую, словно в вызове, руку. Проклятия, посланные хиджрами, нагоняют порчу на мужчин, превращая их в импотентов, и делают бесплодными женщин.
Маргинальное положение в обществе всегда отпугивало от хиджр исследователей. Наблюдая со стороны, этнографы определили хиджр как религиозную общину, поклоняющуюся богине Бахучаре, чей храм расположен неподалеку от Ахмадабада в штате Гуджарате. Легенда рассказывает о девственнице Бахучаре, захваченной разбойниками. Чтобы избежать насилия, Бахучара ударом кинжала отсекла себе грудь и умерла, истекая кровью. Адепты деифицированной Бахучары, услышав ее призыв, намеренно увечат себя и становятся ее слугами. Социологи предположили, что хиджры объединены в касту, в профессиональные обязанности которой входит исполнение песен и танцев при отправлении ритуалов, сопровождающих бракосочетание и рождение ребенка. Районы, где обитают хиджры, поделены на сферы влияния, и каждая группа отслеживает знаменательные события в своих владениях: если их не приглашают по-хорошему, они заявляются незваными и привлекают к себе внимание грубыми насмешками, сопровождаемыми непристойными жестами. Медики в качестве основной приметы выделили неспособность хиджр к производству потомства: большую часть хиджр составляют кастраты, остальную — гермафродиты с преобладанием тех или иных признаков.
Операция оскопления возведена в ранг ритуала инициации, превращающей импотентного мужчину в собственно хиджру, или нирвану. Последний термин, хорошо известный из буддизма, хиджры интерпретируют как «освободившийся от желаний» и «возрожденный». Вплоть до конца XIX в. инициация проводилась в специальных помещениях храма Бахучары, но была запрещена местными властями; в наши дни она подпадает под статью Уголовного кодекса Индии, а потому проводится тайно. Поскольку операция считается прологом к новой жизни, ее проводит хиджра-повитуха, предварительно испросив разрешение у Бахучары, чье олеографическое изображение украшает жилища хиджр. Если Бахучара улыбнется в ответ, соискатель изолируется от окружающих и около месяца психологически готовится к операции. В знаменательный день, совершив омовение, обнаженный соискатель садится на низкий табурет и, сосредоточившись на образе Бахучары, входит в религиозный транс. Перетянутые прочной ниткой гениталии обрубаются двумя ударами крест-накрест, и в уретру вставляется предотвращающий зарастание прутик. Хлынувшую кровь не останавливают — она уносит с собой прежнюю идентификацию, и следующий после операции час считается определяющим для жизни инициированного. Рана, регулярно дезинфицируемая горячим кунжутным маслом, зарастает самостоятельно, а на 40-й день новоиспеченного хиджру с выщипанными на лице волосами и наряженного невестой, официально принимают в местную ячейку. Только оскопленный хиджра представляет реальную угрозу для обычных индийцев, поскольку считается, что в его проклятия перекачана утраченная им сексуальная мощь, и он в любую минуту может оскорбить окружающих, задрав юбку или подол сари, подтверждая свой почти сакральный статус. В идеале хиджра со временем обзаводится «мужем» и, продолжая участвовать в экономической деятельности общины, в свободное время занимается домашним хозяйством. Не прошедшему инициацию грозят семь перерождений в облике импотента.
Поскольку традиционные занятия стали приносить меньше доходов, хиджры активно занялись проституцией. В их среде это ремесло считается позорным, хотя они и пользуются большим спросом у клиентов, «будучи женщинами больше, чем сами женщины» — их «женственность» часто доходит до гротеска и эпатажа. Хиджры отращивают длинные волосы, наносят на лицо яркий грим, подражая героиням индийского кинематографа, и украшают себя драгоценностями. От евнухов (как их иногда называют в западной литературе) хиджры отличаются трансвестизмом, тягой к мужскому полу и закрепленной ролью в индусских ритуалах, связанных с жизненным циклом. В индийских языках само слово хиджра обладает грамматической характеристикой мужского рода, но после инициации хиджры принимают женские имена и говорят о себе в женском роде. Окружающие считают их мужчинами, они сами считают себя женщинами, демонстрируя признанное современной антропологией отношение к полу как культурному конструкту.
Аранжируя определенным образом известные легенды, хиджры возводят свое происхождение к мифической древности, описанной в эпической поэме «Рамаяна». Они рассказывают о том, что жители города Айодхъи последовали за добродетельным царевичем Рамой, злыми кознями отправленным в изгнание. На границе города царевич попросил горожан вернуться к своим делам и не подвергать себя мучениям. Когда через 14 лет Рама, совершив массу подвигов, приблизился к Айодхъе, то увидел у городских стен нескольких человек, прождавших его там все эти годы. Он удивленно спросил: «Почему вы не вняли моему распоряжению?» — «Потому что ты обратился только к мужчинам и только к женщинам, но не к нам», — ответили хиджры. Современные хиджры причисляют и Арджуну, одного из пяти братьев Пандавов, героев другого эпоса — «Махабхараты», к своему клану, добавляя несуществующие детали к повествованию о его жизни в качестве учителя танцев и пения царской дочери. Особые отношения связывают хиджр и с могущественным Шивой, чей детородный орган (лингам) является отдельным от Шивы объектом религиозного поклонения, а следовательно, Шива также кастрат. К тому же индусская мифология и храмовая архитектура уделяют значительное внимание богу Шиве в образе Ардханаришвары — полумужчины, полуженщины, что свидетельствует о том, что Шива еще и гермафродит.
Индиец Кхушвант Сингх популярен не только у себя на родине, но как писатель, журналист и дипломат он хорошо известен в англоязычном мире за пределами своей страны. Роман «Дели» посвящен городу, вернее, городам (их насчитывают от семи до шестнадцати), возведенным и разрушенным на территории современной столицы Индии. Познания Кхушванта Сингха простираются от легенд о мифологической Индрапрастхе (III тысячелетие до н. э.), прославленной столице все тех же Пандавов из «Махабхараты», до разногласий между Эдвином Дутьенсом и Гербертом Бэйкером, архитекторами Нового Дели, торжественно открытого в декабре 1931 г., и махинаций строительных подрядчиков в начале 80-х годов XX в. Поскольку Кхушвант Сингх создавал художественное произведение, то ему понадобилось 25 лет, чтобы «склеить» эту историю, растянувшуюся на несколько веков. «Склеивающей субстанцией» оказался хиджра: драматические главы, живописующие тот или иной период в истории Дели, неукоснительно перемежаются главами о взаимоотношениях безымянного героя романа — журналиста и хиджры Бхагмати.
Я возвращаюсь в Дели (ж. р. — И. Г.), как я возвращаюсь к своей любовнице Бхагмати, натаскавшись вволю по заграничным шлюхам. У Дели и Бхагмати много общего: нал ними слишком долго измывались подонки, и они научились скрывать свои соблазнительные прелести пол личиной отталкивающего уродства. И только любовникам, к которым я себя причисляю, они открывают свое подлинное естество.
Желчный, шокирующе откровенный герой Кхушванта Сингха на первой же странице с натуралистическими подробностями описывает неприглядные стороны современного Дели: «гангренозное разрастание крикливых рынков», «убогие постройки над мертвой рекой», «вонь дренажных каналов» и «мокротные плевки на тротуарах». Ту же цепкость он сохраняет и при взгляде на Бхагмати: «с темной кожей и оспинами на лице», «короткая и толстая», «с неровными, желтыми от жевания табака зубами», «с непристойной речью и еще худшими манерами». Внешний вид определяет первую реакцию, но важнее, по мысли героя романа, слушать свое сердце, а не голову, и тогда заблестит аквамариновое небо Дели над совершенными формами куполов и минаретов, земля запахнет жасмином, а Бхагмати станет похожей на храмовую танцовщицу с устами, благоухающими гвоздикой… Я пытаюсь объяснить, что хотя я испытываю омерзение от жизни в Дели и стыжусь своей связи с Бхагмати, я не могу слишком долго находиться вдалеке от них.
Герой романа, оказываясь в стесненных финансовых обстоятельствах, водит по Дели иностранных туристов, предпочитая, впрочем, туристок. Бхагмати же он показывает особые — находящиеся в стороне — достопримечательности: их тянет друг к другу (занимающаяся проституцией Бхагмати предпочитает журналиста другим клиентам), но такая разрывающая конвенционалистские рамки пара не может открыто появиться ни в общедоступных местах, ни в «делийских салонах». Любовники отправляются на прогулки в наиболее заброшенные части города — так в роман инкорпорируются исторические главы, рассказывающие о переходящем из рук в руки Дели через трагические коллизии в жизни его обитателей. Почти любой персонаж — исторический или вымышленный — мог бы сказать о себе словами Мусадди Лала Каястхи, писца при дворе делийских правителей XIII в.; Меня не признавали индусы и избегала собственная жена. Меня использовали мусульмане, которые при этом сторонились моего общества. Я был как хиджра, который ни то ни другое, но над которым все измываются.
Переплетение индусско-мусульманской истории города с жизнью хиджры-любовницы — то ли индуски, то ли мусульманки — могло бы остаться чисто композиционным приемом, если бы параллелизм повествования не вскрыл типологического сходства между двумя уродливо-прекрасными привязанностями героя романа. И образ города, и личность хиджры не обладают четкими контурами: оба находятся в промежуточном состоянии — от одного правителя/клиента к другому; транзит предполагает не устойчивую, но подвижную, определяемую условиями транзита идентификацию. Мимолетная эмоция, которую хранит память, оказывается важнее сконструированного имиджа: Я уже сказал, что у меня в жизни две страсти — мой город Дели и Бхагмати. У них есть две общие черты: с ними весело и они бесплодны.
Жизнь самого героя напоминает взлеты и падения его родного города: он стареет, его перо теряет остроту и он становится менее привлекательным для окружающих. Его (как и Кхушванта Сингха) наполняет незаживающей болью воспоминание о кровавом разделе страны на два государства в 1947 г. и пугает обострение межконфессиональной напряженности в обретшей независимость Индии. Он на свой лад «передергивает» конец предания, приписываемого «Рамаяне», и объясняет, что, тронутый преданностью хиджр, Рама благословил их следующими словами: «В 1947 году вы получите Хиндустан в свои руки».
События, описанные в «Дели», завершаются 1984 годом, когда в результате мести со стороны сикхских сепаратистов, изгнанных по приказу Индиры Ганди из «Золотого храма», сикхской святыни в Амритсаре, премьер-министр страны погибает от пуль, посланных собственными телохранителями-сикхами. В Дели начинаются сикхские погромы, и постаревшая Бхагмати через окрашенный в цвет крови город спешит на помощь своему другу-журналисту, по конфессиональной принадлежности сикху (как и Кхушвант Сингх). Сикхские квартиры уже помечены специальными знаками, но Бхагмати надеется, что погромщиков остановит традиционный страх перед непреодолимой мощью проклятия, посланного хиджрой. Развязка остается неизвестной, но неопределенность интерпретации (как и в случае с видоизмененным пророчеством Рамы) элегантно соответствует общей поэтике романа.
Нет необходимости представлять известного американского писателя Джона Ирвинга, и нет никакой возможности пересказать ни один из его романов. Поставленные по ним фильмы зиждутся на одной десятой содержания его перенасыщенных деталями и персонажами произведений. «Сын цирка» — единственный из романов Ирвинга, чье действие развертывается в Индии, за пределами авторской ойкумены, и неудивительно, что из индийских примет Ирвинг целенаправленно выхватывает наиболее пряные и бьющие по нервам.
Главный герой — Фарукх Дарувалла — уроженец Бомбея, парс (последователь зороастризма) по конфессиональной принадлежности, в зрелом возрасте перешедший в протестантизм, проживающий в Канаде и женатый на австрийке. Дарувалла, образцовый семьянин и преуспевающий хирург-ортопед Детского центра в Торонто, в качестве хобби занимается исследованием крови карликов, пытаясь обнаружить ген ахондроплазии. Карлики в большом количестве представлены в бродячих индийских цирках, и у Даруваллы всегда есть повод для нового визита в Индию, за которым скрывается надежда на обретение собственного пространства. Фарукха терзает пожизненный транзит, на который он обречен, и настораживает гибкость собственной идентификации; к тому же втайне от всех Дарувалла поставляет сценарии детективов для бомбейской «фабрики грез», объединенные фигурой неподкупного и хладнокровного Инспектора Дхара. В последнем из них — «Инспектор Дхар и убийства девушек из клеток» — серийным убийцей, рисующим на животе своих жертв голову подмигивающего слона, оказывается хиджра. Спусковой крючок нажат: кинематограф подсказывает модель поведения реальному преступнику — миссис Догар, трансформировавшейся путем хирургического вмешательства из мужчины в женщину, т. е. персонажу, разделяющему физиологические особенности хиджр, а оскорбленные бомбейские хиджры объявляют войну инспектору Дхару.
Настоящий инспектор полиции, распутывающий настоящую серию преступлений, спрашивает Даруваллу: Вы знакомы с кем-нибудь из хиджр лично?…В фильме вы сделали убийцей хиджру. Что побудило вас к этому? По моему опыту, хиджры, которых я знаю, достаточно кроткие люди, они почти что приятные. Бывает, что проститутки-хиджры ведут себя смелее, чем проститутки-женщины, но я все равно не считаю их опасными. Может быть, вы знали кого-то, кто был не слишком симпатичным? Удивленный Дарувалла отвечает: Ну кто-то же должен был убивать, здесь не было ничего личного. Логически объяснимо, что в экзотическом романе (криминальном лишь в степени, характерной для всех его произведений) Ирвинг использует экзотических хиджр как композиционный элемент, не забывая практически всех своих героев отправить в (часто комическую) прогулку по известным бомбейским кварталам, где обитают евнухи-трансвеститы. На вопрос инспектора полиции честный и порядочный, склонный к самоедству Дарувалла, может быть, единственный раз в жизни дает приблизительный ответ, отказываясь признать гнетущую неопределенность, непрекращающиеся метания, непреодолимую промежуточность, роднящую его с изобретенными им кинематографическими персонажами и физиологически неполноценной миссис Догар. Спрошенный на улице смешным мальчуганом: «Откуда Вы?», Фарукх неожиданно отвечает, радуясь точности формулировки: «Я из цирка», т. е. утрированно не такой, как все.
О Лесли Форбс известно только то, что она родилась в Канаде и последние двадцать лет живет в Англии, совмещая профессии художника и радиорепортера. Героиня ее дебютного романа, Розалинда Бенегал, дочь англичанки и индийца, криминальный теле- и радиорепортер, приезжает после двадцатилетнего отсутствия в Индию, обеспокоенная загадочными посланиями своей сводной сестры: На второй месяц сезона дождей… у меня родится сын. Знакомые сказали, что ты работаешь над серией репортажей о смертных приговорах. Мой муж снимает индийскую версию шекспировской «Бури». Говорят, что он убил свою первую жену, Майю, которая должна была сниматься в роли Миранды. В Бомбее дикая жара. Меня преследуют евнухи и прокаженные. В последней открытке сестра, тезка практически единственного женского персонажа «Бури» (да и Розалинда получила свое имя в память о героинях Томаса Лоджа и Шекспира), пишет: Помнишь, как я боялась воды и ты учила меня плавать в ванне? Здесь такая жарища, что я думаю только о воде. Забавно, что у беременных женщин отходят воды. Уже четыре недели, как я не видела евнуха. Не обращай внимания на то, что я писала раньше. Не нужно сюда приезжать и спасать меня. Супруг индийской Миранды — Проспер (тезка главного героя «Бури») Шарма — преуспевающий режиссер индийского Болливуда, и интрига интеллектуального (даже просветительского — по диапазону искусно вплетенных рефлексий: от теории штормов до разновидностей змеиных ядов) триллера Форбс, насквозь пропитанного индийской экзотикой, стремительно развивается на фоне естественной и кинематографической «Бури».
Включив телевизор в гостиничном номере погрузившегося в пред-муссонное пекло Бомбея, Розалинда профессионально «делает стойку» на криминальную хронику: На пляже Чаупатти обнаружен уже четвертый труп хиджры. Источники предполагают, что он мог иметь отношение к бомбейскому миру кино, — и родственным чутьем улавливает связь с невнятным содержанием эпистол сестры: хиджра больше не преследует Миранду, потому что он мертв. Прорвавшись через заслоны к следственным материалам, Розалинда обнаруживает фальсификации в патологоанатомической экспертизе Сами, первого из погибших хиджр, и его собратьев («сосестер»?) и с головой бросается в омут собственного расследования. Розалинда бесстрашна до чреватого летальным исходом безумия, нахраписта и нелегка в общении, для нее не существует преград — она действует подкупом и лестью, шантажом и шахматным расчетом, ворует улики и подбрасывает новые: Как все бродяги, Сами и я вторгались в чужие владения, были нарушителями границ. Через наши компромиссные связи с изгоями и варварами (другими словами, с теми, кто не говорит на правильном языке или не спит с людьми правильного цвета кожи) мы превращались в средство, привносящее хаос в стабильную сердцевину общества.
Ком грязи, в которую окунулась героиня «Бомбейского льда», нарастает за счет многообразия экстракинематографических интересов подозреваемых в убийствах (среди них кроме Проспера Шармы его ученик — отсюда перекличка с именем шекспировского Калибана — и соперник, сценарист Калеб Мистри, чья жена, как и Майя, выбросилась или была выброшена из окна; торговец недвижимостью Роберто Экрес и др.) — отмывание денег в кинематографе, контрабанда антиквариата и изготовление подделок, политический пиар, поддержка индусского фундаментализма и риэлторские махинации. Коллизия осложняется тем, что Сами был не только свидетелем гибели первой жены Проспера Шармы, любовником (любовницей?) самого Шармы, но художником и скульптором, чей талант использовала мафиозная группировка, а также сыном кого-то из круга подозреваемых: Родители выгнали его из дома много лет тому назад, когда узнали о его наклонностях. Для них это был тяжкий позор. Но он не был выродком и не увечил детей, он был мягким человеком, рожденным не в той шкуре. К тому же Сами оказался обладателем компрометирующих фотографий: с их помощью он пытался воздействовать на высокопоставленных чиновников, защищая таким образом то немногое, что имелось у жителей трущоб, на месте которых предполагалось строительство элитных клубов и отелей. Жители трущоб обитают за пределами пространства, нанесенного на карту, подобно кентаврам, гарпиям, сиренам или гибридному потомству от беспорядочных связей между разными видами. Я и на себя смотрю так же, и на Сами. Мы два гибрида на кромке карты. Бескомпромиссность Розалинды, искусно лавирующей среди множества трупов, приводит к гибели Калеба Мистри (разработчика идей), наступившего на оголенный провод, и Роберто Экреса (исполнителя убийств), потревожившего змеиное логово в «змеиное время» — сезон дождей.
Финал в финале (т. е. наказание заказчика убийств — «ока бури») разыгрывается в пещере на фоне Ардханаришвара — бога Шивы в образе гермафродита, где снимается заключительная сиена «Бури» и куда героиня проникает в гриме хиджры — участника массовки. Перемешенная в Индию XVII–XVIII вв., «Буря» трансформируется в эпическое полотно, живописуя изгнание узурпатора Просперо, выведенного в образе могольского императора Шаха Джахана, и возрождение индуизма, носителем которого является Калибан (местный житель острова, на который высадился Просперо). Роль Калибана исполняет хиджра, превращающийся в прекрасную женщину, инкарнацию Мумтаз (чья память увековечена мраморным мавзолеем Тадж Махал в Агре), великую любовь Шаха Джахана. Хиджры исполняют также роли Ариэля, духа воздуха, и даже Юноны и Цереры в виде индийских богинь.
В разгар съемок при огромном стечении публики с помощью компьютерных технологий Розалинда проецирует на стены пешеры фотографии убитых хиджр, погибших Майи и жены Калеба Мистри, удивительно похожей на Сами. Проспер Шарма не осужден — даже после того, как Розалинда передала полиции все собранные ею улики и аудиокассеты с откровениями, но он раздавлен: Болливуд, как и его двойник в Калифорнии, не желает иметь дела с проигравшими.
В названии романа задействован оксюморон: оглушительно жаркий (даже в период муссонов) Бомбей никак не ассоциируется со льдом, но в эпиграфе Форбс напоминает о жаргонном значении слова ice — «убийство», а потом постоянно обыгрывает и в прямом и в переносном смысле существительное и производный глагол (to ice) в тексте. К тому же индийский лед, приготовленный из сырой воды, может убивать и в прямом смысле; Большинство из тех, кто заболевает в Бомбее, предполагает, что это является следствием какой-нибудь грязной местной стряпни. Они говорят: «Я ни разу не притронулся к воде! В ней полно бактерий». Вообще-то яд часто приходит из более привычного источника. Они забывают о бомбейском льде… Убивает то, чему ты доверяешь. Те самые Великие Моголы, изгнанию которых посвящена индийская версия «Бури», и познакомили Индию со льдом, доставляя его из Гималаев. Студия Калеба Мистри, где он неосторожно наступил на провод, располагается в бывшем льдохранилище, куда еще в XIX в. англичане привозили с Великих озер Северной Америки лед, упакованный в войлок и опилки: Это было в последний раз, когда в Бомбее можно было не опасаться, что лед тебя убьет. «Нет, мадам, тот лед тоже убивал. Когда ледник переделывали под мельницу, в оттаявшей земле нашли труп». И когда героине, в общем-то не особенно разборчивой даме, становится совсем тошно от грязи (в том числе и от муссонных подтеков), окружившей ее, она заказывает в бомбейских ресторанах побольше льда, чтобы очиститься, вернее прочиститься, физиологически. Так лед еще и возвращает к жизни. В нем, в отличие от воды, есть способность устремляться ввысь: Вода — горизонтальная величина. Ты не можешь придать ей форму, ты только можешь прорыть каналы, по которым она потечет. Она ищет низину. Лед совсем другой. Лед оформляет вершины, у него есть форма.
«Бомбейский лед» оказывается и философским романом, утверждая экзистенциональное превосходство двойных возможностей, или изначальной (приобретенной) неопределенности, т. е. не точечную, а гибкую, подвижную субстанцию или личность: Соль — прежде всего превращающее вещество. Украденная у моря, но восхваляемая за ее способность вытягивать воду, она великолепно сохраняет и блистательно разрушает. Именно солью мы стимулируем беременные муссоном облака (чтобы сошли воды. — И. Г.). Соль делает лед и превращает его в воду… «Подвижная личность имеет преимущества по жизни», — учил Розалинду отец, имевший жену в Англии и жену в Индии. Он же однажды сравнил ее с муссоном. Я думаю, это отражало его двойственное отношение ко мне, как индийцы одновременно радуются и тревожатся в преддверии муссона.
И на языковом уровне «Бомбейский лед» от начала до конца выдерживает возведенный в абсолют принцип неопределенности, транзитного состояния. Интеллектуально упоительны двусмысленные названия глав, выполненные в «водном» регистре (например, «Амфибии», ведущие двойной образ жизни), и игра образов, главный из которых — хиджра — становится и ключевым философским символом.
Центральные герои всех трех романов — и делийский журналист, и Фарукх Дарувалла, и Розалинда Бенегал — в значительной степени сами являются носителями признака неопределенности: все они находятся в состоянии транзита, в позиции «между». Расплывчатость их собственной идентичности, разбросанной между континентами, национальностями, расами, религиями, профессиями и даже хронологическими срезами, легко перемещаемыми их памятью или фантазией, определяет их восприятие промежуточности как своего рода метаценности. Каждый из героев как будто заново подтверждает известное положение Мирчи Элиаде, что «андрогинность — это различительный признак первичной целостности, в которой соединяются все возможности, — первочеловек, мифический предок человечества во многих преданиях мыслится как андрогин»[51].
Этимология слова хиджра восходит к персидскому «хиз» — «наглый», «бесстыжий»; персидская же лексика используется для ключевых понятий, структурирующих отношения между хиджрами. Многие обычаи, включая захоронение в земле вместо индусской кремации, когда в роли могильщиков выступают местные мусульмане, придают культуре этой своеобразной общности легко уловимый мусульманский привкус. И хотя современные хиджры усвоили язык мифологических и религиозных символов индуизма, генезис этого явления как социально-культурного института не обнаруживает следов в индийской древности, но связан с привнесением на индийскую почву исламской культуры. Явные признаки этого феномена, выросшие из института собственно евнухов, проявились во время правления одного из потомков Великих Моголов, Мухаммеда Шаха «Рангилы», в первой половине XVIII в. (интересно, что XVIII век как будто пронизан идеями институциональной кастрации — ср. хотя бы итальянских оперных кастратов или русских скопцов). Затем, следуя логике двойственности и не отказываясь от мусульманского наследия, хиджры нашли для себя незанятую нишу в мире индуизма, где состояние неопределенности всегда характеризовалось концентрированной сакральностью. Ганеша, бог всех начинаний, имеет голову слона и туловище плотного человека; индусская мифология изобилует киннарами — небесными музыкантами с лошадиной головой и человеческим торсом; эти существа к тому же могут существовать часть времени в виде мужчин, а часть времени — в виде женщин; самым таинственным временем суток считаются сумерки, роковым местом — порог дома, а дорога, ведущая к храму, наполняется большей святостью, чем обитель бога.
Как сравнительно молодой элемент в культурно-социальном панно Индии, в наши дни институт хиджр продолжает развиваться и изыскивает новые возможности для самоутверждения. Они создали Всеиндийское собрание хиджр, которое занимается правами хиджр и реабилитацией их репутации, давно пострадавшей из-за устойчивых представлений, что они похищают и насильно кастрируют мальчиков.
Во время очередной переписи населения в 1991 г. хиджры потребовали признать их третьим полом, отказываясь регистрироваться как в графе «мужчины», так и в графе «женщины». Уже известны имена хиджр, избранных в муниципалитеты нескольких индийских городов; один (одна) из них стал(а) мэром Горакхпура (штат Уттар Прадеш), а другой (другая) — членом законодательного собрания штата Мадхъя Прадеша. В июне 2001 г. в городе Ратхе был созван Общенациональный конгресс хиджр, заявивший о политических притязаниях на местном, региональном и общеиндийском уровне. По преданиям, именно на месте современного Ратха находилось царство Вираты, где Арджуна в образе хиджры обучал царскую дочь танцам и пению. Хиджры убеждены, что настало время для исполнения пророчества Рамы. И можно только удивляться, что образ индийского хиджры так поздно вошел в большую литературу.
Послесловие. В начале 2003 г. хиджра Камла Джан из небольшого городка Канти в Мадья Прадеше по решению суда был(а) отстранена(а) от должности мэра, которую он(а) занимал(а) с 2000 г. Суд основывался на том, что выборная должность главы Канти «зарезервирована», в соответствии с проводимой индийским правительством политикой привлечения женщин к участию в делах государства, за женщиной, в то время как Камла Джан «технически» все-таки мужчина. Решительный/ая Камла и его/ее сторонники, которые считают, что «евнухи, свободные от кастовых и классовых предпочтений, могут лучше других работать на благо простого народа», подали апелляцию в Верховный суд в Дели.
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕМЕЙСТВА ДЗОШИ
Вряд ли за словами «индийская кухня» или даже «индийский ритуал принятия пиши» для россиянина скрывается какая-либо реальность, пусть даже очень обобщенная. Как велико различие между русской и грузинской, молдавской и узбекской, литовской и армянской пищевыми традициями (хотя в течение десятилетий они существовали в рамках единого государства), так же сильно различаются методики приготовления пиши, набор исходных продуктов и готовых блюд, отношения, складывающиеся в ритуал трапезы, у тамилов, панджабцев, телужан и других народов, населяющих более чем миллиардную Индию. И можно не сомневаться, что нобелевский лауреат Рабиндранатх Тагор, брахман-бенгалец, предпочитал совсем иные кушанья, нежели кашмирские брахманы Джавахарлал Неру и Индира Ганди или выходец из торговой прослойки гуджаратец Мохандас Карамчанд Ганди (по крайней мере до того, как он стал экспериментировать с различными диетами и превратился в Махатму — «Великую душу»).
В настоящем опусе речь пойдет только о маратхах — более чем 95-миллионной нации, населяющей один из 28 индийских штатов — Махараштру (столица Бомбей/Мумбаи) и представленной крупными диаспорами в странах Европы и США. Вообще, у самих маратхов всяческие яства столь разнообразны, а модели поведения столь различны в зависимости от календарных или семейных праздников, будней или дней траура, принадлежности к той или иной касте, места проживания и личных вкусов, что легче описать рацион Дзоши или Канеткара (маратхских Иванова или Петрова) за конкретный день, чем создать модель типа «селедка-водка, щи да каша». И все же типизация и обобщение наряду с выявлением неоспоримых тенденций могут поспособствовать созданию «пищевого» портрета воображаемо го среднего представителя средних слоев маратхского общества. Пусть это будет Дзоши, преподаватель колледжа.
День Дзоши (как и все индийцы, он встает рано — между пятью и шестью часами утра) начинается с чашки крепкого сладкого чая с молоком, заботливо поданного женой. Собственно, в Индии, когда говорят о чае, то подразумевают только такое сочетание, хотя это и английское заимствование. Утренний чай занимает столь прочное место в сознании Дзоши, что уже который год подряд он не без содрогания вспоминает поездку на конференцию в Москву и растерянность, сменившуюся болезненной разбитостью, когда выяснилось, что чая с молоком на рассвете в гостинице не найти никогда и ни при каких обстоятельствах. Если потом на протяжении дня и перепадал чай, то поистине в каком-то варварском варианте — бледно-ненасыщенный и без молока. Да и еда была какая-то грубо-пресная, лишенная изящества, с этим постоянным «капустным супом».
За воспоминаниями Дзоши не расслышал голоса жены, и она снова прокричала, что горячая вода для омовения готова. Утреннее омовение — процедура не только гигиеническая, но и ритуальная: без нее нельзя приблизиться к домашнему алтарю и совершить ежедневное поклонение родовому божеству. Затем последовали газета и подготовка к лекции. К десяти утра ароматная завершенность шипения с кухни, где уже более двух часов сновала жена, подсказала ему, что еда готова. Да, меньше чем за два часа жене не уложиться — сколько сил забирает лишь предварительная подготовка овощей: там пленочку удалить, здесь — кожицу и перегородочки или горошины из стручков выпушить, и все мелко порезать, нарубить, растереть, перемешать. Тесто для лепешек надо приготовить, а когда и разных видов — намять, раскатать. Копру кокоса сначала надо выскоблить из скорлупы, а потом натереть — на все время уходит. Приправы, конечно, теперь уже можно и в миксере приготовить — в прошлом году купили, но жена почему-то его не особенно жалует и по-прежнему пользуется старым пестиком и ступкой. Да и сам Дзоши любит есть по-старому, как было заведено при родителях, хотя гостей обычно угощает в просторном холле и за столом.
Дзоши прошел на кухню. Около стены был положен пат — квадратная дощечка для сидения, а напротив, на полу, поставлен металлический поднос. Несмотря на утренние хлопоты, жена успела вывести вокруг него ранголи — цветной узор из мелко перетертого порошка, не только приятно задевающий эстетические струнки, но и наполненный благоприятным значением: в этом доме уважают обычаи. Дзоши придирчиво взглянул на поднос и, мысленно разделив его на четыре части, проинспектировал каждую — кажется, на этот раз все верно. Это вчера жена была расстроена очередным повышением цен и допустила промашку. Опять вспомнилась Москва — валят на тарелку все подряд, и никакой системы за этим не чувствуется.
Два верхних квадранта — это приправы: в левом — щепотка соли, долька лимона, кусочки острого маринада из перца чили и незрелого манго, два-три кружка лука, пригорок салата из свежих овощей (сегодня — измельченный огурец с арахисом и кинзой в простокваше) и бхаджья — миниатюрные пончики из гороховой муки с вкраплением местных пищевых трав — все это, так сказать, побочные приправы. В правом квадранте — основные приправы: баклажанчик-лилипут в остром соусе и смесь шпината с бобами. Именно эта часть подноса варьируется от трапезы к трапезе, все остальное является величиной постоянной.
Дзоши — строгий вегетарианец, как, впрочем, и большинство индийцев: яйца, и те подвергаются запрету. А в Москве то кекс предложат (в тесто разве яйца не кладут?!), то майонез, и все от души — сразу же поняли, что на мясо он даже смотреть не может. А мясо какое — почти одна говядина: прости их, корова-матушка! Они, конечно, слышали, что корова — священное животное у индусов, но и им от своих традиций как отказаться?! Да и собственных овощей у них наперечет. Разве сравнить с тем разнообразием, что произрастает в Индии: в ход идут и клубни, и стебли, и плоды, и цветки (до чего изысканный вкус у блюда из банановых бутонов!), и листья, и не объяснить никак — нет этих названий в других языках, потому что ни овощей таких, ни плодов, ни трав не имеется в наличии. Или опять же свинина — как можно есть мясо такого грязного животного! Вон Канеткар, сосед, он не вегетарианец, раз-другой в неделю ходит в ресторан, заказывает себе когда баранину, когда цыпленка, а когда креветки. Жена его тоже не отказывается, но дома ни за что не приготовит: во-первых, неприятно как-то, а во-вторых, неудобно перед стариками родителями.
На нижней половине подноса — собственно еда. В левом квадранте — тонкие пресные поли — пшеничные лепешки, приготовленные на плоской сковородке без жира, или пури — тоже из мелко просеянной пшеницы, вздувающиеся, словно воздушные шарики, когда их обжаривают в глубокой плошке с кипящим растительным маслом. Иногда бывают и грубые лепехи из дзвари и бадзры — это просяные культуры, которыми Махараштра славится больше всех других штатов. В деревнях только их и едят, а в городе они стали как бы символом определенной — почвенной, что ли, — утонченности, да к тому же они считаются полезными для желудка. В правом квадранте — немного сладкого: сегодня это мелко наломанный банан в простокваше с сахаром. Скорее бы какой-нибудь праздник, подумал Дзоши, пусть хоть родственники придут, и тогда здесь будет морковная халва или шрикханд — сложная по технологии производства приторная сладость из буйволиного молока, национальная гордость маратхов. Вообще, сладкое — это не десерт, а обязательный компонент любой трапезы. Этих компонентов должно быть шесть — в соответствии с вкусовыми ощущениями, которые они вызывают: сладость, соленость, горечь, острота, терпкость и кислота.
Когда Дзоши расправится с лепешками, жена в тот же квадрант со сладким положит дымящийся вареный рис, но никак не раньше, потому что соседство пшенично-просяного и риса недопустимо. Канеткар, между прочим, начинает с риса, в середине ест лепешки, а под конец снова требует риса и заливает его таком — взболтанным с водой кислым молоком. Кстати, в рамках антропологической культуры и географии любой регион характеризуется с точки зрения того, какой злак лежит в основе пищевого рациона его населения. Индоарийские жители Северной Индии принадлежат к категории wheateaters (пшеничный пояс), а дравиды-южане — к rice-eaters (рисовый пояс). Махараштра же, находясь на стыке двух поясов, отдает должное и пшенице, и рису, и даже просу.
Размышляя о том о сем, Дзоши правой рукой оторвал кусочек поли, согнул лодочкой и потянулся к шпинату. Едят маратхи, как и все индийцы, правой рукой, хотя правильнее было бы сказать — лепешкой. Собственно, пальцы окунают только в маринад, сладкое или рис и потом облизывают. Неприличным считается, если кто-то запачкает больше одной фаланги, а счет съедаемому ведется на гхасы — количество еды, отправляемое в рот за один раз. Левая рука должна оставаться сухой — ею берут металлический стакан с водой — он и стоит по левую руку, чтобы заливать во рту пожар, возникающий от острых приправ, левой же тянутся к предметам общего пользования, например кувшину с водой. Как только начинается трапеза, правая рука — обычно ритуально самая задействованная — сразу становится ушта (нечистой, оскверненной). Признаком ушта характеризуется и еда, к которой уже прикоснулись. В прежние времена то, что оставалось на подносе, доедала жена, и если муж был доволен своей половиной, то оставлял ей не самые плохие куски.
Дзоши поочередно обращал свое внимание то на шпинат, то на бхаджья, то на салат и ел не торопясь, с осознанным удовольствием. Жена неотрывно следила за процессом, подкладывала то, что исчезало, и щедро сдабривала лепешки топленым маслом. Дзоши отказался от четвертой поли и дал знак принести рис. Рис он разделил на несколько кучек: одну перемешал с остатками шпината и съел, другую тщательно перемесил с маринадом и выжал на нее лимон, а на третью вылил варан — гороховый супец из плошки, стоящей около правого верхнего квадранта. Запив все молоком, Дзоши бросил в рот несколько анисовых семечек (для освежения рта) и заспешил: занятия в колледже начинаются в одиннадцать. Выводя мотороллер за ворота, Дзоши увидел Канеткара. «Ну что, поел?» — поприветствовал Дзоши соседа. К сожалению, времени на то, чтобы расспросить о меню поподробнее, уже не оставалось.
Дзоши завел мотороллер и с улыбкой вспомнил Ирину, русскую, которая часто появлялась у них в колледже. Сначала он немного терялся от ее вопросов, но потом они подружились и с удовольствием обсуждали все — от заковыристой многозначности средневековых текстов до хитроумных ходов разных политических лидеров в предвыборном марафоне. Ирина как-то сказала, что маратхи «сдвинуты» на еде — здороваться у них не принято, но зато внимательно расспрашивают, кто что поел, а если зовут в гости, то не просто — «Приходите!», а «Приходите поесть!». Она еще сказала, что в России если приглашают, то без лишних слов ясно, что накормят. Дзоши это удивило: как-то чересчур бесшабашно, у маратхов все четче: поесть — так поесть, на чай — так на чай. Вообще, Ирина погорячилась, а если бы подумала, то поняла, что человеческая деятельность в конечном счете устремлена на добывание пиши, и саму жизнь человек воспринимает через призму еды: если хочет похвалить чей-то голос, говорит, что он «сладкий», если вспоминает о чем-то с болью, то это — «горькие» воспоминания, а если подвергает что-то критике, говорит, что это — «безвкусно». Совместная трапеза, приглашение к себе домой — это свидетельство очень близких и доверительных отношений, расспросы коллег или приятелей о домашнем меню означают высокую степень сопричастности жизни друг друга, а официальные и сухие «здравствуйте», которыми раньше злоупотребляла Ирина, — знак дистанции и нерасположения. И если маратхи, приглашая в дом, не оговаривают: для того, чтобы «поесть», то еды и не будет, а будет один разговор, как правило — короткий и деловой. Кстати, и сама Ирина со временем, похоже, потеряла голову от маратхской еды: в каждый приезд набирает по 6-10 килограммов, а потом мучается в Москве, скидывает. Она даже дни поста полюбила, потому что в эти дни как раз саго с перцем и орехами жарят, и тут она уж точно перестает себя контролировать. И при этом маратхи вовсе не считаются гурманами, и их стряпня не идет ни в какое сравнение с буйным изобилием панджабской кухни или с блеском и роскошью кулинарного наследия Великих Моголов, преемниками которого стали индийские мусульмане[52].
Странные они, русские: с одной стороны, приготовят что-нибудь на четыре дня, поставят в холодильник и едят на ходу, а с другой — во время праздников засядут за стол часов на пять-шесть и молотят все подряд без всяких размышлений о естественной и эстетической сочетаемости продуктов и не обращая внимания на то, что все уже остыло. Режут все на здоровенные куски, стараются, чтобы это выглядело так же грубо, как в натуре. У маратхов по-другому заведено: сначала гости собираются и беседуют между собой, а потом — извольте откушать, но молча и быстро, пока все горячее-прегорячее, даже потолочный вентилятор на это время отключают, а после еды никто не задерживается и со словами «вкусно-то как!» или «наелся до отвала!» расходятся. Дзоши с содроганием вспомнил отпугивающий запах укропа, которым его пытались накормить в некоторых русских домах, и с теплотой подумал о жене — она молодец, всегда кладет столько куркумы, сколько надо, чтобы у еды был приятный желтовато-зеленый цвет, смешивает десятки травок, семян, почек и бутонов, чтобы добиться нужной вкусовой гаммы. И готовит столько, что ни капельки не остается — холодильник, конечно, в доме есть, но в нем — молоко, простокваша да топленое масло, а ко второй трапезе (часов в 9 вечера) все квадранты будут заполнены наисвежайшей, только что приготовленной едой. Говорят, так сложилось из-за жаркого индийского климата, в котором все моментально портится. Может быть, так и было когда-то, но теперь это категория эстетическая и ритуальная. То, что было приготовлено раньше, но по каким-то причинам не съедено, также становится ушта, оскверненным и оскверняющим.
Дзоши подрулил к колледжу; здесь он пробудет до пяти, между лекциями выпьет с коллегами по чашечке кофе (конечно, с молоком) или «особый чай» — с кардамоном, гвоздикой и другими пряностями. Вернувшись домой, выпьет еще чашку чаю — на этот раз с какой-нибудь легкой закуской, печеньем например, и сядет дописывать статью.
Узкой специализацией Дзоши была паремиология, и сейчас он выстраивал классификацию маратхских пословиц и поговорок, описывающих типовые жизненные ситуации через продукты питания. «С топленым маслом поем, а без него поститься буду» — так говорят в отношении неоправданного упрямства, проявляемого вопреки здравому смыслу. Дзоши почувствовал какое-то внутреннее раздражение: что значит неоправданное? А как иначе-то? И при чем здесь здравый смысл, когда и лепешка, и рис без масла даже в горло не полезут? Не зря же говорят: «Главное в пище — топленое масло, главное на свадьбе — красота жениха и невесты». Впрочем, парадоксальная противоречивость народных перлов уже давно перестала его удивлять.
.. Аромат с кухни становился все навязчивее. Дзоши поймал себя на том, что пытается угадать, каким изыском в верхнем правом квадранте порадует его сегодня вечером жена.
Преподаватель колледжа Дзоши живет в одном из крупных индийских городов и принадлежит к брахманской (наивысшей в традиционной иерархии) варне. Приличное жалованье дополняется доходом от сдачи в аренду большого участка плодородной земли, доставшейся по наследству от предков-астрологов. На здоровье пока не жалуется — в общем, все было бы неплохо, если бы не неожиданности с Гаури — старшей дочерью.
В прошлом году Дзоши по настоянию жены вплотную занялся поисками жениха для Гаури (ей уже исполнилось двадцать четыре, а по индийским меркам это немало). Конечно, те времена, когда замуж выдавали 5-9-летних крохотулек, ушли в прошлое. Дзоши в детстве с открытым ртом слушал рассказы бабушки о том, как ее в возрасте восьми лет выдали замуж и отправили в дом свекрови. Перепуганная девочка, впервые увидевшая своего нареченного на брачной церемонии и толком не разглядевшая его, оказавшись в чужом доме, где росли шестеро мальчишек от семи до шестнадцати лет, долгое время не могла признать, кто же из них ее муж (брак не подлежал консумании до наступления половой зрелости, а разговоры между супругами в присутствии старших запрещались обычаем). Опытная свекровь наконец разгадала ее недоумение, но в лоб не подсказала, а под каким-то предлогом, когда девочка находилась рядом с ней, вызвала ее мужа, т. е. своего сына, на женскую половину дома.
Однако и по нынешним временам, когда официальные браки разрешены с 18-летнего возраста, 16-17-летняя девушка (а в деревнях и раньше) считается созревшей для семейной жизни, и родители начинают оглядываться по сторонам в поисках достойной партии. «Достойность» определяется различными параметрами: прежде всего должны совпадать подкасты жениха и невесты, т. е. в пределах брахманской варны различается принадлежность к читпаванам, дешастха, сарасватам и т. д.; необходима астрологическая гармония гороскопов, составленных при рождении; важны образовательный ценз жениха, виды на карьеру, материальное положение в семье с точки зрения обязательств молодого человека по отношению к своим родителям, наконец, его возраст, рост, степень смуглости, черты лица. Окончательное решение, впрочем, принимает сторона жениха, хотя родители невесты могут склонить весы в свою сторону, предложив кроме обязательного стридхана (полновесного комплекта женских украшений) что-то еще, ну, например, какую-либо недвижимость, автомобиль или содействие в карьере.
Итак, Дзоши включился в работу. Брачные объявления в газете он сразу отклонил (к ним обычно прибегают, когда другие методы уже исчерпаны, а это наводит на мысль, что в каждом случае что-нибудь да не так!) и стал опрашивать знакомых. В конце концов порекомендовали трех молодых людей, Дзоши навел справки и даже как бы случайно покрутился возле их домов. Всем были предъявлены фотографии предлагаемой невесты, и начались смотрины. Пришли родители первого — и Гаури попросили принести чай. Бедняжка так волновалась, что чашка с чаем подпрыгнула на подносе и несколько капель вылилось на новое шелковое сари предполагаемой свекрови. Та недовольно поджала губы, что-то шепнула мужу, и тот на прощание сказал, что в продолжении знакомства смысла нет.
Дзоши даже обрадовался: с такой свекровью никому не поздоровится, ведь как говорится в пословице, «свекровь наступила на ногу невестке или наоборот, все равно невестке в ногах валяться». Потом пришел второй кандидат с родителями — он понравился Гаури сразу, казалось, что и она ему приглянулась. Обещали позвонить на следующий день и не позвонили. С родителями третьего уже вроде обо всем договорились, и тут Дзоши случайно узнал о редкой наследственной болезни, которая время от времени проявлялась в том семействе, и накануне дня помолвки он отказал жениху.
Жена несколько дней плакала, а потом, посекретничав о чем-то с соседкой Канеткар, отправилась в трехдневное паломничество к восьми храмам Ганеши (слоноголового божества с круто выступающим животом) — считается, что тот предрешает успех всевозможных начинаний.
Но Дзоши решил действовать по-своему. Списался с коллегой из другого города (и каста та же, и образ жизни тот же) и пригласил его на семинар со всей семьей. Приехал и взрослый сын коллеги, в непохожей на смотрины обстановке пообщался с Гаури, а вечером отцы уединились и вместо научной дискуссии по паремиологической проблематике пришли к согласию о свадьбе детей. Прежде чем сообщить об этом Гаури, Дзоши дождался письменного подтверждения и убедился, что коллега с сыном не передумают. Полетели приглашения родственникам, соседям и знакомым, а Дзоши почувствовал гордость, что так тонко и в духе времени (убедившись, что молодые симпатизируют друг другу) решил проблему.
В чувствах Гаури Дзоши не сомневался — индийская девушка со дня рождения предана своему будущему супругу: она воспитывается на легендах о добродетельной Савитри, последовавшей за своим мужем в царство бога смерти Ямы и силой любви вернувшей жизнь Сатьявану. Правда, индийская любовь все-таки приходит после брака, а не кончается с ним, как это часто бывает хотя бы в той же России, где молодежь сама решает, когда и за кого, а родителей только ставят в известность. Индийская свадьба — навеки, и с этого момента у женщины нет человека ближе мужа.
В связи с этим Дзоши припомнил одно потрясение, пережитое им в России. Ирина, коллега Дзоши, которая опекала его в дни работы московской конференции, предложила несколько вариантов для его досуга. Сначала они сходили на «девичник»: русского Дзоши не знает, так что всеобщего веселья нарушить не мог, хотя повод смутил его — одна из подруг Ирины торжественно отмечала третий развод. В Индии развод все еще редкость и воспринимается как катастрофа. Супруги, вернее, женщина терпит и смиряется со всем, что преподносит ей муж, а если у нее хватает сил (и уверенности в собственной экономической компетенции) пройти через развод и порицание обоих кланов, то вряд ли она выйдет замуж вторично и, уж конечно, многое потеряет в глазах общества. В другой раз они попали на свадьбу. Здесь Дзоши тоже многого не понял: какая связь между битьем посуды и счастьем молодых? А прилюдное целование под прицелом десятков глаз его и вовсе смутило.
Помолвка Гаури прошла гладко — собрались родственники и знакомые с обеих сторон, и родители жениха преподнесли Гаури прекрасное пайтхани (сари из города Пайтхана, знаменитого своими особыми, ручного производства, шелками с тяжелой широкой каймой), а также золотой браслет и множество сладостей. После помолвки жених — Аджай — остался еще на несколько дней в их городе, и вместе с Гаури они сходили в театр и прогулялись по парку. До ближайшей мухурты (момента расположения небесных тел, благоприятного для заключения брачного союза) оставалось два месяца, и Дзоши вместе с женой, не теряя времени, принялись за приготовления, тем более что основные финансовые затраты несла сторона невесты, но зато вопрос о приданом не поднимался вообще.
В прежние времена расписанный по минутам и десяткам действующих лиц сложный свадебный ритуал длился до 16 дней. Теперь же, в век упрощения, вивахасамскара (матримониальная процедура, принятая в кругу брахманов) подверглась редукции, но одиннадцать ключевых моментов остались без изменений. Вечером накануне бракосочетания обе стороны собрались в арендованном павильоне для свадебных торжеств на симантапуджан, т. е. пограничный ритуал-моление, дошедший еще с тех времен, когда родственники с обеих сторон встречались на границе между двумя деревнями, чтобы познакомиться. Приглашенные жрецы совершили обряды в честь богов Ганеши и Варуны, и Дзоши, омыв ноги жениху, преподнес ему в дар свадебный наряд.
На следующее утро (Гаури, кстати, почти всю ночь не спала — сначала в течение трех часов ей на руки и ступни наносили сложный узор хной, а когда он закрепился, ее всю обмыли молоком и простоквашей) невеста нарядилась в желтое сари аштапутри (приносящее восемь сыновей), надела стеклянные зеленые браслеты и новые золотые украшения, которые стоили Дзоши бешеных денег. Доб и лицо Гаури были закрыты свисающими нитями, унизанными жемчугом и бутонами нежнейшего индийского жасмина.
Вообще-то жених должен подъезжать к месту свадебной церемонии на коне, но Дзоши с коллегой остановились на автомобиле. При приближении мухурты жених в длинной шелковой рубахе и дхоти (материи, обернутой вокруг бедер) вышел на помост, украшенный гирляндами цветов и разноцветными лампочками. Дино его было закрыто, как и у невесты, и жрец растянул перед ним кусок ткани. После этого дядя Гаури (брат ее матери) вывел смущенную племянницу, и она встала по другую сторону натянутой ткани. Руки жениха и невесты оттягивали пышные цветочные гирлянды. Жрецы начали читать священные мантры, а все присутствовавшие стали посыпать молодых подкрашенными зернами риса (символ плодородия и процветания). Потом жрецы отдернули разделяющую ткань, жених и невеста накинули друг другу на шею цветочные гирлянды, и грянула музыка — в прежние времена именно в этот момент происходила первая встреча обреченных на совместную жизнь.
Однако на этом церемония не закончилась: последовал ритуал саптапади, когда жених и невеста со связанными краями их одежд проделали семь шагов вокруг священного огня, а потом и каньядан — принесение дочери в дар. Наконец, Аджай коснулся правого плеча Гаури и громко произнес: «Во исполнение религиозных предписаний и обычаев я принимаю этот дар», а затем надел на шею суженой мангалсутру — обручальное ожерелье, которое Гаури будет носить, не снимая, до самой смерти, закрасил красной краской пробор в ее волосах и поставил на лоб кумку — символ замужней женщины. На помост вынесли серебряный поднос с едой, все стали уговаривать молодых угостить друг друга и назвать друг друга по имени. Аджай произнес: «Малти!» — так кумари (девица) Гаури Субхаш Дзоши превратилась в саубхагьявати (обладающую счастливой судьбой, т. е. мужем) Малти Аджай Тулпуле. После долгих уговоров произнесла имя супруга и Малти, причем не напрямую, а заключив в стихотворную строку. Может быть, в соответствии с вековыми традициями, она сделала это в первый и последний раз — считается, что, произнося имя мужа, женщина укорачивает срок его жизни, и поэтому произносить имя мужа запрещено, а может быть, как это повелось у современного поколения, она станет называть его Аджай и даже на «ты». Жене Дзоши, во всяком случае, несмотря на ее достаточно либеральные взгляды, пришлось не по вкусу, когда лет через пятнадцать после свадьбы муж предложил (опять же в духе времени), чтобы, обращаясь к нему, она употребляла не почтительное местоимение, а его имя — Субхаш. Жена продолжала называть его на «Вы», а в разговоре о нем прибегала к почтительному местоимению третьего лица множественного числа.
Ритуал гарбхадана — наполнения чрева (жены), — слава богу, из города ушел, поскольку замуж выдаются уже созревшие девушки, и соединение молодых является естественным завершением свадебного ритуала, а в деревнях, где иной раз в нарушение всех законов заключают браки между малолетками, гарбхадан — это целое событие, на которое снова собираются представители двух кланов — жрецы разжигают священный огонь, и в их мантрах звучат такие слова, как «мужская сила», «внедрение семени». Хорошо еще, что все это произносится на древнем санскрите, который мало кто понимает, а то было бы весьма неловко. Дзоши знал, конечно, что в некоторых семьях вивахасамскара вообще сводится к минимуму, но за этим, как правило, стоят какие-то обстоятельства. Вот у соседей, Канетка-ров, дочь вышла замуж, что называется, «по любви». Сами Канеткары — брахманы-дешастха, а зять оказался из маратха — варны кшатриев, потомственных воинов, которая в иерархии следует за брахманами. Обе стороны сначала, как могли, противились этому союзу, но, когда парочка уже стала притчей во языцех, нехотя дали согласие, а во время приготовлений к свадьбе сваты так рассорились (ритуалы-то у дешастха и маратха разные!), что в результате молодые пошли в муниципалитет и там просто зарегистрировали свой брак. И теперь свекровь с невесткой на ножах — ведь даже приправы в одну и ту же еду разные кладут, не говоря о различиях в прочих обычаях и укладах. Но Дзоши и Тулпуле — ровня по всем социально-ритуально-бытовым параметрам, и у его Гаури, т. е. Малти, такого рода проблем не будет.
По завершении всех обрядов гостей от души накормили. А вечером состоялся официальный прием. Аджай в строгом европейском костюме, а Малти в шалу, знаменитом бенаресском сари, шитом золотыми нитями, чинно восседали на разукрашенных креслах и на протяжении нескольких часов принимали поздравления и подарки (в основном деньги в конвертиках). Было около четырехсот приглашенных, жена Дзоши не могла наговориться с новоприобретенной родней, а сам Дзоши испытывал удовлетворение от сознания с честью выполненного долга.
После свадьбы прошла неделя, а три дня назад Малти переехала в город мужа. Дзоши вновь и вновь перебирал в уме события последних полутора лет и чувствовал себя более подготовленным к выдаче замуж младшей дочери, только деньжат бы поднакопить — надо будет увеличить арендную плату за землю. За судьбу сына он волновался меньше, хотя в дом нужно привести толковую невестку, не чурающуюся работы, да и побелее желательно, и чтобы сохраняла уважи тельное отношение к старшим! Дзоши потянулся к картотеке с пословицами, и одна карточка упала на пол: «Дом сначала построй, а потом показывай; свадьбу сначала устрой, а потом рассказывай».
Дзоши, преподаватель одного из индийских колледжей, гурман и примерный семьянин, пребывал в хорошем настроении: благоприятное расположение светил позволило вполне удачно выдать замуж старшую дочь, сдан в типографию обобщающий труд по пословицам и поговоркам — плод его многолетних паремиологических штудий — и всего неделя, как куплен автомобиль! Правда, не новый, но и не совсем старый, в приличном состоянии— все-таки, подумал Дзоши, в его возрасте и при его положении на мотороллере ездить уже неудобно. А позавчера неожиданно позвонили из респектабельного издательства — выпускают новый путеводитель по Индии, мол, не напишет ли он раздел об индийских дорогах? Дзоши удивился: при чем здесь он, филолог, но издатель пояснил, что специальных — дорожных или топографических — сведений не требуется, нужно какое-то общее представление в расчете на иностранного туриста, как бы попытаться увидеть страну его глазами. Издатель еще добавил, что читал еженедельную колонку Дзоши, которая появлялась на страницах одной из газет в течение года, где Дзоши толковал различные пословицы, высказывал гипотезы об их происхождении и приводил аналоги из других языков. И неожиданно для себя Дзоши согласился. В голову, правда, сразу же полезли «дорожные» паремии: «Дорогу перегородить — еще вора не словить», т. е. к серьезному делу по-серьезному подступаться надо; или «По удобной дороге пошел, чего надо не нашел», т. е. можно, конечно, выбрать дорогу, которая накатана, но это не значит, что она приведет туда, куда нужно.
Первая фраза любого материала должна быть четкой! «Какой турист не любит Индии», — решительно написал Дзоши первое предложение, засомневался, но решил, что психологически такой заход оправдан. «По этой древней и вечно юной стране можно путешествовать на самолете и на поезде, рейсовым автобусом и пешком. А можно на автомобиле», — что же это я на автомобиле зациклился, всполошился Дзоши. Встал и подошел к окну — стоит голубчик. И вспомнил, как, когда он ездил в Россию, в Москву, на конференцию, в аэропорту его встречала Ирина, давняя коллега по филологическим экзерсисам. Они подошли к ее машине, и Ирина сначала щелкнула какой-то коробочкой — как оказалось, отключила сигнализацию, потом нырнула в автомобиль и повернула какой-то рычажок под приборной доской — запасная сигнализация, затем, не разгибаясь, бормоча под нос непонятные русские слова, отжала какую-то железку со сцепления и, наконец, открепила металлическую дугу, соединявшую руль с педалью газа. Круто у них там, подумал Дзоши, а здесь стоит себе без всяких приспособлений, и никакого беспокойства, сплошное удобство.
«Общая протяженность индийских автомобильных дорог — более 30 тыс. км, и если вы намерены соприкоснуться с реальной Индией, надо, конечно же, предпочесть машину (ее можно взять напрокат — с шофером или без), запастись картами и пластиковыми бутылками с минеральной водой и отправиться в путь». Дзоши почувствовал, что тема начинает его захватывать: не напоминает ли «промежуточность» дороги и то, что на ней происходит с путником, «срединное состояние ритуала перехода» Глазенаппа и Тэрнера[53], или же дорога обладает самоценностью независимо от цели передвижения и заставляет идущего по ней принимать свои правила игры?
«Лучший сезон для путешествия по Индии — холодный, т. е. местная зима — ноябрь, декабрь, январь, февраль: в эти месяцы дневная температура, как правило, не превышает +30 °C, а ночная в зависимости от региона колеблется от +5 °C до +25 °C. Машины бывают с кондиционером и без: кондиционированный автомобиль с плотно закрытыми окнами облегчит путешествие и убережет от дорожной пыли, но неповторимые экзотические запахи готовящейся жгуче-острой стряпни, курящихся в храмах сандаловых и жасминовых благовоний, сжигаемого кизяка — главного деревенского топлива, цветущих деревьев и необычная мелодика Индии — смешение десятков языков, диалектов и говоров, храмовые гимны и усиливаемые современной техникой проповеди, кинематографическая поп-музыка — обойдут вас стороной, а значит, ту часть Индии, что воспринимается обонянием и слухом, вы не прочувствуете». У каждой страны свой аромат и свой голос, подумал Дзоши и потянул носом: где-то жарили острый перец с семенами тмина, присыпанный толченой куркумой; у Канеткаров из кассетника заливалась соловьем Лата Мангешкар, популярная заэкранная певица.
«В Индии движение левостороннее, доставшееся стране в наследство от времен британского владычества. Правила движения, видимо, существуют, но ощутимы лишь в мегаполисах — Дели, Бомбее, Калькутте и Мадрасе, где установлены светофоры, может подкараулить транспортная полиция и изредка встречаются подземные переходы». Дзоши остановился и переправил Бомбей и Мадрас на Мумбаи и Ченнаи (недавно их переименовали, вернули исконные названия[54]). «Во всех остальных частях Индии на дорогах происходит то, что можно обозначить как «психологический поединок»: в долю секунды водители должны почувствовать, кто кому уступит дорогу — определяющим здесь являются не правила, а напор. Если кто-то из двоих просчитается — катастрофа неминуема. О своих намерениях (намечается ли поворот или вам предлагают обогнать) едущий впереди водитель уведомит небрежным движением правой руки, высунутой за окошко, — прочие сигнальные символы не в ходу. Ни в коем случае не пытайтесь соревноваться с «траками» — загруженными, а вернее, перегруженными грузовиками, пересекающими Индию с севера на юг и с запада на восток: прикрытый брезентом и перевязанный шпагатом груз нередко превышает высоту двухэтажного дома, и машина теряет устойчивость. С каким бы размахом и на автомобиле какой бы марки вы ни пытались проехать по Индии, скорость не составит более 50 км в час, и причин здесь несколько: качество дорог, скученность транспорта и неизменные «сбиватели скорости» — искусственно сооруженные надолбы. На одной трассе соседствуют надменные «мерседесы», рассудительные «амбассадоры» — старички и верткие «марути» (названные по имени божественной обезьяны-скорохода) местного производства; скрипят ободами буйволиные повозки, груженные сахарным тростником; направляются к святыням паломники — некоторые из них, выполняя обет, простираются ниц на пыльной дороге, поднимаются, делают шаг вперед и простираются снова. В любом городе, и даже столице, Дели, можно наткнуться на корову, устроившуюся на проезжей части. Животное это священно, его следует объехать или вежливо, отнюдь не пинками и дубинками, попросить с дороги — в этом помогут гостеприимные и добродушные индийцы. Будьте морально готовы и к встрече с обезьянами: непосредственного контакта лучше избегать — ведут они себя нагло, то выхватывая из рук путешественника фотоаппарат или банан, то срывая с носа очки. По ночам на асфальтированные дороги, долго сохраняющие тепло, выползают погреться змеи. Крепче держите руль — машина может резко подпрыгнуть».
Дзоши вспомнил, что из Шереметьево они тоже ехали ночью. Недалеко от аэродрома свернули на огибающую всю Москву трассу — разделенная основательным барьером с установленными на нем фонарями, она выглядела ухоженной. Его, правда, удивило, что фонари по центру мельтешат и свет их до обочины не доходит: неравномерность освещения ощутимо нервировала Ирину, когда она уходила в сторону, уступая дорогу поджимавшей ее самоуверенной технике.
«В индийских городах, особенно с развитой промышленностью, дороги всегда забиты. Пересечение улицы требует немало душевных сил и личного мужества — здесь также побеждает решительность: видя, что пешеход тверд в своем намерении перейти дорогу, водитель притормозит. Ни в коем случае нельзя метаться — лучше замереть на одном месте, и тогда десятки мчащихся прямо на вас машин виртуозно и пластично, словно они сделаны из гуттаперчи, изогнутся и минуют вас. Пронзительный звук клаксона за вашей спиной означает «иди, как шел», а не «посторонись», как в других странах. Особенно примечательны индийские мотоциклисты, постепенно (по мере того как Индия уверенно движется по пути технического прогресса) вытесняющие велосипедистов: их немного в мегаполисах, но в остальных городах именно они — основная дорожная масса. Почти все мотоциклы, мопеды и мотороллеры лишены глушителей и щедро одаряют окружающее пространство ревущим грохотом, а заодно и выхлопами. Ездоки, учитывая сложность и непредсказуемость дорожных ситуаций, — в шлемах; многие, уберегаясь от повышенной загазованности, обматывают лицо шарфом или платком. На мотоциклах устраиваются всей семьей: отец за рулем, перед ним стоит или сидит ребенок, позади у матери на бедре — малолетка (при этом женщина сидит не верхом, а свесив ноги по одну сторону) и совсем сзади, на багажнике — третий. В некоторых частях Индии, где женщины исторически более эмансипированны, дама в ярком сари на мотоцикле — рядовое явление». Дзоши вспомнил, что и в Москве видел за рулем много женщин — ему даже показалось, что они более аккуратны, во всяком случае не подсекают.
Все-таки дорога — это отдельный жизненный срез, а не просто расстояние — в пространстве и во времени — между двумя жизненными точками, размышлял Дзоши, возможно, именно в дороге наиболее четко постигается собственная зависимость от кармы — того, что наработано человеком в предыдущем рождении и что приносит свои плоды в этом. Случай в дороге всегда вероятнее, чем в привычном обитании, а он ведь и есть знак кармы.
«Некоторые участки дорог всегда опасны — таковы, например, горные серпантины Западных Гхат, скалистой гряды Западной Индии, протянувшейся вдоль берега Аравийского моря. Во-первых, сработанная в естественных перевалах дорога узка сама по себе и поджимается каменной стеной с одной стороны и головокружительной пропастью — с другой; во-вторых, дорога все время петляет, водитель поневоле прижимается к скале и переходит на чужую полосу, поэтому скала пестрит яркими призывами к предельной осторожности и к необходимости предупреждать гудком встречный транспорт, невидимый за поворотом; в-третьих, потенциально возможные обвалы и оползни становятся вполне реальными в период дождей, длящийся приблизительно с июня по сентябрь. Вдоль такой трассы обычно немало храмов местных божеств-хранителей, которые помогают, если, конечно, их умилостивить, благополучно завершить маршрут, и поэтому редкий водитель не кинет в сторону придорожного храма монетку, а то и несколько». Дзоши и пословицу к месту вспомнил: «Увидел Хари на дороге — поклонись», но не стал включать ее в текст статьи, поскольку и боги не всегда властны над кармой человека.
Впрочем, когда пишешь об Индии, совсем без богов не обойтись, и Дзоши продолжил: «Индийские боги, откликаясь на призывы адептов, постоянно находятся в движении. В распоряжении каждого из них свое ездовое животное. Так, например, у Вишну-созидателя это огромная птица Гаруда, у Шивы-разрушителя — бык Нанди, богиня Сарасвати передвигается на павлине, Дурга — на тигре, а Ганеша, слоноголовое божество с выпуклым пузом обжоры, — на крысе». Дзоши вспомнил, как они с женой перед покупкой автомобиля пошли в храм Ганеши на соседней улице и заказали там «пятинектарную службу» (это когда изображение бога поочередно омывают в молоке, простокваше, топленом масле, меде и сахаре, а потом окатывают водой, умащают благовониями и осыпают цветами). Ганеша как-никак устранитель препятствий, помощник во всех начинаниях, и Дзоши решительно приписал: «Перед началом автопробега рекомендуется совершить молебен для умилостивления Ганеши». С улицы послышались истошные вопли: разносчик прикатил тележку с овощами. Жена Дзоши спустилась вниз, купила кое-что по мелочам, а потом, то и дело оглядываясь на автомобиль, разговорилась с соседкой Канеткар — рассказывает, как покупали, догадался Дзоши. У Канеткаров еще не было своей машины.
«Гостиницы в Индии самые разные: от пятизвездочных отелей с джакузи и вышколенной прислугой до прихрамовых ночлежек, где можно переночевать, растянувшись на циновке, среди десятков других паломников. То и дело попадаются так называемые гаражи, т. е. «авторемонт», на случай поломки. Колонки с бензином и газолином в городе — на каждом шагу, немало их и по обочинам основных шоссе или на трассах туристических маршрутов; в сельской местности меньше, а если без запасной канистры забраться в ненаезженные края, то можно оказаться в нелегкой ситуации». Вот оно — типичное проявление кармы, подумал Дзоши, но тут жена принесла на подносе чай, и он оторвался от листа. Психологическая зависимость любого индийца от чая столь велика, что пропустивший привычное время чувствует себя полностью разбитым.
Приободренный ароматным напитком, Дзоши снова уткнулся в записки: «Не отказывайтесь от придорожного чая — волшебного средства от усталости, стремительно возвращающего любопытство к окружающей действительности. Пейте его не в аккуратных ресторанчиках (там сейчас его заваривают из интернациональных пакетиков), а в покосившихся и открытых всему миру лавчонках: его готовят на ваших глазах, виртуозно смешивая прокипяченную заварку с горячим буйволиным молоком: плошки отодвигают друг от друга на расстояние вытянутых рук, и тугая струя устремляется сначала в одну сторону, а потом, как бы отражаясь и вбирая все ароматы Индии, возвращается обратно. Вам нальют совсем немного — половинку небольшого стаканчика или чашки, но и этого достаточно, чтобы взбодриться и с новыми силами продолжить путешествие. Отведайте и «масала чай», т. е. чай с различными специями и пряностями — от кардамона до гвоздики, он ненамного дороже обычного — две-три рупии».
Дзоши усмехнулся при воспоминании о калькуляторе, который вручила ему Ирина в Москве, — там теперь без них не обойтись. И лакх, т. е. 100 тысяч, там за деньги не считают, а здесь на этот лакх можно купить автомобиль, ну, конечно, не совсем новый. Может быть, действительно им пора денежную реформу проводить?[55] Может быть, карма у них такая? Все время в движении, все время на перепутье, туда-сюда, вперед-назад… Нет, все-таки дорога— это не «промежуточный этап» и не «срединное состояние», это и есть подлинная жизнь. Так и в Индии некоторые пилигримы — неустанно в дороге — бредут от одного храма к другому.
Дзоши подумал, что его все время как бы приподнимает над дорогой, а в путеводителе философия ни к чему и надо бы описать какой-нибудь конкретный маршрут, например от северных Гималаев через всю Индию к южному мысу Канья Кумари. Однако мысль, выбитая из рабочей колеи, уже не подчинялась призыву к дисциплине, и Дзоши представил, как они с женой, усевшись в собственную машину, отправятся в путешествие: посмотрят красоты монументального Дели, оттуда махнут в Джайпур, город из розового камня, потом развернут на Агру со всемирно известной беломраморной гробницей Тадж Махал, затем отправятся вниз по течению Ганги, заедут в намоленный Варанаси, совершат омовение в священном слиянии трех рек в Аллахабаде или вместо этого рванут к комплексу эротических храмов Кхаджурахо, где он еще никогда не был. Натолкнувшись на Кхаджурахо, фантазия Дзоши потекла в другом направлении… За окном поднялся ветер, сдул со стола лист бумаги с неоконченным сюжетом, хлопнул дверью. Дзоши очнулся и выглянул на улицу — прямо на его глазах, как в замедленной съемке, перезрелый плод манго оторвался от ветки, медленно поплыл вниз, хлопнулся о крышу автомобиля, лопнул и салил блестящий металл густым желтым соком.
Индией Дзоши считал себя хорошим человеком. Ему думалось, что для этого у него достаточно причин — его, основательного ученого-филолога, уважают коллеги по колледжу; он приветлив с женой и детьми; не чурается жизненных радостей, но и не усердствует в чревоугодии и ублажении плоти; он не лишен проницательности, сочетающейся с разумным подходом к людям и ситуациям, — удачное замужество старшей дочери тому лишнее подтверждение. Размышляя о своих достоинствах, Дзоши был готов продолжить список, если бы его взгляд не упал на только что установленные, еще сохраняющие запах лака, выполненные по индивидуальному заказу стеллажи, где разместились экспонаты его коллекции, и чувство законной гордости осязаемо разлилось по всему телу. Впрочем, Дзоши всегда колебался, когда нужно было провести грань между гордостью и гордыней, и к тому же он вспомнил, что побудило его к собирательству…
Однажды жена вернулась от соседей чересчур проворным шагом и звенящим голосом сообщила, что Канеткары, уже давно собиравшие марки, связанные с морской тематикой, приглашены участвовать общеиндийском филателистическом салоне в Дели. С Канеткарами семейство Дзоши связывали долгие отношения приязни и доверия, но вместе с тем и некоторое соперничество — не в профессиональном или меркантильном, но социально-эстетическом плане. Женщины всегда придирчиво оценивали цветовую гамму нарядов друг друга, и когда Сунита, жена Канеткара, привезла из Мадраса густо-лиловое шелковое сари с ярко-изумрудной каймой, Маниша Дзоши не успокоилась, пока не обнаружила в одной из бомбейских лавок карминный жоржет мраморную россыпь. Дзоши помнил, как напрягся Канеткар, когда они с женой подъехали к дому на только что купленном автомобиле, а сосед как раз выводил за ворота мотороллер. Но в этот раз засвербило в душе у Дзоши.
Проблема была в том, что Дзоши никак не мог придумать, какой же страсти ему отдаться, поскольку страсть обычно не выдумывают — она накатывает внезапно. Дзоши, впрочем, упорства было не занимать, и, то и дело отрываясь от составления таблиц к докладу на международной паремиологической конференции («Головной убор в пословицах и идиомах: обобщенное, конкретное и неопределенное»), он размышлял, каким может быть объект его собственной страсти. Филателию и фалеристику он отверг сразу — банально; немного подумал над составлением сакрального гербария, отражающего многообразие растительного мира религии и мифологии, но убоялся ботанических премудростей, а также хрупкой недолговечности единиц хранения; ручки, светильники, подтяжки? — душа не отзывалась, и Дзоши снова углублялся в таблицы: «сорвать тюрбан» означает опозорить; «повязать тюрбан» — оказать почести; «выбросить тюрбан» — отрешиться от мира; «проиграть тюрбан» — утратить спесь; «держать тюрбан под мышкой» — изготовиться к драке. Основная трудность с таблицами, да и с концепцией самого доклада состояла в том, что невыразительное тюркское слово «торбан», укоренившееся в международном обиходе, ни семантически, ни стилистически не отражало многообразия типов того, что могло красоваться на голове индийца и что нашло отражение в индийском паремиологическом фонде, а поэтому все конкретное выглядело одновременно и обобщенным, и неопределенным — троичное противопоставление, радовавшее Дзоши точностью и элегантностью, не срабатывало. «Потерять тюрбан» значит потерпеть поражение; «менять тюрбан» — нарушать слово; «обменяться тюрбанами» — стать назваными братьями; «отобрать тюрбан» — продемонстрировать превосходство, «отобрать тюрбан» (совсем другую его разновидность!) — обманом извлекать пользу… Дзоши опять задумался — получалось, что кроме таблиц необходимо было подготовить и иллюстративный материал, и он полез в прадедовский сундук, упрятанный в кладовке.
Голову в Индии обматывали с древних времен, и основной причиной этого была изнуряющая жара, сменяющаяся сезоном проливных дождей, поэтому главной функцией головного убора всегда была защитная, причем не только от жгучих лучей солнца или льющихся без просвета потоков воды, но и от ядовитых растений и насекомых, а также от ударов, наносимых в битве. Со временем к защитной функции присоединилась и социальная: по головному убору определяли статус — до сих пор в ходу выражение «тюрбаны восемнадцати каст», где трафаретное для индийского сознания числительное «восемнадцать» (восемнадцать книг «Махабхараты», восемнадцать глав «Бхагавад-гиты», восемнадцать обликов Шивы, восемнадцать человеческих пороков и т. д.) всего лишь субститут идеи множественности; а жреческое сословие, например, подтягиваясь к небесам, при отправлении религиозного культа предпочитало все больше и больше увеличивать высоту наголовных обмотов, подкладывая под них вертикальные предметы. Социальная функция осложнилась эстетической — на тюрбаны пошли шелковые ткани и парча, им стали придавать разнообразные формы, украшать драгоценными камнями, нитями жемчуга, перьями птиц. Обилие нюансов возрастало за счет региональной специфики. Бенгалия предпочитала одно, Махараштра — другое, а Бихар и Гуджарат — третье; в некоторых областях форма тюрбана повторяла очертания макушек местных храмов. Сикхские тюрбаны, прагматично скрывающие длинные, никогда не стриженные волосы мужчин (один из пяти внешних символов принадлежности к сикхской общине), стали сигнализировать конфессиональную принадлежность.
Извлеченный Дзоши тюрбан темно-красного цвета и по форме, и по размеру напоминал колесо от телеги, был похож он и на современные изображения летающей тарелки, — такие появились в XVIII в., носили их преимущественно западноиндийские брахманы из подкасты читпаванов, а в соседнем штате Гуджарате они так и назывались — «тюрбан Дзоши». Позже, когда пришли англичане, кто-то из предприимчивых читпаванов (известных фигур в индийской истории) принял христианство, но от символа родовитости и положения не отказался. Впрочем, когда появились автомобили, окружность читпаванского тюрбана стала ужиматься. И вдруг Дзоши осенило: вот наконец достойный для коллекционирования объект — здесь дыхание истории, фольклор и ритуал, эстетическая устремленность, взлет фантазии, мастерство исполнения и даже патриотизм! Зычно кликнув жену, Дзоши сообщил ей о своем озарении, удовлетворенно сел за таблицы и быстро довел их до конца — он уже точно знал, как выстроит свой доклад на конференции в Москве.
Любовь к классификациям у индийцев в крови: упорядочивается все и по любому признаку, поэтому Дзоши прежде всего выделил две категории — пагри и паготе. Первым с помощью каркаса изначально задается стабильная форма, вторые заматываются и выкладываются в причудливые переплетения при каждом употреблении — на особенно изощренный замот уходит до получаса (если это неудобно делать непосредственно на голове, используется колено или деревянная болванка), а каждый новый изгиб ткани обозначается отдельным термином; один край полотнища может торчать хохолком в центре всей конструкции, а второй — спускаться на спину или перебрасываться через плечо — можно и пот утереть. Ширина ткани, идущей на любой из видов, достигает 2,5 м, а длина доходит до шести. Пагри носили, пока он не терял вид, не стирали и не видоизменяли — Дзоши казалось, когда он любовался прадедовским тюрбаном, что он улавливает запахи и предыдущих столетий, и своих именитых предков — астрологов при дворе местных правителей. Паготе же отдавали в ежемесячную стирку членам касты красильщиков, которые, в отличие от касты простых прачек, не только отмывали грязь от полотнища, но и освежали его цвет: в ход шла минеральная краска, затем ткань ароматизировали, вымачивая в настое из стеблей кораллового дерева (Erythrina fulgens) или перекладывая высушенными цветками сафлора (Carthamus tinctorius).
Теперь свободное время Дзоши проводил в поисках: он обошел всех знакомых и знакомых знакомых, обшарил закрома близких и дальних родственников; по воскресеньям он садился на рейсовый автобус, отъезжал от города на 60–70 км, методично прочесывал деревню за деревней, и не было случая, чтобы он вернулся с пустыми руками. Его интересовали уже не только сами тюрбаны, но и все, что с ними связано. В собственном городе на одной из торговых улиц он с удивлением обнаружил магазин, торгующий несколькими видами пагри и паготе и принимающий заказы на их изготовление по старым рисункам и фотографиям — коллекция Дзоши существенно пополнилась, но жена стала ворчать по поводу неоправданных расходов. В другом месте он напал на профессионала виртуоза, владеющего двумя сотнями способов повязывания тюрбанов и тратящего на это считанные секунды; его знали во всей округе и обязательно приглашали в случае приезда именитого гостя — так у Дзоши оказалась фотография Раджива Ганди в свежеповязанном виртуозом тюрбане. Иногда Дзоши не выдерживал и упрашивал хозяина какой-нибудь лавки продать ему вывеску, на которой был изображен очередной тюрбан.
Из древних текстов Дзоши вычленил цветовую функцию обмотав — от жары спасал белый цвет, в праздники повязывали желтый, а любовник закручивал на голове черный тюрбан, чтобы слиться с цветом темноты, пробираясь безлунной ночью на тайное место свидания, указанное возлюбленной (Вот женщина втирает себе в живот белую сандаловую мазь, надевает на пышную грудь пояс, прилаживает ожерелье к круглому бедру: всеми мыслями она уже на пути к любимом^. Кстати, в древности носили тюрбаны и женщины, фигуры красавиц, увенчанных разнообразными обмотами, сохранились на древних барельефах и среди скульптур археологических музеев. Все портреты рани Лакшми-баи, одной из героинь и лидеров антибританского восстания сипаев (воинов-индийцев британской армии), вспыхнувшего в Индии в 1857 г., рисуют ее верхом на скакуне, с оголенным мечом и в тюрбане.
Для московской конференции Дзоши отобрал около десяти экземпляров — ему хотелось показать региональную и социальную конкретность, отраженную в поговорках и идиомах: были тюрбаны раджастханских раджпугов и маратхских воинов, тамильских садовников и орисских кузнецов; было несколько экземпляров, называющихся по имени княжеских семейств, введших их в обиход, — гвалиорские тюрбаны семейства Синдхия (их потомки до сих пор играют видную роль в политической жизни Индии), индорские — Холкаров и бародские — Гаэквадов. Каждый надевался по-своему: один плотно надвигался на лоб, другой заламывался чуть ли не на затылок, третий должен был прикрывать одно ухо и оставлять открытым другое; что-то диктовалось общими правилами, а что-то определялось индивидуальным щегольством. Дзоши захватил с собой еще несколько красных полотнищ-паготе на подарки: в Индии и в наши дни на официальных церемониях в знак особого почета на голову высокого лица повязывают тюрбан, вот Дзоши и решил приятно удивить организаторов конференции. Чтобы сэкономить место в багаже, один из наиболее объемных тюрбанов Дзоши водрузил на себя и в таком виде спустился по трапу самолета в Шереметьеве: встречавшая его коллега, Ирина, равнодушно смотрела мимо.
По завершении конференции Дзоши удалось вырваться на два дня в Санкт-Петербург, и там, в Эрмитаже, он полчаса простоял перед «Мадонной Литтой» Леонардо да Винчи. Впрочем, не он один, но все то умилялись умиротворенностью образа младенца, припавшего к упругой груди, а он, Дзоши, восторженно рассматривал головной убор мадонны — тюрбан из газовой ткани со спущенным концом, через который просвечивала чувственная женская шея. Тогда-то Дзоши и подпитался новой идеей — проследить хотя бы некоторые вехи становления моды на тюрбан в Европе — и выяснил, что с жаркого Востока идею тюрбана принесли крестоносцы, что тюрбаны были в фаворе при дворах Франции и Бургундии, потом пропали и снова возникли после наполеоновского похода в Египет, а потом опять вернулись во время Второй мировой войны. С чувством глубокой признательности он принял подарок Ирининой мамы — поношенную чалму, сшитую из двух шерстяных шарфов, — «писк» зимней моды среди русских женщин в 1970-е годы.
В Индии же тюрбан был незаменим и как тайник — в нем прятали деньги и драгоценности, переносили любовные послания и секретные донесения. До сих пор в засушливых районах Индии, например в Раджастхане, где летняя жара достигает +50 °C, под намотанный тюрбан, называемый сапхой, подкладывают разрезанную луковицу, оттягивающую неимоверный жар от головы. Дзоши не без усмешки вспомнил один из анекдотов про Бирбала, хитроумного министра при императоре Акбаре, занимавшем индийский трон в XVI в. Как-то с базара стал пропадать хлопок, но воров найти не могли. И тогда Бирбал призвал к себе торговцев-посредников и сказал: «Про кражу и толковать нечего, нам уже все известно. Воры даже в тюрбанах хлопок прячут! Ну не дурни ли?» При этих словах трое из присутствовавших огладили рукой тюрбан — не пристал ли кусочек хлопка, тем самым выдав себя.
Дзоши не ожидал, что случайно стимулированное коллекционирование выльется в тревожную страсть, перехватывающий дыхание азарт и вдумчивое познание не только своего, родного, но и чужого. Начав с чисто индусских обмотов, Дзоши стал приглядываться и к национальным уборам других вер и народов, а приняв решение, не поленился разослать письма с просьбами в разные уголки земного шара. Любивший во всем завершенные контуры, он вплотную занялся соединением материального и духовного, формы и слова: рядом с каждым экспонатом укреплялись таблички с научным комментарием и фольклорными иллюстрациями. Поджидая Канеткара, который еще не видел новых стеллажей, он склонился над плотным листом бумаги, раздумывая, как бы удачнее транскрибировать алфавитом деванагари две русские пословицы; они как раз были связаны с поразившими его впечатлительную натуру русскими женскими головными уборами и зафиксировались в памяти благодаря чеканной ритмике, отсутствующей в индийских паремиях, и непривычной для его слуха аллитерации. Дзоши был убежден, что его коллекция и эстетически, и концептуально выиграет от кросскультурных параллелей, и старательно вывел: «Вот тебе кокуй, с ним и ликуй» — так говорили на Руси вышедшей замуж молодке, а потом, с передышкой: «Не рада баба повою, рада б покою». Конечно, ни кики (кикибала, кикиболка) с сорокой, ни повоя (повойничек), ни даже простенького кокошника ему пока раздобыть не удалось, но вот красуются же, изумляя любопытствующих, монгольский малахай и еврейская кипа, киргизский борйк и турецкая феска, туркменская тюбетейка и вьетнамский нон, плетенный из высушенных полосок сыти. Вот сванская шапочка и даже кепка-аэродром, чем-то напомнившая прадедушкин пагри, — ее Дзоши отхватил на одном из московских рынков, когда Ирина объяснила, что это вроде как национальный убор, причем не купил — она была на голове у продавца, а поменялся, достав из портфеля ткань, соорудив на голове торговца тюрбан по-марварски и объяснив, что марвари — самые удачливые торговцы Индии. Раздобыть бы фригийский колпак, размечтался Дзоши, но тут жена постучала в дверь и пропустила в комнату соседа.
Смутная тревога прочно поселилась в сердце Дзоши, преподавателя индийского колледжа. Видимых причин для этого не было — замужество старшей дочери, судя по ее письмам, оказалось удачным, и она ждала второго ребенка; написанный им для нового путеводителя по Индии раздел о дорогах издателю приглянулся; коллекция тюрбанов, которую он трепетно собирал последние годы, получила высокую оценку на биеннале в Дели. Но какая-то тоска застыла в груди, сосало под ложечкой, прорываясь наружу раздражением. Вчера зашел Канеткар, сосед, потолковать о том о сем, а Дзоши почувствовал, что обычный диапазон — коррупция в правительстве, новый налоговый кодекс, климатическая нестабильность — его не вдохновляют, и дал понять, что занят, даже — вопреки этикетным нормам — стакана воды не предложил. Жена чувствовала гнетущий настрой мужа, по-женски старалась поднять ему жизненный тонус пшеничными лепешками с начинкой из сахара-сырца и даже повела на ретроспективу фильмов с Раджем Капуром — не то чтобы фильмы были очень хороши, но, связанные с их молодостью, они будили добрые воспоминания. Дзоши на все смотрел хмуро, а дневное раздражение усиливалось ночной бессонницей. Тогда Маниша поделилась с соседкой, женой Канеткара. Та сказала: «С моим такое уже было. Чего только не придумывала, все без толку. А как сходил в паломничество — вернулся такой довольный, такой умиротворенный! Это у них с возрастом бывает — душа очищения просит».
Идея Дзоши приглянулась, и, будучи человеком основательным, он сначала решил подготовиться. В Индии паломники всегда устремляются к рекам, поскольку индийская река не просто вода, а «сакральная текучесть». «Не расспрашивай об истоках реки и происхождении мудреца», — гласит индийская пословица: корни харизмы не в прошлом, а в настоящем, к тому же негоже простым смертным копаться в божественных родословных. В Индии же почти каждая река — богиня. Вот Ганга, например, всем известно, что раньше текла в небесах. А потом мудрец Агастья, кстати, по просьбе богов, выпил весь океан, на дне которого скрывались злобные асуры, противники богов. Боги быстро перебили асуров, а потом сказали — мол, выплюнь океан обратно. Агастья же ответил, что уже поздно, он у него в желудке переварился. Тогда боги отправились за советом к всемогущему Брахме, богу-созидателю, и он сказал, что ждать им придется долго, пока в городе Айодхъе не родится царь Бхагиратха. А у того царя было 60 тыс. прадедов, которые давно погибли, но из-за свой злобности и кичливости небесного блаженства не обрели. Бхагиратху это мучило, и он предался подвижничеству на склонах Гималаев. Через тысячу лет дочь Гималаев Ганга предстала перед ним в облике прекрасной девы, и он объяснил ей, что только ее священные воды смогут смыть грехи с останков его предков. Добрая Ганга согласилась спуститься на землю, но предупредила, что земля не выдержит такого мощного напора воды. И тогда Бхагиратха направился к обители многорукого Шивы, и там тоже истязал свою плоть, пока Шива не согласился подставить голову под небесный поток. Он принял на свое чело тяжесть низвергнувшихся вод, которые стекли по его телу, наполнили пересохший океан и очистили от скверны прадедов Бхаги-ратхи.
«Тьфу, — в сердцах вспомнил Дзоши магазин «Ганг» на одной из московских улиц, — что у них там за мутация произошла с нашей святыней?» Он обнаружил эту маскулинизацию, когда принимал участие в международной паремиологической конференции в Москве, и расстроился, поскольку всегда считал, что индийцы и русские связаны глубоким духовным взаимопониманием и их общее индоевропейское прошлое не кануло в Лету (никуда от рек не деться, что ни гидроним, то имя богини), а на синхронном уровне тоже свидетельствует об актуальной общности. Разве перед Волгой не благоговеют — сколько гимнов в честь «красавицы народной» сложено! Его не утешило, а привело в еще большее раздражение, когда Ирина, его российская коллега, рассказала, что на одной из центральных площадей Рима установлен грандиозный фонтан, аллегорически изображающий четыре великие реки мира, и все в виде мужиков, преуспевших в бодибилдинге, а ведь одна из этой четверки — Ганга!
Впрочем, Дзоши понимал, что в этом мире андрогинность становится нормой. Но Ганга — настоящая женщина, и когда Парвати, законная супруга Шивы, узнала, что Ганга сидит у Шивы на голове (именно так этот сюжет изображается в индусской иконографии), а тот не возражает, она впала в ярость. Вместе с сыном, слоноголовым Ганешей, она стала плести интриги, чтобы извести соперницу. Вспомнили про мудреца Гаутаму, который как раз в это время собрал в своей обители на горе Брахмагири (Западная Индия) представителей высшей касты — брахманов и, угощая их трапезой, приумножал свои добродетели. Хитрый Ганеша превратил Джаю, служанку Парвати, в корову, и на виду у всей честной компании она стала топтать рисовое поле Гаутамы. Корова в Индии тоже священная, на нее крикнуть нельзя, а Гаутама замахнулся былинкой, и корова упала замертво. Брахманы пришли в ужас — грех-то какой! Можно смыть только небесной водой! Тогда Гаутама разразился хвалебными гимнами в честь Шивы, и довольный Шива пожертвовал ему клок своих волос — как раз тот, на котором примостилась Ганга. Гаутама схватил его и отнес на Брахмагири, и оттуда потекла одна из наиболее почитаемых в Индии рек — Годавари. Те же потоки, которые затерялись в нечесаной шевелюре Шивы, Бхагиратха потом призвал на землю в виде Ганги, берущей начало в Гималаях. Все эти истории рассказываются в речных махатмъях — особом жанре религиозной литературы, в котором прославляются достоинства каждой индийской реки и расположенных на ней святых мест. Махатмъи всегда составлялись местными брахманами — жрецами и теологами, заинтересованными в притоке паломников, поэтому в Индии каждая река оказывается «вертикальной», т. е. спустившейся с неба, каждая — Ганга, и любая точка на ней — уникальная, неповторимая, наивысшая: очищающая от грехов, исцеляющая от болезней, дарующая благосостояние. Овеянные мифологической славой, эти места известны как тиртхи — этимология слова уводит в древнеиндийский язык санскрит, назвавший так удобные для переправы на другой берег броды.
Глава древнеиндийского пантеона богов, громовержец Индра, отличался неугомонным нравом и все норовил обесчестить чужих жен, которые отчаянно сопротивлялись. Однажды он воспылал страстью к красавице Ахалье, жене того самого мудреца с Брахмагири, и заявился к ней в обличье Гаутамы. Ахалья поверила и, как примерная жена, подчинилась требованию супруга, но тут пришел настоящий Гаутама и проклял их обоих: Ахалью он превратил в каменный столб, а Индру — в евнуха с телом, усыпанным тысячью женских лон (в иконографии их изображают в виде глаз). Женщину потом спас бог Рама, случайно наткнувшийся во время своих странствий на этот столб, — от божественного прикосновения к Ахалье вернулся ее прежний облик. А Индра долго вымаливал прошение у богов и смог избавиться от непристойного вида, только совершив омовение. В Индии насчитываются сотни Индра-тиртх (на Годавари, на Индраяни — названной так в честь Индры, и даже месте слияния Мутхи и Мулы, протекающих неподалеку от дома Дзоши), брахманы которых утверждают, что это произошло именно здесь, что величие и мошь именно этой тиртхи проверены не только людьми, но и небожителями. Русские, вспомнил Дзоши, тоже верят в очистительные способности рек — вон как у них одна известная всем певица надрывалась, как будто ее отговаривали: А я в воду войду, а я в воду войду! Значит, есть, что смывать.
С одной стороны, река — богиня, стремящаяся к соитию со своим мужем-океаном (надо же, в англосаксонской мифологии именно океан — женщина, а вливающиеся реки — оплодотворяющая мужская сила!), не зря же говорят «кто реку ищет, океан найдет». С другой — она же символизирует жизненный поток, и каждый индус грезит о том, как бы с этого, профанного берега перебраться на тот, сакральный, принадлежащий миру богов. Тиртхи-броды как раз и предназначены для того, чтобы помочь обрести освобождение от нескончаемого круговорота перерождений. Поэтому к тиртхам вереницей бредут паломники, чтобы смыть грехи, а еще лучше — умереть на священном берегу: тогда уж точно мокша гарантирована и индивидуальная душа устремится на долгожданную встречу с космическим Абсолютом. Русские, между прочим, о том же поют: Когда придешь домой в конце пути, / Свои ладони в воду опусти. Вот она — духовная общность! Начитанный Дзоши, конечно, понимал, что связь реки с тем миром — универсальная изоглосса, какую культуру ни возьми, тот берег — всегда особенный, но в России эти представления не похоронены в академических изданиях, они живы, о них напоминают на каждом шагу, какой клип по телевизору ни крутят, все одна и та же мысль (молодцы русские, духовные люди!): Через реку, реку быструю, /Я тебе мосточек выстрою. Эта-то героиня уже определилась, а в другой песне рассказывается о тех, кто еще терзается мирскими сомнениями: То берег левый нужен им, то берег правый… Дзоши вспомнил, как был на даче у Ирины, на берегу реки, и ее дочь, Дуся, то и дело садилась в лодку и устремлялась к тому берегу. Ирина объяснила, что там у нее приятели, шуры-муры, то-сё. Теперь-то Дзоши понял всю поверхностность этого объяснения; как же она не углядела архетипики поведения! Правда, с Марусенькой странно получается — она вроде уже «на том бережочке», но продолжает мыть «белые ножки», а ведь того берега достигает тот, кто уже очистился!
Река в Индии — это и жизнь, и смерть. Все реки обустроены гхатами — ступенчатыми спусками к воде, и на них день и ночь пылают костры, сложенные из благоухающего сандала, на которых жгут трупы. Если не удалось завершить жизнь возле реки, то родственники просто обязаны доставить пепел умершего, например, в овеянные сакральной славой Бенарес или Гайю и там, с соответствующими ритуалами, опустить в воду, а домой принести зачерпнутой святой воды. Когда в Индии, еще при англичанах, вовсю заработала почта, то ушлые брахманы, обслуживавшие тиртхи, стали принимать бандерольки с урнами и наладили весь церемониал в отсутствие родственников усопшего — лишь бы денежный перевод вовремя пришел.
Однако есть период, когда реки становятся неблагоприятными — считается, что в сезон дождей у рек, как и у женщин, наступают «критические дни» и они становятся источником скверны. Тогда лучше к ним не приближаться, а то беды не избежать. Еще в древней Индии, когда с наступлением муссонов реки разливались, на четыре месяца налагался запрет на все передвижения — наступало время любви, и соединившиеся возлюбленные неустанно предавались плотским утехам. А те, кто оказывались разъединенными бурлящими потоками, испытывали неимоверные страдания и, сажая на бедра скорпионов — пусть ужалят! — физической болью отвлекались от томления в чреслах. Своих высот индийская лирика достигла именно в описании любовников, разделенных разбушевавшейся стихией. Интересно, подумал Дзоши, а этот русский гимн — Я ждала и верила сердцу вопреки, /Мы с тобой два берега у одной реки — о чем? То ли сезон дождей в разгаре, то ли объект страданий уже переправился (в философском смысле) на ту сторону жизненного потока, а героиня еще здесь — все, как в индийской религиозной поэзии: два содержательных пласта — мирской и духовный! Вообще, идея переправы просто не отпускает русских и прочно закреплена в их генетической памяти, пришел к выводу Дзоши: еще бы, с детства вбивают в головы про греку, который «ехал через реку», или, например: Перевоз Луня держала, держала, держала, /Перевозчика наняла. И Дунюшка, кстати, серьезно относилась к своей карме: батюшку с матушкой отказалась перевозить — перевозчика, говорит, угнала, т. е. не хотела с ними расставаться, но зато милого друга «на луг» — ясно, в небесную обитель — переправила.
В деревнях, расположенных по берегам, в отношении рек сохранилось множество фольклорных, отличных от классических, представлений. Там река предстает как бы в двух ипостасях — она, конечно, кормилица, символ плодородия: дарует влагу, а значит, пишу, т. е. саму жизнь. Ее вода животворяща, как околоплодные воды в материнском чреве. Но она же и опасна: исходящая от нее угроза олицетворяется семью безымянными богинями, которых изображают красной чертой на речных валунах. Там, где берег помечен их присутствием, надо быть особенно осторожным, вернее, осторожной, поскольку их зловредность распространяется в основном на женщин — «семерку» следует умилостивлять бесконечными подношениями — зерном, рисом, цветами, кокосовыми орехами и, конечно, украшениями и женской одеждой. А то глядишь — пошла молодка постирать и не вернулась или отскребла на берегу кухонную утварь и осталась бесплодной. У «семерки» простой народ много чего просит, дает обеты, а уж коли получит искомое — расплачивается не скупясь. (В России, видать, так же, вспомнилось Дзоши, кто что производит, тем и расплачивается, кузнец из Кукуева, например, пожертвовал реке топор.) Вымоленных детей, совсем младенцев, усаживают на плетенные из веток плоты и направляют к глубине, где детскую одежду опускают в воду — живое эхо бытовавших когда-то человеческих жертвоприношений. Мать должна взирать на все это бесстрастно, тогда дитя вернется к ней невредимым. А коли «семерка» кого-то излечила, то просившей об этом женщине шилом прокалывают кожу и мышцы по обеим сторонам торса, пропускают в образовавшиеся отверстия веревку, которую счастливая страдалица должна несколько раз обмотать вокруг себя. Совершается вся эта процедура на глазах у всей деревни и сопровождается откровенным признанием женщины в том, что она просила и что получила. А если засуха наступает, то уж чего только реке не предложат, даже в сари оденут — привяжут одно к другому и перекинут с берега на берег.
Дзоши задумался о кросскультурных параллелях. Много, конечно, общего, — вон Катюша выходит и поет про степного сизого орла, ясно же, что про Гаруду, гигантскую птицу, на которой передвигается бог Вишну, — к нему часто обращаются именно на берегу реки. Но у тех же русских, да и в Европе, половина рек — Днепр, например, или Урал с Иртышем — ассоциируется с мужским полом и относятся к ним не ласково, как к рекам-богиням, а с опаской, как к зловредной «семерке», постоянно ожидая подвоха. Их явно задабривают, вон, например, сколько всего в Дунай накидали и просят: Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок…
Дзоши ежедневно, возвращаясь из колледжа, принимался за речную тематику. Постепенно за грудиной отпустило, тоска из глаз исчезла, вернулась доброжелательность. Сегодня он прочитал о том, как совершить паломничество, не покидая дома — это доступно тем, кто научился держать свой дух в узде и мысленно направлять его на возникающие в пути преграды, с тем чтобы просветленно погрузить бренное тело в святые воды. Дзоши решил попробовать, устремившись мыслями пока еще не к Ганге, а к слиянию местных речушек — Мутхи и Мулы… Раздался звонок. Дзоши открыл дверь Канеткару, и тот, узрев на лице соседа особое, воспарившее над мирским вздором, выражение, вдруг распростерся ниц на полу и прижался лбом к ногам Дзоши — так приветствуют вернувшихся после омовения паломников: окунувшись в тиртхе, они сами превращаются в тиртху — носителя наивысшей духовности, прикосновение к которому дарует очищение.
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Индию называют «страной контрастов», и это набившее оскомину словосочетание не преувеличение. Здесь высокая ядерная технология уживается со слоноголовым богом Ганешей, устранителем и чинителем препятствий, и страну одновременно сотрясают и ядерные испытания, и сообщения о том, что во всех индийских храмах скульптурные изваяния Ганеши в неимоверных количествах поглощают предлагаемое в качестве подношения молоко. Здесь создали суперкомпьютер и все еще продолжают вспоминать о случившемся 4 сентября 1987 г., когда восемнадцатилетняя Руп Канвар взошла на погребальный костер умершего мужа. В штате Раджастхане, в деревне Деорали, возле того места, где был разложен костер, уже на 13-й день после кремации для проведения традиционных индусских поминок собралась 200-тысячная толпа; впоследствии там соорудили святилище «Матери Сати» — обожествленной Руп, которое, несмотря на запрет властей, стало центром многотысячного круглогодичного паломничества и поклонения.
Индия может гордиться блистательной плеядой совершенно самодостаточных женщин — политиков, чиновников, деятелей искусств и т. д., среди которых Индира Ганди (премьер-министр Индии в 1966–1977 и 1980–1984 гг.) и Киран Веди (полицейский чиновник высшего ранга, длительное время бывшая начальником главной индийской тюрьмы «Техар»), Арундати Рой (писательница, лауреат Букеровской премии) и Амрита Шергил (художница), Шабана Азми (актриса, депутат верхней палаты индийского парламента) и Ромила Тхапар (ученый-историк с мировым именем). Вряд ли на современной карте мира начала III тысячелетия отыщется другая страна, где самые важные территориально-административные единицы возглавляют женщины, в то время как в Индии сразу четыре штата избрали своими главными министрами представительниц «слабого пола» (Шейла Дикшит — Дели, Рабри Деви — Бихар, Джайлалита — Тамилнаду, Майявати — Уттар Прадеш)! А по количеству женщин-дипломатов Индия давно обогнала не только Россию, но и многие европейские страны.
И все-таки в Индии невероятно живучи традиции: часто новое не искореняет старое, но наполняет его ароматом современности или просто уживается рядом. Именно так, например, произошло с весьма популярной в Индии «электронной свахой» — интернетовская паутина заполнена матримониальными предложениями от юных индийцев из разных частей земного шара: сохраняются освященные веками принципы заочного знакомства и предварительного сговора относительно наследства и других условий, но молодежь получает большую свободу, сама определяя друга или подругу по «чату» и составляя мнение о пожизненном партнере до, а не после свадьбы. В насквозь «контрастной» Индии парадоксальным образом сочетаются уважение к женщине и ее подчиненное положение[56], разухабистая религиозная эротика и жесткие пуританские правила в реальной жизни.
«Тонкая талия и широкие бедра, красные губы и черные глаза, глубокий пупок и высокая грудь» — так должна выглядеть классическая индийская красавица. Именно поэтому древнеиндийский мудрец сказал: «Женщина не заслуживает свободы», и традиционное индийское общество до сих пор не отказалось от этой максимы. В юном возрасте за женщиной приглядывает отец, затем муж, а в старости — сын. Женщину растят в убеждении, что будущий муж — это бог, и ее воспитание нацелено на то, чтобы в замужестве она «вилась» вокруг мужа, «обвивала» и «облекала» его, готовая разделить его судьбу. Преданная мужу мифологическая Савитри, вырвавшая своего мужа из рук Ямы, бога смерти, или бесстрашная Сита, во всех ситуациях безупречно служившая своему божественному супругу Раме, — признанные образцы высокоморального поведения. Героиня одного из современных романов признается: «Я с детства любила человека, за которого меня выдадут замуж», т. е. любила неизвестного, которого потом, много лет спустя, родители определили ей в мужья. Повседневная жизнь женщины наполнена заботой о муже, все ее желания — это в первую очередь желания ее мужа. Она должна лучиться приветливостью, с вниманием относиться к домашним делам, содержать дом в ослепительной чистоте, экономно тратить деньги и наряду с мужем обслуживать детей, свекра и свекровь. Подлинно добродетельной, «преданной жизнью-обетом» своему супругу — пативратой — считается та женщина, которая умирает раньше мужа и ожидает воссоединения с ним в райских кушах.
Однако образ идеальной индийской супруги окажется неполным, если исключить из него сексуальный аспект — индийская женщина не только чувственна, т. е. стремится к наслаждению, но и чувствительна, т. е. восприимчива к проявлениям чувств и эротическим сопереживаниям. Впрочем, эротичность женщины допускается только по отношению к мужу, иначе это порок. «Не стыд, не воспитание, не добродетель, не страх — лишь отсутствие пожелавшего — причина женской чистоты» и «Женщина съест вдвое больше, чем мужчина, она вчетверо хитрее его, вшестеро решительнее и в восемь раз сладострастнее» — таково традиционное общественное мнение.
Эротологический трактат «Камасутра» — «Изречения о чувственной любви», созданный в III в. до н. э., содержит тонкий (и столь же умозрительный) анализ любовных отношений и множество практических (не всегда выполнимых) советов. Именно поэтому в современной Индии перед предстоящим замужеством дочери мать как бы случайно оставляет на видном месте все еще считающиеся актуальными наставления: в конце концов, идеальная жена не должна уступать в искусстве любви гетере. Мудрец Ватсьяяна, автор трактата, сам хранивший целомудрие, тем не менее много раздумывает об эротической совместимости партнеров. Наиболее волнительные ощущения, по его теоретизированию, ожидают пару, совместимую не менее чем в трех аспектах — размере половых органов, темпераментности и умении продлевать наслаждение. Мужчинам, определяемым как «заяц», «бык» и «конь», соответствуют женские типы «газель», «кобылица» и «слониха». Из девяти возможных сочетаний темпераментов любовников — вялого, среднего и страстного — лучшим считается сочетание равных, а из равных — страстных. К тому же любовники бывают быстрые, средние и медлительные, среди которых лучшие — равные. Естественно, что долгое соитие полнее утоляет желание. Здесь многое зависит от мужчины, но и женщина должна знать, как варьировать разновидность объятий, коитальных позиций, уметь оставлять на теле любимого следы ногтей и зубов — эти знаки говорят о пылкости ее любви, особенно яростно прорывающейся перед долгой разлукой. Впрочем, несмотря на устойчивую приверженность как древних, так и современных индийцев к всякого рода классификациям и ранжированию, тот же безудержно фантазирующий Ватсьяяна справедливо предполагал, что когда колесо страсти приходит в движение, нет нужды вспоминать правила любовной науки: без импровизации, утверждал великий теоретик, не познаешь ни любви, ни в любви себя.
Еще более древние источники — веды и упанишады — свидетельствуют, что индийскому мировидению свойственна натурализация самых высоких и абстрактных понятий, подводящая общую основу под разнообразные проявления природной и человеческой сущности. «Земное» сливается с «небесным», а область чувственной жизни становится неотъемлемой частью повседневной религиозной практики. Уже космогонический акт древние индийцы представляли как соитие отца-Неба с матерью-Землей, «пронзенной» супругом и «увлажненной плодом»; дождь при этом воспринимался как семя, оплодотворяющее землю. Возжигание жертвенного огня для принесения жертв богам, осуществлявшееся трением двух кусков дерева, уподоблялось совокуплению: верхний кусок отождествлялся с мужским органом, нижний — с женским. При изготовлении дурманящего напитка — сомы (предположительно из эфедры или мухоморов) — части пресса для выжимания сока отождествлялись с частями женских гениталий, движения при выжимании — с сокращениями мышц матки при любовном соединении. Смешивание сомы с водой и молоком рассматривалось как случка быка с коровами. Еще одно ритуальное осмысление соответствующих анатомических деталей прослеживается в мифе о божественном творческом акте. Детородный орган здесь называется камнем для выдавливания сомы, которым бог оплодотворяет сотворенную им женщину: Ее лоно — жертвенный алтарь. Волоски — трава для жертвоприношения. Кожа — давила сомы. Срамные губы — огонь в середине[57].
Тантрические мотивы, которые в той или иной степени пронизывают многие направления внутри индуизма, господствующей в Индии религиозно-философской системы, рассматривают союз мужчины и женщины не только как жизнетворящий стимул, но и как постижение Всевышнего и соединение индивидуальной души с мировой, т. е. пусть кратковременное, но достижение главной цели бытия — слияния атмана и брахмана. Непререкаемая убежденность в том, что муж — это бог, увеличивает сладость соития для замужней женщины, но даже безотносительно к этому безупречная верность остается нерушимым кредо пативраты.
В индийских городах и деревнях, большей частью по берегам рек, там и сям можно наткнуться на вертикальные каменные стелы с изображением поднятой руки, обычно закрашенной красным синдуром, — это памятники женщинам-сати. Иногда на нижней части памятника можно разглядеть барельеф с батальной сценой, а вверх вздымается не одна, а сразу несколько рук, символизирующих число женщин, подвергшихся добровольному кремированию одновременно с трупом покойного мужа. Словом сети называют и весь обряд в целом. Этот термин связан с санскритским корнем «сат» — «добродетель», но народная этимология усматривает в этом слове связь с огнем и объясняет, что женщина изнутри сжигаема «огнем супружеской верности» и не желает расставаться с супругом. Древние тексты свидетельствуют также о том, что женщина огненна по своей природе: Поистине женщина — это огонь. Лоно — его топливо. Волоски — дым. Детородные части — пламя. То, что происходит внутри, — угли. Наслаждение — искры. На этом огне боги совершают подношение семени. Из этого подношения возникает человек…[58]. Огонь с древних времен рассматривался индийцами как посредник в общении с богами, и соединение мужа и жены в пламени погребального костра считается освящением их союза уже в ином мире.
Этим же словом — Сати — звали и верную супругу бога Шивы, которая не вынесла унижения из-за того, что ее мужа не пригласили на великое жертвоприношение. Чувствуя себя оскорбленной, она бросилась в огонь, разожженный для принятия жертв. Когда узнавший об этом Шива вытащил ее из огня, она была уже мертва, и, обезумев от горя, он бродил с ее трупом по всей Индии, пока Вишну не освободил его от печальной ноши, потихоньку отрезая кусочки от мертвого тела и бросая их на землю: в этих местах теперь существуют храмы, где поклоняются Богине. В следующем рождении Сати родилась в виде Парвати и аскезой вынудила Шиву взять себя в жены, потому что Шива по-прежнему не видел никого вокруг, вспоминая свою незабвенную Сати.
Самосожжение на погребальном костре мужа ни в какие времена не было жизненной нормой индийского общества, но всегда было идеалом и воспринималось как наивысшая заслуга женщины, отмывающая все ее грехи и дарующая ей столько лет небесного блаженства, сколько насчитывается, согласно традиционным поверьям, волосков на теле — 35 млн. Практика сати была распространена по всей Индии, но особенно большое количество случаев было зафиксировано на территории Бенгалии в XVII–XIX вв., что, вероятно, объяснялось несколько иным, по сравнению с другими индийскими регионами, законом об имущественном наследовании, подразумевавшим участие бенгальской вдовы в доле, а следовательно, вокруг потерявшей мужа сгущались этико-экономические претензии. Только в период с 1815 по 1828 г. стали известны имена 8133 заживо сгоревших, и под влиянием активной позиции известного индийского просветителя Рама Мохана Роя в 1829 г. английские колониальные власти официально запретили этот обычай, под угрозой уголовного наказания за «подстрекательство или непринятие мер». После молниеносно распространившейся информации о Руп Канвар индийское правительство в 1988 г. приняло специальный федеральный закон, ужесточающий санкции (вплоть до пожизненного заключения и смертной казни) против участников обряда сати, включая и главную героиню[59].
В Раджастхане, родине Руп Канвар, населенном в средневековье прославленными раджпутами — воинской кастой, при несколько иных обстоятельствах практиковалось и коллективное самосожжение — джаухар Если осажденному раджпутскому городу грозила сдача врагу, то, чтобы избежать последующего позора, жены воинов вместе с детьми запирались в глинобитном помещении и сами себя поджигали, то время как их мужья до последней капли крови отбивались от врага; к джаухару прибегали и тогда, когда раджпутская конница шла в решающую атаку, с тем чтобы мысли воинов не были отягощены беспокойством о судьбе семей. Так, например, летописцы отметили коллективную смерть 24 тыс. раджпуток в 1294 г., когда раджпуты разграбили сокровищницу делийского султана, затем укрылись в крепости города Джайсалмера и в результате оказались в окружении значительно превосходивших сил разъяренного султа на. В 1303 г. к джаухару как последнему способу сохранения чести и достоинства прибегли все знатные женщины крепости Читор, а вместе с ними еще 15 тыс. раджпуток.
Практика самосожжения женщины, потерявшей мужа, была известна древним грекам и германцам, славянам и скандинавам, египтянам и китайцам. Исключительность индийского сати заключается лишь в том, что реминисценции этого обряда-идеала время от времени принимают реальные очертания и благословение или проклятие женщины, идущей на костер, все еще считается наполненным реальной мошью.
Послесловие. 6 августа 2002 г. в деревеньке Тамоли (округ Панна, штат Мадхъя Прадеш) на погребальный костер мужа взошла 65-летняя Кутту Баи. Известие о том, что ожидается акт самосожжения, молниеносно облетело окрестности, и в Тамоли собралась тысячная толпа. Подоспевших из местечка Салехи двух полицейских забросали камнями, и они оказались бессильны предотвратить трагедию. На кремации присутствовали оба сына Кутту Баи, старший из которых, по заведенному обычаю, поднес горящий факел к сложенному костру. Это событие вызвало мощный резонанс по всей Индии, и в редакции газет и на сайты интернетовских изданий полетели многочисленные читательские послания с выражением гнева, боли, недоумения и стыда. Однако были и такие, где говорилось: «Это обычный случай самоубийства. К нему прибегают любящие по всему миру» или «Никто не вправе вмешиваться. Это был ее выбор». Вице-спикер верхней палаты Наджма Хептулла потребовала немедленного обсуждения этого вопроса на парламентском заседании и заявила: «Всем известно, что беззащитных женщин накачивают наркотиками и тащат на погребальный костер мужа. Никто не делает этого по собственному выбору. Разве индийский мужчина когда-либо демонстрирует свою любовь к покойной жене таким образом? Практика сати чудовищна и является национальным позором!» Пурнима Адвани, глава Национальной женской комиссии, выступила за безотлагательное расследование этого шокирующего события и потребовала наказания для всех, кто подстрекал или заставлял несчастную женщину, а также для тех, кто своим присутствием в качестве любопытствующих оправдывал эту акцию. Полиция уже арестовала 15 человек, и правительство штата Мадхъя Прадеша прилагает все усилия, чтобы не допустить превращения Тамоли в освященное косным фанатизмом место почитания.
Замужняя женщина обладает в Индии самым высоким социальным статусом и концентрирует в себе огромное количество священной «благоприятности», способной распространяться на окружающих. Самый низкий социальный статус — у вдов, поскольку считается, что прегрешениями в прошлой или этой жизни они укоротили жизнь своим мужьям: в недалеком прошлом вдов немедленно лишали драгоценностей, обривали наголо, одевали в домотканые сари белого или бордового цвета и вытесняли на обочину жизни; да и сейчас во время некоторых ритуальных церемоний присутствие вдов считается неприемлемым. Девадаси — «божьи рабыни», или, как их иногда не вполне точно называют европейцы, «храмовые проститутки», своей «благоприятностью», как ни парадоксально, значительно превосходят замужних женщин. Причина заключается в том, что они официально выданы замуж за бога и, следовательно, являются богинями и наполнены шакти — особой животворящей силой, направленной на подпитку божьей мощи; кроме того, боги бессмертны, а значит, девадаси не может стать вдовой. Именно поэтому девадаси обычно участвуют в изготовлении свадебных ожерелий, которые новоиспеченные мужья надевают на шеи своим «половинкам» во время брачного ритуала, — в бусинах, нанизанных «божьими рабынями», присутствует частица их шакти, которая должна обеспечить долголетие супруга.
Институт девадаси возник на юге Индии в раннее средневековье, по крайней мере в 1000 г. в Танджавурском храме насчитывалось 400, в начале прошлого века в Канчипурамском храме было 100, а в Сомнатхпураме — 500 девадаси. Проведенные в 1980-х годах социологические исследования обнаружили, что в некоторых районах Махараштры и Карнатака проживают по меньшей мере 25–30 тыс. девадаси[60], причем ежегодно 5–6 тыс. девушек пополняют их ряды.
Одно из наиболее ранних упоминаний о девадаси (в разных частях Индии их называют по-разному[61], и они связаны с разными богами и даже богинями) в классических индийских источниках свидетельствует о том, что юные девушки преподносились храму бога Сурьи (Солнца), где они упоительным пением и изысканными танцами услаждали слух и взор бога, тем самым обеспечивая всем окружающим доступ в «небесный дом Сурьи». Искусство бхарат-натьяма, знаменитого танца, давно признанного классическим, уходит корнями именно в храмовый танцевальный ритуал. Великолепный храм Брихадишвара в Танджавуре все еще хранит на стенах алтарной части фрески с изображением разнообразных танцевальных поз, которые уже в XX в. послужили образцом для восстановления этого танца и переноса его в светский интерьер. Девадаси обмахивают скульптурное изображение бога опахалом, отгоняя от него мух и создавая приятную прохладу, возжигают светильники, поддерживают чистоту в храме. Некоторые из них заключают плотский союз на всю жизнь с одним-единственным мужчиной (нередко это бывает обеспеченный патрон храма или мужчина из категории «поднесенных богу», другие сожительствуют с храмовыми жрецами, поскольку жрецы всегда считались посредниками в делах богов и людей) либо за плату удовлетворяют сексуальные потребности прихожан (которые таким образом получают частицу божественной шакти). Женское потомство от таких союзов, как правило, наследует профессию своих матерей, которые в определенном возрасте уходят на покой. Жизнь, проведенная в служении богу, по мысли индийцев, наполняет добродетелью грешное человеческое тело. В некоторых областях, когда девадаси умирает, со статуи бога, чьей «женой» являлась покойная, снимают одежды и цветочные гирлянды — всем этим перед кремацией украшают труп девадаси. Пока не прогорит погребальный костер, в храме не совершают богослужений, поскольку бог — «супруг» покойной — считается так же оскверненным смертью, как и любой земной человек, а осквернение снимается только совершением особых ритуальных процедур.
В некоторых семьях обычай отдавать одного ребенка богу существует на протяжении веков; в других это является способом расплаты с богом за выпрошенную милость (поэтому очень часто бездетная длительное время пара отдает своего первенца — мальчика или девочку — в услужение богу); иногда богу посвящают девочек из семьи, где рождаются одни девочки и родители не могут всем обеспечить приданое, а также девочек, во внешности которых проявились признаки того, что они предназначены стать «божьими рабынями», например нерасчесываемый колтун в волосах. Абсолютное большинство современных девадаси принадлежит к кастам, раньше называвшимся «неприкасаемыми», и вынуждено этой профессией зарабатывать на жизнь не только себе, но и всей семье. Пожилые девадаси нуждаются в заботе и уходе и, отправляя своих дочерей по проторенной дорожке, привязывают к себе и их, и их потомство ради обеспечения собственной старости.
Девочек отдают в храмы в возрасте 5-12 лет; по достижении половой зрелости осуществляется «церемония прикосновения», во время которой они лишаются девственности. В некоторых местах за это право борются на аукционе владельцы борделей и венерические больные — они все еще верят, что, переспав с невинной, можно избавиться от поразившего их недуга[62]. В других, как, например, в деревне Кудитхини округа Беллари, на которую распространяется мощное влияние культа богини Хулигаммы, юную девадаси лишает невинности ее дядя по материнской линии.
Бог Кхандоба, региональная ипостась бога Шивы, знаменит своими колоритными мужчинами-вагхъя и женщинами-мурли. Вагхъя воспринимаются как преданные псы Кхандобы — во время ритуальных церемоний, когда вокруг разбрасывают тонны желтого порошка куркумы, любимого Кхандобой, они лают, рычат, ходят на четвереньках и подвергают себя жестоким истязаниям; доказывая бесконечную преданность любимому богу, подвешивают себя за складки кожи на стальных крюках и избивают самих себя и друг друга металлическими цепями. Мурли ставят себе на лоб желтую отметину той же куркумой и носят ожерелья из девяти ракушек — оба символа связывают их с супругом — богом Кхандобой. Они танцуют, позвякивая колокольчиками, которые держат в руках, сожительствуют с вагхъя и не чураются подработки на стороне. Основное количество вагхъя и мурли сосредоточено вокруг местечка Джедзури в Западной Индии, где находится главный храм Кхандобы, но они и активно передвигаются, устраивая песенно-танцевальные представления, раздавая благословения и весьма настойчиво испрашивая денежное вознаграждение. Мужчины-джогги и женщины-джогтиии — «рабы» свирепой четырехрукой Йелламы, до сих пор принимающей кровавые жертвоприношения в виде козлов и петухов, также задействованы не только в пределах храма: они расхаживают по окрестным деревням, исполняют песнопения в честь Йелламы и рассчитывают на подаяние. До сих пор сильно поверье, что сексуальная связь с джогтини приносит единение с самой богиней, чьего проклятия, разрушающего всю жизнь, в таком случае удается избежать.
А девадаси из всемирно известного храма Джаганнатха — «Владыки мира» — в Пури (Орисса) знамениты тем, что исполняют танец с обнаженной грудью, пытаясь смутить покой не самого Джаганнатха, а его младшего брата, холостяка Субхадры. Официально институт девадаси запрещали начиная с 1910 г. власти то одной области, то другой, в 1988 г. был принят еще ряд постановлений о прекращении практики девадаси, и множество общественных организаций в разных частях Индии предпринимают настойчивые усилия по социальной реабилитации женщин, не имеющих никаких других навыков. Однако традиции — и социальные, и ритуальные — одними запретами не искоренить. Пока существуют храмы, где проживают боги, от которых многое на этой земле зависит, до тех пор — тайно или явно, в том или ином виде — сохранятся и божьи потребности, и божьи прихоти, а значит, и «божьи рабыни», и слуги. И не имеет значения, это муж-бог или бог-муж.
КОРОВЫ — ИНДИЙСКИЕ И ПРОЧИЕ
Кто я? Кто ты? Что этот мир?
Кто и зачем творит зло?
Один приходит в мир, другой уходит.
Вся жизнь — цепь мгновенных перемен.
Из древнеиндийских афоризмов
Пораженная губчатой энцефалопатией западная говядина последние годы прочно удерживает внимание средств массовой информации. Обеспокоенные угрозой передачи «коровьего бешенства» человеку, государства-закупщики, оберегая себя от малоизученного смертельного вируса, наложили устойчивое ветеринарное эмбарго на целый ряд продуктов, поступающих из Великобритании и других европейских стран. В самой Великобритании Национальный союз фермеров проявил готовность уничтожить около 4,5 млн. голов крупного рогатого скота, чтобы предупредить распространение эпидемии Кройцфельдта-Якоба. В который раз человек пожинает неожиданные плоды собственной деятельности! И те, кто готов к беспощадному истреблению коров, и те, кто, убеждая в ничтожно малом риске заражения, предлагают не останавливать куплю-продажу говядины, пекутся не в последнюю очередь и о себе. Есть и такие, кто попутно пытается решить и другие жгучие проблемы — как, например, остроумцы из Камбоджи, предложившие отправить английских коров вирусоносителей в прощальную прогулку по камбоджийским минным полям. Швейцарцам, правда, не до того, в особенности жителям кантона Вале: у них большой популярностью пользуется традиционное стравливанье коров из разных деревень — которая будет пободливей, и их занимают иные трудности: не подогревают ли некоторые хозяева своих драчуний допинговыми амфетамином и алкоголем?
А вот в Индии на эту проблему отреагировали по-другому. «Вишва хинду паришад» (ВХП, Всемирный совет индусов) изъявил желание позаботиться о приговоренных к уничтожению в Великобритании коровах. «Корова — священное животное в Индии, и мы хотели бы помочь Великобритании решить эту проблему. Коров можно собрать где-нибудь в изолированном месте, а мы будем их кормить. Дадим им возможность умереть своей смертью», — предложил представитель совета.
Возможно, спиралевидное развитие человеческого общества достигло того витка, когда мысль снова и снова возвращается к корове, игравшей значительную роль (как и все анимальное, т. е. зооморфное или териоморфное) во многих древних культурах и мифологии. Роль эта, безусловно, определялась полифункциональным значением, которое было присуще корове на ранней стадии развития человечества, а сам факт одомашнивания жвачного животного, имевший место между X и VI тысячелетиями до н. э., является одним из центральных культурных достижений периода «неолитической революции». Корова, поставляя человеку пищу (молоко и мясо), шкуру для одежды и жилища, кости для изготовления орудий труда, навоз в качестве горючего и мочу как первородный дезинфектор, считалась стандартной мерой богатства и единицей обмена и являлась символом плодородия, изобилия и благоденствия. Взгляд на окружающее через «призму коровы» вводил в космогоническую картину мира «коровьи черты» и закреплял за рядом небожителей устойчивые «коровьи признаки».
Корова выступала как мифологический образ космической зоны (неба) в Древнем Египте, а богини Хатор и Нут представлялись и изображались в виде коров. Солнечный бог Ра поднялся из океана на корове (иногда отождествляемой с Нуг), которая превратилась в небо — у бедняжки с непривычки закружилась голова и задрожали ноги. В виде коровы или женщины с коровьими рогами на голове поклонялись и богине Исиде, дочери Нут, в северной части Нила, а в Вавилоне богиня Иштар почиталась в образе коровы. Символом земли предстает корова в индийской мифологии: когда концентрация зла доходит до крайней точки, то земля в облике коровы обращается за помощью к богам. В самом древнем из дошедших до наших дней памятнике индоарийской литературы — сборнике религиозных гимнов «Ригведа» (середина II — середина I тысячелетия до н. э.) — свет и тепло символизировались алыми коровами — утренними зорями: демоны Пани упрятали коров в скале, а боги Ангирасы своим пением пробили скалу, и коровы ринулись наружу. Корова считается матерью Рудры, дочерью Васы и сестрой Адитьи из ведийского пантеона, прародительницей богов, а богов называют «рожденными от коровы». Коровы — это и облака, посылающие дождь, а молнии — их телята. Даже в более поздней «Книге мудреца Яджнавалкьи» (III–I вв. до н. э.) присутствует такое положение: «И пока обе ноги и голова теленка будут видны в утробе коровы, и пока плод не освободится, до тех пор корову следует считать землею»[63]. Реминисценции космогонического отношения к корове сохранились и в русских загадках: «Белоголовая корова в подворотню глядир» (месяц) и «Черная корова весь мир поборола» (ночь).
Богам не чуждо и любовно-страстное влечение к коровам. В хеттско-хурритском мифе бог Солнца влюбился в корову, принял облик юноши и обратился к ней с притворными упреками, грозя наказанием за потраву луга, на котором та паслась. После встречи с богом корова, естественно, беременеет и, родив сына, очень переживает, что у нее, четвероногой, родился неполноценный двуногий. В коров влюблялись аккадский Сина и угаритский Алийану-Балу. Зевс полюбил прекрасную Ио и, скрывая свой роман от ревнивой Геры, превратил Ио в корову. Гера наслала на несчастную Ио чудовищного овода, который своими укусами гнал обезумевшую (мотив безумия!) от боли корову по городам и весям, и только на берегах благодатного Нила Зевс вернул ей прежний облик, и она родила сына Эпафа — первого царя Египта и родоначальника поколения героев, к которому принадлежал Геракл. Кстати, эпитет «волоокая» в отношении Геры, а также приносимые ей в жертву коровы указывают на ее собственное зооморфное прошлое. В городе Аргосе Гера почиталась именно в виде коровы.
В пасторальных обществах нормой являлись налеты на чужие коровьи стада. Сакрализация этого действа отразилась и в мифологии, а боги оказались в ролях протокультурных героев: вспомним хотя бы освобождение коров-алых зорь, где вызволение-кража (правда, ранее также украденных) коров камуфлируется космогонической значимостью. Без всякого морально-назидательного камуфляжа крадет коров латышский бог Диев (к тому же у черта!) и, чтобы скрыть содеянное, перекрашивает их и приставляет им, прежде комолым, рога.
Поступательное движение человечества к новым горизонтам — и в первую очередь освоение оседлого земледелия — привело к почти повсеместной профанации коровьего образа. Уже Ромул использует белую корову и белого быка как тягловую силу и с их помощью проводит священную борозду, определяющую пределы города Рима. В Швабии, например, еще недавно дух хлеба представляли в облике коровы, быка или вола (и это отзвуки былой трепетности в отношениях!), но крестьянина, сжинающего последние оставшиеся в поле колосья, называли просто «коровой» или «ячменной», «овсяной» и т. д. (в зависимости от возделываемой культуры) «коровой», и сколько в этом было язвительной насмешки!
Можно и не прибегать к удаленным во времени или пространстве примерам. Пренебрежительное отношение к корове вполне характерно по крайней мере для городского населения России. Не приходится сомневаться в эмоциональной аллюзии явно негативной оценки интеллектуальных или физических свойств человека, называемого «коровой»! То же самое уподобление по признакам непригодности, неловкости, отсутствия здравого смысла содержится и во множестве поговорок и идиоматических выражений: «чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», «как корове седло» (до эллиптирования — «Нищему гордость — что корове седло»), «как корова на льду», «как корова языком слизнула» (с явным неодобрительным оттенком — сравним с пословицей «И одна корова, да жрать здорова»), «взгляд, как у коровы» (т. е. бесповоротно тупой, потому что такой считается сама корова). Прочность представлений о беспримерной коровьей тупости проглядывает и в работе русских лексикографов, например в англо-русских словарях, предлагающих переводить bovine stupidity как «глуп как корова», хотя слово bovine означает 1) жвачный; 2) бычий и коровий. Впрочем, упрек лексикографам не совсем корректен: они должны давать не буквальный перевод, а подыскивать соответствие, которое в данном случае лежит на поверхности. А нынешние городские школьники используют сочетание «коровье вымя» в значении «шестерка», основываясь на покорности и безропотности животного в момент дойки (для сравнения: в языке «Ригведы», гомеровского эпоса и в латыни слово «вымя» означало одновременно «изобилие», «плодородие»). Может быть, неудачная символика предвыборной кампании «Блока Ивана Рыбкина» во второй половине 1990-х годов, ролик которого активно прокручивали по телевидению, также сыграла свою роль в том, что Рыбкину не удалось достучаться до сердец по крайней мере городского электората. Во всяком случае, изумленно-непонимающая корова, перманентно вопрошающая своего спутника: «Вань, а Вань, да как же это?», вызывала вполне трафаретные ассоциации.
В деревнях можно обнаружить примеры более нежного включения в свой быт коровы как семейной кормилицы — именно об этом свидетельствуют ласковые клички «Зорька» (трудно удержаться от искушения и не вспомнить древнеиндийских коров-алых зорь) или «Красулька». Об этом же говорит и целый ряд слов-терминов, связанных с коровой, многие из которых уже стали явными архаизмами — «яловая», «стельная», «переходница», «отьемыш», «передойка» и т. д. Большое количество народных примет также иллюстрируют повышенное внимание к корове: «Черная или пестрая корова впереди стада — к ненастью, белая и рыжая — к вёдру» или «Если принесет корова двойней одношерстых — к добру, а коли разношерстых — к худу». Отмечали раньше и коровий праздник — день святого Власия, выпадавший на 18 апреля по старому стилю. А празднуя новотел, в русских деревнях варили на молоке кашку, угощали корову с блюда сенцом и хлебом с солью, опрыскивали святой водой. Щемя щей жалостью проникнуты строки из стихотворения «Корова» крестьянского сына Сергея Есенина: Дряхлая, выпали зубы, / Свиток голов на рогах. /Бил ее выгонщик грубый/На перегонных полях…
Было бы несправедливо приписывать пренебрежение к корове только современным русским — это мировая изоглосса. Английское cow дополнительно означает «трус» и «неуклюжий, глупый, надоедливый человек». Немецкое Kuh в выражении eine dumme Kuh переводится как «дура», а поговорка dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor соответствует русской «уставиться как баран на новые ворота». Французское vache употребляется также в значении «дрянь, сволочь, подлец», а оборот vache à roulettes означает «полицейский на велосипеде» — о симпатиях здесь говорить не приходится. Не отстают и родственно-братские нам славяне. Так, у болгар, например, «дуреет тот, кто пьет воду из коровьего копыта», а если процесс «одурения» уже «пошел», то «смотрит, как корова в календарь». Когда селекционер академик Кирилл Братанов вывел новую породу коров, он назвал ее «серо искърско говедо» (Искыр — река близ Софии, «говело» — общеслав. собир. «скотина», «крупный рогатый скот» — давайте сравним со старорусским «говядо» с тем же значением, сохранившимся в обозначении коровьей плоти — «говядина»), но прошло совсем немного времени, и так презрительно-уничижительно стали отзываться о провинциалах, недавно переселившихся в столичную Софию. Бранным выражением «говедо с говедо» называют не просто «скотину», но «суперскотину». Впрочем, примеры подобного рода можно множить без устали.
А пожалели бешеных коров индийцы, и это, конечно, не случайно, учитывая не утратившийся в тысячелетиях перемен, но высоко вознесшийся и утвердившийся статус индийской коровы как священного животного. Индийская культурологическая энциклопедия описывает корову как «красивую, изящную, с нежным подшерстком, влажными глазами».
Во времена «Ригведы» ценность коровы, безусловно, признавалась и на бытовом, и на религиозном уровне. Среди гимнов «Ригведы» встречаются заговоры на возвращение потерявшихся коров, а в более поздней «Атхарваведе» (начало I тысячелетия до н. э.) — собрании индийских заговоров — и на сохранение, и на приумножение, и на защиту от болезней, и на привязанность коровы к теленку: Пришли коровы и сделали благо. /Пусть улягутся они в стойле и наслаждаются у нас! / Пусть будут они здесь богатыми потомством, многообразными, / Дояшимися для Индры много зорь…[64]
Обожествленная в «Ригведе» речь воспринимается одновременно и как богиня Вач, и как корова; именем Гаятри называют и самые сакральные строки «Ригведы», и корову. Наряду с этим в ведийский период коров убивали и приносили в жертву богам, а жрецы на жертвоприношениях, безусловно, вкушали говядину, сваренную в больших котлах. Продолжали убивать коров и позже — в политико-экономическом трактате «Артхашастра» (I в. до н. э. — I в. н. э.) в разделе «Надзиратель за скотобойнями» специально оговаривается, что нельзя убивать телят, быков-производителей и молочных коров, а, следовательно, остальных — можно. В разделе «Применение лекарств и заклинаний в целях обмана» рассказывается о приготовлении и использовании снадобий, в состав которых входят порошок из костей и костного мозга коровы, зола от сожженного коровьего вымени и желчь рыжей коровы. Однако постепенно доктрина ахимсы — непричинения вреда всему живому, элементы которой присутствовали и во времена «Ригведы» (одно из названий коровы там — агханъя — «не подлежащая убиению»), подкрепленная аналогичными концепциями возникших в середине I тысячелетия до н. э. буддизма и джайнизма, вытесняет не только идеологию, основанную на жертвоприношении, но и возможность убийства коровы в каких бы то ни было целях вообще. Так оформляются предпосылки для установления вегетарианской диеты.
Ко времени пуран (вторая половина I тысячелетия н. э.) — священных компендиумов мифов и легенд, связанных с ведущими индусскими богами, Вишну, Шивой и Брахмой, — ценность коровы стала абсолютной, а мысль о ее убийстве кощунственной. Появились новые легенды о ее происхождении. После того как Праджапати (эпитет Брахмы) сотворил все живое, он испил амриты (божественного нектара) и испытал глубокое удовлетворение. Из последовавшего затем благоуханного выдоха из носа и образовалась корова, названная Судехи — «[обладающая] благовонным телом». Она — мать всех коров, исполняет любые желания своего владельца и уже вследствие этого — частый персонаж волшебных сказок. В качестве же мифологического персонажа Судехи стала причиной раздора между брахманом Джамадагни и царем-кшатрием Картавиръей с последующим кровавым истреблением верны кшатриев и вытекающими отсюда многочисленными сюжетами. Праджапати даровал Судехи бессмертие и поместил ее в годок — рай в верхней части трех миров (если сопоставить санскритское го — «корова» со славянскими «говядо» и «говедо», то обнаружим общий индоевропейский корень). Хозяин же голока — Говинда, он же Кришна, пасторальное божество, больше всего на свете любящее коров и пляски с пастушками (и в историкорелигиозном процессе соединившееся с философствующим и политиканствующим Кришной из «Бхагавад-гиты»). Те, кто при жизни руководствуется принципами госева и годан (служение корове и дарение коровы), после смерти попадают именно в годок в компанию к Кришне.
Относительно Судехи (под именем Камадхену) рассказывают любопытную легенду. Дружили два брахмана — Судама и Дубхарам. Судама не верил в бога. Они умерли в день капила-шаштхи (когда одновременно совпадают шесть факторов: шестой по порядку день темной половины лунного месяца оказывается вторником индийского месяца бхадрапад и т. д. — это сочетание считается в высшей степени благоприятным). Перед смертью Дубхарам совершил годан — подарил другу корову, которая умерла вместе с ними в тот благоприятный день. Оба брахмана попали в рай, а скотина стала Камадхену — небесной коровой, выполняющей все желания. Яма, бог смерти, сказал им: «Вы грешили, поэтому пробудете в раю только до истечения благоприятных часов, а потом отправитесь в ад». Судама услышал это и сказал корове: «Я твой хозяин, ну-ка проучи здесь всех!» Корова подчинилась и набросилась на богов. Она подняла на рога Брахму, наподдала Яме, и даже Вишну пустился наутек. А Камадхену добралась до горы Кайлас, где обитает Шива, и досадила и самому богу, и его ездовому животному — быку Нанди. Но к этому моменту благоприятные часы истекли, и боги вздохнули с облегчением. Они по-прежнему собирались отправить друзей с коровой в ад. И тогда Судама сказал: «Когда-нибудь я снова вернусь на землю и расскажу людям, что три великих бога — Брахма, Вишну и Шива — вовсе не великодушны. Стоит только взглянуть на них — и ад становится неизбежен. Перестаньте оказывать им почести». Боги остолбенели и… отменили свое наказание — так вся троица вместо ада вновь оказалась на земле.
Наивысшим грехом считается убийство брахмана — представителя жреческого сословия — и коровы. Самым высоким подвигом признается защита брахмана и коровы, а совершивший убийство во имя зашиты брахмана или коровы освобождается от греха убийства. Корову не только нельзя убивать: священные книги объясняют, что тот, кто убивает корову, или дает разрешение на убийство, или ест говядину, проведет в аду столько лет, сколько шерстинок насчитывается на коровьей шкуре. Нельзя также причинять ей какое-либо неудобство — ее запрещено бить палкой, толкать вперед или назад либо мельтешить перед ее мордой. А чтобы приумножить свое благополучие, надо совершать прадакшину — круговой обход вокруг коровы. Коровий хлев следует почитать как храм. Вода, которой омывают храмового идола, вытекает из помещения по желобу, завершающемуся на внешней стороне храма коровьей мордой — гомукхом. А современное понятие гоштхи — «семинар» — также связано с коровой, поскольку беседы древних проходили в самом почетном месте — вблизи коров.
В названиях ряда индийских рек — Гомти, Годавари и др. — угадывается тот же корень, хотя, возможно, случайное совпадение привело к тому, что народная этимология так или иначе увязывает эти реки с коровами. В случае с Годавари дополнительным аргументом служит легенда о сошествии Годавари с небес на землю (Годавари, являясь одной из наиболее почитаемых индийских рек, так же как и священная Ганга, обладает своей, хотя и сходной с Гангой мифологией). Брахман Гаутама жил в ашраме на горе Брахмагири, и, когда повсюду разразилась засуха, только в его владениях по-прежнему не ощущалось недостатка в пище. По этой причине там собралось много брахманов. А в это время по наущению слоноголового бога Ганеши служанка Парвати (матери Ганеши и супруги Шивы) обратилась в корову и пошла пастись на поля Гаутамы. Тогда тот взял былинку и попытался согнать ее с полей, но едва былинка коснулась коровы, как она упала замертво. Из-за этого все собравшиеся брахманы пригрозили, что немедленно уйдут. Нужно было сразу же совершить ритуал очищения, для чего требовалось большое количество воды. И тогда Ганеша предложил добыть воду из спутанных волос Шивы, где вода, т. е. река Годавари в женском облике, к тому времени уже находилась, спустившись с небес и вызывая острую ревность Парвати (собственно, из-за того и была задумана вся затея с коровой). Брахман Гаутама направился в дом Шивы на гору Кайлас. Там он пропел гимн в честь бога и попросил его спустить воды реки на гору Брахмагири. Так там оказался исток Годавари. (В продолжении этой многоходовой легенды рассказывается о том, что оставшуюся часть воды кшатрий Бхагиратхи спустил на землю в Северной Индии, и она-то и стала Гангой…) В верховьях многих индийских рек возведены храмы, архитектура которых организована таким образом, что первоначальная струйка — начальная точка отсчета течения реки — выливается из отверстия в храмовой нише, оформленного в виде коровьей морды.
Наряду с реками отсчет от коров ведут и некоторые индийские касты, например неприкасаемые махары — уборщики нечистот. И хотя идея, заложенная в нижеследующей легенде, заключается в том, что неприкасаемость не является чем-то изначально определенным и установленным, центральный персонаж легенды — корова — не позволяет обойти ее вниманием. Сами махары считают, что они произошли от одного из четырех сыновей коровы. Корова спросила своих детей, как они будут чтить ее после ее смерти. Трое ответили, что воздадут ей божественные почести. А четвертый ответил, что как она носила его в своем теле, так и он будет носить ее в своем. Остальные сыновья были поражены этой непочтительностью и воскликнули: «Маха ахар!», т. е. «[сколь] велик аппетит!» Таким образом это слово — махар — приклеилось к потомкам четвертого брата, по скольку и он, и они сдержали слово и поедали коров…
Пять продуктов, происходящих от коровы — панчгавъя — молоко, простокваша, топленое масло, навоз и моча, считаются священными. По отдельности и в смеси они используются в лечебных — аюрведийских, ритуальных и, конечно, бытовых целях. «Артхашастра» в разделе «Управление копями и мастерскими» рекомендует очищать нечистые руды с помощью едкой мочи или выработанного из коровьей желчи и мочи средства. Мудрец Яджнавалкья напоминает: «Земля очищается подметанием, обжигом, временем и шагом по ней коровы, окроплением водой, скоблением и обмазыванием ее коровьим навозом, дом — подметанием и обмазыванием навозом»[65]. И в наши дни полы в деревенских жилищах выкладываются навозом, а вибхути (навозная зола) используется вишнуитами и шиваитами для нанесения на лоб отличительных знаков. Смесь из пяти элементов, разбавленная водой, вплоть до начала XX в. (а в ортодоксальных кругах и сейчас) использовалась как питье и для омовения при ритуальном очищении от скверны — после, например, нарушения кастового запрета. Молоко, простокваша и топленое масло — обязательные компоненты пуджи — красочного индусского ритуала богослужения. Именно коровьим, а не буйволиным молоком поят в Индии детей, больных и престарелых.
Гомукхасана — поза коровы, одна из поз йоги как системы физических упражнений, которая способствует рассасыванию лимфатических образований под мышкой, облегчает астму, боли в спине и т. д. Если же ребенок рождается при стечении неблагоприятных знаков, то для предотвращения дурных последствий проводят обряд гопра-савашанти: младенца кладут в корзину и подносят к корове; если та его обнюхает, то считается, что его родила она, и предыдущие неблагоприятные знамения нейтрализуются. Тогда ребенка обмывают в панчгавъя, а корову передают в дар брахманам, руководившим ритуалом. Множество праздников индусского религиозного календаря связано с оказанием почестей коровам, и с ними же связаны разнообразные обеты, приносимые ради семейного благосостояния, долголетия хозяина дома и т. д. Коровы свободно разгуливают по индийским городам и отдыхают на проезжей части дорог. Для старых и больных коров существуют приюты. А глупцами индийцы считают тех, кто отберет у коровы сено и отдаст быку, — вот уж будет полная бессмыслица!
Как-то у меня гостил приятель из Индии — известный актер и режиссер, а позднее директор Индийского института телевидения и кинематографии Мохан Агаше. Среди прочих культурных мероприятий мы оказались на просмотре одного из первых фильмов Сергея Бодрова-старшего, «Непрофессионалы»: любительская труппа путешествует по периферии с концертами и случайно становится причиной гибели коровы — единственной отрады одинокой женщины, живущей в доме для престарелых. Акцент в фильме, конечно, был на отчаянных переживаниях женщины, но я не могла не почувствовать, что моего знакомого просто вдавило в кресло.
…Совершая свой десятый подвиг, Геракл выкрал коров у велика на Гериона с острова Эрифии. Гнал он их через всю Испанию, Пиренейские горы, Галлию и Альпы, а на берегу Ионического моря ко верная Гера наслала бешенство на все стадо. Бешеные коровы разбежались во все стороны…
ПУНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Жил-был в Индии, в городе Пуне, Динкар Гангадхар Келкар. Родился он 1896 г., был маленького роста, худосочный и вспыльчивый, унаследовал от отца магазин «Оптика», ссужал постоянных клиентов мелкими суммами под небольшой процент, писал стихи и под псевдонимом «Проживающий в безвестности» публиковал их в местных газетах и журналах. В 17-летнем возрасте женился; когда ему исполнилось 25, умер его маленький сын Раджа, Келкар закрыл магазин и стал собирать светильники — бронзовые и глиняные, из слоновой кости и скорлупы кокосового ореха: может быть, осветив путь душе сына, он хотел помочь ей слиться с Абсолютом. Постепенно собирательство из средства утишить боль превратилось в дело его жизни; Келкар, или, как все стали его называть — уважительно-родственно — Кака (дядюшка), превратился в охотника, пристально подстерегающего добычу: он выпрашивал все прекрасное, в чем угадывал тенденцию к исчезновению из повседневного обихода, — гребешки и сковородки, дверные рамы и сосуды для ароматических средств, навесные замки и цветочные горшки; ему мало кто отказывал, а если такое случалось, он выкупал приглянувшийся предмет, тратя на это все свои средства, продавая украшения жены — неприкосновенный имущественный запас индийской женщины — и залезая в долги. Он сохранял красоту, которая отступала под напором голого прагматизма, и был убежден, что искусство не содержится в нише, отделенной от повседневной жизни: те комнаты в доме, где хранились собранные им предметы, ничем не отличались от тех, где он жил. В конце концов коллекция — 20 тыс. экспонатов — превратилась в музей, который Келкар назвал именем умершего сына. Кажется, поблуждав в космосе, душа Раджи вернулась на свет светильников.
Слово ваджри уже практически вышло из обихода, хотя индийцы, как и во все времена, предъявляют к себе и окружающим весьма строгие гигиенические требования: нечто похожее на нашу скучную пемзу есть в каждом доме, и теперь это незамысловатое приспособление называют английским сочетанием foot-scrubber — жаркий индийский климат, обычай ходить в шлепанцах или босиком, липнущая пыль диктуют неустанную заботу о пятках. Керамические скребки находили в Мохенджо-Даро и Хараппе среди артефактов протоиндийской цивилизации, датируемой III тыс. до н. э., их использование предписывалось классическими санскритскими трактатами, народные песни перечисляют их среди обязательных даров, которыми обмениваются вступающие в матримониальные отношения кланы. Идеально сохранились бронзовые скребки XVII–XIX вв., их еще можно обнаружить в сундуках потомков прежней аристократии, если эти сундуки чудом избежали настойчивого внимания Каки Келкара. Нижняя часть таких скребков, с аккуратно выполненной насечкой (каковая, собственно, и выполняет скребущую функцию), представляет собой как бы полую коробочку с узорчатыми стенками-решетками: внутри перекатываются несколько мелких камушков, издающих в процессе применения скребков по прямому назначению мелодичный перезвон, который призван создавать дополнительный аудиокомфорт — индийцы всегда были мастерами на утонченное соединение разных видов удовольствий. Однако подлинным шедевром является верхняя часть, сработанная под рукоятку, за которую скребок удерживают. Антропо- и териоморфные композиции рассказывают обо всем: вот битва двух слонов, вставших на дыбы и сцепившихся хоботами и передними ногами; вот хищная птица, норовящая выклевать глаз зайцу; вот всадник в тюрбане, пришпоривающий коня, а вот женщина за домашней работой: она готовится взбивать пахту — непременный компонент индийской трапезы. Возможно, сюжет еще одной ручки — противостояние человека и зверя — навеял Келкару одно из его самых известных стихотворений, непременно включаемое во все школьные учебники: Раннее утро, еще прохладно, охотник на коне взбирается по крутой горной тропе, у него за спиной туша пораженной им тигрицы, сочится кровь, наверху, на крепостной стене, вглядывается в даль верная супруга.
Дальняя родственница Келкара, известная индийская фольклористка Сароджини Бабар, в одной из своих работ, оторвавшись от непосредственного повествования, описала случайную встречу с ним в поезде: «Было лето, жара стояла невыносимая, и даже мокрое полотенце, обернутое вокруг головы, не помогало. Все вокруг приобрело красноватый оттенок. «И куда нас понесло!» — с раздражением заметила я подруге, но отозвался Кака, сидевший напротив. Он бодро развязал торбу и извлек оттуда два камня: «Смотри, какие потрясающие скребки — только что их достал!» Я подумала: «Невозможный человек, тут язык не шевелится, а он скребки вздумал показывать». — «Ты не молчи, а посмотри хорошенько, это же про них в твоих фольклорных песнях поется!» — «Симпатичные», — чтобы не обидеть его, сказала я. Да что ты понимаешь, вот, смотри, какие здесь продольные линии вырезаны и дырочки выдолблены, чтобы грязь лучше соскребалась, — люди-то чистоту уважали. В Бароде их нашел, а сейчас в Джайпур еду — там тоже кое-что обещали». Я промолчала, почувствовав, что дядюшка завелся, а он продолжал: «Тоже мне, фря ученая, жара не жара, а надо ехать и искать, ты мне хоть раз помогла? Дядя, дядя, дядькаешь только! В следующий раз не принесешь чего-нибудь интересного, не приходи!»». Сароджини Бабар, естественно, не могла ослушаться.
Первую публичную демонстрацию светильников, на которую были приглашены все желающие, — в середине 1950-х — Кака Келкар приурочил к индийскому празднику дивали (празднику ламп и огней) и расположил экспозицию во дворе своего дома под натянутой полотняной крышей. За ней последовала вторая публичная выставка — «Банные приспособления наших предков»: на почетном месте красовались скребки, а вокруг стояли медные тазы с оттопыренными ручками, глиняные узкогорлые кувшины, фарфоровые, металлические и керамические баночки для благовоний, гребни из цветных сплавов и слоновой кости.
Конечно, щипцы для орехов есть в каждом индийском доме — простенькие и незамысловатые, из блестящего или тусклого металла, они используются ежедневно, поскольку различные виды орехов являются непременным компонентом обычной индийской стряпни. Однако подлинное — высокое — назначение щипцов станет понятным, если осознать, какую роль в общей культуре и субкультурах Индостанского полуострова играют плоды арековой пальмы (Areca catechu) — твердые орешки супари.
Индия ежегодно потребляет более 200 тыс. тонн таких орешков: арековые пальмы произрастают в жарком влажном климате, прежде всего вдоль побережья Аравийского моря, в Конкане. Плоды собирают недозрелыми, зрелыми и перезревшими; их высушивают на солнце, ъ тени или на ветру; их отваривают в молоке, воде или поджаривают на масле, выжатом из других орехов, — изменение технологии влечет немедленное изменение вкусовых качеств, а каждый новый вариант обладает своим названием и имеет свое предназначение. Среди индусских высоких и простонародных ритуалов (регулярных, календарных и экстраординарных) не существует такого, где можно было бы обойтись без плодов арековой пальмы. Любое, даже неритуальное мероприятие предваряется молитвой слоноголовому богу Ганеше, дарующему успех любому начинанию, а молитва Ганеше, в свою очередь, начинается с подношений божеству орешков су-пари. Во время церемонии бракосочетания орешек сначала прячут в складки одежды невесты, а потом жениха, и они поочередно прикасаются друг к другу, пытаясь обнаружить укрытое и таким образом, через ритуальную игру, преодолеть отчужденность официального знакомства. Принятие обета молчания сопровождается ритуалом раскалывания орешков супари; вдовец, отправляя определенные ритуалы, завязывает такой орешек, символизирующий присутствие его покойной жены, в дхоти (кусок ткани, прикрывающий бедра и ноги); поджаренные орехи обязательно подносят роженице; участники траурной церемонии для предотвращения собственной тяжкой смерти, возвращаясь домой, разжевывают сердцевину расколотого ореха, половину проглатывают, а другую сплевывают за порог. В предгорьях Гималаев девушек выдают замуж сначала за плод арековой пальмы, а потом за настоящего жениха, тем самым отводя раннее вдовство; в Западной Бенгалии орешки супари кладут на ночь под подушку: привидевшиеся после этого сны содержат информацию о будущем; закапывая орешки в землю, создают противодействие стихийным бедствиям — как наводнению, так и засухе. Присутствие супари в любой церемонии очищает общую атмосферу и создает благостную ауру.
И все-таки звездный час орешка супари наступает, когда он, в измельченном виде, становится самым главным компонентом пана — традиционной индийской жвачки, известной по крайней мере с V в. до н. э., по мнению индийцев, придающей «цвет жизни» и, безусловно, являющейся яркой приметой всей южноазиатской культуры. Пан подносят индийским богам, им угощают гостей, переступивших порог дома, и завершают трапезу. Пана из рук влиятельного покровителя-мецената во все времена удостаивались наиболее талантливые поэты и певцы, художники и музыканты. На лист бетеля (Piper betle), нежной лианы, нередко растущей под арековой пальмой и обвивающей ее ствол, наряду с супари выкладывают щепотку гашеной извести размером с ноготь, кардамон, гвоздику, куркуму, кусочки мускатного ореха, камфору, табак, растительный мускус и прочее, а также добавляют несколько капель алкалоидного экстракта, приготовленного из акании катеху (Acacia catechu); все это ловко завертывают (наиболее искусные мастера придают свёртке форму лотоса или павлина) и отправляют в рот. При разжевывании бетелевой свёртки во рту появляется несколько противоборствующих ощущений — сладость и горечь, соленость и терпкость; сначала рот стягивает и создается ощущение, что его уже никогда не открыть, а потом поочередно и резко прошибает то жаром, то холодом. В результате усиленного жевания и химических реакций, в которые вступают составные части жвачки, рот наполняется обильной слюной кровавого цвета, которую периодически сплевывают, — именно этим объясняется происхождение огромного количества красных пятен на тротуарах индийских городов; в домах же используются плевательницы (сейчас, конечно, совсем простенькие, не такие, как были во дворцах у раджей и навабов, а теперь украшают музей Келкара). Пан надолго окрашивает губы, зубы и десны в красный цвет. Ему приписывают множество свойств, в том числе и лечебных: он является отхаркивающим и противоглистным средством, снимает тошноту и придает бодрость, производит санацию ротовой полости и устраняет неприятный запах и к тому же считается отменным эротическим стимулятором (дополнительно возбуждает ярко-красный цвет губ), и любовники, резвясь, зубами вырывают зажатую в зубах партнера свёртку, а лирики воспевают белое горло возлюбленной с такой нежной кожей, сквозь которую просвечивает струйка стекающего красного сока.
Может быть, именно поэтому наибольшее количество бронзовых и стальных ореховых щипцов из коллекции Каки Келкара имеют форму амурных пар, в основном известных своими фривольными похождениями персонажей из индийской мифологии, например бога Кришны и пастушки Радхи или индийского Купидона Камы и страстной Рати, его супруги. Щипцы отличают детальная продуманность композиции и безупречность исполнения, поскольку при раздвижении и соединении лопастей щипцов пары приходят в амурное движение, соприкасаясь друг с другом различными участками тел. Не меньше впечатляют и зооморфные типажи — с точно уловленной мышечной динамикой фигуры павлинов, коней, обезьян, — и элементы батальных сцен, например всадник, несущийся с копьем наперевес.
Уже в почтенном возрасте Келкар получил от индийского правительства бесплатный билет на проезд в вагонах первого класса и летел, словно выпушенная стрела, как только ему становилось известно о каком-нибудь новом экспонате. Он умело шантажировал своими годами и авторитетом владельцев, не торопящихся расстаться с редкой вещью, и чиновников, уныло тянувших законное оформление его дара: в 1970-х музей перешел в собственность штата Махараштры.
Описания и предписания, акты и грамоты, гороскопы и любовные трактаты, проза, поэзия, грамматики, ноты — кажется, в Индии только и делали что писали. Конечно, не сразу чернилами — первоначально металлическим стилом выдавливали строки на пальмовых листьях, вернее, на нарезанных из листьев страницах, и засыпали надрезы порошком, приготовленным из плодов кундри, чернильного орешка; сочился сок, смешиваясь с порошком и застывая на века. По поводу первенства в отношении собственно чернил Индия дискутирует с Китаем, но, во всяком случае, во всем мире тушь лучшего качества называют India ink — «индийские чернила». Правда, в отличие от скребков для пяток чернильницы в местах древних раскопок не попадались, и в коллекции Каки Келкара собраны в основном чернильные емкости XVIII–XIX вв. Впрочем, Кака всегда объяснял, что его не интересует древность как таковая, а печалит покидающая нашу жизнь эстетика. Выполненные из серебра и золота, меди и бронзы, в форме слонов и верблюдов (с рубиновыми глазами и с закрывающей отверстие крышкой, решенной в виде погонщика), львов и павлинов, храмовых куполов и крепостей — эти чернильницы были вовсе не уникальными творениями искусства в момент их создания (ремесленник выполнял обычную работу), но утилитарными предметами повседневного обихода — надежными, добротными, правильными, т. е. этическими, а поэтому и эстетическими — вследствие надлежащего в индийском мировоззрении совпадения того, что хорошо, с тем, что красиво. Ряд чернильниц имеют дополнительные отверстия для песка и ручки, украшены кисточками и помпончиками; к некоторым приделаны цепочки, чтобы прикреплять необходимый предмет к седлу коня во время обычных переездов или военных походов. Дум дудум — бьет барабан — дум-дудум, / Пробуждая Пуну из сахарного сна, — так, с описания момента военной тревоги, начинается одно из стихотворений Каки Келкара, верного по преимуществу исторической тематике, и прежде всего событиям XVIII в. Впрочем, героическая патетика «Проживающего в безвестности» отмечена не размышлениями о перипетиях истории или точной хронологией событий (и Пуну он воспевает не как патриот родного города, а вспоминая о ее столичном величии, когда она была центром могущественного Государства маратхов, в XVIII в. раскинувшегося на большей части современной Индии), но броскостью и яркостью этнографических деталей, так хорошо ему знакомых: описывая воина, проснувшегося под сигнал тревоги и мигом вскочившего на коня, Кака не забывает упомянуть и о чернильнице, заблаговременно прикрепленной к седлу!
Точный и обязательный, Кака приходил на вокзал за час до отправления поезда (на всякий случай, как и воин, заранее побеспокоившийся о чернильнице); поджидая гостей, за полчаса выходил к дверям. Мог быть жестким и резким, но и любил хвалить за дело — щедро, от всей души.
Будучи, как и большинство хранилищ, местом достаточно спокойным, музей Келкара в пуританской Пуне был (и остается) весьма удобным для романтических свиданий — там можно, не опасаясь огласки, подержать друг друга за руки. В юности, когда я училась в Пунском университете, там назначали встречи и мне, и однажды, зашептавшись, мы с приятелем прошли за какую-то занавесочку и оказались в личных покоях Каки Келкара, и материально, и духовно естественно продолжавших музей. Он вышел навстречу в тюрбане, дхоти и просторной белой рубахе, понимающе улыбаясь, задал два-три вопроса, мягко развернул нас и, слегка подталкивая в спину, вывел обратно в зал. «Два-три дня не приходите, жду Индиру Ганди», — предупредил он при прощании. Позже мы познакомились с Какой поближе; оказываясь в той части города, я забегала к нему поболтать, он без устали демонстрировал новые находки, а как-то, когда разгулявшийся муссон выливал без передыху тонны воды, Кака оставил меня ночевать — между кальяном и сундуком в медном сплетении на кровати XVIII в., в окружении зеркал и миниатюр XVII в., с теплящимся светильником XVI в. Индира Ганди (как и многие другие премьер-министры, и не только Индии) действительно посетила музей и оставила восторженную запись в книге посетителей, отметив: «Устойчивое несовпадение в нашей сегодняшней жизни предмета искусства с повседневной деталью обихода снижает цельность человеческой личности». Она предложила Келкару отправиться в путешествие по ведущим музеям мира — правительство Индии намеревалось оплатить все затраты. Но вскоре после этого он сломал шейку бедра, перенес операцию, и только было снова забегал по лестницам вверх-вниз, как умерла его жена, преданная Камла-баи, — они прожили вместе 67 лет. Келкар рыдал, писал стихи: Биение сердца моего слышала только ты… Подожди, скоро свидимся — ты, я и сын… Урну с прахом жены хранил в изголовье, завешав соединить ее прах со своим; в его глазах застыло отчаяние и одиночество, и он с головой ушел в музейные дела. Он еще успел подготовить новую экспозицию — «Быт женщины в XIII–XIX вв.», разместил ее в отдельном помещении, которому присвоил имя Камла-баи Келкар. Умер Кака в апреле 1990-го, на десять лет пережив жену, в музее имени Раджи Динкара Келкара, расположенном по адресу: 1377–1378, Шукравар Петх, г. Пуна, Индия.
ИНДИИСКИЕ ЕВРЕИ
Тема эта — не моя, но вследствие совпадения ряда обстоятельств она «запульсировала» во мне, и чтобы от нее освободиться, я решила выговориться. Обстоятельства были следующие: во-первых, в самолете, по дороге в Бомбей, и потом в поезде, увозящем меня в Пуну, я читала книгу Салмана Рушди «Прощальный вздох Мавра» (то, что ниже набрано курсивом, — цитаты из нее); во-вторых, в Пуне всех делегатов международной конференции разместили в гостинице в двух шагах от синагоги — второй по величине в Индии, и ее строго-торжественный силуэт (с башней высотой около 30 м) прекрасно просматривался из окна моего номера и зала заседаний; в-третьих, среди участников конференции оказался Идор из Израиля — мой приятель, а вернее, в соответствии с индийской традицией, мой «брат по гуру» (язык маратхи мы с ним изучали в разное время, но у одного учителя).
В одних городах их называют «красными церквами», потому что многие из них построены из красного кирпича, в других — «мечетями», потому что такое название дает им индусское большинство, отсекая чужеродным словом сакральное пространство иноверцев. Индийские синагоги безупречно чисты и ухоженны, их любовно выписанная архитектура надолго удерживает внимание.
Старая Флори Загойби… выслушала запинающееся признание сына в запретной любви. Клюкой она прочертила в пыли линию. С одной стороны — синагога, Флори и ее история; с другой — Абрахам, его богатая подружка, весь мир, будущее — все нечистое. Закрывая глаза и отгоняя от себя запах Абрахама и его заикание, она вызвала прошлое, прибегая к воспоминаниям, чтобы предугадать тот момент, когда ей придется отвергнуть единственного сына, потому что это было неслыханно, чтобы кочинский еврей женился за пределами общины; да, используя свою собственную память и извлекая из ее глубин долгую память своего племени… белые евреи Индии, сефарды из Палестины, прибыли в большом числе (примерно около десяти тысяч) в 172 г. н. э., спасаясь от римских преследований. Расселившись в Кранганоре, они поступили на солдатскую службу к местным князькам. И когда-то сражение между правителем Кочина и его противником, Заморином из Каликута, пришлось отложить, потому что еврейские солдаты не стали бы биться в субботний день (Sabbath).
Самыми известными в Индии до недавнего времени были общины кочинских евреев, или евреев Малабара (западного побережья юга Индии), говоривших на языке малаялам, и бене-Израиль — «дети Израиля», маратхиязычные евреи, жившие в прибрежных районах к югу от Бомбея, в Бомбее и Пуне. Трудно сказать, как и когда они появились в Индии. Рушди предлагает одну из гипотез, относящихся к кочинским евреям. По поводу бене-Израиль существует две версии — об их арабских (потомки племени Иуды, мигрировавшего в Египет) и вавилонских (через Палестину и Верхнюю Месопотамию) корнях, а временем их прихода в Индию считается VI век. В собственных преданиях бене-Израиль относительно давности их проживания в Индии фигурирует сходная цифра — 14 столетий — и следующая легенда: корабли, перевозившие евреев, разбились о рифы возле деревушки Навгаон к югу от Бомбея, спаслись только семь супружеских пар, которые дали жизнь последующим поколениям бене-Израиль. Еще в конце XIX в. в Навгаоне показывали два кургана (сейчас их уже нет), которые считались могилами погибших при кораблекрушении евреев, а многие бене-Израиль носят фамилию Навгаонкар («выходец из Навгаона»). Сейчас на этом месте в память о еврейских первопроходцах и как символ самого древнего кладбища бене-Израиль воздвигнут величественный монумент высотой около 10 м, за которым ревностно ухаживают Всеиндийская еврейская федерация и Ассоциация еврейского благоденствия.
О преуспевающая община! Воистину, она процветала. И в 379 г. н. э. парь Бхаскара Рави Барман I пожаловал Иосифу Раббану небольшую вотчину— деревню Анджуваннам около Кранганора. Медная табличка с выгравированным указом о дарении в конце концов оказалась в синагоге, во владении Флори… Ее взгляд все еще был далеко в прошлом, цепляясь за еврейские кешью и арековые орешки и хлебные деревья, за колышущиеся поля еврейского масличного рапса, сбор еврейского кардамона — ведь разве не в этом был залог процветания еврейской общины?
Иммунитетная грамота на медных пластинках, выданная Иосифу Раббану, предполагаемому лидеру кочинской еврейской общины, закрепляла за ним наследственное право на сбор налогов. Она действительно существует, но, по последним данным ученых, никак не может датироваться ранее чем X–XI вв.
80 % всех индийских евреев — бене-Израиль. Они получили в Индии и другое название — «шанвар тели», т. е. «субботние маслобойщики», поскольку, вписавшись в индийскую кастовую систему, заняли в ней отдельную профессиональную нишу и сохранили субботу в качестве дня отдыха. Похоже, никто их особенно не притеснял, так как в масле нуждались как индусские, так и мусульманские правители, и евреи, чьи священные книги погибли во время кораблекрушения, постепенно утрачивали свою идентификацию, вступали в брачные союзы с местными жителями, перенимали их одежду, если не имена, то фамилии и даже в какой-то степени религиозную обрядность.
Так было, пока в тех краях несколько веков назад не появился некто Давид Рахаби, пришедший откуда-то из Аравии. Давид то ли знал от кого-то о не совсем обычных индийцах и посчитал своим религиозным долгом вернуть их в тенёта иудаизма, то ли обнаружил их после своего прибытия и, узнав о том, что они соблюдают субботу и практику обрезания и имянаречения на восьмой день после рождения, стал к ним приглядываться. Легенды повествуют о том, как Давид устроил что-то вроде испытания, чтобы проверить истинность и чистоту тамошних евреев: однажды он отправился на базар и накупил там разной рыбы. Хозяйка дома была весьма удивлена, увидев среди принесенного Давидом и то, на что наложен традиционный запрет, но молча выбрала рыбу с плавниками и чешуей и приготовила так, что развеяла последние сомнения Давида. Давид принялся за дело: стал распространять священные книги, учить ивриту и строить синагоги (среди каких евреев проповедовал Давид — сказать трудно, но первая в Индии синагога была построена в Кочине кочинскими евреями в 1568 г. и ее до сих пор называют «Тадж Махалом индийских евреев» — Тадж Махал здесь употребляется как метафора архитектурного совершенства). Евреи стали отращивать пейсы и замыкаться в рамках своей общины, появилось деление на «черных» и «белых». «Черными» считали потомков смешанных браков, низших по сравнению с «белыми»; «черные» и «белые», как классические индусские касты, не садились за совместную трапезу и «не обменивались дочерьми», т. е. не вступали в матримониальные отношения.
Но Абрахам был весь в любви и, чувствуя, что его возлюбленная подвергается нападкам, раздраженно обронил, что, «во-первых, если ты посмотришь на веши непредвзято, то увидишь, что и сама ты прибежала не самой первой», подразумевая, что черные евреи прибыли в Индию задолго до белых, спасаясь бегством из Иерусалима от полчищ Навуходоносора еще за 587 лет до нашей эры, и если она (Флори Загойби. — И. Г.) не принимает их во внимание, потому что они перемешались с местными и давным-давно растворились, то были, например, и евреи, которые пришли из Вавилонии и Персии в 490–518 гг. н. э.; и немало веков пролетело до того момента, когда евреи открыли свою лавку в Кранганоре и потом в городе Кочине (некий Иосиф Азаар и его семья, как всем известно, перебрались туда в 1344 г.), и даже из Испании евреи начали прибывать только после их изгнания оттуда в 1492 г., и в числе первых — семья Соломона Кастильи…
Евреи мигрировали в Индию в разное время и разными путями. Соломон Кастилья, муж Флори, позднее бросивший ее и бежавший с португальскими моряками, сама Флори (ее предки, по Рушди, переселились в Индию в 1542 г.) и их сын Абрахам, все-таки женившийся на христианке Авроре (наследнице португальских торговцев специями) и ставший впоследствии отцом Мавра, главного персонажа «Про-шального вздоха Мавра», — потомки сефардов — евреев из Испании. И уж никак нельзя обойти молчанием «багдадских евреев», двинувшихся в Индию в 30-е годы XIX в., проживших там исторически недолго и оставивших на ее земле монументально-неизгладимый след.
Предки Давида Сассуна (1792–1864) между XII и XV вв. жили в Испании, и кто-то из них даже возглавлял еврейскую общину Толедо. И когда одна волна испанских евреев двинулась более или менее прямым путем в Индию, предки Давида Сассуна мигрировали в Багдад, тогда входивший в состав Османской империи. Семья Сассунов пользовалась большим уважением, ее члены занимали высокие финансовые посты (вплоть до государственного казначея) у турецких пашей, отец Давида был официальным лидером евреев Месопотамии. Процветал и Давид, но все-таки, не чувствуя себя в полной безопасности от то и дело возобновлявшихся гонений, перебрался сначала в Персию, а оттуда (в 1832 г.) в Бомбей. Давид Сассун занялся торговлей с Месопотамией, Персией, Китаем и Японией. Закрепляя связи с Англией, отправил в Лондон своего третьего сына, тоже Давида, вскоре открывшего филиалы фирмы в Манчестере и Ливерпуле. Давид-отец меценатствовал — строил синагоги и школы для еврейских детей, библиотеки и больницы. 150 лет бесперебойно функционирует библиотека Давида Сассуна в Бомбее. В Пуне расположена больница Давида Сассуна — одна из крупнейших индийских государственных больниц, прославившаяся авангардными исследованиями в разных областях медицины и виртуозным мастерством ведущих специалистов. И величественную пунскую синагогу, чей силуэт постоянно отвлекал мое внимание от докладов международной конференции, также построил Давид Сассун: в ее аккуратно-пустынном дворе и покоится прах неутомимого багдадского еврея Давида Сассуна, умершего в Пуне от лихорадки в 1864 г.
Все это поведал мне «брат» Идор, сопровождавший меня во время осмотра синагоги. Идор предварительно позвонил Давиду Соломону, смотрителю синагоги, и попросил разрешение на посещение в неурочное время — она теперь бывает открыта только по субботам, в дни календарных праздников и традиционных ритуалов. Давид Соломон — бене-Израиль, и когда-то присутствие его предков не приветствовалось в синагоге багдадских евреев, считавших тех неровней, но теперь, когда в самой Пуне багдадских евреев не осталось вовсе (только в Бомбее — шесть семейств), а количество бене-Израиль сократилось до 60 домов (около 300 человек), Давид Соломон по просьбе потомков семейства Сассунов, раскиданного по всему свету, принял на себя функции смотрителя синагоги на общественных началах (сам он работает в конструкторском бюро). Соломон с гордостью показал мне недавно установленный компьютер (подарок какой-то зарубежной еврейской общины) и рассказал, что ребятишки учат с его помощью иврит, что уже установили модем и синагога оказалась первым в Индии религиозным учреждением, получившим выход в Интернет.
Старший сын Давида Сассуна — сэр Альберт Абдулла Давид Сассун (1818–1896) — ни талантом, ни предприимчивостью, ни филантропическими наклонностями не уступал отцу. Унаследовав огромную империю, он не только приумножил ее богатство и влияние, но и внес принципиальной важности вклады в три области: во-первых, основал в Индии банковское дело в его современном понимании, и один из самых влиятельных современных индийских банков — Банк Индии — его детище; во-вторых, заложил основы современной текстильной промышленности, построив десятки фабрик по производству хлопчатобумажных и шелковых тканей; в-третьих, придал Бомбею то своеобразие, которое делает его уникальным индийским городом, — благодаря спонсорству сэра Альберта в Бомбее были сооружены десятки неординарных зданий, установлены (естественно, сохранившиеся до сих пор) памятники членам британской королевской семьи. Вершиной его коммерческого и индустриального гения стало строительство в бомбейской гавани первых на западном побережье Индии мокрых (плавучих) доков, раскинувшихся на гигантской площади и, безусловно, впоследствии определивших и закрепивших промышленно-торговое лидерство Бомбея. А в связи с визитом в Бомбей герцога Эдинбургского сэр Альберт подарил городу орган. Кстати, триумфальная арка «Ворота Индии» (через которую впоследствии, в 1947 г., торжественно прошли последние английские солдаты, покидавшие ставшую независимой Индию) — сооружение, начатое позднее в честь официального визита в Индию короля Георга V и королевы Мэри и превратившееся в полноценный символ Бомбея, было завершено благодаря спонсорским пожертвованиям еврейской общины Бомбея. В 1868 г. в знак признания заслуг Альберт, сын Давида, был удостоен титула рыцаря, в 1879 г. одна из ведущих английских газет назвала его «индийским Ротшильдом», а в 1890 г. ему присвоили титул баронета.
Отошедши от дел, сэр Альберт перебрался в Лондон и был избран вице-президентом Англо-еврейской ассоциации. Невесткой сэра Альберта, к слову, стала Алина Каролина из французских Ротшильдов, а его внук, сэр Филипп Альберт Густав Давид (1888–1939), прославился дипломатическими способностями, даром светского общения и вкладом в развитие военно-воздушных сил Великобритании. Двое из оставшихся в Бомбее деятельных членов разветвленного клана Сассунов впоследствии занимали пост мэра города. Из весьма многочисленных Сассунов, разными путями осевших в разных странах земного шара, было бы неудобным обойти молчанием Видала Сассуна (уж и не знаю, кем по родственной линии он приходится Давиду Сассуну), чье имя прочно закрепилось и на российских просторах как указание на геометрический стиль в укладке волос и название целой армии шампуней.
На тенистой еврейской аллейке возле Маттанчерийской синагоги возникли пожилые мужчины в закатанных брюках и женщины с седеющими пучками и стали величественными свидетелями ссоры. Над рассерженной матерью и ответствующим ей сыном распахнулись голубые ставни, и в окнах появились головы. Рядом, на кладбище, на могильных памятниках колыхались надписи на иврите, словно в сумерках полуспущенные флаги на мачтах. В вечернем воздухе — запах рыбы и специй.
Международная конференция завершилась, Идор отправился в Израиль, а я съехала из гостиницы с видом на синагогу и осталась в Пуне еще на месяц, чтобы заняться своими обычными, совсем нееврейскими делами. Что-то мне, впрочем, мешало сосредоточиться, я осознала это «что-то», села на авторикшу и поехала в Растапетх — типичный индийский квартал, густо застроенный небольшими домишками, — там, в Еврейском проулке, находилась действующая синагога бене-Израиль. Тоже из красного кирпича, огороженная крепкой стеной, она потрясла меня своей какой-то надменной чужеродностью. Я вошла во двор и увидела… Раису Самуиловну— такой, во всяком случае, осталась в моей памяти бабушка одной моей подруги — полной, белолицей, с тугими завитками черно-седых волос. Она оказалась женой смотрителя, и мы разговорились на чистом маратхи. «Раиса Самуиловна» пожаловалась на плохое самочувствие и рассказала, как дорого стоят различные медицинские анализы. Рядом с нами бегали ее внучки — белолицые девчушки невероятной красоты с огромными черными глазищами. Естественно, поговорили и о них. Я попросила разрешение осмотреть синагогу, она достала ключи и уже на ступеньках спросила, еврейка ли я. Услышав отрицательный ответ, «Раиса Самуиловна» резко спрятала ключи и сказала: «Уходи, нечего тебе здесь делать». Я попыталась объяснить, надеясь, что наш общий маратхи — панацея, но она недружелюбно повернулась ко мне спиной и, забрав девчушек, скрылась в дверях своего домика, расположенного тут же.
Сфотографировать синагогу было невозможно — плотная ограда и скученность внешних построек не позволяли отойти на нужное расстояние. Пока я пыталась как-то пристроиться с фотоаппаратом, во дворе появился мальчик лет 15–16. Десятиклассник Даниэль Гадкар (типичная маратхская фамилия) представился как «социальный работник», тесно связанный с повседневной деятельностью синагоги. Он учит иврит, который преподает Сэм Давид, профессор биологического факультета Пунского университета и глава попечительского совета синагоги. По окончании школы Даниэль уедет в Израиль, родители его останутся в Пуне. Во время нашего разговора с улицы зашел и сам смотритель, к нему приблизилась жена и быстро сообщила информацию обо мне. «Уходите, у нас сейчас будет намаз», — обратился он ко мне. «Да какой же намаз?» — изумленно переспросила я. «Так называется наша молитва, а ваши христианские словечки нам ни к чему, убирайтесь». Мне, конечно, стало обидно, и сначала я хотела дождаться Сэма Давида, к которому у меня были рекомендации от Идора, а потом передумала: объем моей собственной исследовательской работы и издательские обязательства по международному сборнику были столь велики, что в плотный график месяца еврейская тематика никак не встраивалась, и я ретировалась.
После того как Соломон оставил ее и скрылся, Флори стала хранительницей голубых изразцов и медных табличек Иосифа Раббана, отстаивая свое право на этот пост с постоянно вспыхивавшей свирепостью, которая подавила весь ропот противоборствующей стороны в связи с этим назначением. Под ее защитой оказались не только маленький Абрахам, но и пергамент с Ветхим Заветом, на страницах которого — с потертыми краями, похожими на старую кожу, — плыли ивритские буквы, и полая золотая корона, подаренная (в 805 г. н. э.) махараджей Траванкура. Она провела реформы. Когда верные приходили к службе, заставляла их снимать обувь.
Что представлял собой ритуал молебна общины бене-Израиль до прихода Давида Рахаби, сказать трудно, после же его вмешательства богослужение стало строиться по левитическим нормам. Индийские евреи отмечают нормативные еврейские праздники, иногда, впрочем, поясняя их с помощью того индийского языка, который стал для них родным. Так, например, йом-кипур бене-Израиль называют «праздником закрывания дверей», но не потому что йом-кипуром заканчивается серия осенних праздников и Господь Бог, приняв решение по поступкам людей в предыдущем году, закрывает двери рая, а потому, что они привыкли проводить его — в знак искупления — за закрытыми дверьми. А пурим называют «праздником холи», поскольку по времени он практически совпадает с индусским фестивалем холи. Аромат индуизма, а иногда и ислама, уловим и в ряде других случаев. Обветшалые свитки Торы должны храниться в генизе — полуподвальном помещении под алтарем, — являя собой, таким образом, уникальный материал по палеографии иудаизма. Индийские же евреи предпочитают опускать вышедшие из употребления свитки в воды близлежащей реки — так обычно поступают индусы с попорченными или отслужившими свой срок изваяниями. В то время как евреи других стран после разрушения Второго храма (I в. н. э.) отказались от использования благовоний, индийские евреи применяли их вплоть до середины XIX в. Женщины, приносящие «назаретский обет» (правильно — «назорейский», но индийские евреи, видимо, смешали Назарет с назореями), чтобы получить потомство мужского пола, в случае успеха не сжигают первые остриженные волосы наследника, а опускают их в воду — так поступают в сходных случаях индусы, располагающие широким спектром обетов, направленных именно на приращение семейства за счет сыновей, необходимых для совершения важных жизненных обрядов. До недавнего времени отправляющему ритуал служителю подносили приготовленную печенку дичи или козла — этот обычай весьма популярен в обрядовых действах, связанных с локальными деревенскими божествами индуизма, где в первую очередь «кормят» божество, а потом — жреца. Во время разных церемоний использовали малиду (персидское слово) — круглые сладости из риса, молока и сахара-сырца, характерные для церемониала вокруг гробниц мусульманских пиров. Оставшиеся в Пуне бене-Израиль все еще называют своих священнослужителей арабским словом казн.
Там не было двух одинаковых. Изразцы из Кантона, приблизительно 12 х 12, завезенные в 1100 г. н. э. Иезекиилем Рабхи, покрывали полы, стены и потолок маленькой синагоги. Они давно начали обрастать легендами. Некоторые говорили, что если достаточно долго вглядываться, то в одном из бело-голубых квадратов можно найти собственную историю, потому что изображения на изразцах могли меняться и менялись из поколения в поколение, рассказывая о судьбах кочинских евреев. Другие все же были убеждены, что изразцы являлись предсказаниями, ключ к пониманию которых был утерян в череде проходящих годов.
Иезекииль Рабахи (у Рушди — Рабхи), вполне историческая личность, от имени голландской Ост-Индской компании осуществлял вывоз с Малабарского побережья кардамона, перца и изделий из сандала. Вполне вероятно, что по просьбе кочиннев он и привез из дальних поездок то, что придало их синагоге уникальность и загадочность. В синагоге, построенной Давидом Сассуном, всегда горит Неугасимая лампада (эш талид — «вечный огонь»), установлены скиния Завета (арон ха-кодеш — «шкаф святости») для хранения свитка Торы и алтарь, на который во время службы выкладывается свиток. Меня поразили невероятной красоты оконные витражи и величественные, с искусной резьбой, отлакированные деревянные кресла — одно для пророка Илии, другое — для человека, удерживающего на своих руках младенца во время церемонии обрезания. А наш общий с Идором гуру был весьма расстроен, что меня не пустили в синагогу в Еврейском проулке Раста петха. Сам он когда-то посетил ее вместе с Идором и был заворожен ее внутренним убранством.
Они уже почти все ушли, евреи Кочина. Осталось меньше пятидесяти, а молодые отбыли в Израиль. Это последнее поколение, и сделаны приготовления, чтобы синагога отошла к правительству Кералы, которое превратит ее в музей. Последние беззубые холостяки и старые девы греются на солнце в «бездетных» переулках возле Маттанчери. И это тоже пресечение рода, достойное скорби; не истребление — такое, как произошло в других местах, но все же тем не менее конец истории, на изложение которой ушло два тысячелетия.
Маттанчерийская синагога, о которой пишет Рушди, — сейчас единственная действующая на юге Индии; она считается одной из красивейших в мире. Рядом, в округе Эрнакуламе, одна из двух синагог используется своим еврейским владельцем под цветочный бизнес, в другой устроена еврейская птицефабрика (торговля птицей и яйцами — традиционное занятие «черных» евреев). Единственная в мире (как мне рассказали) золотая скиния Завета, выполненная из 300 золотых соверенов, была вывезена из эрнакуламской синагоги и теперь находится во вновь отстроенной синагоге в Израиле, в месте компактного проживания бывших кочинских евреев. Исход евреев из Индии начался в 1950-х, и сейчас в Израиле проживает около 50 тыс. индийских (так их там называют) евреев: около 5 тыс. — выходцы из Кочина, остальные 45 тыс. — маратхиязычные бене-Израиль. По-разному складываются их судьбы. Кочинские евреи занимаются в основном сельским хозяйством, а бене-Израиль предпочитают службу в государственных учреждениях, армии и оборонной промышленности. Верховный раввинат Израиля возражал против заключения браков между бене-Израиль и другими евреями на том основании, что бене-Израиль были лишены возможности соблюдать раввинские нормы, регулирующие вопросы брака и разводов. Компромисс был достигнут в 1964 г., когда бене-Израиль были провозглашены «полноценными евреями», но раввинат оставил за собой право определять легитимность того или иного брачного союза. Идор рассказал мне, что среди израильских бене-Израиль достаточно остро стоит проблема алкоголизма, и он лично считает судьбу членов именно этой общины — переехавших ли в Израиль, оставшихся ли в Индии — в высшей степени трагичной. Впрочем, он затруднился объяснить, а может быть, я не поняла, почему судьба общины бене-Израиль трагичнее судеб других еврейских общин.
Вероятно, здесь можно было бы поставить точку, если бы не четвертое обстоятельство, наверное сильнее всего «пульсировавшее» в моей накрепко привязанной к маратхиязычному региону душе. Раз в два-три года в различных странах, где проживают носители языка маратхи, устраивается Всемирный съезд маратхи. Один из таких съездов состоялся в октябре 1996 г. в… Иерусалиме! Инициаторами его проведения именно здесь были евреи бене-Израиль, а гостями — маратхи из Индии, США, Канады, Великобритании, Маврикия и дру гих стран. В Израиле же на языке маратхи издается несколько газет и ежеквартальный журнал под названием «Майболи» («Материнский язык»). Издатель журнала Флора Сэмуель до ухода на пенсию преподавала санскрит в Ивритском университете Иерусалима, а теперь учит детишек бене-Израиль языку маратхи. Бенджамен Якоб, лидер Ассоциации индийских евреев в Израиле, сказал: «У нас израильское 1ражданство, и иудаизм — наша религия, но наша культура остается индийской».
Послесловие. После того как статья об индийских евреях была опубликована в «Независимой газете», я снова побывала в Пуне, заглянула в «красную церковь» и подарила Давиду Соломону экземпляр газеты, украшенной фотографиями и пунской синагоги, и его самого. Смотритель был тронут и немедленно освободил для статьи место под стеклом в витрине с прочими дорогими экспонатами. Он намеревался посвятить меня во все новости, связанные с жизнью еврейской общины Пуны, но я торопилась по другим делам и быстро распрощалась. Из совсем недавних пунских газет я узнала, что в Иерусалиме скончалась Флора Сэмуель — пропагандист языка маратхи и индийской культуры в Израиле.
ЦЫГАНЕ, ВЫХОДЦЫ ИЗ ИНДИИ
Известная как «страна чудес», Индия в действительности подарила миру много чудесного, в том числе и цыган, ставших на многие столетия «забытыми детьми» Индии.
Первое дошедшее до нас упоминание о цыганах в Европе датируется 1100 г. и было обнаружено в записях монаха из монастыря на горе Атос в Византии. Он делился впечатлениями о людях, называемых Ascincan и в Константинополе слывших за искусных колдунов. А через два с небольшим века уже туг и там обнаружились смуглые люди с черными вьющимися волосами и блестящими глазами, разодетые в яркие наряды: архивы Крита сообщают о них в записях 1322 г., Корфу— 1346 г., Пелопоннеса— 1370 г., германского Гильдешайма — 1407 г., Базеля — 1414 г. Покорение цыганами Европы было поистине триумфальным: они показывали привратным стражам очередного средневекового города «защитные» письма — то от папы Мартина V, то от императора Священной Римской империи Сигизмунда. Ловкие подделки производили впечатление, и цыган, к тому же щеголявших такими вескими для Европы титулами, как «граф», «барон» или «маркиз», встречали приветливо и, случалось, одаряли не только радушием, но и чем-нибудь более существенным.
По прибытии в Париж цыгане рассказали историю, которую впоследствии они сами, а затем и историки назвали «великим трюком»: по их словам, они были изгнаны со своей родины — Малого Египта (и никто не усомнился в существовании такой страны) — сарацинами, бродили по Богемии и Германии и в конце концов обратились к милости папы Римского, который отпустил им грехи и наложил епитимью, приказав совершить паломничество ко всем главным святыням Европы. Этой же миграции, как они рассказывали по другому поводу, предшествовало общее проклятие, тяготеющее над их родом и связанное с тем, что из страха перед фараоном их предки отказали в приюте Святому семейству, гонимому царем Иродом и оказавшемуся в Египте. И тогда Бог разгневался и приговорил их к вечному бродяжничеству, презрению и ненависти со стороны людей.
И хотя поначалу встречи бывали радушными, цыганское попрошайничество, мелкие кражи и ловкие проделки, с одной стороны, и неумение и нежелание сливаться с окружающей средой — с другой, приводили к тому, что их предавали анафеме как «колдунов и предсказателей», изгоняли из города, объявляли вне закона и жестоко преследовали. К тому же поскольку они приходили с территорий, занятых мусульманами, то христианская Европа не могла не заподозрить в них и проводников ислама. Например, в той же Франции в 1561 г. парламент Орлеана принял указ «извести всех цыган железом и огнем». В 1725 г. прусский король Фридрих Вильгельм I приговорил всех цыган старше 18 лет к повешению независимо от пола. В Богемии каждой цыганке должно было отрезаться правое ухо, а в Силезии и Моравии — левое. Уничтожение цыган было официальной политикой фашистской Германии, и в годы Второй мировой войны их погибло около 20 тыс. Во всяком случае, не существует страны, не пытавшейся (и, как правило, безуспешно) выдворить цыган за свои пределы, если уж они не хотели или не могли быть как все. В одном из стихотворений английский поэт Уильям Вордсворт воскликнул: Судьба взрастила их / изгоями общин людских!
Кстати, прозвания цыган (английское — gypsy, испанское — gitano, греческое — guphtos, албанское — evgit) отражают поверье об их египетском происхождении. Возможно, они и сами в это верили, характеризуя себя как «народ фараона». Во Франции о них говорилось и как о bohemien, т. е. пришедших из Богемии. Русское «цыган» (а в России они появились в XV–XVII вв., и, объясняя в толковом словаре значение слова «цыган», В. Даль пишет лишь «обманщик, плут, барышник, перекупщик»), немецкое Zigeuner, итальянское zingaro, безусловно, связаны между собой, но их этимология неясна. Сейчас уже цыгане разбрелись по всему свету, по разным оценкам, их от двух до шести миллионов. К началу XIX в. они добрались до Америки, а в XX — и до Австралии. Некоторые цыгане переняли оседлый образ жизни, а с ним (в какой-то степени) бытовые навыки и элементы культуры той страны, в которой это произошло, но все-таки большинство по-прежнему ведут кочевой или полукочевой образ жизни, используя для переездов крытые кибитки или (и это примета времени!) автомобили и автофургоны, живут замкнутыми коммунами и занимаются традиционными промыслами — они хорошие дрессировщики, музыканты и изготовители скрипок, прекрасные знатоки лошадей (а теперь уже и автомобилей), неплохие лудильщики и кузнецы, а их женщины, как и прежде, занимаются гаданием. Уникальной особенностью рома (как они себя называют), а вернее, стиля их бродяжничества по сравнению с другими все еще существующими кочевыми и пастушескими группами является то, что они бродят по всему земному шару, а не в определенном традицией регионе и не обходят стороной города — центры современной цивилизации. Известное пушкинское четверостишие Цыганы шумною толпой / По Бессарабии кочуют. /Они сегодня нал рекой/В шатрах изодранных ночуют/ или его же строки Встречал я посреди степей / Над рубежами древних станов / Телеги мирных цыганов, / Смиренной вольности детей по-прежнему справедливы практически для любой точки на земле.
Загадки происхождения цыган были частично разрешены в 1780 г. двумя немецкими филологами — Греллманом и Рудигером, обнаружившими (независимо друг от друга) удивительное родство между цыганскими диалектами и санскритом — языком древней Индии. Позже это было подтверждено учеными-лингвистами из самых разных стран, усилено данными антропологических исследований, и сейчас уже сомнений не вызывает, да и сами цыгане воспринимают Индию как «великое место», где когда-то проживали их предки, и с упоением поют песни из индийских фильмов, язык которых они к тому же понимают.
Загадкой остается другое: когда, как и почему предки цыган покинули Индию? На этот счет существует достаточное количество гипотез (бегство от начавшегося вторжения в Индию мусульман, хронические недороды и т. д.), но большинство из них объединяет предположение о том, что исход цыган из предгорных районов Северо-Восточной Индии состоялся в несколько этапов или несколькими миграционными потоками. Первый из них, вероятно, «выплеснулся» к концу I тысячелетия, и цыгане надолго задержались в Персии — во всяком случае, в их диалектах присутствует достаточно большое количество лексики фарси. Кстати, Фирдоуси в «Шах-наме» повторяет старую легенду о том, что иранский шах Бехрам Гур затребовал из Индии 20 тыс. искусных музыкантов — мужчин и женщин — для общегосударственных празднеств. Он был настолько покорен их исполнительским мастерством, что предложил остаться в его стране и выделил им землю, быков и зерно. Но музыканты не смогли превратиться в крестьян, и когда шах узнал, что к земле они не прикоснулись, а подаренных быков и зерно просто съели, он изгнал их из Персии. Далее цыгане проникли в Армению, Турцию, на Балканы и в Грецию. Другие группы прибыли в Европу через Египет, оправдывая данное им впоследствии имя.
Безусловно, кочевая жизнь цыган и их общение с разными народами не могли не сказаться и на их языке, но основной словарный фонд различных диалектов цыганского по-прежнему сохраняет удивительное сходство с индоарийскими языками их прародины. Слова, обозначающие родство, части тела, метеорологические феномены, простую еду, животных, обиходные прилагательные, глаголы и числительные, у цыган и, например, у маратхов похожи. Сравните: «ухо» в обоих языках — «кан», «человек» — «мануш», «божество» — «девата». «Гав» на цыганском — «деревня», а на маратхи — «город»; «баро» на цыганском означает «большой», и в том же значении выступает маратхское «бара».
И все-таки предки цыган — не маратхи (и не панджабцы, бенгальцы или гуджаратцы — представители других национальных регионов Индии). В самой Индии цыган больше всего напоминают… индийские цыгане, известные (как и в странах Европы) под самыми разными именами — банд зари, ламани, суклир и т. д. Они до сих пор бродят по всей стране, выделяясь среди оседлого населения не только традиционными цыганскими нарядами — широкими юбками и звонкими монисто, но и внешним обликом — смуглые по сравнению с бледнолицыми европейцами, цыгане светлее, выше и крепче телосложением, чем индийцы. И в Индии их соотносят с северо-востоком страны, откуда они разбрелись по всему Индостанскому полуострову, когда в начале II тысячелетия их края постигла засуха. Индийские цыгане занимаются перевозкой сельскохозяйственной продукции и гаданием, крадут скот и славятся пением и танцами. Как и повсюду, они притягивают любопытствующие взоры, но и отпугивают своим нежеланием вписаться в окружающий их мир.
НЕПАЛ, СЕВЕРНЫЙ СОСЕД
В Непале находятся Гималаи — самые высокие в мире горы, а на их вершинах расположена «обитель богов», поэтому именно здесь у смертных появляется надежда на общение с бессмертными. Нет ничего удивительного, когда эта надежда сбывается: страной правит монарх — живое воплощение индусского бога Вишну, — получивший благословение от Кумари — живой богини, проживающей в храме Кумари Бахаде дворцового комплекса Ханумандхока в столице государства Катманду. А в местечке Лумбини за 623 года до рождества Христова появился на свет Гаутама Будда — основатель одной из мировых религий — буддизма. Эта страна шагнула в XXI столетие задолго до остального мира: в 2002 г. непальцы отметили 2059 год по летосчислению Бикрама.
Расположенный между двумя соседями-колоссами — Индией и Китаем, — Непал кажется небольшим государством, хотя его территория, на которой проживает 25 млн. человек, равна 147 тыс. кв. км и превышает площадь Австрии и Швейцарии, вместе взятых. Шесть седьмых этой площади занимают горы, да и вся страна выглядит гигантской лестницей, величественно поднимающейся от низин-тераев к заоблачным высям Гималаев. На ступенях этого нерукотворного шедевра разместились аналоги всех природных зон земли — от субтропической до полярной. Друг от друга их отделяют всего 250 км. Южная кромка страны захватывает часть Индо-Гангской низменности — еще в начале XX в. тераи были покрыты густыми, труднопроходимыми джунглями, а сейчас это освоенная и плотно заселенная часть страны. Чуть к северу от тераев тянутся гряды «первой ступени» Гималаев — хребта Сивалика, иногда отроги хребта расступаются, обнажая обширные долины. Еще севернее расположены цепи хребта Махабхарат — «второй ступени» Гималаев. Между хребтом Махабхарат и Главным Гималайским хребтом протянулись долины, самая обширная из которых называется Катманду (букв, «деревянный храм»), здесь же находится и одноименная столица государства. Гордостью Главного Гималайского хребта являются восемь пиков, превышающих 8 тыс. м. Горные пояса протянулись с запада на восток, а главные водные артерии проходят с севера на юг — это всегда затрудняло связь между районами и наряду с другими факторами способствовало изоляции Непала от остального мира. В летнее время температура в долинах не превышает +30 °C, а зимой не опускается ниже +10 °C; климат умеренно-влажный, в год выпадает около 1420 мм осадков.
В VIII–VII вв. до н. э. на территории современного Непала, в долине Катманду, укрепилась династия Киратов, в которой сменилось 28 царей. Из IV в. до н. э. дошли сведения, что подданные Киратов торговали двадцатью разными видами шерстяных одеял. На рубеже III–IV вв. уже нашей эры Киратов потеснили Личчхавы, пришедшие из Индии и распространившие в Непале индусскую кастовую систему — четырехступенчатое иерархическое деление общества на брахманов-жрецов, кшатриев-воинов, вайшьев-торговцев и шудр-обслугу. О правлении Личчхавов обнаруживается немало сведений, зафиксированных в надписях на камнях. Так, в частности, Манадева II истово обожал свою матушку — надписи содержат сплошные панегирики в ее честь и рассказы о том, как она сопровождала своего царственного отпрыска на поле брани. Личчхавов сменили Тхакуры; один из них, Амсуварман, жил в семиэтажном дворце, инкрустированном драгоценными камнями и жемчугом; в моде были уши с нарочно вытянутыми мочками; дочь Амсувармана отдали в жены влиятельному тибетскому правителю, и она, вместе со второй женой тибетца — китайской принцессой, обратила его в буддизм. С XIII в. началось правление династии Малла — покровителей искусств и науки. Благополучие жизни сменялось междоусобицами, вторжением мусульманских завоевателей, мощными землетрясениями; повсюду возникали мелкие княжества, которые объединялись во временные союзы и распадались, не выдержав внешних ударов и внутренних интриг. Притхви Нараян Шах (1722–1774) оказался целеустремленнее других: его десятилетнее притязание на трон Катманду в 1768 г. завершились успехом — в день величания бога Индры, когда весь город был увлечен праздничными мероприятиями, войска предприимчивого князя беспрепятственно вошли во дворец. После Катманду натиска Притхви Нараяна Шаха не выдержали княжества Патан и Бхадгаон: начался процесс объединения земель. В пору расцвета Непал был вдвое обширнее, чем ныне, а Притхви вошел в историю государства как Строитель непальской нации. В 1792 г. была неудачная война с китайцами (до 1912 г. каждые пять лет пекинскому императору отправлялась установленная дань), а потом двухлетнее противоборство с войсками британской Ост-Индской компании, завершившееся подписанием в 1816 г. сомнительного «Договора о дружбе» — Непал потерял Сикким, плодородные земли-тераи, лишился монополии на торговлю с Тибетом; ему был навязан английский резидент, но все-таки в колонию он не превратился.
Напуганные власти закрыли страну для иностранцев. В 1846 г. юный племянник короля Джанг Бахадур Рана вместе с сообщниками, среди которых были шесть его братьев, устроил во дворце кровавую резню и провозгласил себя сначала главным министром, а потом и «махараджей»; свой пост и неограниченные полномочия он объявил наследственными, но передавались они не по прямой нисходящей, а по старшинству среди всех членов мощного клана: так при живом короле и его потомках установилась столетняя олигархия семейства Рана. Закрепив позиции, Джанг Бахадур отправился в Великобританию и Францию, познакомился с королевой Викторией, а по возвращении завел при дворе иные порядки — мужчин нарядил в одежду европейского покроя, а дамам повелел отвыкать от удобных сари и носить кринолины. Восхищенный европейской архитектурой, он инициировал строительный бум в неоклассическом стиле: многочисленные дворцы Рана, многие из которых впоследствии стали правительственными учреждениями, придают особо изысканный колорит непальской столице. Последующие правители, хотя и отменили практику сати (самосожжения вдов на костре умершего мужа), открыли несколько школ, колледжей и больницу и учредили в Катманду газету, все же рассматривали страну как собственное поместье, без устали перераспределяя земли, формально принадлежавшие короне, между ближайшими родственниками и непрестанно утоляя собственные прихоти за счет государственной казны.
Со временем обстановка вокруг Непала изменилась: в 1947 г. обрела независимость Индия, а в 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика, войска которой на следующий же год вступили в Тибет. Постепенно накалилась ситуация и в Непале: возникшая партия Непальский национальный конгресс устремила свой взор к подлинному суверену Непала — королю Трибхувану Биру Бикраму Шаху. В ноябре 1950 г. под предлогом пикника Трибхуван выехал за пределы своего дворца, через некоторое время оказался в индийском посольстве в Катманду, а затем и в Индии. В Непале тем временем начались массовые волнения под эгидой Непальского национального конгресса, и в феврале 1951 г., после нескольких месяцев добровольного изгнания, король Трибхуван, увенчанный цветочной гирляндой, вернулся на родину и обратился к народу с «Королевским воззванием», обещавшим подлинную демократию. Еще в 1955 г. «отец нации» Трибхуван «открыл» страну для иностранцев, его наследник — король Махендра провел в 1959 г. первые всеобщие выборы, но, поразмыслив над их результатом, уже в 1960 г. арестовал кабинет министров, разогнал парламент и наложил запрет на деятельность всех политических партий. Новые выборы прошли после 1990 г., когда новый король, Бирендра Бир Бикрам Шах Дев (род. в 1945 г.), вновь вернул к жизни политические партии и оказался монархом при правительстве, сформированном победившей Коммунистической партией Непала (Объединенной марксистско-ленинской)! Потом была коалиция коммунистов и монархистов, а в конце 1990-х годов правительство единственного в мире «индусского королевства» (так записано в конституции 1991 г.) состояло из монархистов и конгрессистов.
Островерхие трехъярусные крыши непальских храмов, выступающие над остовом культового сооружения, поддерживаются по всему периметру деревянными балками. По утверждению С. Леви, известного французского востоковеда, стиль «пагод» — исконно непальский и существовал здесь задолго до того, как появился на Дальнем Востоке (кстати, известную Белую дагобу в Пекине выстроил в конце XIII в. прославленный мастер из Непала). Истинно непальскими являются и искусно вырезанные фигуры совокупляющихся в причудливых позах мужчин и женщин, а также людей и зверей, в изобилии украшающие деревянные подпорки храмовых крыш. Воспитанному в строгости христианской морали или исламских запретов путешественнику сочетание религии и эротики может показаться богохульством, но местные жители объясняют этот феномен по-своему: макушки храмов, полностью сработанные из дерева или декорированные большим количеством деревянных деталей, легко притягивают молнию. А молния — это богиня, к тому же вечная девственница. Завидев наслаждающиеся любовью пары, трио и квартеты, целомудренная богиня испытывает чувство жгучего стыда и бросается прочь.
Издавна каждое княжество в долине Катманду и даже каждый городской квартал имели свою живую богиню-покровительницу — Кумари (букв, «девственницу»), олицетворяющую богиню Кали, постоянную спутницу бога Шивы. Со временем культ живой богини стал государственным — храм официальной королевской Кумари расположен в Катманду неподалеку от дворца. Огосударствление этого обычая теряется во глубине веков, но его первостепенное значение в духовной жизни Непала подтверждается многочисленными легендами. Согласно одной из них, в VIII в. девочка клана Шакъя (клан Гаутамы Будды) утверждала, что является земным воплощением Кумари-Кали. Разгневанный повелитель княжества отправил ее в изгнание, но, поддавшись яростному напору собственной супруги, повелел доставить ее обратно и запереть в храме. Согласно другой легенде, последний правитель династии Малла любил играть в кости с богиней Таледжу (она же Кали). Однажды он воспылал к ней неудержимой страстью, и возмущенная его приставаниями богиня сказала, что больше не вернется. Король вымолил прошение, и Таледжу (уже в облике вечно юной девственницы) предстала перед ним снова.
Живая богиня избирается из 4-5-летних девочек из клана Шакья, потомственных ювелиров по золоту и серебру. Ее тело должно быть безупречным, соответствуя 32 определенным параметрам: ногти на руках должны быть хорошей формы, а пальцы на ногах — длинными; прожилки на руках и ногах должны проглядывать, как на утиных лапках, а язык должен быть небольшим и изящным; ресницы должны быть, как у коровы, а шея напоминать раковину и т. д. На конечном этапе отбора все кандидатки проходят через суровые испытания: их запирают на ночь в темном храме среди отрубленных буйволиных и козлиных голов, а наряженные чудовищами мужчины устраивают вокруг них феерическую пляску. Та, которая не испугается и не заплачет, тем самым доказывает, что она-то и есть богиня. Свою подлинность она подтвердит, если среди разложенных перед нею одежд угадает наряд предыдущей Кумари. Но и после этого астрологи должны убедиться в том, что ее гороскоп не противоречит гороскопу короля, и только тогда перед ней откроются двери ее нового жилища — Кумари Бахала. Вплоть до внутреннего дворика обитель Кумари доступна взорам любопытствующих. Если посетитель расщедрится, то строгая нянька-надзирательница поднесет одетую в королевские одежды, увенчанную пышным головным убором и по-взрослому раскрашенную малютку-Кумари к одному из окон; на секунду покажется ее заплаканное личико, и надо успеть сложить на уровне груди ладони, чтобы поприветствовать ее по индусскому обычаю.
Кумари разрешается покидать храм только несколько раз в году для участия в религиозных праздниках, но и тогда ее выносят в паланкине, поскольку ноги богини не должны касаться земли. Паланкин устанавливают в экипаже, который доставляет Кумари к специально возведенному по случаю праздника помосту, где ее ожидает король. Король воздает ей почести и получает в ответ знак ее божественного расположения — тилак — красную отметку на лоб. Кстати, когда в 1955 г. король Трибхуван в сопровождении сына Махендры посетил Кумари для получения благословения, девочка по ошибке поставила тилак на лоб наследного принца, что было воспринято как плохое предзнаменование: через восемь месяцев 49-летний король скончался. В храме-монастыре Кумари остается до наступления половой зрелости, если ей не придется покинуть его раньше — такое может произойти, если она случайно поранится и на ее теле появится капля крови. Любая кровь — это осквернение, и Кумари перестает быть богиней. Когда же она «отработает» свой срок, ей разрешают покинуть храм, щедро одаряют, назначают пенсию и возвращают родителям. В принципе она может выйти замуж, но женихов отпугивает перспектива женитьбы на юной красавице, привыкшей к годам полной бездеятельности и восторженного поклонения и вряд ли подготовленной к исполнению функций домашней хозяйки и матери. К тому же существует поверье, что бывшая богиня приносит несчастье семье и раннюю смерть мужу, если таковой найдется.
90 % непальцев исповедуют индуизм, 8 % — приверженцы буддизма махаяна, есть небольшое число мусульман и анимистов — поклонников местных культов. Буддизм и индуизм, когда-то отчаянно соперничавшие друг с другом, теперь не только прекрасно уживаются, но и взаимно обогатились и даже синтезировались. Часто на вопрос «Вы индус или буддист?» приходится слышать в ответ «Да». Индусские храмы и буддийские ступы сплошь и рядом находятся на расстоянии вытянутой руки. Многие индусские храмы украшены изваянием Будды, он признан девятым воплощением Вишну; буддисты же считают ведущую триаду индусских богов — Брахму, Вишну и Шиву — первородными Буддами. Королевская Кумари избирается из девочек буддийского клана Шакъя, но именно она подтверждает влиятельные полномочия непальского монарха — индусского Вишну в облике человека. Буддисты считают Кумари буддийской богиней Ваджрадеви, а индусы — Пургой (одно из имен супруги Шивы), Кали и Таледжу. Экзотика тантры (мировоззрения, воспринимающего мир через плодотворную силу женской энергии — шакти) наложила отпечаток сразу на обе религии, усилив в них мотив сексуального акта как аналога космологических процессов.
Многочисленные индусские боги предстают в антропоморфном, териантропоморфном (например, слоноголовый Ганеша с крысой в качестве ездового животного) или символическом виде. Последнее относится к богу Шиве, которому особенно благоволят непальцы, воспринимая его одновременно как Создателя и Разрушителя, как начало и коней всех вещей. Ему поклоняются в его гневной ипостаси как Бхайраву («Жестокий»), Рудре/Угре («Страшный/Безобразный») и Шаву («Труп»). В мирной ипостаси он выступает как Махадев («Великий Бог»), Ишвар («Всевышний») и Пашупати («Владыка животных»). Шиву нередко изображают светлокожим, с горлом синего цвета (результат выпитого яда, способного отравить весь мир), с пятью ликами, четырьмя руками и тремя глазами (множественность органов свидетельствует о физической и духовной моши). В руках он держит трезубец, меч, лук и булаву, увенчанную черепом. Он может быть обвит тремя кобрами, одна из которых отождествляется со священным шнуром дваждырожденных (т. е. представителей высших каст — брахманов, кшатриев и вайшьев, приобщенных к сакральному знанию); а может восприниматься как Бхугешвар («Владыка злых духов»), обитающий в местах погребений и кремаций. Одновременно Шиве поклоняются и в его символической форме — в виде лингама, т. е. мужского детородного органа. Ездовым животным Шивы является бык Нанди — древний символ плодородия и плодовитости, что в его скульптурных изображениях всегда подчеркивается мощными гениталиями.
Подобно своему супругу, Парвати-Дурга-Кали также почитается в разных формах и манифестациях, связанных с теми или иными особенностями ее характера и поведения. В некоторых храмах, посвященных Кали, дважды в неделю совершаются кровавые приношения: жертвуют самцов — некастрированных баранов, козлов и петухов. Стоящие по щиколотку в крови служители храма ловким взмахом тесака рубят головы жертвенным животным, а на полянке неподалеку жертвователи в окружении родных и близких готовят мясо освященного близостью к богине животного на костре — значит, свадьба, постройка нового дома, путешествие пройдут удачно. Раз в году изваяние богини омывается кровью убитых животных. Массовое кровопускание в день религиозного праздника происходит и в самом Катманду — на площади Дарбар, окруженной кварталами полицейских учреждений и построек; сотни буйволов и козлов должны одновременно лишиться голов от одного удара, наносимого юными солдатами Непальской Королевской гвардии.
Среди буддийских ступ Непала (полусферических сооружений, хранящих буддийские реликвии) Сваямбхунатх является объектом паломничества буддистов всего мира. Легенда рассказывает, что когда-то, в незапамятные времена, на месте долины Катманду плескалось лазурное озеро (и геологические и археологические изыскания подтверждают это), а посередине, вызывая всеобщее благоговение, испускал голубое сияние великолепный лотос — предвестник появления Будды. Забредший в эти края мудрец Манджушри пожелал приблизиться к лотосу, и раскаленный меч его мудрости осушил воды. Возле цветка мудрец соорудил небольшую святыню, превратившуюся впоследствии в величественный Сваямбхунатх, что означает «Самосущий, Сам себя породивший». На каждой из четырех сторон этого древнего сооружения изображены сострадательные, но и пристальные глаза Будды, зорко озирающие всю долину Катманду. Между ними расположен мистический третий глаз — символ подлинной мудрости, а нарисованный «нос», похожий на вопросительный знак, на самом деле является цифрой «1»— символом единения. К возвышенности, на которой расположена ступа, ведут 300 ступеней. Внизу — три каменных изваяния сидящего Будды, раскрашенные в желтый и красный цвет.
С регулярными интервалами вдоль лестниц расположены пары каменных животных — личный транспорт богов и богинь, вокруг которых резвятся настоящие обезьяны. Вся конструкция ступы подчиняется определенным правилам, и каждый ее элемент имеет особое значение; ослепительно белая полусферическая насыпь представляет четыре элемента — землю, огонь, воздух и воду; тринадцать позолоченных колеи на шпиле являются ступеньками познания при восхождении к нирване, а сама нирвана (состояние умудренной отрешенности) символизируется зонтом на верхушке шпиля. Кстати, мудрец Манджушри когда-то здесь, возле Сваямбхунатха, остриг волосы, и каждый волосок превратился в дерево — под их сенью теперь отдыхают паломники и туристы, а вши, в обилии проживавшие в нечесаных волосах отшельника, превратились в обезьян — видимо, тех самых, которые резвятся на трехстах ступеньках, высматривая, чем можно поживиться у задумавшегося визитера.
В Непале смешались не только религии, но и люди. Государственным языком страны является непали, принадлежащий к индоарийской ветви индоевропейской языковой семьи. Это родной язык династий Шахов и Рана — представителей этнической группы парбатия. К слову, мать правившего до 2001 г. короля Бирендры и его супруга Айшварья вышли из семейства Рана. Кроме непали в ходу еще 36 языков и диалектов, в основном из тибето-бирманской языковой группы. Особое положение занимает невари — родной язык династии Малла, на котором существует давняя литературная традиция. Именно неварцы являются создателями уникальной неварской культуры, запечатленной о неповторимых средневековых постройках Катманду, Бхадгаона (Бхактипура), Патана и других городов Непала. Известные всему миру проводники и скалолазы — монголоидные шерпы не похожи ни на тех ни на других, но зато этот этноним вошел в мировое употребление как финансово-банковский термин, означая тех, кто ведет неофициальные переговоры по экономическим вопросам на очень высоком уровне. А еще есть воинственные и грозные гуркхи и многие-многие другие…
Непал, безусловно, обладает невероятным магнетизмом. В 1852 г. чиновники Счетной комиссии Британской Индии вычислили самый высокий пик мира и, не зная, что он известен среди местного населения как Джомолунгма или Сарваматха (оба имени подразумевают Be ликую Богиню, Мать всей земли), присвоили ему имя Эверест — в память о сэре Джордже Эвересте, руководившем комиссией в 1823–1843 гт. Первая попытка покорить Эверест была предпринята в 1893 г. англичанином Чарльзом Брюсом, в 1924 г. была достигнута отметка в 8572 м; прежде первопроходцы штурмовали гору с северной, тибетской стороны и погибали от истощения, нехватки кислорода, неожиданного схода лавины. 8848 метров Эвереста впервые поддались натиску с южной, непальской стороны: 29 мая 1953 г. в 11.30 новозеландец Эдмунд Хиллари и сопровождавший его шерпа Тенсинг впервые ступили на вершину мира. Восторженный Хиллари замерзшими руками фотографировал открывшуюся необозримую панораму, а Тенсинг, благоговейным шепотом произносил молитву, упрятывая в снег кусочки шоколада и галеты — подношение Матери-Богине Джомолунгме[66].
Сейчас альпинизм является одной из самых доходных статьей бюджета Непала: «пермит» — разрешение, позволяющее восхождение на Эверест с непальской стороны группе из пяти восходителей (носильщики, проводники и охрана формально членами группы не считаются), стоит 50 тыс. долл. Наиболее тренированные предпочитают подниматься без кислородных масок, утяжеляющих подъем. Не так давно, в 1997 г., на высоте около 7 тыс. м прервалась жизнь Владимира Башкирова — звезды российского альпинизма, а после него погиб известный альпинист-спасатель Анатолий Букреев. Впрочем, на сотню метров уступающая Эвересту Аннапурна (букв. «Наполненная зерном»), весьма почитаемая непальцами как богиня, дарующая процветание, среди альпинистов получила название «Гора-убийца» из-за гибельной крутизны своих склонов. Статистика свидетельствует, что из ста восходителей семь погибают.
Непал притянул на свою орбиту и колоритную фигуру Бориса Дисаневича[67], ныне покоящегося на кладбище посольства Великобритании в Катманду. Талантливый солист одесской балетной антрепризы, Дисаневич в 1920-х годах оказался в Париже, танцевал в труппе Дягилева, затем перебрался в Каир, оттуда в Юго-Восточную Азию и осел в индийской Калькутте, где в годы Второй мировой войны содержал элитный клуб для американских и английских летчиков. Там и произошло знакомство Дисаневича с королем Трибхуваном и наследником престола Махендрой, и позднее, после успешного «захвата» власти, революционный монарх вспомнил о Дисаневиче и призвал его к себе.
Так Дисаневич стал основоположником непальского ресторанно-гостиничного бизнеса пятизвездочного уровня — в открытом им «Гранд отеле» останавливались первый премьер-министр независимой Индии, Джавахарлал Неру, и британская королева Елизавета, а основанная им же на центральном Дарбармарге гостиница «Як и йети» все еще считается одной из лучших. До сих пор в Катманду существует ресторан «У Бориса», которым до недавнего времени управлял сын Бориса — Александр (женатый на очаровательной непалке), а в ресторане есть зал-музей, увешанный фотографиями и почетными дипломами Бориса Лисаневича из разных эпох его жизни, и рядом подают блины, борщ и винегрет.
В 1960-е годы Непал подвергся наплыву хиппи. Их здесь привлекало все: колоритный, наполненный яркими визуальными формами сплав индуизма и буддизма, приятный климат, общая дешевизна и доступный гашиш (старожилы до сих пор вспоминают кафе под названием «Гашиш-хаус» на одной из не самых удаленных от центра улиц Катманду, а в нем витавшую в облаках, длинноволосую и обритую наголо, загорелую и бледнолицую, в лохмотьях и в еще не потерявших вид джинсах неунывающую золотую молодежь). Власти в конце концов наложили официальный запрет на продажу и распространение любых наркотических средств, хиппи повзрослели, вернулись в родные страны и теперь приезжают вновь — как солидные и благообразные туристы с неутихающей ностальгией по Непалу. Была очарована Непалом и принцесса Диана, а визит в страну в феврале 1998 г. принца Чарльза еще больше скрепил дружественные узы между двумя монархиями. Сбылось и пропетое желание Маши Распутиной, но, оказавшись в вожделенной стране, Маша, по рассказам очевидцев, не продемонстрировала тонкости натуры, способной откликнуться на подлинную роскошь Непала, находящуюся по ту сторону пятизвездочного отеля. Зато для Бориса Гребенщикова Непал стал духовной вотчиной — он часто наведывается сюда и размышляет о смысле бытия.
Сейчас многие туристы стремятся в Непал из-за треккинга. Этот вид туризма был задуман и разработан в Непале британским гражданином, полковником Джимми Робертсом в середине 1960-х годов, он же дал ему и такое название, позаимствовав из языка африкаанс слово, означающее передвижение южноафриканских буров в поисках нового жилища. Считается (наверное, по сравнению с альпинистскими восхождениями), что треккинг не требует специальной физической подготовки, а пешеходные, лодочные, верховые и прочие маршруты, длящиеся от 2–3 дней до месяца и более, рассчитаны как на любителей истории, антропологии, ботаники и восточных религий, так и на тех, кто мечтает о приключениях в настоящих джунглях или горных долинах. Выбор лучшего времени года для треккинга зависит от того, куда ведет маршрут. Четыре месяца (с июня по сентябрь) в Непале длится сезон муссонных дождей, горные пики прячутся в тучах. С середины октября можно смело отправляться в треккинговые путешествия, но наиболее благоприятным временем считаются март и апрель. Организацией треккинговых маршрутов занимаются специальные туристические агентства, которые снабжают путешественников всем необходимым — одеждой, оборудованием, гидом-руководителем и велосипедами, если это маршрут «по горам на велосипедах».
Непал — одна из самых невероятных стран земного шара, географическое чудо и этнологическая головоломка. От горы к горе, от долины к долине, от плато к равнине меняются климат, почвы, растительность, расы, этнические группы, языки и обычаи. Гости этой страны часто говорят: «Мы не видели ничего подобного», и это не экзальтация — в мире ничего подобного и не существует. Трепетное отношение к Непалу разделяют и ученые. На протяжении десятка лет здесь действует немецко-непальский проект по геологической палеонтологии и стратиграфии; японцы методично разбирают рукописные залежи храмовых хранилищ в поисках неизданных манускриптов — и они всегда находятся; американские орнитологи изумленно описывают малоизученные виды пернатых (их здесь более 800!); международная команда ученых-реставраторов делает замедляющие процесс старения и разрушения инъекции деревянным постройкам и барельефам. Здесь все еще надеются найти йети — снежного человека.
Послесловие. О кровавой трагедии, разыгравшейся в Непале в июне 2001 г., говорил весь мир. В июне 2002 г. в этом единственном в мире «индусском королевстве», прошла череда сменяющих друг друга официально-ритуальных мероприятий. 1 июня отметили первую годовщину со дня гибели Бирендры Бира Бикрама Шаха (1945–2001), правившего страной в течение 29 лет. Траурные церемонии были проведены и по его супруге королеве Айшварье, младшему сыну, дочери, двум королевским сестрам и брату и еще по двум близким родственникам. 4 июня аналогичную церемонию провели по старшему сыну Бирендры — Дипендре. И в тот же день Непал отметил другую знаменательную дату — первую годовщину со дня коронации Гьянендры Бира Бикрама Шаха, брата погибшего Бирендры. Король умер, да здравствует король!
После расстрела в Ипатьевском доме семьи Романовых семья Бирендры Шаха — еще одно царственное древо, срубленное под корень. Трагичность свершившегося усугубляется тем, что очереди из автоматических винтовок по собственной семье, собравшейся на совместный ужин, выпустил не кто иной, как официальный наследник престола — 29-летний Дипендра. Расправившись с родителями и родными, он развернул дуло на себя. Сразу после этого 125 членов Королевского совета провозгласили принца-убийцу новым монархом, и до смерти — целых 54 часа — он, не выходя из комы, «правил» страной.
Поскольку король Непала признается земным воплощением индусского бога Вишну, то простой народ отказался поверить, что Дипендра выстрелил сразу и в бога, и в монарха, и в отца. По стране поползли разнообразные слухи, а лидер Коммунистической (маоистской) партии Непала Бабурам Бхаттараи высказал уверенность в существовании заговора, нити которого тянутся к внешним разведкам Индии и США. По его мнению, эти страны не устраивала растущая близость Непала с Китаем: за годы своего правления Бирендра девять раз побывал в Пекине, и последним зарубежным гостем, которого он принял, стал как раз премьер-министр Китая. Чтобы остановить начавшиеся массовые беспорядки, новый король, Гьянендра, отсутствовавший на роковом ужине, незамедлительно назначил комиссию во главе с верховным судьей и спикером нижней палаты. Оставшиеся в живых свидетели — члены царской семьи (среди них супруга и сын нынешнего короля) — вынуждены были частично приоткрыть завесу тайны, и 200-страничный отчет о результатах расследования подтвердил личность цареубийцы. Впрочем, одни показания противоречили другим, поэтому многое в случившемся осталось неясным: как один фигурант сумел, периодически меняя винтовки, вести прицельный огонь, почему никто не препятствовал, когда он гонялся по саду за выбежавшей из покоев матерью, где вообще находилась в это время служба безопасности, обслуга и т. д. К тому же в отчете не был указан мотив преступления и не подтверждалось, что Дипендра покончил жизнь самоубийством. Тем не менее пишущая братия всего мира не сомневается в том, что в основе непальской трагедии, по накалу страстей и количеству пролитой крови превзошедшей греческие образцы, лежала роковая любовь.
О страстной привязанности Дипендры к красавице Девъяни Рана, дочери известного политика и бизнесмена, блестяще образованного Пашупати Рана, в Непале знали давно: они открыто встречались за пределами королевства — в Лондоне, например, куда часто наведывался Дипендра, выпускник колледжа в Итоне, или в Сиднее, когда принц возглавил спортивную делегацию страны на Олимпиаде, а Девъяни приехала вслед; находили они возможности для встреч и в Катманду. Властная Айшварья, однако, оставалась неколебимой в решительном неприятии Девъяни в роли невестки, поскольку она была старше Дипендры на три года; к тому же астрологи якобы предсказали, что Бирендра умрет, если его старший сын женится и обзаведется потомством до того, как ему исполнится 35 лет. Хотя именно эти причины назывались для объяснения неприязни Айшварьи, да и всей семьи, к Девъяни, на самом деле любовь попала е жернова истории и политики.
С именем Притхви Нараяна Шаха, «строителя непальской нации», связано немало легенд. Одна из них рассказывает, что как-то в горах он встретил мудреца Горакнатха и поднес ему угощение. Мудрец насытился, но часть съеденного отрыгнул и предложил Притхви Нараяну в качестве дара. Король брезгливо попятился, и «дар» испачкал все десять пальцев на его ногах. Тогда разгневанный Горакнатх напророчил: «Только десять поколений Шахов будут находиться у власти!» Именно Притхви Нараян является родоначальником нынешней династии Шахов (погибший Бирендра и здравствующий Гьянендра представляют десятое поколение), которая традиционно связывала себя матримониальными узами с другим благородным непальским кланом — Рана (бывшая королева — Айшварья и нынешняя — Комал — сестры Рана). Но в 1846 г. юный племянник тогдашнего Шаха — Джанг Бахадур Рана, поддержанный сообщниками, среди которых были шесть его братьев, путем кровавых интриг провозгласил себя сначала главным министром, а потом и махараджей. Рана узурпировали власть на целых 105 лет, пока Трибхуван Бир Бикрам Шах, дед Бирендры и Гьянендры, под предлогом пикника не оказался вместе со всем семейством в индийском посольстве в Катманду, а потом и в Индии. В Непале же, чтобы создать видимость приличия, был немедленно коронован трехлетний Гьянендра, «забытый» семьей, поскольку (в силу астрологического прогноза о его неблагоприятности для собственного отца) он жил отдельно на попечении бабки Рана. Инициатором коронации стал некто Мохан Шамшер Рана, прадед Девъяни Рана! Тем временем активизировался Непальский национальный конгресс, и с его подачи народ потребовал возвращения законного монарха. Так Шахи, не без индийской поддержки, обрели реальную власть, а «низложенный» тогда своим дедом Гьянендра снова стал королем при косвенном участии правнучки Мохана Шамшера Рана.
Впрочем, это еще не все. Естественно, не было идиллии и внутри родовитых кланов. Ранаудип, старейшина клана Рана, в XIX в. был убит своим племянником Кхадгой Бахадуром Шамшером, который затем благоразумно обосновался в Индии. Его дочь вышла замуж за высокого рода индийца, а внучка — Виджая Радже — вошла в знаменитое в Индии семейство Синдхия, князей Гвалиора, одного из наиболее богатых и увенчанных батальной славой княжеств. Со временем она стала влиятельным политическим деятелем, а ее старшая дочь — Уша Радже была выдана замуж за Пашупати Рана и родила Девъяни, «индианку» с точки зрения непальской элиты. Географически стиснутый между Индией и Китаем, Непал часто играл на давних разногласиях двух гигантов, и для Айшварьи из ветви Ранаудипа «индианка» из ветви Кхадги Бахадура была никак не приемлема в качестве будущей королевы страны. К тому же она полагала, что статус Синдхия, в прошлом занявших высокое место в иерархии не по рождению, а по уму и расторопности, уступает врожденному благородному статусу Шахов и Рана.
Но и это еще не все. Индийское семейство Синдхия и автоматически Пашупати, Уша Радже и Девъяни Рана недавно оказались в эпицентре пересудов. Их теща, мать и бабушка Виджая Радже, упрямая защитница индусских ценностей, была активным деятелем «Бхаратийя джаната парти» (БДП), а ее единственный сын — Мадхав-рао Синдхия (кстати, женатый на Рана из Непала) в середине 1970-х годов, когда тогдашний индийский премьер Индира Ганди объявила чрезвычайное положение и отправила в тюрьмы сотни своих оппонентов, включая и Виджая Радже, сначала благоразумно отправился «на пикник» в Непал, а потом вступил в руководимый Индирой Ганди Индийский национальный конгресс (ИНК). Началась внутрисемейная вражда, в которой мать поддержали младшие дочери (одна из них — Васундхара Радже была министром в правительстве БДП, а теперь возглавляет отделение партии в Раджастхане); Мадхав-рао же со временем стал авторитетным конгрессистом, по сути, вторым (после председателя Сони Ганди — невестки Индиры) человеком в партии. Виджая Радже умерла в феврале 2001 г., и Мадхав-рао, по индусским законам, зажег погребальный костер, на котором кремировали ее тело. А потом было вскрыто завещание, согласно которому непримиримая мать не только лишала единственного сына доли в наследстве, но и запрещала ему участвовать в обязательных по индусским канонам ритуалах в связи с ее смертью! Туг, правда, политика на некоторое время отступила в тень, и младшие сестры, также получившие меньше, чем рассчитывали, объединились с братом в судебной тяжбе против 81-летнего личного секретаря Виджая Радже, прозванного в Индии «Распутиным». Королевскую семью Непала, безусловно, не могли не смущать замешанные на политике и деньгах скандалы в семействе Синдхия. Но судьба распорядилась по-своему: через несколько месяцев после расстрела Шахов, в сентябре 2001 г., обаятельный и перспективный депутат парламента Мадхав-рао Синдхия погиб в авиакатастрофе.
В тот омытый кровью вечер Дипендра, по рассказам очевидцев, пришел позже других и уже был на взводе. Говорят, что между ним и Айшварьей произошла перепалка, он ушел в свою комнату, выпил полбутылки виски, выкурил две самокрутки с коноплей, позвонил по мобильному телефону Девъяни и сказал ей, что идет спать… На следующий день Девъяни вылетела в Индию, а оттуда — в Москву, где какое-то время жила в доме своей родной сестры, жены индийского бизнесмена с крупными интересами в России.
О непальской трагедии уже пишут книги. Только что вышедшая «Кровь на фоне снега» (здесь снег — символ гималайских восьмитысячников, «крыши мира») Джонатана Грегсона объясняет кровопролитие «синдромом наследного принца», не нашедшего себя не только в любви, но и в жизни вообще. Известный индийский режиссер Дев Ананд готовится к съемкам фильма. А 25-миллионная страна с годовым доходом в 230 долларов на душу населения горюет обо всех погибших — монархах и простых непальцах.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
АТАЛ БИХАРИ ВАДЖПАЙИ
Новый этап в политической истории Индии
В период с 16 февраля по 7 марта 1998 г. в Индии в четыре этапа прошли досрочные выборы в нижнюю палату парламента (Лок сабха), в которых участвовало 62,2 % электората. За 539 (из 545) депутатских мандатов боролись 2622 кандидата, большинство из которых представляли 43 политические партии; 475 человек были зарегистрированы как независимые. Ни одна партия или политическое объединение не сумели получить абсолютного большинства. Наибольшее число мест (179) завоевала «Бхаратийя джаната парти» (БДП), бывшая в оппозиции предшествовавшему правительству Объединенного фронта (ОФ) во главе с Индером Кумаром Гуджралом. Индийский национальный конгресс (ИНК), единолично руководивший страной в 1947–1977 и 1980–1989 гг., провел в высший законодательный орган страны 141 представителя; ОФ получил 100 мандатов. Лидеры ИНК и ОФ не смогли договориться о создании коалиционного правительства, и БДП вместе с союзниками по предвыборному блоку (всего 18 партий) при поддержке независимых депутатов, получив 264 парламентских мандата, т. е. 50 % плюс один голос от 527 (за вычетом из 539 избранников 12 депутатов от партии «Телугу десам», заявивших о своем нейтралитете), превратилась в партию власти. Президент страны К. Р. Нараянан[68] назначил Атала Бихари Ваджпайи, бывшего до выборов лидером парламентской оппозиции, тринадцатым премьер-министром Индии и 19 марта привел к присяге новое правительство, которое 28 марта получило вотум доверия 274 депутатов при 261 высказавшемся против.
Новый премьер-министр Индии самым грустным моментом своей жизни считает день, когда он потерял отца, а самым счастливым — день, когда он выступил на Генеральной Ассамблее ООН на своем родном языке хинди — официальном языке Индии. Цель своей жизни он видит в достижении Индией подобающего ей места в мировом сообществе. Он предпочитает национальную индийскую одежду — курту (длинная белая рубаха) и дхоти (ткань, закрывающая бедра и ноги); любит сладкие каши из бобовых и риса, лепешки с фруктовой начинкой, а также рыбу и китайские блюда. Блистательный оратор, завораживающий слушателей, и талантливый поэт, он написал в одном из своих стихотворений: На высокой горе /Не растут деревья, /Не растет трава, / Не растут цветы. / Собирается только снег, / Белый, как саван, / И холодный, как смерть, / Превращаясь / В игривую, хохочущую реку, / Каплями оплакивает нашу судьбу…/Здесь ни весны, ни листопада / Не бывает. Мрак высоты / И одиночества безмолвие. /Владыка мой, /Не возводи меня на эту высоту, / С которой не смогу я наклониться, / Чтобы щекой прижаться / К щеке другого человека.
Атал Бихари Ваджпайи родился 25 декабря 1926 г. в княжестве Гвалиор (теперь город в составе штата Мадхъя Прадеша). Его отец, Кришна Бихари Ваджпайи, занимал ложность школьного инспектора. Выход на пенсию не убил в нем тягу к знаниям, и он вместе с сыном стал посещать занятия в колледже, где изучал право. Сам Ваджпайи утверждает, что и твердость характера, и поэтическая одаренность, и ораторское мастерство достались ему в наследство от отца, которого он глубоко уважал. Старший Ваджпайи писал стихи на диалектах хинди — брадже и кхари боли (одно из его поэтических произведений до сих пор исполняется в гвалиорских школах как молитва во время общешкольных мероприятий), но и с увлечением читал английскую литературу. Семья Ваджпайи принадлежит к древнему и уважаемому роду каньякубджских брахманов ваджапеи, известных своей ученостью в области традиционного знания — санскрита, философии веданты и ритуальных тонкостей.
. . . . . . . . . .
Термином ваджапея (приобщение к силе/энергии) обозначался ведийский торжественный обряд, совершаемый царем для обретения статуса миродержца. Главным божеством этого ритуала считался Праджапати, тело которого состояло из 17 частей, поэтому священным числом ваджапеи было 17: 17 жертвенных животных, 17 участников ритуального питья хмельного напитка и т. д. Первым этапом ваджапеи была гонка 17 колесниц, в которой, как водится, побеждала колесница царя. Вторую часть обряда составляло восхождение царя по ступенькам на жертвенный столб. Действия обряда знаменовали собой толчок, приводящий в движение природный круговорот и открывающий новый временной цикл под эгидой обновленной сакральной власти. Главный жрец, распоряжавшийся ритуальной процедурой, назывался ваджапеи/ваджпайи. Далекие предки премьер-министра принадлежали к касте таких жрецов; выходцы из этого рода когда-то поселились в области Каньякубдж на левом берегу Ганги (ныне Каннаудж), в городе, основанном в мифологические времена неким Кушнатхом, который был проклят богом ветра Вайю, и у ста его юных дочерей (канья) выросли горбы (кубдж), поэтому его владения стали известны как Каньякубдж.
. . . . . . . . . .
А. Б. Ваджпайи получил образование в колледжах Гвалиора и Канпура, где он изучал преимущественно политологию, и получил степень магистра. Затем он занялся журналистской работой, редактируя одновременно и поочередно несколько ежедневных, еженедельных и ежемесячных изданий на хинди и уделяя много времени общественной и политической работе. В 1942 г. за участие в движении «Вон из Индии!», направленном против английских колонизаторов, был посажен в тюрьму. Он снова был арестован уже в независимой Индии в 1975–1977 гт., во время «чрезвычайного положения», введенного правительством Индиры Ганди, и тогда же написал такие строки: Мы можем сломаться, /Но не склониться.
Впервые А. Б. Ваджпайи баллотировался в нижнюю палату в 1952 г., но потерпел поражение и стал членом парламента только в 1957 г., после вторых всеобщих выборов. Выступая накануне выборов 1998 г. перед парламентской фракцией своей партии, он не без иронии вспомнил, что тогда партия «Джан сангх» (Народный союз) выставила его кандидатом одновременно в трех избирательных округах Уттар Прадеша — в Дакхнау, Матхуре и Балрампуре. В Дакхнау он проиграл, в Матхуре не только проиграл, но заодно лишился и залога (в наши дни каждый участник предвыборной гонки вносит залог в 10 тыс. рупий и лишается его, если набирает менее 1/6 части поданных в округе голосов). Зато в Балрампуре его победа была безусловной, и он практически бессменно провел в парламенте четыре десятилетия, избираясь восемь раз членом нижней и два раза членом верхней палаты (Раджья сабха — верхняя палата, или палата штатов).
В 1977 г. в результате внеочередных выборов в индийский парламент к власти пришел блок «Джаната парта» (Народная партия). Премьер-министром стал 81-летний Морарджи Десаи, а министром иностранных дел — тогда 51-летний Атал Бихари Ваджпайи. Через некоторое время Ваджпайи приехал в Москву; после официальных переговоров с мидовскими коллегами в Доме дружбы была устроена встреча индийского министра с советской общественностью. Все как положено: приветственные речи, аплодисменты, концерт. От студенчества МГУ пылкие слова дружбы на рафинированном хинди произносила я. К концерту высокий гость переместился в первый ряд партера, туда же руководители мероприятия подтолкнули и меня — для комментирования концертных номеров и светской беседы. Во мне боролись смущение (совершенно понятное) и страх: Ваджпайи был известен как член РСС («Раштрийя сваямсевак сангх» — Союз добро вольных служителей нации) и один из основателей партии «Джан сангх»: и то и другое в нашей печати всегда окрашивалось в ослепительно черный цвет национализма и коммунализма. Дисциплинированно поборов смятение чувств, я уже через несколько минут чувствовала себя вполне комфортно: собеседник был мягок, предупредителен, остроумен и ни за что не агитировал.
РСС был создан в 1925 г. в г. Натуре Кешавом Балирамом Хедгеваром, брахманом маратхского происхождения, как организация с жесткой внутренней структурой, ставившая основной целью «строительство индусской нации». Перед смертью в 1940 г. Хедгевар назначил своим преемником также маратхского брахмана Мадхава Садашива Голвалкара, который, в свою очередь, в 1977 г. передал бразды правления опять-таки маратхскому брахману Баласахебу Деорасу. Последний, тяжело заболев, назначил на свое место Раджендру Сингха, выходца из сословия кшатриев Северной Индии, ранее преподававшего ядерную физику в Аллахабадском университете[69]. При вступлении в одну из ячеек союза новобранец приносит присягу следующего содержания: «Перед лицом всемогущего Бога и моих предков я торжественно клянусь в том, что я становлюсь членом РСС для того, чтобы добиваться величия Индии путем укрепления святой индусской религии, индусской общины и индусской культуры. Я буду исполнять работу союза честно и отстраненно, со всем сердцем и душой, и я буду верен своей клятве всю свою жизнь».
Маратхским же брахманом Винаяком Дамодаром Саваркаром была разработана и концепция хиндутвы — «индусскости/индийскости»[70]. Впрочем, автор, будучи атеистом, утверждал, что хиндутва вбирает в себя гораздо более широкий круг представлений, нежели религия индуизма. В 1948 г., после убийства Махатмы Ганди маратхским брахманом Натхурамом Годсе, РСС был запретен, вновь легализован в 1949 г., снова запретен в 1992 г., после событий в городе Айодхъе (разрушение мечети Бабура, построенной на предполагаемом месте рождения бога Рамы, за которым последовали крупные индусско-мусульманские столкновения), и впоследствии вторично легализован в качестве культурной организации, не занимающейся политической деятельностью.
Партия «Джан сангх» возникла в 1951 г. Один из бывших председателей партии — Балрадж Мадхок (позже исключенный за крайность в суждениях) — следующим образом сформулировал установки партии: «Индия — единая страна, и «Джан сангх» будет стремиться к ее воссоединению всеми законными средствами. Народ, живущий в Индии, — это единая нация вне зависимости от касты, веры и места проживания. Эта индийская нация обладает единой культурой, которая исходит от вед в виде непрерывной традиции, воспринимающей и ассимилирующей вклад других народов, культур и вер, пришедших к нации по ходу истории, и этот вклад стал неотличимой частью главного потока»[71]. Получив в 1952 г. три места в Народной палате, в 1957 г. партия завоевала 5,9 % голосов и 19 мест: перешагнув установленный законом о выборах рубеж в 5 %, партия была внесена в реестр Центральной избирательной комиссии с утвержденным избирательным символом — светильником. В 1977 г. на досрочных парламентских выборах после отмены чрезвычайного положения (1975–1977) Индийский национальный конгресс, бессменно находившийся у кормила власти с момента получения страной независимости, и тогдашний премьер Индира Ганди потерпели сокрушительное поражение. К власти пришла «Джаната парти» — коалиция разнородных партий, среди которых был и «Джан сангх». В 1980 г. ИНК и Индира Ганди снова одержали победу, а «Джан сангх» вышел из коалиции и, ведомый новыми лидерами — А. Б. Ваджпайи и Д. К. Адвани (тогда председатель партии), сменил название на «Бхаратийя джаната парти» (БДП, Индийская народней партия) и символ — на лотос.
В 1996 г., после одиннадцатых парламентских выборов, А. Б. Ваджпайи был назначен главой однопартийного правительства меньшинства, но спустя 13 дней это правительство ушло в отставку, даже не поставив в парламенте вопрос о получении вотума доверия (таким образом Ваджпайи побывал и десятым индийским премьером). В те же дни в авторитетном издании «Индиа тудэй» появилась статья под названием «Голубь среди ястребов», в которой, в частности, говорилось: «Умеренные взгляды Ваджпайи и его вкус к хорошей стороне жизни выделяют его среди других лидеров БДП, разделяющих его прошлое в РСС». Там же приведены слова изгнанного из БДП Балраджа Мадхока: «Премьерство Ваджпайи означает катастрофу для страны, поскольку в основе своей он конгрессист (т. е. сторонник секулярных взглядов ИНК. — И. Г.)». И далее цитируется сам Ваджпайи: «Моей самой большой ошибкой было то, что я вошел в политику. Это создало какую-то странную опустошенность в моей жизни». Ваджпайи считается сторонником мягкой хиндугвы, он религиозен без исступления и больше напоминает традиционного пандита, блистательно владеющего классическим знанием. Цитаты из эпических поэм «Махабхарата» и «Рамаяна» — непременный компонент его выступлений.
Один из давних знакомцев Ваджпайи рассказывает: «Впервые я встретил его в 1944 г. В Университете г. Аллахабада происходил конкурс ораторов, и в самом конце, когда жюри уже подводило итоги, в аудитории появился запыхавшийся молодой человек. Он объяснил, что приехал из Лакхнау специально для участия в конкурсе, но поезд опоздал, и просил, чтобы его заслушали. Жюри смягчилось, Атал-джи (джи — уважительная частица. — И. Г.) начал выступление, и через десять минут был признан безусловным победителем».
Поэзию Ваджпайи, насквозь пронизанную темой нации и родины, можно охарактеризовать как гражданскую лирику. Форс-мажорные обстоятельства и конфликтные ситуации в жизни Ваджпайи только стимулируют поэтический адреналин и результируются в выбросе новой продукции. Мне нравится его верлибр — при активном использовании традиционной индийской образности он не боится снять с нее лаковый покро времени и пристально взглянуть на безусловные мифологические авторитеты, устанавливая перекличку времен через константу человеческой низости и корысти: Кто Кауравы, а кто Пандавы?/Вопрос непростой. /В обе стороны Шакуни / Сеть обмана раскинул. /Парь закона не бросил /В кости играть дурной привычки. /В каждом собрании/Драупади подвергается унижению. /Без Кришны сегодня/Будет вершиться битва. /Кто бы ни выиграл, /Плакать будет бедняк.
. . . . . . . . . .
Кауравы и Пандавы — герои древнеиндийского эпоса «Махабхарата» («Великая индийская битва»), двоюродные братья, соперничающие в борьбе за власть. Обе стороны прибегают к услугам нечистоплотного Шакуни, который в решающий момент подыгрывает Кауравам, но это оказывается возможным потому, что Юдхиштхира (старший из Пандавов) — «Царь закона», известный своей справедливостью, сжигаем страстью к игре в кости. В итоге Юдхиштхира проигрывает царство, своих братьев и общую жену — Драупади. Последнюю Кауравы пытаются обнажить при большом стечении людей, но под каждой снятой одеждой у нее оказывается новая. В результате после многих перипетий Кауравы и Пандавы сошлись на поле битвы, во время которой бог Кришна, иногда откровенно вероломно, помогал Пандавам.
. . . . . . . . . .
В более редких пейзажных зарисовках Ваджпайи смягчается, как это обычно происходит с ним, когда он, поэт, остро ощущающий особую прелесть одиночества, оказывается в горах, например в любимом местечке Манали в Гималаях: В небе молний больше,/ Чем света в доме./Круги телефон, сколько хочешь,/Молчит все равно./ Снегом покрыты гирлянды гор,/реки, речушки, леса./ Страна музыкантов небесных,/ Где забавляются боги./ Зеленый-зеленый миндаль,/На соснах шишки полны семян,/Горячие серные источники — Ищи утерянную драгоценность./ Обе руки распростерла/Манали, тебя зовушая./ Манали, ты друг, подобный/ Охлаждающему аромату сандала в лесу.
А. Б. Ваджпайи — брахмачари, что не совсем точно переводят как «холостяк». На самом деле так называется человек, проходящий одну из обязательных стадий жизненного цикла индусов, когда все силы и помыслы отдаются достижению знаний и движению к намеченной цели при воздержании от плотских радостей. Подобное удержание энергии, приводящее в соответствии с классическими представлениями индуизма к наращению интеллектуального и духовного потенциала, практиковалось индийскими мудрецами и отшельниками, а также рядовыми мирянами в древности и средневековье и практикуется до наших дней. Наиболее радикальный пример подал Махатма Ганди, семейный человек, сознательно отказавшийся от радостей супружества в 40 лет.
Ваджпайи не женат, но, хотя это и мало кому известно, он — не одинокий человек. У него есть приемная дочь Намита. Бенгалец Ранджан Бхаттачарья, с 1983 г. ее муж, стал захаживать в дом Ваджпайи с 1977 г. По его словам, на протяжении долгого времени отношения между ним и Ваджпайи были строго официальными. Ваджпайи, вероятно, нарочно удерживал дистанцию и «периодически забывал имя» поклонника Намиты, называя его то Банерджи, то Мукерджи, типичными бенгальскими фамилиями, а потом закрепил за ним прозвище «бенгальский бабу (господин. — И. Г.)». В последние годы Бхаттачарья сопровождает Ваджпайи во время поездок по стране, но нынешний премьер с самого начала недвусмысленно дал ему понять, что его роль — чисто техническая. В этом сюжете показательны два момента: Намита сама определила своего избранника (в Индии обычно матримониальными делами занимаются родители) и выбрала человека другой — не хиндиязычной — культуры.
Ваджпайи обожает кулинарничать: в 1960-х, когда он жил под одним кровом с несколькими друзьями и дела по дому были поделены между всеми, он с готовностью взял на себя обязанности повара. Теперь, естественно, на это не остается времени. Его рабочий день начинается рано — сначала он совершает длительную прогулку с любимыми собаками, правда, теперь, когда годы дают о себе знать, он в основном ограничивается просторами сада, окружающего его дом в Дели. Затем просматривает газеты. К критике относится здраво, хотя, по сообщениям из близкого окружения, время от времени и по разным поводам подвержен вспышкам гнева. Он любезен и всегда внимательно слушает собеседника, но может прикрыть глаза, если монолог затянулся или чересчур монотонен, но и с закрытыми глазами он остается начеку: у него быстрая и четкая реакция.
Индийские аналитики утверждают, что А. Б. Ваджпайи представляет собой уникальное явление в политической жизни Индии. И причина не только в его политическом долголетии или в том, что он кавалер ордена Падма Бхушан — третьей по значению государственной награды Индии, а два года назад был удостоен награды «Лучший парламентарий» (после успешного визита в качестве главы индийской делегации в Женеву на заседание Комиссии по правам человека), и не в харизме джентльмена, поэта и оратора, но и в том, что у него одна-единственная любовь на всю жизнь — Индия, и ради нее он способен подниматься над собственными пристрастиями.
В оценке его деятельности на посту министра иностранных дел (1977–1979) сходятся и друзья и враги: она была успешной, и именно тогда многим открылось, что он не только политик, но и государственный деятель. Во внешней политике он привержен принципу неприсоединения, но объявил приоритетным направлением отношения с ближайшими соседями. Он нанес официальный визит в Пакистан, нашел верный подход при обсуждении животрепещущих проблем и взаимных претензий, отвечая на вопросы журналистов на хорошем урду (государственном языке Пакистана). Отношения между Индией и Пакистаном снова ухудшились в 1980 г., когда в дополнение к грузу многолетних тяжб прибавились различные оценки странами ввода советских войск в Афганистан.
Ваджпайи, безусловно, рассчитывает каждый свой шаг. Для него быть политиком — это и тяжелая ежедневная работа, и стиль жизни. Он не только искусный политический тактик и стратег, но и артистическая личность. Вот как один из журналистов описывает его выступление во время последней предвыборной кампании: «Голос Ваджпайи пополз вверх: «Выборы— это биение сердца демократии!!!» Пауза, голос становится тише, и аудитория замирает. «Но если сердце бьется чересчур быстро, оно может не выдержать!» — собравшиеся взрываются возгласами одобрения». Ваджпайи как-то сказал, что «Конгресс (ИНК. — И. Г.) без власти — все равно что задыхающаяся без воды рыба», но он сам вне политических баталий окажется похожим на такую же рыбу, хотя, кокетничая в минуты раздражения, грозится «принять санъяс», т. е. отринуть земные привязанности, обзавестись посохом и сосудом для воды и стать безразличным к своей плоти бездомным странником, соблюдающим молчание. В его арсенале есть и такое испытанное средство, как «голодовка насмерть». Последний раз он прибегал к нему в феврале 1998 г., в знак протеста против решения Ромеша Бхандари, губернатора Уттар Прадеша, распустить правительство штата, возглавляемое Кальяном Сингхом, членом БДП. По словам самого Ваджпайи, он протестовал против «оскорбления Конституции в Уттар Прадеше». После того как Верховный суд принял беспрецедентное решение вернуть разогнанное правительство до рассмотрения этого вопроса в Законодательной ассамблее соответствующего штата, Ваджпайи через два с половиной дня голодовки вы пил стакан сока, поданный внучкой, дочерью Намиты. (К слову, едва стало ясно, что быть Аталу Бихари Ваджпайи премьер-министром, незадачливый Ромеш Бхандари моментально подал в отставку.)
Ваджпайи называют «мужчиной черчиллевской закваски», отмечают его способность «зрить в корень», и многие соперники считают его «оппонентом, но не врагом». Рассказывают, что Джавахарлал Неру как-то заметил, показывая на еще юного Ваджпайи: «Этот молодой человек нередко критикует меня, но я вижу за ним большое будущее». Кхушвант Сингх, известный писатель и едкий журналист, застрельщик многих политических и даже культурных баталий в индийском обществе, считает, что на сегодня А. Б. Ваджпайи — наиболее приемлемый политик на посту премьер-министра страны. Отмечая его высокие качества (в том числе честность, неприверженность семейно-родственным связям, непричастность к скандалам по обвинению в коррупции), К. Сингх единственным минусом Ваджпайи признает его связь с РСС и заключает: «Большинство политиков уродливы и непривлекательны. Однако при всех моих политических разногласиях с м-ром Ваджпайи я нахожу его лицо красивым, а характер притягательным».
А. Б. Ваджпайи будет действительно нелегко. До сих пор не завершено следствие в отношении Д. К. Адвани (ставшего министром внутренних дел в правительстве, возглавляемом Ваджпайи)[72] и упомянутого выше Кальяна Сингха по делу о «подстрекательстве к разрушению мечети в Айодхъе». А вот, например, что заявил Манохар Дзоши (кстати, маратхский брахман), член БДП и главный министр штата Махараштры[73], на предвыборном митинге в присутствии 10 тыс. человек: «После того как Ваджпайи-джи станет премьер-министром, я попрошу его начать войну с Пакистаном в третий и последний раз. Пусть Индия нанесет Пакистану окончательный удар. Их нужно проучить так, чтобы Кашмир был навсегда забыт». (Дзоши забыл историю — три индо-пакистанских войны уже были. — И. Г.) И далее спросил, хотят ли собравшиеся, чтобы в Дели был Рам (т. е. «царство бога Рамы» — воплощение идеального социального устройства) или Рим (намекая на итальянское происхождение Сони, вдовы Раджива Ганди, активно включившейся в предвыборную борьбу на стороне ИНК). К слову сказать, в Махараштре, внутреннее правительство которой сформировано коалицией БДП и местной партии «Шив-сена» («Армия Шиваджи» — в названии использовано имя национального героя маратхов Шиваджи), оглушительную победу на выборах одержал ИНК, вместе со своими союзниками получив 40 из 48 мандатов. Опять же к слову, вдова Санджая, другого сына Индиры Ганди, Манека Ганди получила место в нынешнем парламенте в качестве независимого кандидата, впоследствии поддержала БДП и в результате приобрела портфель государственного министра.
Интересно, что на мартовском (1998 г.) принятии присяги нынешним правительством (43 члена) присутствовали два бывших президента (Ш. Д. Шарма и Р. Венкатараман) и пять бывших премьер-министров (В. П. Сингх, Чандра Шекхар, П. В. Нарасимха Рао, Х. Д. Деве Гауда и И. К. Гуджрал) — в Индии все-таки сохраняется пиетет перед «бывшими», и они друг с другом общаются по-человечески, т. е. в соответствии с демократическими нормами (в случае смерти любого из «бывших» объявляется всеиндийский день траура). Объявленная на последовавшем мероприятии «Национальная повестка дня» (меморандум о намерениях нового правительства), по замечаниям индийских аналитиков, представляла «дистиллированную версию предвыборного манифеста БДП минус пункты, относящиеся к хиндугве». По-моему, это личная победа А. Б. Ваджпайи. Параграф о «подлинном секуляризме» признает обязательства относительно «равного уважения ко всем религиозным общинам»[74] и не упоминает излюбленного тезиса БДП о «недопустимости заигрывания с меньшинствами». Убран пункт об Айодхъе (о строительстве храма бога Рамы на месте разрушенной мечети), исчезло требование об аннулировании 370-й статьи Конституции (об особом статусе штата Джамму и Кашмир — камня преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном), снят вопрос о разработке Общегражданского единого кодекса (сейчас различные конфессии в области частного права пользуются своими нормами).
Одновременно с этим БДП в торжественный момент отказалась от знаменательной символики — шарфы, накинутые на плечи победителей, были не шафранового цвета, ассоциирующегося с неистовым индуизмом, а белые, с цветной продольной каймой. И сама «Повестка» была обернута в бумагу с зелено-розовым, а не густо-оранжевым орнаментом. Отвечая на вопросы собравшихся, премьер-министр сказал: «У меня нет припрятанной «Повестки», отменяющей или не согласующейся с «Национальной»… Выбросьте мысли на этот счет из головы… Покуда я премьер-министр, будет существовать только «Национальная повестка»». Впрочем, есть и перекличка с манифестом БДП — намерение «еще раз обсудить ядерную политику и в случае необходимости реализовать право на ядерный выбор»[75], обещание «пересмотреть Конституцию в свете опыта последних 50 лет», обязательство «продолжить политику реформ, но с твердой опорой на свадеши», т. е. на собственное предпринимательство, а также обещание провести законодательным путем указ о предоставлении 33 % мест в выборных органах женщинам. Новый премьер также сказал: «Несмотря на обладание достаточными природными ресурсами, большинство наших соотечественников остаются бедными. Они лишены возможностей улучшить свою жизнь. Я знаю условия их жизни, я сам прошел через это…» И добавил: «Многое из того, что я сказал, может выглядеть неубедительным, поскольку предыдущие правительства имеют печальный послужной список в этом отношении. Кое-что из сказанного может выглядеть просто мечтаниями, особенно в свете прежних неисполненных обещаний. Несмотря на это, я публично заверяю, что мы будем придерживаться обещаний, с которыми выступаем сегодня. Разве не было сказано кем-то, что если не мечтать, то как мечты обратятся в реальность?»
Атал-джи полностью оправдал данное ему при рождении имя: «Неотступающий», второй постоянный семейный компонент — «Бихари» означает «Находящийся в движении, наслаждающийся» и тоже вполне соответствует натуре нынешнего премьера — ценителя музыки, танцев, поэзии, а также хорошей карикатуры, заядлого путешественника и любителя сбегать в киношку (на индийский фильм, разумеется). Какова будет амальгама этих значений для будущего более чем 900-миллионной[76] полиэтнической и поликонфессиональной демократии, ни на кофейной гуще, ни обрывая лепестки лотоса, гадать не берусь. Поживем — увидим.
Послесловие. Это эссе написано в мае 1998 г. С той поры было выпито много кофе и облетели лепестки сотен тысяч лотосов. Но по-прежнему плодоносят кофейные плантации и радуют взор свежие бутоны, а значит, жизнь продолжается.
Быть премьер-министром Индии — тяжелая работа, и я не хочу здесь давать беглую и легковесную характеристику пяти тяжелейшим годам, на протяжении которых Аталу Бихари Ваджпайи удавалось оставаться на главном посту самой большой в мире демократии. В 1999 г. он подавал в отставку и в стране проводились внеочередные выборы, в самом правительстве не один раз происходили перестановки, БДП сотрясали громкие скандалы — она теряла и вновь получала поддержку в разных индийских штатах, а Ваджпайи приходилось балансировать между правящей коалицией и оппозицией, между твердолобыми ортодоксами и либерально настроенными членами собственной партии, между собственной партией и партнерами по коалиции. Примечательно, что самой острой и бескомпромиссной критике он подвергался не от оппозиции, а от РСС, с которого начался его путь в большую политику («Я пришел туда, чтобы заниматься спортом, а не из идеологических соображений», — сказал он однажды). Хотя именно он стал первым премьер-министром, посетившим штаб-квартиру РСС в Натуре и возложившим венок к портрету К. Б. Хедгевара.
Ваджпайи — немолодой человек; несмотря на перенесенные операции, нот плохо слушаются его, поэтому иногда кажется, что он плывет в замедленном ритме, но, как часто бывает, видимость порождает иллюзии. Совершенно очевидно, что для нынешнего премьера приоритетным является положение Индии на международной арене: он занимается внешней политикой дотошно и со вкусом, не упуская ни одной возможности озвучить то, что представляется ему первостепенным. Пран Чопра, один из старейших индийских журналистов, думает, что «со смерти Неру ни один из премьеров не был больше похож на него, чем Ваджпайи», что Ваджпайи, «как и Неру, понимает, что Индия представляет собой плюралистическое общество», что он «гуманист и предан демократическим ценностям». Но он же считает, что «до Неру фигура Ваджпайи не дотягавает, хотя заметно возвышается над всеми, кто его окружает». Д. Р. Гойял, пламенный пропагандист хиндутвы и автор книга о шафрановом братстве, убежден, что «Атал Бихари Ваджпайи — непревзойденный мастер двусмысленных выражений, его высказывания можно интерпретировать и так и этак, что его и спасает». Во время одного выступления перед индийской диаспорой в США он назвал себя преданным сваямсеваком — словом, прочно ассоциирующимся с коммуналистской напористостью РСС, а по возвращении в Индию, где это выражение главы поликонфессиональной страны вызвало негодование, объяснил, что имел в виду слово в его первозданном смысле — «слуга нации». В разных обстоятельствах он давал разную оценку ситуации вокруг Айодхъи и событиям в Гуджарате. Ни для кого, впрочем, не секрет, что долголетие в политике определяется умением вертеться. И. К. Гуджрал придерживается такого мнения: «Нужно отдать ему должное. Я возглавлял 16-партийную коалицию, он — 24-партийную. Это — первое неконгрессистское правительство, которое продержалось столько времени».
За прошедшие пять лет проблем в Индии не стало меньше; да и в Южной Азии в целом, где обитают ближайшие соседи, по-прежнему все неспокойно. Отношения с Пакистаном постоянно балансируют на грани, переход которой обернется крахом для обеих стран. Но миллиардная Индия крепнет в экономическом отношении, уверенно осваивает ядерную отрасль и космос и неудержимо манит к себе всех, кто еще не был в этой стране. И еще больше тех, кто там побывал. 9 июля 2003 г. Атал Бихари Ваджпайи выступил с докладом на Межминистерской конференции «Диалог между цивилизациями: поиск новых перспектив», организованной в Дели правительством Индии совместно с ЮНЕСКО. Патриарх был лаконичен и четок в формулировках — у делегатов, среди которых была и я, появилась надежда, что перспективы будут обнаружены.
ВАСИЛИИ ОСКАРОВИЧ КЛЕММ
К 100-летию открытия
консульства России в Бомбее
Более 40 лет затратило Министерство иностранных дел России на то, чтобы преодолеть упорство английской стороны и открыть представительство в «жемчужине Британской короны» — Индии. Впервые этот вопрос был поднят в конце 50-х годов XIX в.: XV статья подписанного двумя странами в 1859 г. «Трактата о торговле и мореплавании» создавала юридическую базу для шагов в этом направлении. Международная атмосфера, однако, еще не остыла после Крымской войны (1853–1856) и антибританского восстания в Индии (1857–1859), и, озабоченная укреплением своей власти в колонии, Великобритания не отозвалась на инициативу российской дипломатии. Далее почин подхватил генерал-губернатор Лифляндии, Эстляндии и Курляндии барон В. К. Ливен, который, в целях содействия рижским торговым домам, в письме от 1 июня 1863 г. в Азиатский департамент МИД ходатайствовал о назначении рижского купца Б. Х. Гримма, проживавшего в Бомбее, тамошним российским консулом. В треугольнике Петербург-Лондон-Калькутта (тогдашняя столица Британской Индии) наметилось оживление.
Поскольку дипломатическая деятельность неуклонно базируется на этикете и паритете, после длительных проволочек в 1875 г. стала известна иена взаимности — открытие Британского генконсульства в Тифлисе. Императорское правительство, впрочем, уведомило английскую сторону, что ранг «генеральный» жалуется только «лимитрофным», т. е. пограничным, державам (в данном случае — Турции и Персии), и Высочайшим указом Правительствующего сената от 31 мая 1876 г. признало ординарного британского консула в Тифлисе.
Однако упорная противница России в исторических передрягах второй половины XIX в. не спешила выполнять свою часть договора. Уже началась «большая игра» — активное противостояние двух империй в Средней Азии. В «туманном Альбионе» сменившие либералов консерваторы не считали себя связанными обещаниями предыдущего правительства, и 2 июня 1879 г. вице-король Индии Э. Р. Литтон отправил депешу в Форин Офис: «Я испытываю самые решительные возражения против назначения российского консула в Бомбей». Испуг объяснялся тем, что «Бомбей, как известно, стал местом ежегодных встреч недовольных элементов, заговорщиков и интриганов из всех районов Индии»[77], и вице-король предчувствовал, что последуют «преувеличенные донесения о недовольстве наших подданных и нестабильности нашего правления». Учитывая среднеазиатскую проблематику, Литтон прямо писал, что взамен Бомбея надо требовать Ташкент или Самарканд. Решительность вице-короля была дополнительно спровоцирована сообщениями чиновников британского посольства из Петербурга, обнаруживших в официальной российской публикации данные о том, какой оклад положен… генеральному консулу России в Бомбее. В Лондон снова полетело письмо от удивленного Литтона: «…посылка российского консула в какой-либо район Индии именно в этот момент может быть деструктивна. И все наши общие возражения против российского консульства в Индии в еще большей степени относятся к его размещению именно в Бомбее…» Чтобы не допустить создания «средоточия политических интриг», предлагалось даже упразднить уже функционировавшее британское консульство в Тифлисе.
Дипломатическое фехтование (и прежде всего попытки вынудить русских первыми отказаться от этой идеи) продолжалось. Всплыло имя некоего Френсиса Вуйона, представителя парижской компании по учету векселей в Бомбее, который мог бы взять на себя функции российского консула. Назначение вроде бы состоялось, и индийское правительство под предлогом предстоящего признания… лишило беднягу Бульона (в русской документации он фигурирует и под таким антропонимом) даже «того участия в местных делах, которое ему принадлежало как представителю местного банка». Русские дипломаты, однако, получив дополнительный импульс от Генерального штаба, продолжили розыгрыш «французской карты».
27 июня 1885 г. военный министр П. С. Ванновский с солдатской прямотой обратился к Н. К. Гирсу, министру иностранных дел: «В настоящее время Военное министерство имеет в Азии только одного военного агента при миссии нашей в Пекине, из Тегерана Штаб Кавказского округа получает кое-какие сведения от наших инструкторов, следить же за тем, что происходит в Индии, мы лишены всякой возможности…» В том же письме содержалось остроумное предложение об учреждении российского консульства в Пондишери (французской колонии на территории Индии) «с тем, чтобы на должности консула и его секретаря были назначены офицеры, переименованные предварительно в гражданские чины». В развитие сюжета российский посол во Франции барон А. П. Моренгейм отправился к тамошнему министру иностранных дел Ш. Л. де Фрейсине. Последний, всячески уклоняясь от решения щекотливого вопроса, перебросил проблему морскому министру по делам колоний Ш. Е. Галиберу. Тот поколебался, просчитывая неизбежность осложнений и без того непростых отношений с Англией, но все-таки согласился, поставив условием официальный запрос российской стороны и умеренность, «особенно на первых порах, выбора на этот пост лица как можно менее по выдающемуся своему положению и назначению способного сразу возбудить подозрительность англичан…» Архивы (или архивариусы) умалчивают о том, как и почему застопорился этот сюжет.
Между тем консульство Ее Королевского Величества в Тифлисе, просуществовавшее до 1881 г., было разменяно на два вице-консульства — в Батуми и Новороссийске, но в 1888 г. британцев потянуло обратно при полном нежелании уступать Бомбей: «У российского консула в Бомбее не будет нормальных консульских обязанностей, так как практически торговли с Россией нет. Он был бы фактически политическим представителем российского правительства, и в этом качестве, не имея возможности делать добро, он будет несомненно обладать возможностями приносить вред». Англичане лукавили в отношении торговых связей — кое-что было; кроме того, через бомбейский порт ежегодно отправлялись в Мекку тысячи мусульманских паломников, подданных Российской империи, и к тому же практически все ведущие державы Западной Европы имели там свои представительства. За лукавством скрывался страх перед установлением прямых российско-индийских связей: одним из элементов «большой игры» было создание непривлекательного и опасного образа России.
Скоро сказка сказывается… В 1897 г. Николай II собственноручно начертал на записке военного министра: «Вопросу о консульствах в главнейших городах Индии я придаю большое значение». Российская дипломатия поднатужилась, а на горизонте Англии замаячила тень новой соперницы — Германии, и наконец 11 августа 1899 г. Р. А. Солсбери, тогдашний глава Форин Офис, передал российскому посланнику в Лондоне П. М. Лессару положительный ответ. Занявший в том же году пост вице-короля Индии лорд Д. Н. Керзон, известный русофоб, был взбешен! Он телеграфировал государственному секретарю по делам Индии лорду Д. Ф. Гамильтону: «Мы настаиваем, если еще не поздно, чтобы российский консул в Бомбее… не именовался генеральным… Российский консул, который уже назначен, является хорошо известным мне человеком по делам Центральной Азии, который, конечно, послан в Бомбей не только для коммерческих целей». Через некоторое время Василий (Вильгельм) Оскарович фон Клемм прибыл в Бомбей. Это была репетиция «нашего ответа» лорду Керзону.
Клемм (род. в 1861 г.) был профессионалом высочайшего класса. Во-первых, он получил востоковедное образование в Лазаревском институте восточных языков и на учебном отделении восточных языков при Азиатском департаменте МИД, куда был впоследствии зачислен на работу. Во-вторых, он прошел основательную дипломатическую практику сначала как драгоман Политического агентства в Бухаре, а потом как чиновник МИД для пограничных сношений при начальнике Закаспийской области. Именно поэтому, еще не приступив к исполнению обязанностей, он подал докладную записку своему непосредственному начальству: «При учреждении нашего Генерального консульства в Бомбее в личный состав его не была включена должность штатного драгомана…» Далее Василий Оскарович разъяснял, насколько важно на Востоке владеть местными языками. Его доводы возымели действие, и вскоре после прибытия в Бомбей самого Клемма там оказался и Александр Иванович Выгорницкий (род. в 1868 г.), овладевший языком хиндустани (урду) на офицерских курсах в Бухаре (с помощью брошюры «Приключения четвертого дервиша из поэмы Баго-Бахар») и затем отточивший его на практике в Индии.
Между тем с берега Аравийского моря в Санкт-Петербург полетело сообщение вице-директору Первого департамента МИД Н. Г. Гарт-вигу: «Милостивый Государь Николай Генрихович! В дополнение к телеграмме моей от сего числа имею честь донести, что, прибыв в Бомбей через Коломбо и Мадрас 9 ноября (22-е по новому стилю. — И. Г.) 1900 г., открыл в тот же день в этом городе Российское Императорское Генеральное консульство». Василий Оскарович еще не знал, что за звание «генерального» последует долгая и упорная пятилетняя борьба. Но и российские дипломаты уже не торопились выдавать экзекватуру на открытие британского консульства в Баку.
Направления работы В.О. фон Клемма в Индии были четко обрисованы в инструкции за подписью министра иностранных дел графа В. Н. Дамздорфа: «Основное значение для нас Индии заключается в том, что она представляет собой наиболее уязвимый пункт Великобритании, тот чувствительный нерв ее, одно прикосновение к коему, в случае надобности, способно, быть может, заставить правительство королевы изменить враждебное нам настроение его политики и проявлять желаемую уступчивость во всех тех вопросах, где будут сталкиваться обоюдные интересы». Василий Оскарович, несмотря на про хладный прием со стороны колониальных властей, принялся за работу не раскачиваясь. Круг его интересов был невероятно разнообразен, он обладал цепким умом, превосходными аналитическими способностями и широкой эрудицией: отправляемые им в российский МИД подробные отчеты страноведческого, экономического, политического и военного характера до сих пор читаются как детектив. Вникая в производственные и транспортные тонкости, он актив) ю содействовал экспорту российских товаров в Индию, заботился о российских подданных на территории Индии (в том числе о штабс-капитане А. П. Шульженко, сражавшемся на стороне буров в Южной Африке и содержавшемся в плену в Индии), отправлял семена хинного дерева на Сухумскую опытную станцию и налаживал практическое изучение индийских языков в России, находя для этих целей толковых преподавателей. Он неустанно бился за корректный образ России в умах «туземцев», был на дружеской ноге с индийскими князьями и интеллигенцией, приятельствовал с влиятельным Д. Д. Фрезером, редактором газеты «The Times of India», и — вероятно, это было основным — талантливо занимался разведывательной деятельностью. От его внимания не ускользали ни один из фактов передислокации англо-индийских войск и деятельность английских дипломатов в Афганистане и Тибете — «большая игра» продолжалась.
Британско-индийская администрация ни на секунду не спускала глаз с Клемма. Его прислуга (как канцелярская, так и личная) рапортовала полиции о каждом его шаге, осуществляя хронометраж его контактов («В 9 часов утра г-н Клемм ушел из гостевого дома во дворец и оставался там до 11 часов. Что он делал там — неизвестно»), приходящая почта носила следы бесцеремонного вскрытия, на его передвижение по стране англичане практически наложили запрет (зато много путешествовал, сопровождая клеммовских детей с их няней, А. И. Выгорницкий, чье военное прошлое англичане как-то упустили из виду). Особую ярость у англичан вызывало то, что свою семью В.О. фон Клемм поселил в то время в курортном городе Пуне (в 180 км от климатически тяжелого Бомбея), где и сам проводил немало времени. Их негодование было вполне оправданным: в Пуне располагался крупный военный гарнизон, и туда (на период муссонных дождей) перебирался не только бомбейский губернатор, но и иностранные дипломаты из разных частей Индии. Этим, однако, привлекательность Пуны для Клемма не исчерпывалась: именно этот город в начале XX в. был в эпицентре уже зародившегося и набиравшего силу индийского национально-освободительного движения, здесь жил Бал Гангадхар (Локаманья) Тилак — лидер экстремистского крыла партии Индийский национальный конгресс, выступавшего за изгнание англичан из страны, и редактор двух популярных газет — «Махратта» (на английском) и «Кесри» (на языке маратхи).
Архивные документы замечательно иллюстрируют характер взаимоотношений Клемма и Тилака, имевших своим результатом устройство отставного капитана колониальных войск Мадхава Дзадхава в престижнейшую военную академию в швейцарском Ивердоне. Когда первый индиец уже получал высшее военное образование, передаваемые Тилаком на его содержание и обучение деньги Российской миссии в Берне пересылал Клемм. Лорд Керзон раздраженно телеграфировал в Лондон: «Нельзя ли оказать давление на консула, чтобы семейные дела не мешали ему постоянно пребывать в Бомбее, как всем другим консулам?» Англичане действительно хотели избавиться от настойчивого и удачливого Клемма, но предпочитали сделать это без дипломатических осложнений. В секретном меморандуме, направленном в Лондон 27 мая 1905 г., посол Великобритании в Санкт-Петербурге предлагал повод: «Господин Клемм слабого здоровья, он давно получил бы назначение в более подходящее для него место, если бы такое было для него найдено». А слабый здоровьем Клемм, не поддавшись даже чуме, бушевавшей в Индии на рубеже двух столетий, проработал в Бомбее до 1906 г. Потом он был генеральным консулом в Мешхеде (Иран), до 1917 г. возглавлял Третий (Среднеазиатский) политический отдел МИЛ, был дипломатическим представителем Колчака во Владивостоке; следы его теряются в Китае.
В 1908 г. Петербург поставил вопрос о переводе консульства из Бомбея в Калькутту, поближе к англо-индийскому правительству. Поскольку «большая игра» продолжалась, британские власти ответили любезным согласием… в 1910 г., за несколько месяцев до переноса индийской столицы из Калькутты в Лели. Отгрохотал бурный XX век, и в 2000 г. Генеральное консульство России в Бомбее отпраздновало свой 100-летний юбилей в новом здании, несколько лет тому назад построенном на месте экзотической, но обветшавшей деревянной постройки, принадлежавшей когда-то княжеской семье из Гуджарата. Российский флаг реет на самом берегу Аравийского моря.
РАДЖКУМАР И ВИРАППАН
Похищение индийского кумира
У каждого народа есть свои герои. В Индии таковыми являются боги и актеры кинематографа. А если последние прославились изображением первых, то грань между двумя категориями стирается вообще и харизма небожителя сопровождает актера даже вне экранной жизни. За плечами 73-летнего Раджкумара 205 фильмов: мифология сменялась историей, мелодрама трагедией, но его образцовые герои неизменно переполняли восторгом и трепетом сердца зрителей. В Карнатаке, южноиндийском штате, где живут каннадаязычные индийцы (каннадига), все еще бодрый и социально активный Раджкумар является национальным достоянием, он — «каннадигское все».
30 июля 2000 г. в загородном доме Раджкумара в селении Ганджануре, расположенном в соседнем штате Тамилнаду, у подножия покрытых непроходимыми джунглями гор, разыгрался чисто кинематографический сюжет. В гостиную, где после ужина расположился Раджкумар с женой и несколькими друзьями, вошла группа вооруженных людей. Их лидер, в котором все моментально признали известного бандита Вираппана, по национальности тамила, предложил Раджкумару и троим из присутствовавших следовать за ним. Еще через секунду вся компания скрылась в густой темноте.
Имеющий обыкновение наносить удар в новолуние (неблагоприятный по индусским понятиям день), Вираппан не изменил себе и в этот раз. Приближающийся к своему 60-летию, он считается властелином Малемадешваровской чащобы, занимающей около 2 тыс. кв. км на территории сразу двух штатов — Карнатака и Тамилнаду: в этих девственных местах он живет последние 50 лет в окружении преданных ему людей, наводя страх на лесные племена и жителей окружающих чащобу деревень. За Вираппаном числится 138 жертв (в том числе 32 полицейских и 10 лесников), 2 тыс. убитых слонов, 20 т контрабандной слоновой кости и на 1 млрд, рупий проданного сандалового дерева. Против него возбуждено 75 уголовных дел, и полиция двух штатов ежегодно расходует огромные средства на содержание полицейских отрядов, безуспешно охотящихся за убийцей и браконьером.
Как только Парватхамма, жена Раджкумара, нашла в себе силы дотянуться до телефона, у всего Карнатака разорвалось сердце. Сначала в Бангалоре, столице, а потом по всему штату начались стихийные митинги протеста, переросшие в неуправляемые беспорядки, нацеленные против проживающих в Карнатаке тамилов. Правительство вывело на улицы все силы правопорядка, объявило в столице сухой закон, продлило школьные и студенческие каникулы и попросило население сохранять спокойствие. Зная по предыдущим случаям, что Вираппан отслеживает информацию о собственных подвигах по транзисторному приемнику, Парватхамма вместе с сыновьями обратилась к нему по Всеиндийскому радио с просьбой не причинять вреда заложникам. Шесть лет назад Вираппан решил сдаться властям, требуя взамен полную амнистию и денежное обеспечение, и отправил своего брата Арджунана на переговоры. Власти Тамилнаду схватили эмиссара и переправили в Карнатак, где он вскоре умер в тюрьме при неясных обстоятельствах. Это потрясло Вираппана, и в нем заклокотала ярость против родственного народа — и тамилы, и каннадига принадлежат к общему дравидскому этносу. «Он не простил Карнатак за то, что произошло с его братом», — произнес горькую истину С. М. Кришна, главный министр Карнатака. Впрочем, Вираппан, чтобы привлечь внимание к своему предложению, уже прибегал к захвату людей, однако власти обоих штатов не поддались нажиму. И тогда стареющий бандит осознал, что торговля уместна, если в руках находится добыча покрупней.
Через несколько дней, прошедших в тревожном ожидании, в редакцию местной газеты одного из небольших тамильских городков была доставлена аудиокассета с голосом Вираппана. Ее переправили в столицу Ченнаи (Мадрас) — так стало известно, что похититель готов на переговоры при посредничестве Р. Р. Гопала — издателя тамильского еженедельника «Наккиран»; последнего полушутя, полусерьезно в последние годы называли «пресс-аташе Малемадешваровского царя»: журналист несколько раз публиковал эксклюзивные интервью с бандитом и сумел существенно поднять тираж своего издания. Р. Р. Гопал согласился, но поставил условием закрытие возбужденного против него в 1996 г. уголовного дела.
Необычная привязанность Вираппана к магнитофонной записи объяснялась не только его неграмотностью — это была еще одна из особенностей его стиля. Его жена, 29-летняя Мутхулакшми, торгующая в табачной лавке, после рождения дочери (в 2000 г. ученицы 3-го класса христианской школы) проживает вместе с родственниками мужа в деревеньке возле его владений. Когда ее арестовали в 1996 г. в ходе очередной поисковой операции, то Вираппан в ответ захватил заложников и сообщил о готовности обменять их на… пленку с голосом жены; условия сделки были им неукоснительно соблюдены. В нынешней истории Мутхулакшми, не выдержав назойливых расспросов журналистов, укрылась вместе с дочерью у кого-то из многочисленной родни.
Р. Р. Гопал отправился в первый из челночных рейсов между правительствами двух штатов и джунглями: до определенного места он добирался на джипе, а потом в течение суток продирался через заросли, следуя предварительно подготовленным указателям — каждый его шаг отслеживали сообщники Вираппана. По возвращении он принес фотоснимки жизнерадостного Раджкумара и других заложников и две кассеты с голосами актера и бандита. Раджкумар сообщил, что переживает совершенно новые для него ощущения: «Может быть, именно таких мне не хватало. Я никогда не представлял, что окажусь рядом с людьми, которых общественное мнение считает ворами. Но с нами они ведут себя как братья и внимательно следят за тем, чтобы мы не испытывали неудобств». Он умолял не направлять в джунгли силы захвата и призывал выполнить все требования, изложенные Вираппаном на другой кассете. Кинематографический сюжет развивался своим чередом: герой просил за негодяя.
Однако выдвинутый Вираппаном набор из десяти пунктов поверг всех в изумление. В первую очередь он требовал… справедливого для Тамилнаду распределения воды из реки Кавери, протекающей по территории обоих штатов! Он подробно оговаривал размеры компенсационных выплат тамилам, жертвам волнений 1991 г. (связанных с последствиями введения в эксплуатацию плотины), и пострадавшим от полицейского произвола во время проведения операций по его поимке, а также добивался гарантий безопасности для тамилов, проживающих в Карнатаке. Вираппан настаивал на признании тамильского вторым (после каннада) административным языком Карнатака и требовал сооружения в Бангалоре памятника Тируваллувару — легендарному автору священного сборника тамилов «Тируккурал» (V–VI вв.). Бандит добивался незамедлительного освобождения невиновных, томящихся в тюрьмах Карнатака, и пятерых арестантов из тамильских тюрем, а также немедленного повышения закупочных цен на чай, выращиваемый на плантациях горного массива Нилгири, и установления минимальной дневной оплаты в 150 рупий (около трех долларов) работникам чайных и кофейных плантаций обоих штатов.
В голосе Вираппана, ни словом не упомянувшего ни об амнистии, ни о выкупе, послышалась новая — национально-патриотическая мелодия, густо замешанная на политическом экстремизме.
С одной стороны, индийский кинематограф постоянно пополняет ряды нижней и верхней палат парламента — законодательного органа страны. С другой — тот же самый кинематограф бесконечно тиражирует фильмы так называемого «бандитского жанра», чьи герои подвержены аллергии на законность и мораль и, круша все на своем пути, обретают в глазах зрителя (т. е. электората) ореол романтических бунтарей, которые вынуждены прибегать к насилию, чтобы бороться с процветающей в обществе несправедливостью. Если побивший все рекорды проката фильм «Месть и закон» с неувядаемыми Амитабхом Баччаном и Дхармендрой представляет собой лишь фантазию антилегитимной направленности, то «Королева бандитов» основывалась на реальных событиях, и ее прототип — насквозь антисоциальная Пхулан Деви (в исполнении очаровательной Химы Бисвас) — в день премьеры поднялась на сиену как полноправный член съемочной группы, а потом, подпав под амнистию, на волне зрительских симпатий обрела депутатский мандат[78]. Не мечтает ли и Вираппан о таком повороте событий и, может быть, даже о кресле министра по защите дикой природы? Во всяком случае, как иронизирует «The Times of India», предвыборная эмблема — ветка сандала+слоновий бивень — у него давно готова.
Параллельно развивающемуся сюжету «Болливуд» — индийская фабрика грез — осознал, что никто из его актеров не застрахован от того, чтобы не превратиться в заложника в насильственной игре, нацеленной на разрешение насущных социальных и политических проблем.
Как только стали известны требования, выдвинутые Вираппаном, возник вопрос: неужели браконьер и убийца превратился в политика или же, в свою очередь, стал заложником какой-либо экстремистской организации? С. М. Кришна с облегчением вздохнул: «Требования могли быть еще хуже». Главный министр Тамилнаду М. Карунанидхи пояснил: «Его требования направлены на благополучие тамилов, но если он действительно этого хочет, то прежде должен освободить Раджкумара». Одновременно с этим правительства обоих штатов заявили, что по всем обозначенным Вираппаном проблемам давно ведется работа и в принципе требования могут быть удовлетворены.
Кто же все-таки стоит за Вираппаном? Едва весть о пленении Раджкумара стала достоянием общественности, как Рамадосс, лидер региональной политической партии «Патали Маккал Катчи» (ПМК, Пролетарская партия), выступил с предложением об амнистии для Вираппана. Эта партия имеет привычную для Индии кастовую окраску и состоит почти исключительно из членов «отсталой» касты ваннияров, к которой принадлежит и сам Вираппан. На местных выборах 1996 г. ПМК одержала победу именно в местах, «курируемых» бандитом, а в 2000 г. на одном из митингов партии были замечены жена и дочь Вираппана. Пикантность высказанного средствами массовой информации предположения заключалась еще и в том, что ПМК входит в находящуюся ныне у общеиндийского руля правительственную коалицию, возглавляемую «Бхаратийя джаната парти» (БДП).
Этим немедленно воспользовалась скандально известная Джаялалита, лидер «Всеиндийской Аннадураи Дравида муннетра кажагам» (ВИАДМК, Всеиндийская организация дравидского прогресса имени Аннадураи), в прошлом незаурядная актриса и конкубинка покойного М. Н. Рамчандрана. Последний был популярным тамильским киноактером, прославившимся исполнением ролей богов и мифологических персонажей, вследствие чего для него не составило большого труда основать ВИАДМК, а потом, пользуясь народной любовью, победить на выборах и возглавить правительство штата. Сторонники Джаяла-литы (также успевшей побывать главным министром Тамилнаду), спровоцировавшей падение предыдущего центрального правительства Индии, подняли шум на сессии парламента в Дели, требуя немедленных действий против правительства М. Карунанидхи, лидера главного соперника ВИАДМК в штате — партии «Дравида муннетра кажагам» (ДМК, Организация дравидского прогресса)[79]. Сама же Джаялалита предложила чисто кинематографическую развязку: стремительный прорыв индийской армии в джунгли и молниеносное освобождение Раджкумара. Она, кстати, назвала Р. Р. Гопала «шантажистом и агентом Вираппана», а обиженный издатель обратился в. суд с иском, требуя возмещения морального ущерба.
Дотошные журналисты установили, что пятеро арестантов, освобождение которых было одним из требований Вираппана, являются членами Тамилнадской освободительной армии (ТНДА) и Тамилнадского восстановительного отряда (ТНРТ), крайне экстремистских организаций с лозунгами, пропитанными марксистско-ленинской риторикой. Основной задачей родственных образований является освобождение Тамилнаду… от Индии; при этом речь идет о вооруженной борьбе: в частности, боевики из этих группировок проходили обучение у ланкийских сепаратистов тамильского происхождения в /Джафне. Кастовой основой обеих организаций являются все те же ваннияры, составляющие 19 % тамильского электората. Кстати, в магнитофонной записи Вираппан хвалился, что стал намного сильнее. Сомнения развеялись, когда Р. Р. Гопал вернулся после очередного похода в джунгли и принес очередную аудиокассету, на которой Вираппан уже не скрывал, что говорит от имении ТНЛА и ТНРТ. Он уточнил ряд требований, в том числе заявил, что дело о распределении вод Кавери должно рассматриваться в Международном суде в Гааге, а также потребовал освобождения из тюрем еще 70 своих сообщников. Журналист сообщил, что изменилось и поведение бандита — он заставил себя долго ждать и не сразу позволил переговорить с Раджкумаром. Вираппан, вероятно, осознал, насколько его «робин-гудовский» образ соответствует кинематографическим стереотипам.
Тем временем Верховный суд страны, от которого ожидалось юридическое оформление отзыва обвинений с находящихся в тюрьмах бандитов, отказался от этой процедуры, посчитав требования Вираппана «неконституционными». Тот же суд, получив десятки петиций протеста от родственников убитых бандой Вираппана, в результате обвинил главного министра Карнатака С. М. Кришну, представителя партии Индийский национальный конгресс (ИНК), в бездействии на протяжении многих лет в отношении Вираппана и предложил С. М. Кришне подумать об отставке, освободив пост для более деятельной фигуры. В штате закипели политические страсти. Поклонники Раджкумара выразили свое отчаяние в привычной для Индии форме банда — закрыв магазины, кинотеатры и перекрыв движение транспорта. Известный режиссер Махеш Бхатт вынужден был признать: «Удар по идолу поражает простого человека». И в Карнатаке, и в Тамилнаду опасаются кровавого противостояния родственных народов.
30 сентября 2000 г. — в день, когда прошло два месяца с момента захвата заложников, — воспользовавшись представившимся случаем, неожиданно бежал один из заложников, сопровождавших Раджкумара. Вираппан впал в ярость. Третий месяц сообщения об этой драматической коллизии не сходят с первых страниц индийских газет. Кинематографический хит, перенесенный в жизнь, споткнулся о реальных людей.
Послесловие. 15 ноября 2000 г., через 108 дней заточения в джунглях на юге Индии, Раджкумар был освобожден и после медицинского обследования доставлен на вертолете в родной Бангалор, столицу Карнатака. Встречавшая его публика смела полицейские заграждения и прорвалась на летное поле; фанаты славили милостивых богов и на радостях взрывали петарды. Известно, что к переговорам об условиях освобождения подключились известные политические и общественные деятели — как и Вираппан, этнические тамилы (например, П. Недумаран, лидер Тамильского националистического движения). По предположению индийских средств информации, посредники уверили Вираппана, что в соответствии с его требованиями около 60 тамилов, находящихся в тюрьмах Тамилнаду и Карнатака и связанных либо с самим бандитом, либо со стоящими за ним экстремистскими организациями (Тамилнадская освободительная армия и Тамилнадский восстановительный отряд), все-таки будут отпущены под залог; ожидаются положительные решения и по некоторым другим вопросам.
По прибытии в Бангалор Раджкумар выразил искреннюю признательность властям обоих штатов, боровшимся за его освобождение, и горячую любовь к родному каннадигскому народу. Он также сообщил, что его освобождение в конечном счете было ускорено д-ром Бхану, женщиной-врачом, которая предложила ему сымитировать острую сердечную недостаточность, что он с блеском, присущим его дарованию, и воплотил в жизнь. «Она была как богиня Шакти (эманация в женском облике энергии, наполняющей богов-мужчин. — И. Г.), представшая передо мной», — рассказал Раджкумар на пресс-конференции, не сообщая, каким образом дама оказалась в джунглях. Смелая женщина напугала неустрашимого бандита непредсказуемыми последствиями и вместе со своими ассистентами заняла место выпущенного на волю заложника. С. М. Кришна, главный министр Карнатака, заявил: «Были загадки при похищении, значит, должны быть и при освобождении»…
Прошло два года со дня похищения Раджкумара. Пресса время от времени муссировала вопрос, был ли заплачен за Раджкумара выкуп, и называла суммы от 200 до 300 млн. рупий, а также ввела в обиход термин «вираппанизация», ставший своеобразным синонимом понятия «криминализация». Полицейские силы Тамилнаду и Карнатака продолжали охоту за «королем джунглей», и бюджет обоих штатов неудержимо истощался за счет отчислений на поисковые операции, а Вираппан тем временем задумал и осуществил римейк предыдущего похищения.
На этот раз жертвой стал 62-летний Х. Нагаппа, бывший карнатакский министр по сбыту сельскохозяйственной продукции, а также один из лидеров партии «Джаната дал юнайтед», находящейся в оппозиции к нынешнему конгрессистскому правительству штата. В бытность свою во власти Нагаппа среди прочего стал известен активной позицией в отношении запрета на незаконную разработку лесных каменоломен, где у Вираппана был свой интерес. 25 августа 2002 г. в 21.30 в загородный дом Нагаппы в местечке Камагере, в 75 км от Майсора, ворвалась компания из восьми человек в масках. Несмотря на присутствие в доме массы народа, в том числе личного охранника и двух полицейских, обошлось без кровопролития. Пропутешествовав вместе с заложником около 2 км пешком, банда, среди которой, по уверению свидетелей, находился и главарь, остановила рейсовый автобус, доехала до ближайшего леса и вместе с Нагаппой скрылась в зарослях.
На следующий день Вираппан, как обычно, прислал магнитофонную кассету, и римейк начал производить впечатление дежа вю. Однако события приняли другой оборот. Во-первых, Нагаппа, политик регионального масштаба, а не актер в образе бога, не мог рассчитывать на всенародное проявление симпатий. Во-вторых, Джаялалита и С. М. Кришна — главные министры Тамилнаду и Карнатака — уже давно испортили между собой отношения из-за непрекращающихся противоречий по поводу вод Кавери и, несмотря на форс-мажор, не прекратили озлобленных обвинений в адрес друг друга. В-третьих, еще во время предыдущего кризиса Верховный суд категорически осудил действия обоих правительств, направленные на «заигрывание» с бандитом, и Джаялалита не скрывала, что не станет вступать в переговоры с преступником. И в-четвертых, те, кого Вираппан желал видеть в качестве переговорщиков, либо не имели возможности этого сделать, находясь в тюрьмах Таминаду и Карнатака (в том числе П. Недумаран и другие активисты Тамильского националистического движения), либо отказались сами (как Р. Р. Гопал, оказавшийся после предыдущего эпизода под плотным надзором уголовной полиции штата). Вираппан особенно настаивал на посредничестве некоего Колатхура Мани — тамильского экстремиста, заключенного в карнатакскую тюрьму: аналитики считали, что его освобождение и было подлинной целью преступной акции.
Стороны упирались, родственники пребывали в отчаянии, пока в декабре 2002 г., через 106 дней после похищения, не была получена очередная (шестая по счету) аудиокассета. Голос Вираппана сообщил, что в результате перестрелки с Тамилнадскими силами быстрого реагирования и он сам, и заложник были ранены. Он также указал на лесной массив на границе Тамилнаду и Карнатака, где был оставлен Нагаппа. Поисковый отряд обнаружил уже мертвое тело политика, и до сих пор остается загадкой, от чьей пули погиб Нагаппа. Дежа вю и римейк оказались новым жанром.
Усилиями всех южноиндийских штатов при координационной поддержке из Дели поиски Вираппана продолжаются и сегодня.
ГРЭМ СТЕЙНС И ДАРА СИНГХ
Межконфессиональная напряженность
В ночь с 22 на 23 января 1999 г. в деревне Манохарпуре округа Кеонджхара штата Ориссы, протянувшегося вдоль восточного побережья Индии, разыгралась жесточайшая трагедия. В пламени, охватившем автомобиль-фургон, заживо сгорели австралийский миссионер Грэм Стюарт Стейне (58 лет) и два его сына — Филип (10 лет) и Тимоти (8 лет). В этой деревеньке, лишенной электричества и телефонной связи и окруженной почти непроходимыми джунглями, проживает около 30 христианских семейств, для которых на протяжении последних 14 лет Грэм Стейне проводил четырехдневные «лесные библейские чтения» — это была единственная ниточка, протянутая из вековой изоляции к современному миру. Перед тем как улечься спать, Филип и Тимоти прикрыли разогретую солнцем крышу фургона сухой соломой, чтобы в ночной прохладе удержать дневное тепло. Окружившие автомобиль неизвестные плеснули на него бензином и поднесли факел; они же преградили путь попытавшемуся выбраться из пламени Стейнсу с сыновьями. Очевидцы, которых бандиты дубинками и копьями отогнали от места происшествия, сначала рассказывали, что преступление сопровождалось скандированием ««Баджранг дал» зиндабад!» («Да здравствует «Баджранг дал»!»), но позже стали проявлять неуверенность, сменившуюся отказом от первоначальных показаний.
. . . . . . . . . .
«Баджранг[80] дал» («Отряд сильных») является организацией, созданной в начале 1990-х годов ВХП («Вишва хинду паришад», Всемирный совет индусов) из фанатично преданной индуизму молодежи и проявляющей демонстративную агрессивность и насилие по отношению к другим конфессиям. Возникший в 1966 г. ВХП считает своей основной задачей упорядочение различных культов индуизма, не имеющего сквозной церковной организации, для сплочения индусской общины во всемирном масштабе. ВХП, в свою очередь, является детищем РСС («Раштрийя сваямсевак сангх», Союз добровольных служителей нации), созданного в 1925 г. с целью «строительства индусской нации». Вместе с возглавляющей индийскую правительственную коалицию «Бхаратийя джаната парти» (БДП) все эти образования в народе и прессе называются «семьей». Одним из самых мощных «семейных» деяний стало разрушение в 1992 г. мечети Бабура, выстроенной на предполагаемом месте рождения индусского бога Рамы. Эта акция повлекла за собой резню между индийскими мусульманами и индусами, приведшую к гибели 2 тыс. человек.
. . . . . . . . . .
Жена и соратница миссионера, Глэдис Стейне (49 лет), в ночь трагедии вместе с дочерью Эстер (13 лет) находилась в своем доме в городке Барипаде (округ Майюрбхандж), на расстоянии около 100 км от Манохарпура. Через несколько дней, 30 января 1999 г., в годовщину смерти «отца нации» Махатмы Ганди — индуса, павшего от руки индусского фанатика, — она публично заявила, что прощает убийц своего мужа и сыновей: «Милосердие очищает совесть и помогает спасти общество от яда мести». Призывая остановить сопровождавшее раздел Индии на два государства кровопролитие, Махатма Ганди обращался к индусам и мусульманам на равных, не отдавая предпочтения своей собственной конфессии. После гибели Стейнсов Объединенный христианский форум по правам человека сообщил, что только за 1998 г. зафиксировано более 120 нападений на христианские церкви и школы Индии (за предыдущие 50 лет индийской независимости — с 1947 г. — всего 50). Ричард Ховелл, глава Евангелического фонда Северной Индии, членом которого являлся и Грэм Стейне, заметил, что именно с 1998 г. отмечается эскалация насилия против 23-миллионной христианской конфессии, составляющей 2,3 % населения Индии. Он подчеркнул: «Стейне не был замешан в принудительном прозелитизме. В нашей деятельности мы всегда руководствуемся документами, подписанными между нами и центральными органами, а также правительством Ориссы, где строго оговорен характер допустимого». В ответ на это вице-президент ВХП Гирирадж Кишоре заявил: «В местах, охваченных деятельностью Стейнса, христиане составляют 20 % населения, в то время как до начала 1980-х в тех краях их не было вообще. Работа с прокаженными — всего лишь прикрытие». Конфессионально нейтральные средства массовой информации сообщили: «Численность христианского населения в орисских округах Кеонджхар и Майюрбхандж на протяжении всего срока пребывания там Грэма Стейнса оставалась без изменения. Однако его деятельность объективно способствовала распространению христианских ценностей».
Грэм Стейне, поселившийся в Барипаде в 1965 г., пошел по стопам своего отца, проведшего в Индии практически всю жизнь, и возглавил лепрозорий, основанный в индийском княжестве Майюрб-хандже (ныне округ) Австралийской Евангелической миссией в 1895 г. Он выполнял также просветительские и социальные функции, работая прежде всего среди многочисленного племенного населения в северо-восточной части Ориссы, обитающего в деревушках, прилепившихся к склонам густо заросших джунглями гор, и значительно отставшего в социально-экономическом развитии от большей части населения Индии. В совершенстве владея несколькими языками австроазиатской группы мунда, Стейне перевел на язык племени хо «Новый Завет». Он был дружен с местным населением и уважаем окружными властями. В январе 2000 г., в первую годовщину его гибели, в Бомбее состоялась презентация книги «Сожженные заживо. Стейн-сы и Бор>, созданной коллективом из пяти авторов. Присутствовавшая на презентации вдова миссионера сказала: «Я приехала в Индию самостоятельно, и уже здесь встретила Грэма, который стал моим мужем. С этими местами я неразрывно связана любовью здешних людей и планами мужа, часть которых еще не успела воплотиться в жизнь. Отъезд из этой страны не может быть ответом на происшедшее».
. . . . . . . . . .
Христианство в Индии не монолитно, а распадается на различные исповедания, общины и даже ереси. Согласно устоявшимся представлениям, первые обращения на индийской земле были проведены в 52 г. апостолом Фомой, впоследствии умершим мученической смертью. «Англосаксонская хроника» говорит о том, что в 884 г. король Альфред во исполнение взятого на себя обета отправил в Индию посла с богатыми дарами для гробницы святого Фомы. В VI в. александрийский монах Козьма Индикоплов в «Христианской топографии» сообщал, что на юге Индии (современный штат Керала) существовали церкви, находившиеся в руках персидских священников. После того как ислам вытеснил из Ирана и христианство, и зороастризм, южноиндийские христиане обратились за покровительством к патриарху Антиохии и до настоящего времени поддерживают связь с Сирией.
Новый этап христианизации страны связан с португальской колонизацией: в 1498 г. вместе с Васко да Гамой на берег Индии сошли шестнадцать священников, восемь из которых были францисканцами; в 1510 г. португальцы захватили Гоа (ныне самостоятельный штат на побережье Аравийского моря) и превратили его в «Рим Востока» — центр религиозной экспансии. Откликаясь на просьбу португальского монарха, папа Павел III своей буллой «Aequum Reputans» от 3 ноября 1534 г. учредил в Гоа епархию с юрисдикцией от мыса Доброй Надежды до Китая и далее на восток. В 1560 г. в Гоа была учреждена инквизиция, а аутодафе стало рядовым событием; обязательное разрушение индусских храмов сопровождалось немедленным возведением внушительных соборов. За францисканцами последовали иезуиты, доминиканцы и августинцы. Обращение проводилось в основном методом «общего крещения», т. е. сгоняли толпу индийцев и через переводчика объявляли, что они стали христианами. Эксперименты по доходчивому объяснению основ христианства через индусские символы, проводившиеся, например, Роберто де Нобили, потерпели фиаско.
По численности католиков (около 17 млн.) современная Индия занимает второе место в Азии после Филиппин. Сегодня в ведении Католической церкви находится 7 500 детских садов и яслей, 14 638 начальных школ, 9 414 средних школ, 460 общеобразовательных колледжей, 63 медицинских и педагогических колледжа, 6 инженерных школ. С XVIII в. активизировалась деятельность протестантских миссионеров, прибывавших в Индию из стран Европы, США, а впоследствии и Австралии. Среди современных индийских протестантских деноминаций — баптисты, методисты, адвентисты Седьмого дня и пр. Наиболее компактные общины христиан существуют в Керале и Гоа, а также в северо-восточных штатах (в том числе и Ориссе) среди племенного населения.
. . . . . . . . . .
Через полгода после гибели Грэма Стейнса и его сыновей в деревне Падиябеде (округ Майюрбхандж) был заживо сожжен Шейх Рахман, торговец-мусульманин. Еще через несколько дней в том же округе, в деревне Джамбани, выпущенными одновременно из нескольких луков стрелами был убит католический священник Арул Дас. При каких бы обстоятельствах ни разыгрывались эти трагедии, за каждой из них маячило одно и то же имя — Дара Сингх, за содействие в поимке которого индийское правительство объявило награду в 800 тыс. рупий.
Дара Сингх (34 года) объявился в Ориссе в начале 1980-х годов в поисках работы, и вскоре его имя попало в полицейские сводки округов Майюрбхандж и Кеонджхар в связи с нападениями на мусульман, торговавших скотом, и прежде всего коровами. Поскольку корова признана в индуизме священным животным, Дара Сингх, объявив себя защитником индусских ценностей, в роли доморощенного Робин Гуда отбирал отправляемый на продажу или забой скот и распределял его среди единомышленников, находящихся под воздействием «Отряда сильных». Его влияние на проживающие в округах и частично сохраняющие анимистические и тотемические представления племена неуклонно возрастало в связи с тем, что он объяснял собственную неуловимость способностью в случае опасности принимать облик любого животного. Наряду с молодчиками из «Отряда сильных» еще одно подразделение, действующее под руководством РСС, «Кальян ашрам» («Обитель блага») считало своей первоочередной задачей вовлечение племен (как правило, на положении низких каст) в лоно индуизма.
Обе организации также активно претворяют в жизнь программу «очищения», подразумевающую возвращение индийским христианам и мусульманам через ритуальные процедуры их исконной веры — индуизма. Об этом же, например, на пресс-конференции в Дели 21 февраля 2000 г. говорил и член индийского парламента Дилип Сингх Джудев, высказавший намерение лично участвовать в «переобращении» только за 2000 г. 100 тыс. человек.
Дару Сингха, скрывавшегося в тех же округах, где он орудовал, удалось поймать только через год после убийства Стейнсов — 31 января 2000 г. благодаря хитроумной операции местных полицейских, подославших к соратникам бандита своего человека под видом торговца оружием. Дара Сингх был препровожден в тюрьму Барипады, где, по сообщению ряда средств массовой информации, он сразу же признался не только в трех инкриминируемых ему эпизодах, но и в ряде других. Некоторые газеты и еженедельники поместили отрывки из интервью, в котором Дара Сингх утверждал, что добровольно сдался полиции, поскольку переживал, что из-за бесконечных рейдов стражей порядка страдают невинные, и отрицал причастность ко всем убийствам. Он также заявил, что не является членом ни одной из политических партий, но приносит свою жизнь на алтарь спасения исконной религии Индии. Весть о его аресте сплотила сторонников жесткого, наступательного индуизма, которые в срочном порядке организовали Комитет по спасению защитника веры Дары Сингха и принялись за распространение брошюры, сочиненной бандитом, где он, в частности, сообщал, что принял облик бога Кришны для освобождения Майюрбханджа и Кеонджхара от Стейнса. Оставшаяся жить и работать в Барипаде Глэдис Стейне, узнав о пленении инициатора убийства ее мужа и детей, сказала, что она рада только потому, что Дара Сингх больше никому не сможет причинить вреда.
В преддверии визита в Индию папы Иоанна Павла II в ноябре 1999 г. премьер-министр А. Б. Ваджпайи и министр внутренних дел Д. К. Адвани (оба члены БДП) заняли жесткую позицию против попытки воинствующих индусских фундаменталистов провести двухнедель ный марш протеста против визита понтифика, который мог бы привести к новым вспышкам межрелигиозной вражды на всех уровнях. Застрельщики собирались пройти от Гоа до Дели, придав процессии вид индусского паломничества и сгруппировавшись вокруг грузовика, украшенного антихристианскими лозунгами, самый безобидный из которых гласил: «Нам нужен не Рим, а Рам!»[81]. Выбор Гоа как стартовой точки процессии был продиктован исторической памятью о насильственной христианизации. Протестующие также требовали извинений за злодеяния, совершенные Католической церковью в Индии. Процессия все-таки прошагала от Гоа до города Бароды (Вадодара) в штате Гуджарате, но, не поддержанная лидерами БДП, утратила первоначальный запал и была остановлена властями штата Мадхъя Прадеша.
Надо отдать должное мужеству А. Б. Ваджпайи и Д. К. Адвани, которые, заняв высшие государственные посты, научились в критические моменты отрешаться от вскормившей их идеологии: они провели ряд встреч с ведущими деятелями ВХП и РСС, после чего правительственный пресс-секретарь выступил со следующим заявлением: «Не подлежит сомнению, что сожжение изображений или любая агитационная кампания, направленная против гостя государства, неприемлемы». Возглавляемое А. Б. Ваджпайи правительство совершило еще один разумный шаг, предоставив (несмотря на протесты представителей 130-миллионной конфессии индийских мусульман) визу известному писателю Салману Рушди, который после 12-летнего перерыва в апреле 2000 г. смог посетить страну, где он родился.
В июне 2000 г. глава Римско-католической церкви, принимая премьер-министра Индии в своей резиденции в Ватикане, еще раз подчеркнул «важность свободы вероисповедания и уважения традиций религиозной терпимости в Индии, чему, к сожалению, был нанесен серьезный урон в результате недавних актов насилия». А. Б. Ваджпайи объяснил понтифику, что ответственность за поддержание законности на местах лежит на правительствах штатов, но и центральные власти готовы принять безотлагательные меры для сохранения межконфессиональной гармонии.
25-я статья Конституции Республики Индия озаглавлена «Свобода совести и свобода исповедания религии, отправления религиозных обрядов и религиозной пропаганды». Чтобы обеспечить ее функционирование, необходимо преодолеть страх, в котором находится индийское общество, как, например, смогли это сделать организаторы и участники блистательной экспозиции «Иисус Христос в индийской живописи и скульптуре», состоявшейся в бомбейской Национальной галерее современного искусства в марте 2000 г. Кардинал Симон Пимента, открывавший выставку, сказал: «Множественность образа Христа, представленная в этой экспозиции, отражает свойственный демократическому обществу плюрализм. Замечательно, что большинство авторов экспонатов — не христиане, но индусы, мусульмане, джайны, парсы, иудеи, сикхи и буддисты».
Послесловие. Судебные слушания по делу об убийстве Грэма Стейнса и его сыновей начались 1 марта 2001 г. На заседаниях в июле 2002 г. свидетели опознали Дару Сингха и троих его соратников как непосредственных участников трагедии, разыгравшейся в январе 1999 г. в Манохарпуре. Одновременно с этим судебным процессом продолжалась агитация Комитета по спасению Дары Сингха, утверждавшего, что Дара Сингх не имел никакого отношения к тем кровавым событиям, и представлявшего его как «великого революционера» и «защитника индуизма». Дара Сингх также выдвигался кандидатом от коалиции «Крантикари манувади морча» (Революционный фронт последователей Ману) на выборах 2002 г. в законодательное собрание самого многонаселенного индийского штата Уттар Прадеша (более 140 млн. человек). В декабре 2002 г. Вишну Хари Далмия, генеральный президент ВХП, вручил матери Дары Сингха, воспитавшей «спасителя индуизма», награду в 25 тыс. рупий.
Наконец 15 сентября 2003 г. Махендранатх Патнаик, окружной судья из Бхубанешвара, орисской столицы, выслушавший показания 80 свидетелей, зачитал приговор: смертная казнь Даре Сингху и пожизненное заключение его 12 подельникам. Адвокаты просили о более мягком наказании, ссылаясь на тяжелые жизненные условия, в которых прошло детство обвиняемых, а также на престарелый возраст их родителей (85-летний отец Дары сейчас находится в больнице), но главный преступник, хотя и зарыдал при оглашении приговора, не намеревается его обжаловать. Приговор может быть приведен в исполнение после его утверждения Верховным судом. Представитель Центрального бюро расследований К. Судхакар заявил: «Приговор дает понять индийской общественности, что она не должна терять веру в правосудие». Джон Стейне, старший брат Грэма и дядя Филипа и Тимоти, сообщил из Мельбурна, что он расстроен решением суда: «Преступник должен быть помилован, пусть он отвечает перед Богом». Газета «Хинду» от 23 сентября 2003 г. рассказала, что в последний день все обвиняемые появились на суде в белых рубахах с надписью «Шив-сена» и рисунком оскалившегося тигра — эмблемой партии[82]. А мужественная Глэдис Стейне еще раз повторила: «Я всех давно простила, но не надо путать прощение и закон».
ДИПА МЕХТА И ДРУГИЕ
На страже национальной самобытности
Наличие особого магнетизма, свойственного такой стране, как Индия, доказательств не требует. Экзотический флер манит и завораживает, не сразу позволяя разглядеть, какие проблемы и противоречия таит в себе миллиардная страна, в силу своей неоднородности давно приравненная к целому континенту. Индийский мир устроен таким образом, что в нем отсутствует плотная изоляция между различными человеческими сообществами: когда я оказываюсь в Индии, то по ночам долго не могу заснуть, вслушиваясь в звон бронзовых тарелочек из расположенного поблизости индусского храма, а на рассвете пробуждаюсь от усиленного громкоговорителями мусульманского банга, призывающего правоверных на утреннюю молитву; я всегда узнаю по аромату и характерному шипению или бульканью, что готовится у соседей справа и слева, и все они знают, когда я выхожу из дома и кто ко мне приходит. Прозрачность и открытость индийского жизненного цикла, так же как и привычка окружающих выносить о нем суждение, распространяются и на индийский кинематограф и театр: все, что появляется на экране или сиене, никогда не рассматривается как факт чистого искусства, но как естественная составляющая сегодняшнего реального дня. Последние годы особенно ярко продемонстрировали, как «огонь, вода и медные трубы» ситуации и общественного мнения воздействуют на жизнь в индийском искусстве и искусство в индийской жизни.
В соответствии с мировоззрением индуизма, который исповедуют около 83 % индийцев, все сущее состоит из пяти элементов: огня, земли, воды, ветра и неба. Черпая вдохновение из собственной генетической памяти, Липа Мехта — канадский режиссер и сценарист индийского происхождения — задумала проект из пяти фильмов. Первый фильм — «Огонь», предварительно обкатанный на международных кинофестивалях и награжденный 14 призами, в ноябре 1998 г. вышел на экраны Бомбея и подтвердил актуальность общего положения, согласно которому «вся Индия будет говорить завтра то, что Бомбей думает сегодня».
Фильм «Огонь» рассказывает о жизни двух невесток в современной, но сохраняющей патриархальную структуру взаимоотношений индийской семье. Муж старшей, Радхи (Шабана Азми), разочарованный отсутствием наследника, погрузился в мир религиозного самосовершенствования (вдохновленный наставлениями гуру, проводит эксперименты по обузданию плоти); муж младшей, Ситы (Нандита Дас), откровенно игнорирует молодую жену, отдавая все время любимой женщине (национальные, кастовые и социальные различия исключили возможность их брака). Страдающие в эмоциональном вакууме Радха и Сита пытаются соответствовать традиционным устоям и сохраняют видимость семейного благополучия. Утешая друг друга, женщины сближаются, становятся нужными и желанными друг для друга (на экране мелькает сцена их «непристойных объятий») и принимают решение покинуть дом. Когда Радха пытается объяснить пришедшему в ярость и одновременно раздираемому плотской страстью мужу глубинные мотивы своего поступка, конец ее сари попадает в пламя газовой горелки. Борясь с огнем, она понимает, что муж не собирается ее спасать, но ей удается сбить пламя. Радха оставляет дом и спешит к ждущей ее в условленном месте Сите.
На третьей неделе проката в кинотеатры, демонстрировавшие фильм, ворвалась с дубинками компания молодчиков (и молодчиц) из партии «Шив-сена» и добросовестно порушила витрины, окна и автоматы с кофе, установленные в фойе. Манохар Дзоши[83], тогдашний главный министр штата Махараштры (столицей которого является Бомбей) и сам член «Шив-сены», публично заявил: «Я горд, что эти ребята постояли за индийскую культуру!» 3 декабря «шив-сеновцы» вынудили прервать премьерный показ фильма в кинотеатре «Регал», расположенном на центральной площади Канат плейс в Дели. По всей стране афиши с очаровательными Шабаной Азми и Нандитой Дас, героинями фильма, подверглись вандализму (в лучших традициях индийского кинобизнеса в них намекалось на гораздо большее, чем содержалось в фильме). Впрочем, напуганные владельцы кинотеатров и сами догадались прикрыть изображения красавиц пылившимися на складах полотнищами и срочно внести изменения в репертуар.
. . . . . . . . . .
Одним из этапов проводившейся в независимой Индии административно-территориальной реформы, основанной на лингвоэтническом принципе, стало создание в 1960 г. штата Махараштры, населенного преимущественно маратхами, говорящими на языке маратхи. Этому предшествовали драматические события, включавшие отчаянную битву за космополитический Бомбей, который в результате был отдан Махараштре в качестве столичного града. В 1961 г. в Бомбее стал выходить еженедельник «Мармик» («Существенное»), быстро завоевавший популярность среди маратхиязычного населения. В еженедельнике сочным, нередко выходящим за литературные рамки языком доходчиво объяснялось, что, составляя почти 50 % населения города, маратхи находятся в административной и экономической зависимости от прочих этнических групп и конфессий, населяющих Бомбей, — прежде всего от обладающих коммерческой жилкой гуджаратцев, марвари, парсов; еще большую ярость «Мармика» вызывали аккуратные и деловитые выходцы из Южной Индии (каннадига, малаяли, тамилы и др.), преуспевавшие в качестве «белых воротничков». Успеху еженедельника способствовал и тот факт, что он был обильно сдобрен едкими карикатурами, наглядно изображавшими эксплуататоров (т. е. всех немаратхов) и эксплуатируемых. Главным редактором и художником был Бал Тхакре (род. в 1927 г.), выдвинувший себя в главные «певцы» маратхского народа. Им же в 1966 г. была образована партия «Шив-сена» («Армия Шиваджи»), названная так в честь национального героя маратхов Шиваджи, основавшего в XVII в. Государство маратхов. Уже через два года «Шив-сена» получила 1/3 мест на муниципальных выборах в Бомбее, постепенно прибрала к своим рукам ряд муниципалитетов других городов Махараштры, а в середине 1990-х в коалиции с «Бхаратийя джаната парти» (БДП) сформировала правительство штата. Именно тогда знаменитой метрополии было возвращено исконное маратхское название — Мумбаи, а международному аэропорту города присвоено имя Шиваджи[84]. Бал Тхакре, никогда не занимая никаких официальных постов, превратился в главного идеолога и стратега движения за этническую монолитность. Набрав силу и выплеснувшись за пределы штата, «Шив-сена» несколько изменила направление своей деятельности и стала ратовать за восстановление и сохранение подлинной индусской культуры. Члены партии устраивали демонстрации протеста против приезда пакистанской крикетной команды в Бомбей и забрасывали камнями международный автобус, курсировавший между Дели и Лахором. Птица такого полета, как Бал Тхакре, не могла ускользнуть от внимания Салмана Рушди, выходца из Бомбея, и под именем «Майндук» «влетела» в его роман «Прощальный вздох Мавра»[85]. Персонаж, безусловно, был опознан, роман запрещен, а Салману Рушди, с моей точки зрения, появляться в Бомбее пока не стоит.
. . . . . . . . . .
Возмущенные страстями вокруг «Огня» и неприкрытым посягательством на свободу творчества, восемь ведущих деятелей индийского кинематографа — актер Дилип Кумар, драматург Виджай Тендулкар, режиссеры Махеш Бхатт и Яш Чопра и др. — отправили на имя Верховного судьи А. С. Ананда 17-страничное обращение. В нем подчеркивался факт нарушения фундаментальных прав фильмопроизводителя и содержался протест против открытой поддержки должностным лицом (главным министром Махараштры Манохаром Дзоши) бесчинств, учиненных налетчиками в кинотеатрах, демонстрировавших «Огонь». Подписанты требовали возвращения фильма на экраны страны и разбирательства по актам вандализма в Бомбее и Дели; они также напоминали о недопустимости самостийного суда, предлагая недовольным соблюсти положения закона и направить в судебные инстанции иск об отзыве сертификата Цензурного комитета по кинематографии, разрешившего показ этого фильма. Этот же вопрос был поднят и на заседании индийского парламента, вызвав ожесточенную перепалку между «сторонниками Закона» и «хранителями Культуры». Присутствовавшая на обсуждении член верхней палаты актриса Шабана Азми не проронила ни слова, а центральные власти рекомендовали направить картину на повторную экспертизу в Цензурный комитет по кинематографии. Верховный же суд выступил с заявлением, что не собирается рассматривать сюжет картины вообще, а займется вопросом об обязанностях правительства по защите свободы, жизни и имущества.
Вслед за этим члены «Шив-сены», разоблачившись до исподнего, устроили мощную демонстрацию перед бомбейским домом актера Дилипа Кумара, одного из авторов обращения. Совершая непристойные телодвижения, они осыпали бранью его и Шабану Азми. Специальной охраной была обеспечена вся восьмерка и героини фильма, но «Шив:сена» обратила особое внимание на замешанных в этой истории мусульман — Юсуфа Кхана, взявшего еще в 1940-е годы, на заре своей кинематографической карьеры, псевдоним Дилип Кумар, и Шабану Азми. Впрочем, если «солдаты Шивы» протестовали против присутствия на экране лесбиянок, то по параллельной улице в сторону здания Верховного суда маршировали члены Бомбейской молодежной организации: их гнев был вызван появлением в фильме персонажа-китайца, который неуважительно отзывался об Индии и, обращаясь к индийцу, произносил: «Грязные вы, индийцы!». Молодежь требовала вырезать этот кадр.
Ситуация вокруг фильма «Огонь» подробно освещалась в индийской прессе, цитировались высказывания известных политиков, деятелей культуры и простых граждан. Тогдашний министр информации и радиовещания центрального правительства Прамод Махаджан заявил: «Никому не будет позволено исполнять роль полиции нравов в отношении спорного фильма; каждый штат пусть решает этот вопрос самостоятельно» — и добавил: «Картина не запрещена, владельцы кинотеатров вольны сами решать — демонстрировать ее или нет». Младший сын Бала Тхакре, и видная персона партии «Шив-сена», Уддхав Тхакре, был краток: «Фильм, высмеивающий индусов и их культуру, не выйдет на экраны Махараштры». Сам Бал Тхакре отозвался такой репликой: «Меня не интересует решение ни Центра, ни Цензурного комитета. Моя партия уже запретила этот фильм». Попутно он заметил: «Почему история крутится вокруг индусской семьи? Почему ее героини носят имена великих индусских богинь — Ситы и Радхи? Почему бы не назвать их мусульманскими именами — например, Шабана или Фатима, и тогда мы прекратим свой протест». А представитель дистрибьюторской компании в Бомбее пояснил: «Фильм выйдет на экран снова только в том случае, если позволит, Шив-сена».
. . . . . . . . . .
Сита — жена Рамы, земного воплощения Вишну, одного из ведущей триады богов индуизма. Жизненная эпопея Рамы описана в древнеиндийском эпосе «Рамаяна» и переложена в средневековье на языки различных индийских регионов. Одним из ключевых моментов эпоса является эпизод, в котором Сита, пробывшая долгое время в заточении у Раваны, правителя Ланки, и спасенная Рамой, должна доказать свою чистоту и пройти испытание огнем, которое она с честью выдерживает. (Этот эпизод как часть современной религиозной мистерии рам-лила воспроизведен в «Огне»; в фильме муж Радхи вместе со своим гуру комментируют его одобрительными возгласами.) Однако людские толки не утихают, и чтобы защитить авторитет мужа, Сита обращается с просьбой к своей матери, Земле: «Если я безвинна, расступись и поглоти меня». Земля поглощает Ситу, и царство Рамы предается всеобщему горю. В индусской аксиологии Сита является воплощением женского идеала, она — пативрата — «бесконечно преданная мужу», не подвергающая сомнению ни его слова, ни дела. Мифологическая Радха — не законная супруга, но любимая пастушка Кришны, еще одной земной ипостаси Вишну. Любовь Ситы и Радхи к их партнерам рассматривается в системе индуизма как наивысшее проявление любви к богу.
. . . . . . . . . .
Смелая жительница Дели, не побоявшаяся назвать свое имя и адрес, прислала такое письмо в газету: «Лесбиянство было нормой в древнеиндийской культуре — посмотрите хотя бы на скульптуры в храмах Кхаджурахо, Конарака и других местах. Женщина в индийской культуре вообще пользовалась достаточной независимостью и свободой. Вспомните о богине Кали, которая в обнаженном виде отправлялась на битву с демонами. Сита, героиня «Рамаяны», сама выбрала себе мужа! Даже веды позволяли жене импотента зачать ребенка от постороннего мужчины! Кто такой Бал Тхакре, чтобы указывать женщине, рожденной в нашей цивилизации, с кем ей вступать в интимные отношения, а с кем — нет. Да и не по возрасту уже ему такие фильмы смотреть. Пора о душе подумать!»
Мужская реакция чаше была иной: «Я сам фильм не видел, но из прессы узнал, что сюжет вроде как основывается на сексуальных отношениях двух женщин, т. е. на противоестественных связях. Даже если это и правда, не каждую правду надо выносить на всеобщее обозрение. Разумно ли показывать на экране то, что не соответствует индийской культуре, основано на ложных ценностях?»
Ашок Рой Кави, лидер бомбейских гомосексуалистов, сказал: «Обидно, что такое происходит в Индии, когда в Англии возвращают признание Оскару Уайльду и устанавливают ему памятник. К тому же один из возможных путей достижения конечного освобождения в индусском мировоззрении проходит через секс, и индуизм никогда не закрывал глаза на секс».
Режиссер фильма Липа Мехта так описывала свое состояние: «Я шокирована тем, как интепретируют картину. Главные героини испытывают друг к другу больше сострадания, чем страсти. Подлинная тема «Огня» — одиночество». А Ранджана Кумари, президент Женского комитета по вопросам нравственности, заявила: «Нет сомнения, что лесбиянство присутствует в картине, но оно на периферии всего спектра проблем, которые затрагиваются. Гомосексуализм в Индии вырастает из социальных запретов». В январе 1999 г. «Огонь» был включен в программу международного фестиваля в южноиндийском городе Тируванандапураме. Один из кинокритиков, высоко оценивший именно кинематографический аспект картины, заметил: «Странно, что фильм, исследующий, как люди становятся жертвами других людей, которые, в свою очередь, являются жертвами традиций, вызывает такую бурную реакцию. Мужчин, и прежде всего среднего возраста, а не молодых и пожилых, возмутил не факт лесбиянства, а то, что фильм может воздействовать на изменение нерушимого статуса мужа и подвести любую женщину к мысли о том, что в доме что-то не так! К тому же в индийской традиции существуют вполне узаконенные способы для выражения женского отчаяния — депрессия, ведущая к сумасшествию, или самоубийство, но никак не свобода распоряжаться собственным телом».
В феврале 1999 г. Цензурный комитет по кинематографии, возглавляемый Ашей Парекх, вторично выдал разрешение на показ фильма «Огонь» по всей Индии. Фильм этот я видела. Если бы только Радха в блистательном исполнении Шабаны Азми сгорела в пламени, охватившем ее сари, т. е. не прошла бы испытания огнем, то никто бы не стал возражать против этого, безусловно, чувственного фильма — ведь тогда бы победительницей оказалась не нарушившая устои женщина, а традиционная мораль!
30 января 2000 г. в Бенаресе (Каши, Варанаси) Липа Мехта собиралась приступить к съемкам фильма «Вода», третьего из задуманной серии (завершив перед этим фильм «Земля-47» — о разделе Индии на два государства). Предварительно она выполнила все необходимые бюрократические процедуры и, представив сценарий, получила разрешение от Центрального правительства при условии, что съемки будут происходить под контролем представителя Министерства информации и радиовещания. Последний должен был удостоверять, что в фильм не попадает ничего, что порочит национальный имидж и культуру Индии. Именно 30 января, в день, когда отмечается годовщина смерти «отца нации» Махатмы (Мохандаса Карамчанда) Ганди, по сообщению индийских газет, члены «Раштрийя сваямсевак сангха» (РСС, Союз добровольных служителей нации) разрушили установленные на берегу Ганги декорации и сожгли изображение автора сценария и режиссера Липы Мехта. Лидер Союза К. С. Сударшан заявил, что РСС не имеет никакого отношения к этой акции. Однако уже за несколько дней до назначенного срока индийские газеты широко оповестили о выраженной готовности ряда организаций — «Вишва хинду паришад» (ВХП, Всемирный совет индусов), «Шив-сена», «Самскар Бхарати» и некоторых других, составляющих «семью» РСС, — любой ценой предотвратить начало съемок. Всеобщая осведомленность о грядущих событиях напоминала «Хронику объявленной смерти» Габриэля Гарсиа Маркеса.
РСС насчитывает более 38 тыс. низовых организаций, в которые входит около 4 млн. человек. В ячейках регулярно проводятся собрания, на которых члены общества слушают лекции о догматах индуизма и классифицируют его врагов, занимаются спортом, разучивают приемы владения холодным оружием и проводят парады. Члены РСС участвуют в благотворительной деятельности, активно помогают жертвам стихийных бедствий и развивают инфраструктуру в районах, заселенных отсталыми племенами, вовлекая их в лоно индуизма на положении низких каст. РСС запрещали дважды — в 1948 и 1992 гг., но он снова возвращался на арену общественной жизни. В соответствии со Всеиндийскими правилами служебного поведения, сотрудникам госаппарата запрещалось членство в РСС, однако в начале марта 2000 г. Кешубхаи Пател, главный министр Гуджарата, родины Махатмы Гантт, объявил, что снимает запрет на участие госслужащих штата в деятельности РСС[86].
Объясняя причину своего возмущения, противники съемок прежде всего негодовали, что священная Ганга, река-богиня, названа просто «водой». Они также протестовали против содержания фильма, сценарий которого «чудесным образом» оказался у них в руках. Сюжет развертывается в 1930-е годы и повествует о судьбе индусских вдов, проживающих в одном из вдовьих приютов в Бенаресе. Злобная фурия, заправляющая приютом, поставляет юных вдов богатым купцам и помещикам. Милосердная Шакунтала (Шабана Азми) убеждает красавицу Джанаки (Нандита Дас) покинуть приют и соединиться с человеком, который ее любит. Но Джанаки совершает самоубийство, узнав, что старик, чьим прихотям она подчинялась на протяжении ряда лет, является отцом ее возлюбленного. Наряду с участием звездных актрис в фильме ожидался дебют восьмилетней Урви Гокани в роли вдовы-девственницы, отданной хозяйкой приюта на групповое изнасилование. В финале должен был появиться Махатма Ганди, которому Шакунтала передавала эту девочку с надеждой что-то изменить в ее судьбе. По словам разъяренных участников акций протеста, в сценарии присутствовали богохульные заявления типа: «Богам и брахманам позволено спать с кем угодно» и «Между вдовой и проституткой нет разницы».
. . . . . . . . . .
Занимающий наивысшее место в иерархии святых мест индуизма, Бенарес (Каши, Варанаси), известный еще с VI в. до н. э., расположен в среднем течении Ганги в штате Уттар Прадеше. Согласно мифологическим представлениям, город держится на высоко поднятом трезубце (оружие) бога Шивы и поэтому зашишен от мирового потопа. В нем насчитывается более 1500 храмов и около 90 гхатов — ступенчатых спусков к воде, используемых в ритуальных целях. Смерть в этом городе приносит мукти — полное освобождение от бесконечного круга перерождений, именно мукти является основной целью нормативного индуизма: «Даже насекомые, пчелы, комары, деревья — все, что водится в воде и существует на земле, в том числе лягушки и рыбы, достигает здесь освобождения». В этот город стремятся те, кто чувствует приближение смерти; сюда привозят трупы, чтобы предать их кремации на одном из бенаресских гхатов; здесь опускают в Гангу пепел тех, кто был сожжен в других частях Индии.
Вердикты, выносимые по теологическим и этическим вопросам бенаресскими пандитами и шастри — знатоками канонов индуизма, обжалованию не подлежат. Существующее ныне «Собрание мудрейших», состоящее из глав самых видных бенаресских храмов и авторитетных руководителей внутри-индусских группировок-течений, выполняет своего рода законодательные функции в не имеющем сквозной церковной организации индуизме.
. . . . . . . . . .
Ссылаясь на беспорядки в городе и 144-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, окружной судья вынес постановление о 15-дневном запрете на проведение съемок фильма «Вода» и в письменном запросе в адрес Центрального правительства поинтересовался, как могла быть выдана лицензия на съемки режиссеру-иностранцу, чей фильм преднамеренно искажает представление об индийской культуре. Очередной министр информации и радиовещания Арун Джетли выступил с заявлением, что по согласованию с Липой Мехта из киносценария выкинуто пять спорных фраз и что «киносценарий держал перед глазами Атал Бихари Ваджпайи, премьер-министр страны, разрешивший его съемки». Хотя индийский премьер является лидером ведущей политической силы страны (БДП), Рам Пракаш Гупта, на тот момент главный министр Уттар Прадеша, где у власти также находилась БДП, съемки запретил. В штате в срочном порядке был организован Комитет борьбы за спасение культуры Каши, немедленно призвавший все население города к бойкоту Липы Мехта и ее группы: «Ни могольские захватчики, ни англичане не причинили городу такого урона, как Дипа Мехта!». Поскольку воззвание Комитета было сразу поддержано БДП, рядом национально-культурных организаций, а в качестве основного разработчика тактики протеста примчался умудренный опытом «шив-сеновец» Манохар Дзоши, бывший главный министр Махараштры, то город испуганно притих, закрыл все магазины и затаился по домам. Попытавшаяся было провести съемки некоторых эпизодов во внутреннем дворе гостиницы Дипа Мехта сразу же была уличена ушлыми репортерами, и на следующий день — 8 февраля, сопровождаемая полицейским эскортом, осуществлявшим ее защиту, в компании обритых наголо в преддверии съемок Шабаны Азми и Нандиты Дас отправилась в аэропорт.
. . . . . . . . . .
Энциклопедия индийской культуры в статье о вдовах отмечает, что «общество никогда не относилось к ним сочувственно». Пативрата (идеальная индусская жена) должна умереть раньше мужа; если же первым умирал муж, то виновной в этом считалась его супруга, вернее, ее несовершенство. Женщине из высших каст предписывалось совершить сети — добровольное самосожжение на погребальным костре мужа. После того как в 1829 г. обряд был официально запрещен, вдова оставалась живой только формально. Уже ее внешний вид — обритая наголо, без всяких украшений, в белом сари — считался оскверняющим. Не имея права ни на что, даже на присутствие на ритуальных церемониях собственных детей, она существовала на обочине жизни, выполняя самые грязные работы и влача полуголодное существование.
Индийские просветители и реформаторы с середины XIX в. неустанно вели борьбу за улучшение положения вдов, и прежде всего за повышение планки матримониального возраста (вдовой могла остаться годовалая девочка, чья брачная консумация должна была бы произойти по достижении ею половой зрелости), и за право вдов на повторное замужество. В священных городах Индии, в Бенаресе в первую очередь, куда в надежде на освобождение-мукти стекались вдовы со всей Индии, для них стали создаваться приюты. В современной Индии многое изменилось в этом отношении. Известная тамильская писательница Шивашанкари в интервью по поводу ситуации вокруг съемок «Воды» рассказала: «Мой муж умер в августе 1984, а в октябре убили Индиру Ганди. Меня пригласили на телевидение поделиться воспоминаниями о госпоже Ганди — я ее знала. Я отправилась на студию — на мне было обручальное ожерелье, красная точка на лбу, цветы в волосах — в моем окружении о таких вешах уже не говорили. Но когда я пришла домой, телефон просто разрывался — мне звонили женщины-вдовы, чтобы сказать: «Вы придали нам мужества — мы тоже завтра наденем браслеты!».
. . . . . . . . . .
Одним из наиболее активных участников противостояния новому детищу Липы Мехта стал ВХП. Ашок Сингхал, действующий президент Совета, заявил: «Если правительство не отзовет разрешение на съемки, это может привести к его падению… Если этот фильм и будет снят, то только после моей смерти». Вишну Хари Далмия, генеральный президент ВХП, пояснил свое видение ситуации: «При демократии к людям прислушиваются, их мнение и взгляды уважаются. Только при тоталитарных режимах чувства людей игнорируются». Сам В. Х. Далмия сценария не видел, но сослался на слова А. Сингхала: «Если вы его прочтете, то в вас вспыхнет огонь». Общее мнение членов ВХП сводится к тому, что западная «культура кока-колы», подпираемая христианским капиталом, предприняла массированную атаку на индийскую культуру, и в Индии Липу Мехта поддерживают только коммунисты, не признающие Бога. ВХП, впрочем, всегда ссылается на волю народа, но одновременно кивает и на бенаресское «Собрание мудрейших»: «Пока они не дадут добро, не позволим! Правительство нам не указ!» А Шабана Азми поставила диагноз: «В Уттар Прадеше правит не БДП, а ВХП».
. . . . . . . . . .
«Вшива хинду паришад» считает своей задачей внесение единообразия в различные индусские культы ради сплочения общины и поддержания тонуса среди индусской диаспоры. На своем втором съезде в Копенгагене в 1985 г. лидеры организации выступили с заявлением о том, что в древности славянские племена исповедовали индуизм. По их мнению, слова «Русь» и «Россия» («Рашия») происходят от санскритского rishiya («Земля мудрецов»), а название российской столицы — от слова mokshiya («место, где индивидуальная душа соединяется с Богом»). В более поздние времена славяне приняли сначала религию иудейского происхождения — христианство, а затем веру «того же происхождения» — марксизм. В качестве перспективных планов ВХП намеревался предпринять усилия по возвращению славян в лоно их исконной веры, однако, занятый неотложными проблемами в Индии, на время забыл о своих глобальных планах. ВХП имел непосредственное отношение к разрушению мечети Бабура в Айодхъе и к мощным протестам против визита папы Иоанна Павла II в Индию.
. . . . . . . . . .
Нарайан Мишра, член БДП и один из основателей Комитета борьбы по спасению культуры Каши, в случае неудовлетворения народных требований пригрозил объявить голодовку и сжечь себя. Он же сформулировал ряд конкретных претензий к режиссеру фильма: «Дипа Мехта посягнула на три самых священных и неприкосновенных места в Бенаресе — Тулси гхат, где Тулсидас (средневековый поэт. — И. Г.) создал свою «Рамаяну»: как могло в голову прийти, что там располагались вдовьи приюты? Второе место, где предполагались съемки, может быть, сейчас и частный дом, но раньше там был монастырь, и до сих пор стоит изображение Ханумана (бог-обезьяна, верный соратник Рамы. — И. Г.). И в третьем месте раньше был монастырь — там все еще сохраняются следы шафранной краски (цветовой символ индуизма. — И. Г.). Это здесь, что ли, жили вдовы и проститутки?» А один из членов «Шив-сены» принял яд и бросился в воды Ганги, но его спасли и откачали.
Липу Мехта в действительности поддержали коммунисты — Джъоти Басу, тогдашний главный министр Западной Бенгалии, где у власти около 30 лет находится коалиция левых сил, пригласил всю съемочную группу в свой штат. Такие же предложения последовали из других штатов, возглавляемых правительствами, сформированными старейшей в стране партией Индийский национальный конгресс (ИНК). Члены ИНК задали вопрос: в стране демократия или мобократия (от англ, mob «толпа»)? При этом главный министр Мадхъя Прадеша Дигвиджай Сингх заявил: «Я вовсе не собираюсь самолично заниматься сценарием, поскольку он был одобрен центральным министерством».
Патриарх «Шив-сены» Бал Тхакре, занятый в те дни поношением Дня Святого Валентина, которым увлеклась индийская молодежь, все-таки уделил внимание и сюжету с «Водой»: «В Англии, например, запретили фильм, эксплуатирующий тему любовной интриги Джавахарлала Неру и Эдвины Маунтбэттен (супруга последнего вице-короля Индии. — И. Г.), посчитав, что эта история умаляет престиж страны. За нашим протестом— те же сантименты… Вилас Дешмукх (главный министр Махараштры. — И. Г.)[87] пригласил Дипу Мехта снимать фильм в Махараштру: как член ИНК он все делает наперекор «Шив-сене». Как понимать свободу творчества— нас оскорбляют, а мы молчим и слушаем?» Верный боевому духу организации Манохар Дзоши, уже добравшись до Бенареса, добавил: «Вилас Дешмукх устроил спектакль гостеприимства, прекрасно зная, что куда-куда, а в Махараштру Дипа Мехта не сунется. Нигде в стране «Шив-сена» не допустит съемок этого фильма. Сам я сценария не читал и не собираюсь, мне достаточно того, что пишут газеты. В Пакистане, что ли, мало недостатков? Их пусть и вскрывает!»
Сушма Сварадж, хотя и член БДП (министр информации и радиовещания)[88], занимает более умеренную позицию: «Процесс съемок не должен быть нарушен. Цензурный комитет потом сам разберется, выпускать ли фильм на экран, тем более что возглавляет его женщина».
Кулпатхи Трипатхи, старейшина храма Вишванатха (Шивы), самого знаменитого в Бенаресе, благословил Шабану Азми и Нандиту Дас, но сказал: «Каши знаменит не только своими храмами, гхатами и омовением в Ганге, но и повышенной возбудимостью. Дюди здесь сверхэмоциональны, они легко воспламеняются, но так же быстро успокаиваются. Для этого надо не угрожающе вращать глазами, а всего лишь прийти к ним со сложенными руками (т. е. с просьбой. — И. Г.)». Внимательно изучив сценарий и проведя шесть часов за беседой с Липой Мехта, высказался в защиту канадского режиссера и Вир Бхадра Мишра, старейшина храма Санкат Мочан (посвященного Хануману как устранителю непреодолимых трудностей). Некоторые студенты и преподаватели Бенаресского индусского университета признались: «Нам стыдно, что мы позволили устроить травлю Липы Мехта, но что мы могли сделать?»
Известный режиссер и актер Амол Палекар сказал в интервью: «Центральное правительство разрешает, а местное запрещает, ссылаясь на чувства обиженного народа, — этому круговороту нет конца. Я протестую против любых форм контроля, выходящих за рамки конституции. Пожалуй, и «Я, Натхурам Годсе, говорю…» (пьеса, объясняющая мотивацию убийства Махатмы Ганди с позиций убийцы. — И. Г.) не надо было запрещать в прошлом году»[89].
В индийские газеты посыпались письма от рядовых граждан: «В стране, где не прекращается брожение умов из-за ситуации в Айодхъе, надо думать, прежде чем выносить очередной религиозный сюжет на всеобщее обозрение»; «Зачем показывать то, что ушло в прошлое, не лучше ли сосредоточиться на успехах?»; «Наша молодежь должна знать о прошлом своей страны, и цель этого фильма заслуживает уважения. В 1929 г. умер мой отец, и я помню, как родственники вынуждали мою мать обрить голову, чтобы не привлекать внимания посторонних мужчин. Моя мать тогда ответила, что зашитой является не уродливый облик, а достойное поведение женщины». Шабана Азми и Нандита Дас по нескольку часов в день отвечали на вопросы, поступавшие на дискуссионный сайт в Интернете.
Неожиданно подняла голос и мусульманская конфессия: бритье головы, совершенное Шабаной Азми в преддверии исполнения роли индусской вдовы, противоречит установлениям ислама. Бомбейская организация «Индиа муслим махаз» предприняла попытку сжечь изображения Шабаны Азми. Хайдарабадский таблоид «Гавах» (штат Андхра Прадеш) отправил запросы пяти ведущим медресе. И если некоторые читатели оценили это как рекламный трюк для повышения тиража, то улемы отозвались фетвой: «Лицедейство само по себе противоречит исламу». Они также объявили, что актеры-мусульмане обязаны «подтвердить свою веру, оскорбленную актами политеизма, совершаемыми во время киносъемок». Главный редактор «Гаваха» проявил удивительную гибкость, предложив актерам-мусульманам прибегать к помощи дублеров при участии в сиенах с почитанием индусских идолов.
Индийское отделение Международной католической ассоциации по вопросам радио, телевидения и кинематографа, в свою очередь, обвинило высший состав БДП «в соучастии» в нападках на фильм «Вода» и в изгнании режиссера Дипы Мехта и актрис Шабаны Азми и Нандиты Дас.
Дипа Мехта отбивалась и оправдывалась изо всех сил: «Я не хочу убегать. Я не оскверняю ни Ганги, ни Бенареса. Нельзя вырывать фразы из контекста. Подлинный герой моего фильма — Махатма Ганди, который отдает дань уважения самому святому городу Индии. Весь сюжет связан с эмансипацией, прогрессом и освобождением. Дайте мне доделать фильм!» Она поведала и о том, что до начала съемок к ней обратился чиновник из Кинематографической комиссии штата Уттар Прадеша, который потребовал предоставления дистрибьюторских прав на фильм. Получив отказ, чиновник пригрозил сорвать съемки и начать кампанию против картины, назвав ее «христианским заговором».
В связи с ситуацией вокруг фильма неожиданное внимание получил и «вдовий вопрос», существующий и поныне. Оперативно отреагировало телевидение, моментально показав сюжеты о положении вдов в различных приютах в разных уголках страны. Социолог Маниша Дешмукх сказала: «В Индии и сегодня считается, что женщина не должна жить одна. Слышал ли кто-нибудь о том, что создаются приюты для вдовцов или мужчин, не имеющих опоры? Пусть хоть и из-за «Воды», но вопрос этот вышел наружу, и пусть подумают те, кто гордится индийской культурой, соответствует ли ее высокому статусу бедственное положение вдов?» Публицист Сурекха Кхот поделилась своими впечатлениями от посещения Бенареса: «Всего два года назад я была в Варанаси и при виде этих обритых вдов, одетых в белое, просто содрогнулась от ужаса. Я пыталась с ними поговорить, но они боялись отвечать на вопросы. В некоторых храмах за черствую лепешку их заставляют по 10–12 часов исполнять бхаджаны (религиозные песнопения. — И. Г.), на многих — следы побоев. Государство действительно отпускает деньги на вдовьи приюты, поэтому на бумаге все в порядке».
Центральный комитет по реабилитации маргинализированных женщин Вриндавана (еше одно святое место на территории Уттар Прадеша, известное вдовьими приютами) принял решение о безотлагательных мерах по улучшению положения вдов. Рассмотрев адвокатское обращение относительно юных вдов Вриндавана, которых используют в своих корыстных интересах «похотливые гуру и влиятельные лица Вриндавана», Верховный суд Уттар Прадеша направил директиву окружному судье и суперинтенданту полиции о безотлагательных административных мерах для зашиты чести и достоинства вдов, проживающих в районе Вриндавана.
Когда раскручивалась история вокруг «Воды», я была в Индии, внимательно следила за развитием этого печального сюжета в massmedia, и меня неотвязно преследовал вопрос о степени ответственности журналистов за происходящее — где проходит грань между желанием проинформировать общество и жаждой сенсации и, как следствие, невольным нагнетанием атмосферы? Собираясь спокойно подумать об этом во время многочасового перелета из Дели в Москву, я вдруг наткнулась на неожиданное продолжение сюжета в газете «Пайонир» от 7 марта, дословно повторенное и в выпуске следующего дня, — Липу Мехта обвинили в плагиате. Автор материала, Анураддха Датта, сообщила, что, хотя Липа Мехта заявила свой киносценарий как оригинальный, подлинным источником является исторический роман известного бенгальского писателя Сунила Гангопадхъяя «Те дни», получивший в 1980-е годы престижную премию Индийской литературной академии. Действие романа происходит в конце XIX в. в Бенгалии и Бенаресе. Анураддха Латта обнаружила не только общий набор персонажей со схожими именами, характерной детализацией и общим развитием ситуации, но и привела текстуально совпадающие высказывания из романа и сценария, вплоть до сакраментальной фразы о том, что богам и брахманам все дозволено. Поскольку ни романа, ни киносценария я не читала, вопрос о плагиате или экранизации я оставляю открытым. Но совершенно неожиданно для меня стало очевидным, что причина скандала — не вдовья проблематика и даже не «попытка опорочить великую культуру». Причина в том, что актуальный вопрос подняли три харизматические женщины, а этого ни индусский, ни мусульманский фундаменталист перенести не может — «Тень, знай свое место!».
«Медные трубы» — не название фильма, а метафора в привычном смысле. В то время как Лжъоти Басу, главный министр Западной Бенгалии, предлагал Липе Мехта создать все условия для съемок «Воды», в его родной Калькутте срывали афиши, рекламирующие «О, Рама!», новую картину известного индийского режиссера и актера Камала Хасана, и бросали камни в витрины кинотеатров, где фильм уже шел. Считается, что обращение к любимому богу было последней фразой, произнесенной Махатмой Ганди перед гибелью от руки индусского фанатика Натхурама Годсе. На этот раз застрельщиком выступило местное отделение партии ИНК, которое посчитало, что фильм очерняет образ Махатмы Ганди и контролируемый правящей БДП Цензурный комитет по кинематографии специально разрешил показ картины, дабы оскорбить память о великом человеке.
По сути, насилию подверглась картина, цель которой — исключить насилие как составляющую человеческих судеб. Главный герой — Сакет Рам (Камал Хасан) во время трагических событий 1947 г., когда происходил раздел на Индию и Пакистан, потерял горячо любимую жену. Обвиняя в этом Махатму Ганди, призывавшего к примирению между индусами и мусульманами, Сакет Рам вступает в фундаменталистскую индусскую организацию и готовится к убийству Ганди, затем приходит к убеждению, что был неправ, и отказывается от замысла. Но Махатма все равно погибает — от руки Натхурама Годсе (Шарад Понкше).
Противостояние различных политических сил, не сомневающихся в своем праве оценивать искусство по собственным меркам, не могло обойти стороной официальные органы и рядовых граждан. Тогдашний (ныне покойный) председатель Индийского совета по историческим исследованиям Б. Р. Гровер высказал глубокую мысль, что «история должна служить национальным интересам», а это повлекло за собой дискуссию, должна ли история служить или учить и что есть нация вообще и национальные интересы в частности. А читатель Шаши Балсекар обратил внимание совсем на другое: «Необязательные любовные сиены интимного характера портят все впечатление от фильма. И зачем главный герой (Камал Хасан. — И. Г.) кусает Рани Мукхерджи (актриса, исполняющая роль первой жены Сакета Рама. — И. Г.) в попку?»
Если Камал Хасан оказался мишенью уже после того, как сделал свой фильм, то «Мятеж» Нитина Кени, посвященный все тому же кошмару 1947 г., который не отпускает новые и новые поколения индийцев, едва не повторил судьбу «Воды». Шиитская община Лакхнау, столицы Уттар Прадеша, несмотря на разрешение, выданное окружным магистратом, категорически отказалась впустить съемочную группу в Асафи имамбару (павильон для траурных церемоний, проводимых во время мохаррама). Впрочем, уважаемый маулана Калбе Садик сообщил, что ничего предосудительного в сценарии не обнаружил, но немедленно собравшаяся Всеиндийская шиитская конференция сказала решительное «нет!». «Мы оскорблены так же, как индусы съемками на гхатах Бенареса!» Дополнительным поводом для негодования была и сюжетная линия, повествующая о любви мусульманки и индуса на фоне раздела Индии по конфессиональному признаку.
Все чаше и чаше кинематограф, театр, литература и живопись оцениваются не как искусство, а становятся объектами межрелигиозных или политических распрей. Цепная реакция идет по кругу, хотя происходящее в этих случаях напоминает не круговорот, а водоворот, втягивающий в себя все, чем живет человек, — культуру, религию, политику. Невыносимо, когда границы между этими понятиями стираются.
БОРИС ЛИСАНЕВИЧ
Южноазиатская эпопея русского эмигранта
Обычно рассказ начинается со вступительной фразы, но в повествовании о Борисе Николаевиче Лисаневиче творческая мысль рассказчика неизбежно парализуется, и остается только излагать чистые факты.
Борис (с ударением на «о» — его называли только так) родился 4 октября 1905 г. в семье мелкопоместного дворянина Николая Александровича Лисаневича, известного южнороссийского конезаводчика, и был младшим из четырех братьев. Свою невероятную жизненную эпопею он считал прямым следствием Октябрьского переворота. Не случись этого, служить бы ему сначала, по семейной традиции, офицером российского императорского флота, а потом растить на племенном заводе в местечке Лисаневичевка на Украине потомство выписанного из Англии ретивого жеребца Галтимора. Борис уже учился в кадетском корпусе в Одессе, когда началась революционная передряга. Семья покинула город и на лошадях добралась до Варшавы, но тут пришло известие, что Одесса в руках белых, и Лисаневичи на поезде вернулись домой. Вскоре пропал отец, старший брат Георгий присоединился к белогвардейцам и попал в гущу событий, второй брат — Михаил — погиб, когда эсминец, на котором он служил офицером, наткнулся на немецкую мину. Сам Борис, пятнадцатилетний боец Специального эскадрона по защите арьергарда, был ранен во время военного рейда где-то между Одессой и Туапсе. Мария Александровна Лисаневич с двумя сыновьями, Александром и Борисом, пыталась перебраться в Румынию, но намерение не осуществилось — в Одессу вошли красные. Правда, впоследствии Александру удалось бежать на рыбацкой шаланде, в разбушевавшемся море его подобрал корабль союзников, он добрался до Стамбула, а потом и до Франции (в 1928 г. к нему присоединится Мария Александровна). Бориса тем временем спасла родственница — мадам Гамсахурдия, балетмейстер труппы Одесского театра, выдав ему документ, удостоверявший членство в труппе. Фикция превратилась в реальность: Борис принялся осваивать азы танца. После нелегкой одиссеи по городам и весям, переболевший тифом, в Одессу сумел вернуться Николай Александрович (он умрет в СССР в 1923 г.), но одновременно пришло известие, что в Петрограде революционный трибунал приговорил к смерти Георгия. Его спасли подчиненные матросы, подав петицию революционным властям, и смертная казнь была заменена трехгодичным заключением (Георгий погибнет в СССР в 1935 г.).
Хорошо сложенный, выносливый и артистичный, Борис вскоре уже танцевал в заметных партиях. Тогда же, вероятно, у него сложилось устойчивое пренебрежение к деньгам, не имевшим цены в голодающей Одессе. Он признавался, что осознал полнейшую эфемерность всех признаков благосостояния, к которым стремится суетный человек. Вскоре с помощью дальних родственников он получил контракт на работу в парижском театре «Альгамбра». Однако его семья проходила по спискам землевладельцев, и шансы получить документы на выезд были нулевые. Энергичный Борис отправился в Москву в некий «Комитет по зарубежным гастролям», и — о чудо! — один из служащих, когда-то игравший на скачках, узнав в нем сына Николая Александровича, выправил нужные для получения заграничного паспорта бумаги. В день возвращения Бориса в Одессу в Оперном давали «Пророка» Мейербера. В последней сцене, когда по сюжету должен был загореться замок и имитировался пожар, все произошло взаправду, и от театра осталось пепелище. Вскоре Борис оказался в Париже.
Дисаневич отработал контракт в театре «Альгамбра», проехал с гастролями 65 немецких городов, танцевал в «Романтическом русском театре» Бориса Романова, будущего балетмейстера нью-йоркской «Метрополитен-опера», и, наконец, был принят в труппу «Русского балета» самого Сергея Дягилева, где работал с феноменальной отдачей и фантастическим успехом вплоть до смерти маэстро в 1929 г. Он знал множество партий и подменял любого заболевшего артиста, прекрасно играл на фортепияно, ставил хореографические миниатюры, а когда дягилевский балет почил, стал зарабатывать на жизнь уличным фотографом.
В те же годы Дисаневич познакомился и подружился с Матиссом, Дереном, Кокто, Стравинским, Дифарем, Рерихами, впрочем, всех перечислить невозможно. Неподдельный интерес к людям сохранился в Борисе на всю жизнь, но не меньший интерес (и тоже на протяжении абсолютно всей жизни) вызывала его собственная персона. Щедрый и вообще легко расстающийся с деньгами, Борис почти хронически сидел на мели. Его первой коммерческой затеей была торговля икрой на Французской Ривьере. Заработав неплохие деньги, он тут же пригласил веселую компанию друзей в ресторан; вечер закончился в казино вместе со всеми деньгами, которыми располагал Лисаневич. Он продолжал танцевать в антрепризах, сотрудничал с «Опера Монте-Карло», гастролировал по Южной Америке. В Буэнос-Айресе Елена Смирнова, великая балерина из Мариинки, умоляла его подписать постоянный контракт, он принял аванс, но вернулся в Европу завершить ряд дел. В Париже Борис познакомился с юной танцовщицей Кирой Шербачевой, безоглядно влюбился, вернул аванс в Аргентину, женился на Кире, и, получив приглашение от уже знакомого Бориса Романова, они отправились в Лондон, а затем в миланский «Ла Скала».
В декорациях, созданных Александром Бенуа, Борис блистал в балете Респиги «Балкис, царица Савская», на постановку которого итальянский дуче выделил 2 млн. лир, но был вынужден отказаться от партии герцога Альбы в балете «Старый Милан», поскольку местная фашистская организация воспротивилась исполнению русским офицером патриотической роли. Он танцевал с Верой Немчиновой, Тилли Лош и Лианой Мэннерс, был любимым партнером Мясина и Баланчина, вызывал восторг режиссера Макса Рейнхардта. Впрочем, когда власти Англии отказались продлить ему вид на жительство, Борис совершенно не расстроился и вместе с Кирой отправился гастролировать на Восток.
В 1933 г. супружеская пара прибыла в Бомбей. Отработав поставленные Борисом номера в концертном зале знаменитой гостиницы «Тадж Махал» (шесть месяцев аншлага!), они вслед за Индией покорили Бирму, Китай, Бали, Яву, Вьетнам и Нейлон. Англоязычная пресса Британской империи помешала восторженные отклики, и телеграфные рецензии опережали график их передвижений. Каждый этап являл сюжет для полноценного авантюрного романа — и о Борисе, кстати, будет написана не одна книга на французском, немецком, японском и прочих языках; он станет героем репортажей и очерков в таких журналах, как «Life», «Newsweek», «National Geographic».
Лисаневич принял экзотический Восток безоговорочно и, впитывая его полной грудью, насыщал хореографию и музыкальное сопровождение новыми элементами. Шли недели, месяцы, годы. Кира взбунтовалась, и они прибыли в Калькутту, чтобы вернуться пароходом Европу. Здесь их ждало письмо от Марии Александровны, которая просила сына встретиться с неким Джоном Уолфордом, директором судоходной компании. В разговорах о том о сем возникла идея элитарного клуба, и, поддерживаемый мощными спонсорами, Борис с головой окунулся в новую затею.
Так в 1936 г. в Калькутте, втором после Лондона по значению городе Британской империи, возник клуб «300». Название перекликалось с прославленным лондонским клубом «400». Поскольку цифра указывала на число постоянных членов, калькуттский клуб как бы сохранял второе место, но, уменьшив число членов, претендовал на большую эксклюзивность. Клуб разместился в приобретенном Борисом мраморном особняке, известном под именем «Причуда Филиппа», построенном одним из эксцентричной тройки армянских архитекторов, прибывших в Калькутту в 1870 г. и существенно повлиявших на ее облик, для своей возлюбленной, которая накануне свадьбы сбежала с простым солдатом. За 12 дней Лисаневич переложил паркет, перепланировал кухню, отреставрировал стены и потолки, приобрел роскошную мебель и, наконец, собрал оркестр. На роль повара из Ниццы был вызван Владимир Халецкий, белый офицер, освоивший высоты кулинарного искусства во Франции. Рождение клуба сопровождалось триумфом, и вскоре элитная публика со всех концов мира устремилась в Калькутту, чтобы не краснеть, услышав: «Как, вы еще не были в клубе «300»?!» Во время Второй мировой войны клуб стал местом встреч американских и английских летчиков, летавших через «Горбушку», как тогда называли Гималаи, для доставки стратегических грузов в Китай, Бирму и Индию.
Нет нужды объяснять, что экстравертный Борис стал необыкновенно популярен и в очередной раз приобрел множество новых друзей. В колоритной галерее лордов и генералов, навабов и принцев невозможно не выделить махараджу Дарбханги. Мало того, что у него было по шесть пальцев на каждой руке, он еще был знаменит на весь мир своей коллекцией драгоценностей: среди прочего в нее попали фамильные украшения русских царей, приобретенные на аукционе в Лейпциге, куда их выставило на продажу правительство большевиков, ожерелье Марии-Антуанетты и колоссального размера изумруд Великого Могола. Тогда же Борис познакомился и подружился с опальным непальским королем Трибхуваном, лишенным реальной власти, которая на протяжении столетия находилась в руках мощного клана наследственных премьер-министров Рана. Стены «Причуды Филиппа» помнят встречи и долгие тайные беседы между Борисом и посланцем короля — генералом Махабирой Раной из того же клана премьеров, но выступавшего на стороне короля. В 1951 г. в Непале произошла «монархическая революция», ликующий Трибхуван стал полноценным правителем, а Борис, уже считавший Индию недостаточно экзотичной, перебрался в укрытый тогда от всего мира Непал, где начал новую жизнь и новые проекты.
Событий калькуттского периода жизни Бориса хватило бы еще на десяток романов: охота на диких слонов, тигров и леопардов, рождение дочери Ксении, прокладка воздушных трасс между труднодоступными районами, опека над беглыми русскими староверами, крахи и взлеты, поездки в Голливуд, развод с первой женой Кирой, оставшейся в Америке и открывшей в Коннектикуте балетную школу. Наконец, безумная влюбленность в белокурую Ингер датско-шотландского происхождения, которая была на 20 лет моложе Дисаневича. Познакомились они в Калькутте, и мать Ингер, видимо убоявшись намерений русского «медведя», которого все и всегда подозревали в шпионаже на десяток разведок, отослала дочь в Копенгаген. Расстояния, впрочем, никогда не были препятствием для Бориса, он немедленно рванул вослед, женился на Ингер и вместе с ней вернулся в Непал. В 1951, 1952 и 1954 гт. у них родились три сына — Мишка, Сашка и Колька (именно так их все называют до сих пор).
По свидетельству Ингер, неунывающий Борис плакал только раз в жизни — 13 марта 1955 г., получив известие, что в цюрихской клинике скончался его ближайший соратник по калькуттским эскападам Трибхуван, король Непала. Вскоре стало ясно, что слезы эти оказались не только скорбными, но и провидческими. Практически сразу на Лисаневича обрушились невероятные беды, предсказать которые при высоком положении Бориса в Непале не смогла бы никакая Кассандра. В это время он занимался налаживанием производства спирта в Биратнагаре и внедрением в королевстве системы акцизных сборов — все соответствующие документы с правительством Непала были заблаговременно согласованы. Однако тем самым Борис посягнул на подрыв монополии местного самогона «ракши», который, хотя и предназначался для потребления самими производителями, усилиями влиятельных фигур непальского общества вышел за рамки семейных потребностей и приносил им немалые барыши. Как следствие у Лисаневича отобрали лицензию на импорт очищенного спирта, необходимого для запуска разливочного завода в Биратнагаре.
Однажды, пятничным вечером, к нему явился взвод полицейских и потребовал немедленной уплаты огромной суммы в качестве минимальной компенсации правительству за нарушение обязательств по открытию завода. Ошеломленный Дисаневич попытался объяснить, что это не он, а правительство расторгло контракт; впрочем, в любом случае он не мог уплатить означенной суммы, поскольку единственный на то время в Непале банк уже был закрыт до понедельника. Все это кончилось тюрьмой. Дисаневич оказался в подвале вместе с еще 15 узниками и мизерным рационом питания. Последовал протест британского посла, и Борису предоставили более комфортные условия.
В романе китаянки Хан Сюнь «Гора еще молодая» Дисаневич выведен под именем Василий. Отвечая на расспросы друзей, встревоженных пребыванием Василия в тюрьме, его жена отвечает: «Он там совсем не спит, сейчас весна, и собаки со всей округи занимаются возле тюрьмы любовью». Проблема решилась, когда друзья снабдили Василия рогаткой и он, пристроившись у окна, начал разгонять свору стеклянными шариками, обмазанными глиной. Однажды Ингер, навещавшая его каждый день, сообщила, что слегла Мария Александровна, которая после начала Второй мировой войны перебралась к сыну в Калькутту, а потом последовала за ним в Непал. Через несколько дней она умерла, и власти не вняли просьбе Бориса отпустить его на похороны.
Шли дни и недели, ухудшилось здоровье самого Дисаневича, который слал гневные письма и начальнику полиции, и в инстанции повыше. Наконец странная история завершилась: прибывший королевский секретарь посетовал, что в Непале еще не сложилась цивилизованная правовая система, и предложил Борису написать покаянное письмо королю. Лисаневич был взбешен, но осознал, что иного выхода не было; сошлись на компромиссе — секретарь пишет, а Борис ставит свою подпись. Дисаневича немедленно отпустили, он был принят и обласкан новым королем, который выразил надежду, что у Бориса не останется «неприятного осадка».
Ларчик, впрочем, просто открывался: приближалась официальная церемония интронизации сына Трибхувана, Махендры, а кто еще мог организовать и провести все мероприятие на суперуровне, тем более что ожидались именитые гости со всех уголков земного шара? Борис вновь засучил рукава. Буквально все приходилось начинать с нуля. Две более или менее пристойные гостиницы Катманду — его собственный «Королевский отель» и «Снежный пейзаж» — вмешали всего 50 человек, а ожидалось прибытие 112 «исключительно важных персон» (в результате прибыло 190) да еще около сотни журналистов! Закипела работа: перекрашивались храмы, расширялись дороги, строился аэропорт, летели по воздуху тридцать чугунных ванн. Борис был нужен всюду как главный эксперт по западному этикету. Апофеозом роскошных торжеств, наряду с усложненными многоходовыми ритуалами самой интронизации, согласованной с астрологами в соответствии с индусской традицией, должны были стать банкеты. Для этого из Индии выписали 6 тыс. живых цыплят, 2 тыс. уток, 1 тыс. цесарок, 500 индеек и 100 гусей, полторы тонны изысканных сортов рыбы и две тонны овощей, а также — в страну Гималаев, в переводе с санскрита «Обитель снегов», — было затребовано несколько тонн льда: пищевой лед в Непале еще не производили. Все это сопровождали 75 индийских поваров и 150 вышколенных официантов.
Насильственная миграция пернатых сначала поездом, а потом самолетами повлекла за собой преждевременную кончину многочисленных представителей птичьего отряда, от рыбы пошел душок, на фруктах образовались бочки. Выяснилось, что индийских официантов из соображений престижности не могут допустить к обслуживанию королевской семьи, и Борис начал школить местных новобранцев. Одновременно он разослал гонцов по всему Непалу отловить выносливых и мускулистых непальских кур — превосходных скалолазов, завалить диких кабанов и оленей; принимал по описи хрусталь, обеденные сервизы и столовые приборы из Европы, консультировал прибывавшую журналистскую братию по поводу местных политических, социальных и климатических нюансов и составлял многочисленные меню, учитывая диетические особенности каждого из высоких гостей. Не допуская отсутствия рыбных деликатесов на праздничном столе, Дисаневич имитировал конфигурацию и даже вкусовые качества загубленной рыбы консервированным лососем из Канады и Аляски с добавками из лобстеров и креветок. Все ели и нахваливали. Банки с лососем до сих пор популярны в Непале.
Не меньше усилий потребовалось от Бориса и в 1961 г., во время визита английской королевы Елизаветы и принца Филиппа. Махендра пригласил Елизавету и на охоту (в 1911 г. ее дедушка, Георг V, со товарищи подстрелили в Непале 39 тигров, 18 носорогов и четырех медведей). Естественно, сначала подготовили охотничий лагерь: сквозь джунгли пробили бульдозером дорогу, выровняли площадку, собрали в корзины скорпионов и прочих жалящих и сосущих, с воздуха спрыснули спреем от мух и малярийных комаров и, наконец, просанированное пространство покрыли стерильным дерном, а посредине из местного камня возвели макет горы Эверест с верхушкой из подкрашенного песка. Вокруг раскинули многокомнатные матерчатые дворцы со всеми удобствами, вплоть до самых обыденных. На этот раз основные закупки — 48 тонн — Лисаневич произвел в Гонконге, отправил морем в Калькутту, а затем, переложив в грузовики, — на границу с Непалом, до которой было около 900 км. Сам самолетом отправился в Катманду. Через пару дней, решив проверить, как поживает бесценный груз, Борис на маленьком спортивном самолете снова отправился в сторону Индии и обнаружил застрявший около пограничного города Раксаула караван машин: прошли дожди, разлилась река, и смыло мост. До визита оставались считанные дни. Борис собрал плоты и лодки со всей округи, 48 тонн были переправлены на противоположный берег и погружены в другие машины. И снова вперед!
На последнем из банкетов Лисаневич откупорил бутылки с французским шампанским и с разрешения монархов произнес тост за здоровье Их Величеств — королевы Великобритании и короля Непала, после чего, по традиции русского двора, если тост произносится в присутствии самодержца, грохнул бокал о балюстраду. Собравшиеся последовали его примеру. Только тогда Бориса осенило, что стол был сервирован его личным хрусталем, а не королевским. Елизавета протянула ему свою фотографию с автографом, а он — в нарушение всех правил протокола — галантно коснулся губами ее руки.
Лисаневич накрывал столы для Ворошилова и Чжоу Эньлая, Джавахарлала Неру, Айюба Хана и Индиры Ганди, принца Акихито и космической пары Терешкова-Николаев, когда после бракосочетания они заглянули на пару дней в Непал. С 1956 г. (момента установления дипломатических отношений между Непалом и Советским Союзом) Борис неизменно дружил с сотрудниками советского посольства. В середине 1970-х он вместе с навешавшим его князем Владими ром Голицыным до хрипоты отстаивал правоту Солженицына в идеологическом споре с тогдашним советским послом Камо Бабиевичем Удумяном. Дисаневич бывал счастлив, когда его угощали привезенным с родины брусничным и клюквенным вареньем. Его ресторан «У Бориса» и фешенебельный и суперсовременный «Як и йети» до сих пор знамениты своей русской кухней. Здесь в русском интерьере налегают на борщ и блины все знаменитые альпинисты, покорявшие Эверест, начиная с сэра Эдмунда Хиллари, и оплакивают потерю тех, кому не повезло. Именно Дисаневич выбивал визы для первых туристов, потянувшихся в Непал, когда страна приоткрыла двери для иностранцев; он же был инициатором организации всех первых гималайских экспедиций. Борис создал свиноводческую ферму, завезя йоркширских белых, и первым познакомил Непал с клубникой и свеклой, которые поначалу выращивал на своем огороде. Он же продюсировал американские и французские киноленты, часто оказываясь полностью разоренным в результате непредвиденных обстоятельств. Когда Борис решил, что для расширения туристического бизнеса нужны машины, а Ингер возразила, поскольку их доставка могла обойтись дороже, чем они сами, он просто слетал в Англию, закупил три «лэндровера», сел вместе с друзьями за баранку и перегнал их в Непал через всю Европу и пол-Азии.
Еще при жизни Борис стал человеком-легендой. О его приключениях и связях ходили самые разнообразные, нередко взаимоисключающие слухи. Никто не мог объяснить, что подвигало его на очередную безумную идею, а обычно — на несколько сразу. Никто не знал, включая самого Дисаневича, принесет ли новая затея удачу или обернется крахом. Неистощимый фантазер, умевший воплощать в жизнь свои замыслы, отчаянный, с явными авантюристскими наклонностями (впрочем, сама Россия неустанно требует от своих сынов именно таких качеств), но никогда не перекладывавший на других ответственность, этот человек оставил по себе исключительно добрую память. Индустрию туризма, главной статьи нынешних валютных доходов небогатого гималайского королевства, основал русский первопроходец Непала, заброшенный туда волею судеб своей неприкаянной родины и собственною планидою. Как-то на вопрос французского этнографа: «Что для Вас представляет ценность?» — этот авантажный выпивоха из клуба «300», плейбой и жуир, бесстрашный охотник на тигров и балетный танцор, друг царственных особ и бездомных беженцев, пытливый исследователь жизни во всех ее проявлениях и любящий отец семейства, ответил: «В общем-то жизнь — это игра. Имеет значение только одно — сколько людей ты сделал счастливыми».
Гудрун Корвинус, директор немецко-непальского геологического проекта, во время наших прогулок по «местам боевой славы» Лисаневича в Непале рассказала, что ее до сих пор охватывает трепет, когда она вспоминает свой танец с Борисом в конце 1970-х и властно-нежное тепло его рук. Она недавно побывала в Москве и призналась, что Россия стала ее манить как страна, подарившая миру такого удивительного человека.
Борис умер 20 октября 1985 г. и похоронен среди вековых деодаров на безлюдном кладбище английского посольства в Катманду; ключ от кладбищенской калитки хранится у дежурного по посольству. Единственные посетители могилы — российский посол и вдова Лисаневича. Непутевые дети Бориса разлетелись по свету, а престарелая Ингер живет в небольшом доме в пригороде Катманду на скромную зарплату (скорее пособие) библиотекаря британского культурного центра.
Вплоть до недавнего времени о Борисе Лисаневиче в России ничего не знали. Через одесских альпинистов, побывавших в Катманду, о нем стало известно в его родном городе, и несколько лет назад его вспомнили в интернетовском журнале «Одесса» («Одессит из Катманду»), а потом на страницах «Новых Известий» («Одесса-мама и ее непальский сын»). Оттуда я узнала, что еще при жизни Лисаневича Жан-Поль Бельмондо снял о нем фильм, и одесситы с нетерпением ждут его, так же как и специальной экспозиции, посвященной их блистательному земляку, в муниципальном музее им. Блешунова. Основой для всех публикаций о Лисаневиче неизменно служит документальное повествование американца Мишеля Писселя «Тигр к завтраку».
ГЛОССАРИЙ
абханг — поэтическая форма средневековой религиозной лирики на языке маратхи
аватар(а) — в вишнуизме: земное воплощение бога Вишну
агханъя (не подлежащая убиению) — корова
адваита — недвойственность, монизм
адхарма — беззаконие
акка — старшая сестра (в дравидских языках индийского юга)
акхара — аскетическое братство, объединенное объектом почитания, фигурами основоположника и преемника
альвары — средневековые поэты-бхакты из Тамилнаду, воспевавшие Вишну-Кришну
амрита — нектар бессмертия, добытый при пахтании океана богами и асурами; божественный напиток
араньякв — жанр примыкающей к ведам литературы, трактующей философские вопросы мироздания
арои ха-кодеш (шкаф святости) — шкаф для хранения свитка Торы
артха (польза, материальная выгода) — одна из четырех целей человеческой жизни (наряду с дхармой, камой и мокшей)
асур(а) — сверхъестественное существо, демон, враг богов
атма, атман, лжива — душа, индивидуальная субстанция
ахимса — непричинение вреда живому, философия ненасилия
ачарья — вероучитель, родоначальник или глава духовной традиции
ашрам — 1) место уединенного проживания и обучения; 2) ашрам(а) — общее название стадий, на которые должна была бы делиться идеальная жизнь представителей трех высших варн — брахманов, кшатриев и вайшьев
аштавннаякя (восьмерка Винаяков) — восемь храмов «самовозникших» Ганеш в Махараштре
апгтапутри ([приносящее] восемь сыновей) — специальное сари или выкрашенная в куркуме ткань, символизирующая приращение потомства
аятолла (знак божий) — высший титул шиитского правоведа
бадзра (баджра) — просяная культура, популярная в некоторых регионах Индии банг, азан (крик) — призыв мусульман к молитве
банд — форма коллективного протеста, выражаемого прекращением трудовой деятельности бандзарн — одна из групп индийских цыган
барака — (мус.) благодать как духовная сила, передаваемая при соприкосновении с ее источником
бене-Изранль — маратхиязычные евреи из районов, примыкающих к Бомбею
брадж — средневековый диалект и литературный язык североинлийского бхакти
брахманы — жанр примыкающей к ведам литературы, интерпретирующей (и усложняющей) ритуальные аспекты каждой из вед
брахмачари — проходящий одну из стадий индусского жизненного цикла, связанную с приобретением знаний и сексуальным воздержанием
бхав(а) — истовая вера, необходимая при богопочитании в бхакти
бхаджан — жанр религиозных песнопений, исполняемых приверженцами бхакти
бхаджья — миниатюрные пончики из гороховой муки с овощными добавками, популярный в Махараштре компонент трапезы
бхадрапад (бхадра, бхадон) — название одного из месяцев индийского лунного календаря, соответствует августу-сентябрю
бхакт — последователь принципов бхакти
бхакти (участие, сопричастность) — направление в индуизме, подразумевающее личные отношения между богом и верующим; мистический индуизм
бхарат-натьям — система танца, считающегося сегодня классическим, развился из храмовых танцев южноиндийских девадаси
бхашантар — точный перевод литературного произведения с иностранного языка на один из индийских
вагхъя, джогти — слуги бога Кхандобы в Махараштре и Карнатаке
ваджапен — род североиндийских брахманов
ваджрн — скребки для пяток
ванар — обезьяна
ваннияры — (неприкасаемая) каста в Тамилнаду
варан — гороховая приправа к еде
варна — одно из четырех сословий (брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры), на которые делилось древнеиндийское общество
варнашрамадхарма — концепция четырех стадий идеальной жизни представителей трех высших варн; каждой из стадий должна соответствовать определенная дхарма
вачан(а) — поэтическая форма средневековой религиозно-дидактической лирики на языке каннада
вачанкар — автор вачан, поэт-проповедник в традиции лингаятов
веды — древнейший памятник индийской литературы — четыре свода («Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа»), в которых отразилась вся совокупность представлений древних индийцев об окружающем их мире
веданта (конец вед) — 1) научно-философская литература (обычно араньяки и упанишады), комментирующая веды; 2) название одной из философских школ
вибхути — навозная зола, используемая вишнуитами и шиваитами для нанесения на лоб отличительных знаков
вивахасамскар(а) — свадебный ритуал, принятый в кругу брахманов
виджай-дашамн, дасера — празднование победы Рамы над Раваной на 9-й день светлой половины месяца ашвин (сентябрь-октябрь)
вина — индийский струнный щипковый музыкальный инструмент
винаяк(а) — 1) член Ганы, войска Шивы; 2) Винаяк — эпитет бога Ганеши
вирах(а) (разлука) — устойчивый смысловой и композиционный элемент в средневековой любовной и религиозной лирике, а также в современном индийском кинематографе
вишнуиты — приверженцы Вишну, воспринимающие его как Верховного бога
ган(а) — людское сообщество; войско бога Шивы
гаиапатиты — приверженцы Ганеши, воспринимающие его как Верховного бога
ганеш-чатуртхи — 10-дневный праздник в честь бога Ганеши, начинается на 4-й день светлой половины месяца бхадрапад
гарбхад(х)ан — ритуальная церемония, совершаемая перед первой брачной ночью; элемент вивахасамскары
геннза — полуподвальное помещение под алтарем в синагоге, где хранятся обветшалые списки Торы
голок(а) — согласно индусскому мироустройству, рай в верхней части трех миров, в котором царствует Кришна-Говинда, покровитель коров
годан — принесение в дар коровы
гомукх — изображение коровьей морды из дерева, металла или камня
гомукхасан(а) — поза коровы — одна из поз йоги как системы физических упражнений
госева — услужение корове
гопрасавашанти — ритуал отвращения дурных последствий от новорожденного, где ключевую роль играет корова
гоштхн (загон для коров) — место, где проходили беседы; семинар
гуру — индусский наставник, обладающий непререкаемым духовным авторитетом
гуркхн — этническая группа в Непале
гхас — количество еды, которое кладут пальцами в рот за один раз
гхат — спуск к реке, обустроенный для проведения ритуалов (чаще всего кремаций)
даргах — гробница мусульманского святого
даршан — лицезрение божества, основной способ богопочитания в современном индуизме
двайта — двойственность, дуализм
девадаси (божья рабыня) — категория храмовых служанок, прислуживающих как богу, так и жрецам и посетителям храма. В разных частях Индии известны как мурли, джогтини, махари, нати, богам, тхевардияр; часто занимаются проституцией
деванагари — алфавит, используемый в санскрите, хинди, маратхи и непали
дешастха — брахманская каста в Махараштре
джангам — жрец в лингаятизме
джатра — посещение храма местного божества в связи с храмовым праздником и приуро ченная к этому событию ярмарка в Северной и Центральной Индии
джаухар — коллективное самосожжение, к которому прибегали женщины-раджпутки
джняна, днян(а) — знание, приобретаемое в результате углубленного изучения священных текстов
дзвари (джовар) — просяная культура, популярная в некоторых регионах Индии
дивали — праздник огней в честь победы сил света над силами тьмы, отмечается с 13-го дня темной половины месяца ашвин (сентябрь-октябрь) до 2-го дня светлой половины месяца картик (катик, октябрь-ноябрь)
диван — ал.: главный министр княжества
дхарма — 1) религия индусов (обычно в сочетании хинлу дхарма или санатана дхарма;
2) основной закон — совокупность правил и установлений, определяющих поведение индуса на определенной жизненной стадии в зависимости от его Варны
дхоти (дхотар) — мужская бесшовная одежда из тонкой ткани, которую носят на бедрах, свободный конец ее пропускается между ног и закрепляется на талии
зийарат — посещение мусульманской святыни с целью духовного общения или получения заступничества
имамбара — павильон для траурных церемоний, отправляемых мусульманами-шиитами во время мохаррама
йога — 1) одна из шести философских школ; 2) система физических и духовных упражнений, направленных на полный контроль над телом и мыслью
йога-данд — магический жезл, символ накопленной энергии
йоджан(а) — мера длины, равная двум — восьми косам
йом-кипур (Судный день) — еврейский религиозный праздник
йони — женский детородный орган, символ женского начала, почитаемый в комплексе с лингамом или самостоятельно в культах, связанных с индусскими богинями
казн — зд.: культовые специалисты у бене-Израиль
калиюг(а) — нынешняя эпоха всеобщего упадка и безнравственности, когда от первоначальных добродетелей сохранилась одна четвертая часть; см. юг(а)
кама (чувственное наслаждение) — одна из четырех целей человеческой жизни (наряду с дхармой, артхой и мокшей)
канья — дочь
каньядан (принесение дочери в дар [ee супругу]) — церемония, элемент вивахасамскары
капила-шаштхи — ритуально значимый день, когда происходит чрезвычайно редкое совпадение шести — календарных и астрологических — факторов
карсевак — активист движения за строительство храма Рамы в Айодхъе
карам — чудеса, совершаемые мусульманскими мистиками
карма (деяние) — закон причинно-следственной зависимости, определяющий условия жизни и характер следующих перерождений
катеху — кусты акации, из которых гонят алкалоидный экстракт для приготовления пана
катха — сказание, драматическая декламация
кайяк — бескорыстная физическая работа в традиции лингаятов
киннар(а) — полубожественное существо с человеческим торсом и лошадиной головой
коли — каста рыбаков в Махараштре
кос — мера длины, равная приблизительно 3,2 км
кубдж — горб
кумбх — горшок
кумбх-мела — ритуальное коллективное омовение, совершаемое благочестивыми индусами раз в три года в установленных традицией местах
кумари — девушка, девственница
кумку, тика — официальный символ замужества женщины, наносимый специальной пастой на лоб
кундри — плоды чернильного орешка
курта — длинная мужская рубаха, надеваемая поверх дхоти, шароваров или брюк
кхари боли — североиндийский диалект, лежащий в основе современного хинди
ламани — одна из групп индийских цыган
лила (игра, игры) — деяния бога, осуществляемые им в виде игры для поддержания земного порядка; мистериальная драма, повествующая об эпизодах из жизни Рамы или Кришны
лингам — мужской детородный орган; фаллический символ бога Шивы, основной объект поклонения шиваитов
лингаяты — приверженцы одного из направлений бхакти, сформировавшегося в Карнатаке в XII–XIII вв.; известны также как «героические шиваиты»
Лок сабха (Народное собрание) — нижняя палата индийского парламента
маня — концепция иллюзорности восприятия
малиду — зд.: сладости, приготовленные из риса, молока и сахара-сырца, используются индийскими евреями при отправлении обрядов
мангалсутра — нашейное ожерелье, в некоторых регионах Индии — символ замужества женщины
мандал(а) — 1) одна из десяти книг «Ригведы»; 2) диаграмма — символ божественного присутствия, построенная по определенным правилам с целью почитания бога
мантра — краткий текст (иногда состоящий из одного слога), безупречное произнесение которого обещает особый магический или духовный результат
маратха — каста кшатриев в Махараштре
маулана — титул мусульманских ученых и богословов
маханубхавы — приверженцы одного из направлений бхакти, сформировавшегося в Махараштре в ХIII в.; известны в других частях Индии как джай-кришнаиты
махант — преимущественно в шиваизме: глава аскетического ордена или направления, а также храма
махатмъя — особый жанр религиозной литературы, прославляющей святость конкретного места
махары — (неприкасаемая) каста уборщиков нечистот в Махараштре
медресе (Мадраса) — учебное заведение для подготовки служителей культа и учителей мусульманских школ
модак — сладости, подносимые Ганеше, по форме напоминают редиску
мохаррам (мухаррам) (священный) — первый месяц мусульманского лунного календаря; включает день поминовения шиитского имама Хусейна
муктн, мокша — освобождение от цепочки перерождений
мухурт(а) — благоприятный момент для какого-либо мероприятия, определяемый астрологами
наваб — правитель, наместник, титул мусульманского феодала
наг(а) — 1) змея; 2) мифическое существо, божество низшего разряда; 3) монах-воитель, отказавшийся от одежды
нараянары — средневековые поэты-бхакты из Тамилнаду, воспевшие Шиву
натхи — представители древнего аскетическое направления в индуизме, почитающие бога Шиву и стремящиеся к полному контролю над своим телом и дыханием для достижения сверхъестественных способностей
нирвана — 1) состояние умудренной отрешенности в буддизме; 2) ад.: статус, приобретаемый членом сообщества хиджр после ритуала оскопления
ниргун(а) — бхакти — поклонение богу, лишенному атрибутов
ота — объект поклонения в традиции маханубхавов: цементная плита, установленная в месте, связанном с пребыванием там кого-либо из «пятерки Кришн»
паготе — вил тюрбанов, создаваемых каждый раз заново
пагрн — вид тюрбанов с заданной формой
пад — поэтическая форма средневековой религиозной лирики на североиндийских диалектах
падодака — вода для ритуального омовения ног
падука, падукн — сандалии; отлитые из металла оттиски следов — символ того или иного бога или сайга
пайтханн — дорогие шелковые сари с парчовой каймой, производимые на ручных ткацких станках в г. Пайтхане
Падма Бхушан — третья по значению государственная награда Индии для гражданских лиц
пан — индийская жвачка в виде скрутки из листа бетеля со множеством специй внутри
пандят — брахман, получивший традиционное образование; титул уважаемого ученого
пантх (путь) — направление, толк, религиозная община в индуизме
панчгавъя — пять священных продуктов, происходящих от коровы: молоко, простокваша, топленое масло, навоз и моча
парбатия — этническая труппа в Непале
парсы — последователи зороастризма, проживающие в Индии
пат — квадратная дощечка для сидения во время еды и при ритуальных церемониях
пативрата ([преданная] обетом супругу) — образцовая индусская жена
пир — духовный наставник, руководитель суфиев
поли, чапати — пресные лепешки из пшеничной муки, приготовленные на плоской сковородке
прасад — та часть подношения богу, которая (в виде фруктов, цветочных гирлянд, сладостей) возвращается обратно к верующему как «ответная милость»
прадакшнна — ритуальное кружение по часовой стрелке вокруг священного объекта
пуджа — храмовый и домашний ритуал богослужения, состоящий из 16 последовательных операций
пуджари — храмовый или домашний жрец
пури — лепешки из мелко просеянной пшеницы, обжаренные в кипящем растительном масле
пурим — День спасения и ликования, еврейский религиозный праздник
пушкарам — 12-дневная «южная» кумбх-мела, отмечаемая в Андхра Прадеше
раджпуты — воинская каста в Раджастхане
Раджья сабха (Собрание штатов) — верхняя палата индийского парламента
ракшас(а) — демон, противник людей, в первую очередь брахманов
рам(а) — раджья — утопическое государство всеобщей справедливости, созданное Рамой
рам(а) — джанма-бхуми — место рождения бога Рамы
рам-дила — многодневная инсценировка подвигов Рамы
рам(а) — шила-пуджан — молебен для освящения кирпичей, на которых написано имя Рамы
ранголи — разноцветный узор, создаваемый с помощью мелко перетертого порошка на земле или на полу, с целью освящения пространства
раса — эстетическое переживание, признаваемое классической индийской поэтикой в качестве необходимого компонента литературного произведения
рита (рта) — в «Ригведе»: вселенский закон, обеспечивающий регулярность космических процессов, а также моральный закон, управляющий социальной жизнью
риши — легендарные мудрецы и жрецы арийских племен, обретшие через откровение знание ведийских гимнов; святые мудрецы, оказывающие воздействие на развитие событий в эпосе и других сказаниях
рома — самоназвание цыган
рупантар — перевод-адаптация литературного произведения с иностранного языка на один из индийских
сагуп(а) — бхакти — поклонение богу, наделенному атрибутами
самá — духовные песнопения
самадхи — 1) психическое сосредоточение в йоге; 2) место завершения жизненного пути святого проповедника и мемориал, возведенный на этом месте
сампралай (практика, обычай) — направление, толк, религиозная община в индуизме
самсар(а) — круговорот перерождений
сайты (просветленные, святые) — наиболее знаменитые бхакты
санъяси — странствующий аскет, проходящий через четвертую, последнюю, стадию жизненного цикла
саптапади (семь шагов) — обход священного огня, центральный элемент вивахасамскары, символизирующий заключение брака
сапха — наматываемый тюрбан, популярен в Раджастхане
сарасвати — брахманская каста в Махараштре
сари — женская бесшовная одежда — кусок ткани от 5 до 9 м длиной, особым образом заматываемый вокруг тела
сати — обычай самосожжения вдовы на погребальном костре мужа
саубхагьявати (обладающая счастливой судьбой) — замужняя женщина
сваямсевак — 1) доброволец; 2) член РСС
симантапуджан — ритуальная встреча двух кланов, вступающих в матримониальные отношения; элемент вивахасамскары
сома — ритуальный напиток с галлюциногенным воздействием, изготовлявшийся в эпоху вед и приносившийся в жертву богам
спхуртивада — теория мироустройства как спонтанного проявления божественной сущности
стридхан — личное имущество жены, как правило, в виде драгоценностей
суклир — одна из групп индийских цыган
супари — плоды (орехи) арековой пальмы, необходимый компонент при приготовлении пана
так — взболтанное с водой кислое молоко, которым запивают острую пишу
тантра (тантризм) — мировоззрение, воспринимающее мир через плодотворную силу женской энергии, и соответствующая техника
тераи — наклонные равнины у южных подножий Гималаев в Непале и Индии
тилак — знак принадлежности к касте или религиозной общине, чаше ставится на лоб
тиртха (букв.: брод) — святое место возле воды, а также человек, достигший наивысшей духовности
тиртха-ятра — передвижение между святыми местами
третаюга — вторая из четырех мифологических эпох, когда людские добродетели уменьшаются на одну четверть по сравнению с первой — критаюгой, см. юг(а)
улемы (знающие) — собирательное название авторитетных знатоков ислама
упанишады — жанр примыкающей к ведам литературы, трактующей философские вопросы мироздания часто в противоположном ведийскому мировоззрению смысле
урс — годовщина кончины святого, ежегодно отмечаемая как брачная церемония
ушта — нечистое, физически и ритуально оскверненное
факир — странствующий суфий
фатва (фетва) — заключение мусульманского богослова по религиозно-правовому вопросу
хаджж — паломничество в Мекку, один из пяти «столпов» ислама
хальса — бескастовое, готовое к самопожертвованию, воинственное братство сикхов
хастика — древнее племя, проживавшее на территории нынешнего Афганистана
хиджры — религиозно-кастовая группа, объединяющая кастратов и гермафродитов
хинлутва — понятие, в зависимости от ситуации понимаемое как «индийскость» или «индусскость»
чили — острый перец, непременный компонент индийской кухни
читпаваны — брахманская каста в Махараштре
чиштии — суфийское (умеренно суннитское) братство, сложившееся в Восточном Иране и окончательно оформившееся на рубеже XII–XIII вв. в Индии
чхадар (чалар) — зд.: ритуальное покрывало, приносимое в дар гробнице мусульманского святого
шалларшана — шесть философских школ: ньяя и вайшешика, санкхъя и йога, миманса и веданта
шакти — божественная сила, отождествляемая с женской энергией
шалу — дорогое шелковое сари с парчовой каймой, обычно красного цвета
шастри — теолог, специалист по шастрам — индусским религиозно-правовым трактатам
шаипастхал(а) — шестифазовая тактика духовного усовершенствования в традиции лингаятов
шейх — зд.: наставник суфиев
шерпы — этническая группа в Непале
шиваиты — приверженцы Шивы, воспринимающие его как Верховного бога
шииты — последователи направления в исламе, признающего законными преемниками пророка Мухаммеда только Али и его потомков
шила — камень, кирпич; основа
шишка- дев — фаллическое божество
шлока — санскритское двустишие
шрикханд — приторная сладость из буйволиного молока, популярная в Махараштре
шрути (услышанное [откровение]) — категория, характеризующая самые священные тексты индуизма — веды и примыкающие к ним брахманы, араньяки и упанишады
шуддхи (очищение) — церемония, предназначенная для возвращения или перехода в индуизм коренного населения страны
эш талид (вечный огонь) — Неугасимая лампада в иудаизме
юг(а) — в мифологической хронологии общее название четырех эпох — крит(а), трет(а), двапар(а) и калиюг(а)
якша — мифическое существо, божество низшего разряда
ятра — передвижение как профанное, так и сакральное
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КАРТИНЫ ИЗ КОРЗИНЫ[90]
INFO
Глушкова И. П.
Г55 Из индийской корзины: Исторические интерпретации / Ирина Глушкова. — М.: Вост, лит., 2003.— 296 с.: ил. — (Рассказы о странах Востока: Восст. в 2003 г. / Редкол.: Л. Б. Алаев (пред.) и др.). — ISBN 5-02-018382-2 (в обл.).
ББК 63.3(5 Инд)
Научное издание
Глушкова Ирина Петровна
Из индийской корзины
Исторические интерпретации
Художник Э. Л. Эрман.
Технический редактор О. В. Волкова
Корректор Е. А. Мамиконян.
Компьютерная верстка Н. А. Важенкова
Подписано к печати 27.11.03. Печать офсетная. Формат 60x90 1/16. Усл. п. л. 18,5 + 1,0 (вкл.) Усл. кр. отт. 23, 0. Уч. изд. л. 21,6. Изд. № 8097. Тираж 850 экз. Зак. № 9188
Издательская фирма «Восточная литература» РАН
127051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
ППП «Типография «Наука»
121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6
…………………..FB2 — mefysto, 2021
Обширный, интересный и малоизвестный фактический материал. Подробно описаны многообразные традиции и определены понятия, без которых цивилизационный подход к Индии вряд ли возможен.
Доктор философских наук Б. С. Старостин
Оригинальность жанра, живость изложения и полное отсутствие «развесистой клюквы» делают книгу увлекательным чтением для тех, кто по-настоящему любит Индию.
Доктор исторических наук Л. Б. Алаев
Книга исключительно полезна, чтобы понять, какова сегодня Индия.
Доктор исторических наук В. Я. Белокриницкий