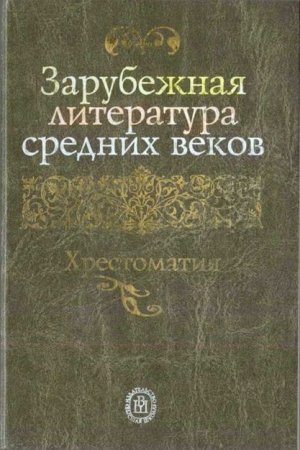
Составитель Б.И. Пуришев
Издание третье, исправленное
Предисловие
Столетний юбилей Бориса Ивановича Пуришева (1903—1989) вновь привлекает внимание к трудам и личности этого выдающегося ученого и педагога, 60 лет преподававшего зарубежную литературу средних веков и эпохи Возрождения, XVII—XVIII вв. в старейшем и крупнейшем педагогическом вузе страны, ныне носящем название Московский педагогический государственный университет. Авторитет в науке Б.И. Пуришеву принесли уникальные исследования памятников немецкой литературы. Но не меньшую известность он снискал как составитель хрестоматий, охвативших литературное развитие Европы на протяжении почти полутора тысячелетий от истоков средневековья до конца XVIII в. По этим хрестоматиям постигали историю зарубежной литературы несколько поколений отечественных филологов.
Б.И. Пуришев не стремился сформулировать свои идеи как систему принципов, составляющих в совокупности новый научный подход. В течение всей своей научной и преподавательской деятельности (конец 20-х — конец 80-х годов) он не входил в число специалистов, разрабатывающих социологический, историко-функциональный, структурно-системный, типологический и другие методы литературоведческого исследования, становившиеся на определенном этапе модными. Его интересовала проблема мировой литературы в контексте культуры, и применительно к характеристике этого взаимодействия он одним из первых разработал ряд историко-теоретических понятий (барокко, рококо в литературе и др.), обратился к обширному пласту литературных явлений второго ряда (например, к малоизвестным немецким писателям XV—XVII в.), к тем великим писателям, которые осуществляли в своем творчестве художественный синтез (прежде всего — к Гете). По этому же пути шли соратники и ученики Б.И. Пуришева, составившие мощную научную школу. В итоге Б.И. Пуришева по праву можно считать провозвестником историко-теоретического подхода в литературоведении — одного из самых плодотворных научных подходов последнего времени.
Историко-теоретический подход имеет два аспекта: с одной стороны, историко-литературное исследование приобретает ярко выраженное теоретическое звучание, с другой стороны, в науке утверждается представление о необходимости внесения исторического момента в теорию, осознания исторической изменчивости содержания научных терминов.
В свете историко-теоретического подхода искусство рассматривается как отражение действительности исторически сложившимся сознанием в исторически сложившихся формах.
Сторонники этого подхода стремятся рассматривать не только вершинные художественные явления, «золотой фонд» литературы, но все литературные факты без изъятия. Они требуют отсутствия предвзятости в отборе и оценке историко-литературного материала.
Одно из следствий историко-теоретического подхода заключается в признании того факта, что на разных этапах и в различных исторических условиях одни и те же понятия могли менять свое содержание. Более того, применяя современную терминологию к таким явлениям, исследователь должен корректировать содержание используемых им терминов с учетом исторического момента.
Историко-теоретический подход дал убедительный ответ на вопросы, требовавшие разрешения, он позволил выявить значительный объем данных для создания образа развития культуры как волнообразной смены стабильных и переходных периодов.
Для периодов стабилизации характерна устремленность к системе и систематизации, поляризация культурных тенденций, известная замкнутость границ в сформировавшихся системах, выдвижение какой-либо центральной тенденции и — нередко — альтернативной ей тенденции на центральные позиции (классицизм и барокко в XVII в., романтизм и реализм в XIX в.), что нередко отмечено в названии периода (например, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения).
Напротив, для переходных периодов свойственны необычайная пестрота культурных явлений, быстрые изменения «географии культуры», многообразие направлений развития без видимого предпочтения какого-либо одного из них, известная открытость границ художественных систем, экспериментирование, приводящее к рождению новых культурных явлений, возникновение пред- и постсистем (предромантизм, неоклассицизм и т. д.), отличающихся от основных систем высокой степенью неопределенности и фрагментарности.
Переходность — главное отличительное качество таких периодов, причем лишь последующее развитие культуры позволяет ответить на вопрос, в каком направлении произошел переход, внутри же периода он ощущается как некая неясность, повышенная изменчивость, заметная аморфность большого числа явлений.
Каждый тип культуры (стабильный или переходный) порождает и свой тип человека и его мировосприятия, а также утверждает свой специфический образ человека в сознании людей. Стабильные и переходные периоды чередуются.
Историко-теоретический подход был положен в основу «Истории всемирной литературы», издание которой осуществляется ИМЛИ РАН с 1983 г. Б.И. Пуришев был одним из авторов этого издания.
Историко-теоретический подход, ни разу не объявленный, тем не менее, лежит в основе и данной хрестоматии.
История ее создания такова. В 1936 г. вышло первое, а в 1938 г. — второе издание «Хрестоматии по западноевропейской литературе. Средние века», составленные проф. P.O. Шор. Преждевременная смерть P.O. Шор не позволила ей подготовить новое издание хрестоматии, и тогда издательство Учпедгиз обратилось к Б.И. Пуришеву с просьбой внести в учебное пособие необходимые коррективы. К тому времени он уже снискал авторитет как создатель хрестоматии по западноевропейской литературе XVII в., выдержавшей два издания. Несомненно, это был самый значительный труд такого рода, с блестяще разработанной системой отбора и комментирования литературного материала. Взявшись за усовершенствование хрестоматии P.O. Шор, Б.И. Пуришев обратился к этой системе — и оказалось, что получилась совсем новая хрестоматия, в которой от старой были сохранены лишь наиболее ценные тексты. Так в 1953 г. появилось первое издание настоящей хрестоматии. В ней собраны произведения и фрагменты, позволяющие отчетливо представить пути развития средневековой литературы на протяжении целого тысячелетия, ее направления (рыцарская, клерикальная, городская литература), жанры от грандиозных произведений героического эпоса до системы лирических жанров поэзии трубадуров и жанров средневековой драматургии. В хрестоматии раскрывается становление фигуры автора в литературном процессе от безымянных сочинителей раннего средневековья до Данте, Чосера и Вийона.
В основу нынешнего, третьего издания положено второе издание, осуществленное в 1974—1975 гг. издательством «Просвещение». Оно было значительно расширено по сравнению с первым, но по чисто техническим причинам разделено на два тома, не имеющие номеров. Так появились книги с пространными названиями: «Зарубежная литература средних веков. Латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы» и «Зарубежная литература средних веков. Немецкая, испанская, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы». Мы восстанавливаем единство труда Б.И. Пуришева — замечательного памятника отечественной культуры, до сих пор никем не превзойденного по богатству и уникальности отобранного материала, краткости, информативности и глубине комментариев. Сохраняя последовательность разделов, посвященных литературам разных народов и стран (хотя славянские литературы выглядят более архаичными по сравнению, например, с итальянской, где в XIII в. средневековье сменилось Предвозрождением), мы достигаем того эффекта, на который, очевидно, рассчитывал составитель: если книгу рассматривать как драму, то в месте кульминации окажется «Божественная комедия» Данте, что символично. В тексты Б.И. Пуришева внесена минимальная правка технического и конъюнктурного характера, обновлен список изданий средневековой литературы в русских переводах, включен раздел об Августине Блаженном и заменены вступительные статьи о Данте и его «Божественной комедии», которые были совершенно испорчены редакторской правкой в духе не свойственной Б.И. Пуришеву политизированности, — все же после выхода второго издания прошло более четверти века, а книга адресуется сегодняшним студентам и школьникам, должна соответствовать действующим Государственным стандартам и новым учебным программам.
При подготовке хрестоматии к новому изданию использован опыт аналогичного переиздания хрестоматии Б.И. Пуришева «Западноевропейская литература XVII века», осуществленного издательством «Высшая школа» в 2001 г. и получившего самый положительный отклик в вузах страны.
Хрестоматия Б.И. Пуришева «Зарубежная литература средних веков» предназначается для студентов филологических и исторических факультетов вузов, учащихся лицеев, гимназий, колледжей гуманитарного профиля.
В.А. Луков
Латинская литература
Августин Блаженный
У истоков средневековой литературы стоит раннехристианская литература Поздней Античности. Аврелий Августин, прозванный Блаженным (354—430), — наиболее авторитетный из западных «отцов церкви».
Переходность эпохи, в которую он жил, отразилась в его жизни самым непосредственным образом. Его отец был язычником, мать — христианкой. В юности Августин увлекся античной риторикой и философией, его кумиром стал Цицерон. Многие годы Августин был сторонником манихейства, изучал астрологию. Переехав в Медиоланум (Милан), в 387 г. он принимает христианство. Его крестным отцом стал святой Амвросий Медиоланский, соединявший в своих взглядах христианство и неоплатонизм.
Под влиянием Амвросия Августин осудил манихейство, отверг идею Зла как самостоятельной субстанции и рассмотрел его как отсутствиобра. Отверг он и астрологию с ее идеей предопределенности, выступил против пелагианства — одной из ранних христианских ересей. Пелагий считал, что Бог наделил человека свободой воли и каждый человек волен выбирать себе путь, какой хочет, но на том свете Бог каждому воздаст по справедливости, при этом отрицался первородный грех. В противоположность пелагианцам и астрологам Августин выдвинул идею благодати: Бог по своему произволу возвышает одних (посылает им благодать) и низвергает других вне зависимости от добрых или злых дел человеческих.
В известном противоречии с этой идеей находится учение Августина об аскетизме, которое он изложил в своем главном трактате «О граде Божьем» в 22 книгах, где противопоставлены град земной (империя) и град небесный (души людей, объединенные христианской церковью). В человеческом двуединстве тела (земного) и души (небесного) от тела нужно избавиться и воспарить к граду небесному.
В 397—401 гг. Августин написал «Исповедь» в 13 книгах — рассказ о своей жизни, адресованный Богу. Он пишет эту книгу для верующих, показывая на своем собственном примере, что можно быть большим грешником, нарушать многие заповеди, но, искренно предавшись Богу, избавиться от греховных помыслов. Путь спасения лежит через покаяние, отсюда характерные черты жанра исповеди, введенного в литературу Августином. В его труде сочетаются яркие описания событий личной жизни и их философско-религиозное осмысление. Впоследствии жанр исповеди получил развитие (в том числе и в светской литературе) и дал миру такие выдающиеся произведения, как «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо и «Исповедь» Л.Н. Толстого. Августин открывает сам принцип исповедальности, который свидетельствует об усилении авторского начала в искусстве и позже, в связи с развитием принципа психологизма, формирует целую систему художественных средств для описания внутреннего мира человека. Августин был признан одним из главных авторитетов в христианстве, что объясняет огромную роль его идей и стиля в последующем развитии литературы.
Приводимый отрывок из 10 книги «Исповеди», раскрывающий философский взгляд Августина на проблему памяти, отразился не только в средневековой философии и литературе, но и в Новейшее время, предваряя одну из главных тем романа одного из «отцов модернизма» М. Пруста «В поисках утраченного времени»[1].
ИСПОВЕДЬ
КНИГА ДЕСЯТАЯ
VIII
12. Итак, [...] постепенно поднимаясь к Тому, Кто создал меня, прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято. Там же сложены и все наши мысли, преувеличившие, преуменьшившие и, вообще, как-то изменившие то, о чем сообщили наши внешние чувства. Туда передано и там спрятано все, что забвением еще не поглощено и не погребено. Находясь там, я требую показать мне то, что я хочу; одно появляется тотчас же, другое приходится искать дольше, словно откапывая из каких-то тайников; что-то вырывается целой толпой, и вместо того, что ты ищешь и просишь, выскакивает вперед, словно говоря: «может, это нас?» Я мысленно гоню их прочь, и наконец, то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ. Кое-что возникает легко и проходит в стройном порядке, который и требовался: идущее впереди уступает место следующему сзади и, уступив, скрывается, чтобы выступить вновь, когда я того пожелаю. Именно так и происходит, когда я рассказываю о чем-либо по памяти.
13. Там раздельно и по родам сохраняется все, что внесли внешние чувства, каждое своим путем: глаза сообщили о свете, о всех красках и формах тел, уши — о всевозможных звуках; о всех запахах — ноздри; о всех вкусах — рот; все тело в силу своей общей чувствительности — о том, что твердо или мягко, что горячо или холодно, гладко или шероховато, тяжело или легко, находится вне или в самом теле. Все это память принимает для последующей, если она потребуется, переработки и обдумыванья, в свои обширные кладовые и еще в какие-то укромные неописуемые закоулки: для всего имеется собственный вход, и все там складывается.
Входят, однако, не сами чувственные предметы, а образы их, сразу же предстающие перед умственным взором того, кто о них вспомнил. Кто скажет, как они образовались, хотя и ясно, каким чувством они схвачены и спрятаны внутри?
Пусть я живу в темноте и безмолвии, но если захочу, я могу вызвать в памяти краски, различу белое от черного, да и любые цвета один от другого. Тут же находятся и звуки, но они не вторгаются и не вносят путаницы в созерцаемые мной зрительные образы: они словно спрятаны и отложены в сторону. Я могу, если мне угодно, вытребовать и их, и они тут как тут: язык мой в покое, горло молчит, а я пою, сколько хочется, и зрительные образы, которые, однако, никуда не делись, не вмешиваются и ничего не нарушают, пока я перебираю другую сокровищницу, собранную слухом. Таким же образом вспоминаю я, когда мне захочется, то, что внесено и собрано другими моими чувствами; отличаю, ничего не обоняя, запах лилий от запаха фиалок; предпочитаю мед виноградному соку и мягкое жесткому, ничего при этом не отведывая и ничего не ощупывая, а только вспоминая.
14. Все это происходит во мне, в огромных палатах моей памяти. Там в моем распоряжении небо, земля, море и все, что я смог воспринять чувством, — все, кроме мной забытого. Там встречаюсь я и сам с собой и вспоминаю, что я делал, когда, где и что чувствовал в то время, как это делал. Там находится все, что я помню из проверенного собственным опытом и принятого на веру от других. Пользуясь этим же богатством, я создаю по сходству с тем, что проверено моим опытом, и с тем, чему я поверил на основании чужого опыта, то одни, то другие образы; я вплетаю их в прошлое; из них тку ткань будущего: поступки, события, надежды — все это я вновь и вновь обдумываю как настоящее. «Я сделаю то-то и то-то», — говорю я себе в уме моем, этом огромном вместилище, полном стольких великих образов, — за этим следует вывод: «О если бы случилось то-то и то-то!». «Да отвратит Господь то-то и то-то», — говорю я себе, и когда говорю, тут же предстают передо мной образы всего, о чем говорю, извлеченные из той же сокровищницы памяти. Не будь их там, я не мог бы вообще ничего сказать.
15. Велика она, эта сила памяти, Господи, слишком велика! Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины! И, однако, это сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то самое, чего он не вмещает? Ужели вне его, а не в нем же самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, оцепенение охватывает меня.
И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, — а себя самих оставляют в стороне! Их не удивляет, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого перед собой, но я не мог бы об этом говорить, если бы не видел в себе, в памяти своей, и гор, и волн, и рек, и звезд (это я видел наяву), и океана, о котором слышал, во всей огромности их, словно я вижу их въявь перед собой. И, однако, не их поглотил я, глядя на них своими глазами; не они сами во мне, а только образы их, и я знаю, что и каким телесным чувством запечатлено во мне.
IX
16. Не только это содержит в себе огромное вместилище моей памяти. Там находятся все сведения, полученные при изучении свободных наук и еще не забытые; они словно засунуты куда-то внутрь, в какое-то место, которое не является местом: я несу в себе не образы их, а сами предметы. Все мои знания о грамматике, о диалектике, о разных видах вопросов живут в моей памяти, причем ею удержан не образ предмета, оставшегося вне меня, а самый предмет. Это не отзвучало и не исчезло, как голос, оставивший в ушах свой след и будто вновь звучащий, хотя он и не звучит, как запах, который, проносясь и тая в воздухе, действует на обоняние и передает памяти свой образ, который мы восстанавливаем и в воспоминании; как пища, которая, конечно, в желудке теряет свой вкус, но в памяти остается вкусной; как вообще нечто, что ощущается на ощупь и что представляется памяти, находясь даже вдали от нас. Не самые эти явления впускает к себе память, а только с изумительной быстротой овладевает их образами, раскладывает по удивительным кладовкам, а воспоминание удивительным образом их вынимает.
X
17. В самом деле, когда я слышу, что вопросы бывают трех видов: существует ли такой-то предмет? что он собой представляет? каковы его качества? то я получаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что эти звуки прошуршат в воздухе и исчезнут. Мысли же, которые обозначаются этими звуками, я не мог воспринять ни одним своим телесным чувством и нигде не мог увидеть, кроме как в своем уме; в памяти я спрятал не образы этих мыслей, а сами мысли. Откуда они вошли в меня? пусть объяснит, кто может. Я обхожу все двери моей плоти и не нахожу, через какую они могли проникнуть. Глаза говорят: «Если у них есть цвет, то возвестили о них мы». Уши говорят: «Если они звучат, то о них доложили мы». Ноздри говорят: «Если они пахнут, то они прошли через нас». Чувство вкуса говорит: «Если у них нет вкуса, то нечего меня и спрашивать». Осязание говорит: «Если они бестелесны, то нельзя их ощупать, а если нельзя ощупать, то не могу я о них и доложить». Откуда же и каким путем вошли они в память мою, не знаю. Я усвоил эти сведения, доверяясь не чужому разуму, но, проверив собственным, признал правильными и отдал ему как бы на хранение, чтобы взять по желанию. Они, следовательно, были там и до того, как я их усвоил, но в памяти моей их не было. Где же были они и почему, когда мне о них заговорили, я их узнал и сказал: «Это так, это правильно»? Единственное объяснение: они уже были в моей памяти, но были словно запрятаны и засунуты в самых отдаленных ее пещерах, так что, пожалуй, я и не смог бы о них подумать, если бы кто-то не побудил меня их откопать.
XI
18. Итак, мы находим следующее: познакомиться с тем, о чем мы узнаем не через образы, доставляемые органами чувств, а без образов, через внутреннее созерцание, представляющее нам созерцаемое в подлинном виде, — это значит не что иное, как подумать и как бы собрать то, что содержала память разбросанно и в беспорядке, и внимательно расставить спрятанное в ней, но заброшенное и раскиданное, расставить так, чтобы оно находилось в самой памяти как бы под рукой и легко появлялось при обычном усилии ума.
Сколько хранит моя память уже известного и, как я сказал, лежащего под рукой, о чем говорится: «Мы это изучили и знаем». Если я перестану в течение малого промежутка времени перебирать в памяти эти сведения, они вновь уйдут вглубь и словно соскользнут в укромные тайники. Их придется опять как нечто новое извлекать мысленно оттуда — нигде в другом месте их нет, — чтобы с ними познакомиться. Вновь свести вместе, т. е. собрать как что-то рассыпавшееся. [...]
XII
19. В памяти содержатся также бесчисленные соотношения и законы, касающиеся чисел и пространственных величин; их не могло сообщить нам ни одно телесное чувство, ибо они не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, не издают звуков и не могут быть ощупаны. Я слышу звук слов, которыми их обозначают, о них рассуждая, но слова эти — одно, а предмет рассуждений — совсем другое. Слова звучат иначе по-гречески, иначе по-латыни, самый же предмет существует независимо от греческого, латинского и любого другого языка. [...]
XIII
20. Все это я держу в памяти, и как этому выучился, держу в памяти. Множество ошибочнейших возражений на это я слышал и держу их в памяти, и хотя они ошибочны, но то, что я их запомнил, в этом я не ошибаюсь. Я провел границу между правильным и ошибочными противоречиями правильному. И это помню, но вижу теперь, что провести эту границу — одно, а помнить, что я часто ее проводил, часто об этом размышляя, — это другое. Итак, с одной стороны, я помню, что часто приходили мне в голову эти соображения, с другой же, то, что я сейчас различаю и понимаю, я складываю в памяти, чтобы потом вспомнить о том, что сегодня я это понимал. И я помню, что я помнил, и если потом вспомню, что мог сегодня это припомнить, то вспомню об этом, конечно, пользуясь силой моей памяти.
XIV
21. И мои душевные состояния хранит та же память, только не в том виде, в каком их когда-то переживала душа, а в другом, совсем разном и соответствующем силе памяти. Я вспоминаю, не радуясь сейчас, что когда-то радовался; привожу на память прошлую печаль, сейчас не печалясь; не испытывая страха, представляю себе, как некогда боялся, и бесстрастно припоминаю свою былую страсть. Бывает и наоборот: бывшую печаль вспоминаю я радостно, а радость — с печалью. Нечего было бы удивляться, если бы речь шла о теле, но ведь душа — одно, а тело — другое. Если я весело вспоминаю о прошедшей телесной боли, это не так удивительно. Но ведь память и есть душа, ум; когда мы даем какое-либо поручение, которое следует держать в памяти, мы говорим: «смотри, держи это в уме»; забыв, говорим: «не было в уме»; «из ума вон» — мы, следовательно, называем память душой, умом, а раз это так, то что же это такое? Когда я, радуясь, вспоминаю свою прошлую печаль, в душе моей живет радость, а в памяти печаль: душа радуется, оттого что в ней радость, память же оттого, что в ней печаль, не опечалена. Или память не имеет отношения к душе? Кто осмелился бы это сказать! Нет, память это как бы желудок души, а радость и печаль. — это пища, сладкая и горькая: вверенные памяти, они как бы переправлены в желудок, где могут лежать, но сохранить вкус не могут. Это уподобление может показаться смешным, но некоторое сходство тут есть.
22. И вот из памяти своей извлекаю я сведения о четырех чувствах, волнующих душу: это страсть, радость, страх и печаль. Все мои рассуждения о них, деления каждого на виды, соответствующие его роду, и определения их — все, что об этом можно сказать, я нахожу в памяти и оттуда извлекаю, причем ни одно из этих волнующих чувств при воспоминании о нем меня волновать не будет. Еще до того, как я стал вспоминать их и вновь пересматривать, они были в памяти, потому и можно было их извлечь воспоминанием. Может быть, как пища поднимается из желудка при жвачке, так и воспоминание поднимает эти чувства из памяти. Почему же рассуждающий о них, т. е. их вспоминающий, не чувствует сладкого привкуса радости или горького привкуса печали? Не в том ли несходство, что нет полного сходства? Кто бы по доброй воле стал говорить об этих чувствах, если бы всякий раз при упоминании печали или страха нам приходилось грустить или бояться? И, однако, мы не могли бы говорить о них, не найди мы в памяти своей не только их названий, соответствующих образам, запечатленным телесными чувствами, но и знакомства с этими самыми чувствами, которое мы не могли получить ни через одни телесные двери. Душа, по опыту знакомая со своими страстями, передала это знание памяти, или сама память удержала его без всякой передачи.
XV
23. С помощью образов или без них? Кто скажет! Я говорю о камне, говорю о солнце; я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль — а ее у меня нет, ничто ведь не болит. Если бы, однако, образ ее не присутствовал в моей памяти, я не знал бы, что мне сказать, и сумел бы, рассуждая, провести границу между ней и наслаждением. Я говорю о телесном здоровье, будучи здоров телом; качеством этим я обладаю, но если бы образ находился в моей памяти, я никак не мог бы припомнить, что значит это слово. И больные не понимали бы значения слова «здоровье», если бы образ его не был удержан памятью, хотя самого здоровья у них и нет.
Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет, — вот они в памяти моей: не образы их, а они сами. Я называю образ солнца — и он находится в моей памяти; я вспоминаю не образ образа, а самый образ, который и предстает при воспоминании о нем. Я говорю «память» и понимаю, о чем говорю. А где могу я узнать о ней, как не в самой памяти? Неужели она видит себя с помощью образа, а не непосредственно?
XVI
24. Далее: когда я произношу «забывчивость», я также знаю, о чем говорю, но откуда мог бы я знать, что это такое, если бы об этом не помнил? Я ведь говорю не о названии, а о том, что это название означает; если бы я это забыл, то я не в силах был бы понять смысл самого названия. Когда я вспоминаю о памяти, то тут в наличии сама память, непосредственно действующая, но когда я вспоминаю о забывчивости, то тут в наличии и память, и забывчивость: память, которой я вспоминаю, и забывчивость, о которой я вспоминаю. Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? Каким же образом могу я вспомнить то, при наличии чего я вообще не могу помнить? Но если мы удерживаем в памяти то, о чем вспоминаем, то, не помни мы, что такое забывчивость, мы никак не могли бы, услышав это слово, понять его смысл; о забывчивости, следовательно, помнит память: наличие ее необходимо, чтобы не забывать, и в то же время при наличии ее мы забываем. Не следует ли из этого, что не сама забывчивость присутствует в памяти, когда мы о ней вспоминаем, а только ее образ, ибо, присутствуй она сам, она заставила бы нас не вспомнить, а забыть. Кто сможет это исследовать? Кто поймет, как это происходит? [...]
XVII
26. Велика сила памяти; не знаю, Господи, что-то внушающее ужас есть в многообразии ее бесчисленных глубин. И это моя душа, это я сам. Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя? Жизнь пестрая, многообразная, бесконечной неизмеримости!
Широки поля моей памяти, ее бесчисленные пещеры и ущелья полны неисчислимого, бесчисленного разнообразия: вот образы всяких тел, вот подлинники, с которыми знакомят нас науки, вот какие-то отметины и заметки, оставленные душевными состояниями, — хотя душа их сейчас и не переживает, но они хранятся в памяти, ибо в памяти есть все, что только было в душе. Я пробегаю и проношусь повсюду, проникаю даже вглубь, насколько могу, — и нигде нет предела; такова сила памяти, такова сила жизни в человеке, живущем для смерти. Что же делать мне, Боже мой, истинная Жизнь моя? Пренебрегу этой силой моей, которая называется памятью, пренебрегу ею, чтобы устремиться к Тебе, сладостный Свет мой. Что скажешь Ты мне? Я поднимаюсь к тебе душой своей — Ты пребываешь ведь надо мной — и пренебрегу этой силой, которая называется памятью; я хочу прикоснуться к тебе там, где Ты доступен прикосновению, прильнуть к Тебе там, где возможно прильнуть. Память есть и у животных, и у птиц, иначе они не находили бы своих логовищ, гнезд и многого другого, им привычного; привыкнуть же они могли только благодаря памяти. Я пренебрегу памятью, чтобы прикоснуться к Тому, Кто отделил меня от четвероногих и сделал мудрее небесных птиц. Пренебрегу памятью, чтобы найти Тебя. Где? Истинно добрый, верный и сладостный, где найти Тебя? Если не найду Тебя в моей памяти, значит, я не помню Тебя. А как же я найду Тебя, если я Тебя не помню? [...]
XIX
28. [...] А когда сама память теряет что-то, как это когда мы забываем и силимся припомнить, то где производим мы наши поиски, как не в самой памяти? И если случайно она показывает нам что-то другое, мы это отбрасываем, пока не появится именно то, что мы ищем. А когда это появилось, мы говорим: «Вот оно!». Мы не сказали бы так, не узнай мы искомого, и мы не узнали бы его, если бы о нем не помнили. Мы о нем, правда, забыли. Разве, однако, оно совсем выпало из памяти и нельзя по удержанной части найти и другую? Разве память не чувствует, что она не может целиком развернуть то, к чему она привыкла как к целому? Ущемленная в привычном, словно охромев, не потребует ли она возвращения недостающего? Если мы видим знакомого или думаем о нем и припоминаем его забытое имя, то любое, пришедшее в голову, с этим человеком не свяжется, потому что нет привычки мысленно объединять их. Отброшены будут все имена, пока не появится то, на котором и успокоится память, пришедшая в равновесие от привычного ей сведения. А где было это имя, как не в самой памяти? Если даже нам напомнит его кто-то другой, оно все равно находилось там. Мы ведь не принимаем его на веру, как нечто новое, но, вспоминая, только подтверждаем сказанное нам. Если же это имя совершенно стерлось в памяти, то тут не помогут никакие напоминания. Забыли мы его, однако, не до такой степени, чтобы не помнить о том, что мы его забыли. Мы не могли бы искать утерянного, если бы совершенно о немзабыли.
УЧЕНАЯ ПОЭЗИЯ VIII—IX ВВ.
В истории культуры средних веков кратковременным, но весьма примечательным эпизодом явилось так называемое каролингское Возрождение. Его главными представителями были ученые-поэты различных национальностей, собранные при дворе Карла Великого.
В задачу придворных поэтов входило прославление императора и его начинаний, а также прямое содействие этим начинаниям. Стремясь создать централизованное феодальное государство, управляемое посредством имперских чиновников, Карл Великий был крайне заинтересован в организации ряда школ для подготовки необходимых кадров грамотного чиновничества и духовенства, преданных феодальному монарху. Придворные ученые принимали самое деятельное участие в этих мероприятиях. Тем самым и в качестве писателей, и в качестве педагогов они способствовали упрочению каролингской феодальной империи.
Ведущую роль в придворном ученом обществе, по античному примеру названном Академией, играл англосакс Алкуин, один из наиболее образованных людей того времени. Видными писателями были также находившиеся при императорском дворе Павел Диакон из Ломбардии, Теодульф, вестгот из Испании, франк Эйнхард — автор «Жизнеописания Карла Великого». Все они писали свои произведения на латинском языке, который являлся государственным языком имперских учреждений. Это предпочтение латинского языка имело двоякий смысл. Поскольку обширная империя Карла Великого включала многочисленные племена и народности, говорившие на своих языках, латинский язык приобретал большое значение как средство культурного и политического объединения всех имперских земель. Вместе с тем феодальная империя Карла Великого претендовала на то, чтобы выступать в роли прямой наследницы погибшей Римской империи. Карл носил титул «императора римлян» и стремился создать централизованное государство по римскому образцу. В этом плане латинский язык в качестве официального языка культуры и государства приобретал особый смысл: он должен был знаменовать историческое родство обеих империй. Стремление приблизиться к античности было характерно и для ученой литературы каролингского периода. Начитанность в древних авторах почиталась академиками одним из важнейших признаков образованности. Поэты принимают античные прозвища: Алкуин называет себя Горацием, аббат Ангильберт — Гомером и т.п. Изучение античной поэзии подсказывает каролингским поэтам различные литературные формы. В большом ходу классические метры (гекзаметр, элегический дистих, анакреонов стих, ямбический диметр и другие лирические размеры), классические строфы (сапфические, асклепиадовы, архилоховы и другие строфы), классические жанры (панегирики, послания, эпитафии, эклоги, басни и др.). «Возрождение» античности в эстетической сфере должно было санкционировать всесторонние имперские притязания каролингской монархии. «Рим золотой обновлен и опять возродился для мира», — писал один из каролингских поэтов (Муадвин-Назон, «Эклога», 27). Но, конечно, подобно тому как феодально-христианская империя Карла Великого была весьма далека от империи древнеримской, так и литература каролингского Возрождения была весьма далека от литературы античной. В старые классические формы каролингские поэты вливали новое средневековое содержание. Языческие представления древних были им глубоко чужды. Глубоко чужд был им также чувственный элемент, столь характерный для искусства классической древности. Драпируясь в классические одежды, они продолжали оставаться типичными представителями христианской средневековой культуры. Служитель муз был неотделим от служителя церкви. Однако, будучи прежде всего придворными поэтами, академики отнюдь не являлись поэтами церковными в узком смысле этого слова. Они охотно касались самых различных светских тем, начиная с панегирического описания охоты Карла Великого (Ангильберт) и кончая дружескими посланиями и веселыми анекдотами. Со временем церковное начало в ученой поэзии возобладало над светским. Уже при сыне Карла Великого Людовике Благочестивом Академия перестает существовать. С распадом каролингской империи исчезает потребность в универсальной латинской светской литературе. Происходит децентрализация культурной жизни. Возрастает роль монастырей. В то же время традиции каролингского Возрождения угасают не сразу. На это указывает творчество ряда видных поэтов IX в., позднее академиков, вступивших на литературную арену (алеманн Валахфрид Страбон, ирландец Седулий Скотт и др.).
Застежка из слоновой кости. VI в.
В период глубокого падения западноевропейской культуры поэзия каролингского Возрождения была явлением незаурядным. Конечно, это была поэзия весьма ограниченного социального круга, но она все же не была безжизненной и узко книжной. Она откликалась на текущие события. Ей был подчас присущ подлинный лиризм. Особенно примечательны в этом отношении стихотворения, посвященные дружеским чувствам, заменявшие в то время любовную лирику. О развитом чувстве природы свидетельствуют природоописательные стихотворения. Иногда ученые поэты выступали в роли обличителей и сатириков, нападая на дурных правителей или на пороки католического клира. Порой в некоторых произведениях ученой поэзии даже слышатся отзвуки народной словесности. Возможно, что к фольклорным мотивам отчасти восходит «Словопрение Весны с Зимой» Алкуина. А побасенка Теодульфа «Об утерянной лошади» весьма напоминает какое-нибудь народное фаблио о спасительной хитрости. Но обращение к фольклору отнюдь не определяет основного характера каролингской поэзии. Последняя прежде всего являлась поэзией придворной. В ней большое место занимали произведения, восхвалявшие царствующий дом, придворных и церковь, а также произведения религиозного характера. При всех своих «классических» тенденциях ученые-поэты были ограничены узким кругом средневекового феодально-теологического мировоззрения.
Алкуин
Алкуин (около 730—804) — англосакс знатного рода. Образование получил в Йоркской епископской школе (на севере Англии). С 778 г. — диакон и учитель. Во время путешествия в Рим в 781 г. встретился в Парме с Карлом Великим, который привлек его к своему двору. С 793 г. Алкуин становится руководителем придворной школы в Аахене и главой Академии. С 796 г. он — аббат монастыря св. Мартина в Туре. Активная деятельность Алкуина во многом способствовала тому, что двор Карла стал главным культурным центром Франкского государства. Основывая образовательные учреждения, Алкуин развил энергичную деятельность и в качестве педагога. Из-под его пера вышли произведения самого разнообразного содержания: богословские трактаты, руководства по философии, математике, астрономии, риторике и грамматике, обширная переписка на личные и научные темы, жития святых, поэма о Йоркской церкви, многочисленные стихотворения. Используя отдельные элементы античной образованности (так, свою поэму о князьях и епископах йорских Алкуин пишет по образцу произведений Вергилия), Алкуин, подобно другим деятелям каролинского Возрождения, не выходит за пределы религиозного средневекового мировоззрения. Языческая античная культура была для ученого клирика лишь средством истолкования и углубления христианской догматики. Гораздо менее скована догматическими канонами лирическая поэзия Алкуина.
АЛКУИН — КОРОЛЮ
СЛОВОПРЕНИЕ ВЕСНЫ С ЗИМОЙ
Павел Диакон
Павел Диакон — лангобард знатного рода (годы рождения и смерти неизвестны). Воспитание и образование получил в Павии. Служил при дворе лангобардского короля Дезидерия. После завоевания Ломбардии Карлом Великим Павел, хлопоча о брате, угнанном в плен, попадает в 782 г. ко двору Карла, где встречает весьма радушный прием. В дальнейшем возвращается в Италию. Главный труд Павла — «История лангобардов» — самый ценный источник по истории лангобардов и их фольклору. Значительный интерес представляют также поэтические творения Павла.
ВО СЛАВУ ЛАРСКОГО ОЗЕРА[12]
ЭПИТАФИЯ ПЛЕМЯННИЦЕ СОФИИ
Теодульф
Теодульф (?—821) вестгот из Испании. Образование получил на родине. Был поэтом, богословом, моралистом, князем церкви (архиепископом Орлеанским), покровителем искусств. На него возлагались ответственные административные и дипломатические поручения. В 817 г. Теодульф был заподозрен в соучастии в заговоре против Людовика Благочестивого, сослан в Анжер, где и скончался. Написал обширное обличительное стихотворение «Против судей» — весьма важный памятник для изучения эпохи, а также ряд посланий и других стихотворений научного, богословского и морального содержания, иногда с уклоном к сатире, несколько шутливых стихотворений, панегирические послания, эпитафии и эпиграфы.
ОБ УТЕРЯННОЙ ЛОШАДИ
Валахфрид Страбон
Валахфрид Страбон (808(9)—849) — алеманн[15] незнатного происхождения. Образование получил в монастыре Рейхенау. В 829—838 гг. состоял при императорском дворе в качестве воспитателя королевича Карла (Лысого). С 838 г. — аббат в Рейхенау. Писал стихотворные жития святых, поносил за ересь арианина[16] Теодориха Великого, в дидактической поэме «Об уходе за садами» дал поэтическое описание отдельных цветов и овощей. Перу Валахфрида принадлежит также ряд мелких стихотворений, из них много посланий и гимнов.
К ЛИУТГЕРУ — КЛИРИКУ[17]
Седулий Скотт
Седулий Скотт (годы рождения и смерти неизвестны) — ирландский поэт, грамматик и богослов. Образование получил на родине. Круг знаний его весьма значителен; между прочим, он обнаруживает основательное знание греческого языка. Возможно, что Седулий Скотт не был клириком. Между 848 и 858 гг. он проживал при дворе льежских епископов — Хартгария и Франкона, ведя переписку со знатными мирянами и князьями церкви. С 858 г. сведения о нем иссякают. Им написаны многочисленные панегирические послания, шутливые послания, эклога, эпиграммы, «Книга о христианских правителях» — поучение князьям (из которой мы приводим отрывок) и др.
О ДУРНЫХ ПРАВИТЕЛЯХ
БАСНЯ О ЛЬВЕ И ЛИСИЦЕ
Написанная элегическим дистихом (двустишиями из гекзаметра и пентаметра), обильно украшенным леонинами (рифмованными в цезуре стихами), басня эта вряд ли старше середины IX в., хотя ряд исследователей без достаточных оснований приписывал ее Павлу Диакону, современнику Карла Великого, автору «Истории лангобардов» (середина VIII в.). «Басня о Льве и Лисице» представляет собой один из наиболее ранних образцов европейского средневекового животного эпоса.
СТИХ ОБ АББАТЕ АДАМЕ
Анонимное стихотворение каролингской эпохи, во многом предвосхищающее черты поэзии вагартов. Вероятно, относится к IX в.
Эккехарт I
Поэма в латинских гекзаметрах, подражающих «Энеиде» Вергилия, написана около 920 г. монахом Санкт-Галленского монастыря Эккехартом I или, как полагает ряд ученых, неким Геральдом (около середины IX в.), о личности которого нам ничего неизвестно. Поэма разрабатывает сюжет старинного германского сказания, сохранившийся также в двух фрагментах англосаксонского эпоса VIII в. в пересказе исландской «Саги о Тидреке», и в баварско-австрийском эпосе VIII в., дошедшем в двух отрывках. Облаченная в вергилианскую форму, поэма в то же время является выдающимся памятником германского эпоса раннего средневековья, поскольку автор, видимо, близко следовал за древним сказанием, известным ему либо в записи, либо в устной передаче.
ВАЛЬТАРИЙ МОГУЧАЯ РУКА
(Waltarius manu fortis)
(Покоренные Аттилой, короли франкский, бургундский и аквитанский отдают ему свои сокровища и заложников: властитель бургундов — свою дочь Хильдегунду, властитель Аквитании — своего сына Вальтера (Вальтария), а король франков — юношу знатного рода — Хагена. Аттила дает юношам достойное воспитание и превращает их в своих военачальников; девушку воспитывает королева. Хагену удается бежать. Одержавший победу над восставшими против Аттилы данниками, Вальтер возвращается домой.)
(Вальтер и Хильдегунда решают бежать из страны гуннов, прихватив с собой богатую казну Аттилы. Вальтеру удалось во время пира опоить вином властителей страны и их слуг. Очнувшись на другой день после попойки, гунны не посмели его преследовать, и на сороковой день Вальтер с Хильдегундой достигли Рейна.)
(Тщетно уговаривает Хаген Гунтера не нападать на Вальтера, а покончить дело миром; Гунтер обвиняет Хагена в трусости. Завязывается бой, в котором гибнут один за другим все витязи Гунтера.)
(Хаген дает тогда Гунтеру совет — отойти в сторону и напасть на Вальтера из засады. Вальтер попадает в расставленную ему ловушку.)
ПОЭЗИЯ ВАГАНТОВ
Особое место в латинской литературе средних веков занимает поэзия вагантов (от латинского слова: vagantes — «бродячие люди»), или голиардов, встречаемых в Германии, Франции, Англии и Северной Италии. Расцвет поэзии вагантов приходится на XII—XIII вв., когда в связи с подъемом городов в странах Западной Европы начали быстро развиваться школы и университеты. Это поэзия вольнодумная, подчас озорная, далекая от аскетических идеалов средневекового католицизма. Ее широкое распространение в ряде европейских стран свидетельствует о том, что даже в клерикальных кругах (из которых главным образом и выходили поэты-ваганты), начиная с периода раннего средневековья, неизменно жил протест против аскетического изуверства, против алчности, лицемерия, неправосудия и других пороков католической церкви, возглавляемой папской курией. Среди вагантов мы находим студентов (бурсаков), переходивших из одного университета в другой, представителей низшего духовенства, клириков без определенных занятий и др. Будучи тесно связаны с традициями ученой латинской поэзии так называемого каролингского Возрождения, ваганты в то же время гораздо смелее, чем каролингские поэты, идут по пути чисто светской литературы. В звучных стихах воспевают они простые радости земной жизни. Их идеал — беспечное веселье, несовместимое с постной моралью хмурых благочестивцев. Очень громко в поэзии вагантов звучат сатирические антиклерикальные ноты. Ваганты обрушиваются на многочисленные пороки папского Рима или же пародируют библейские богослужебные тексты. Нередко в поэзии вагантов слышатся отзвуки античной языческой поэзии, а также поэзии народной, особенно в песнях, восхваляющих весну, любовь и застольные радости. Вполне понятно, что церковь с глубокой неприязнью относилась к вагантам. Она не уставала всячески преследовать «вольнодумных» поэтов за то, что они посмели возвысить свой голос против пороков папской курии, а также в противовес аскетической догме восславить радости здешнего земного мира.
Интересно отметить, что из латинских застольных песен вагантов впоследствии сложились многочисленные студенческие песни, например «Gaudeamus igitur» и др.
КЕМБРИДЖСКИЕ ПЕСНИ
Названы так по местонахождению этой рукописи XI в. Собрание латинских стихотворений, необычайно разнообразное по содержанию, включает вместе с отрывками из классических поэтов и образцами ученой и культовой поэзии ряд стихотворных новелл и любовных песен, предвосхищающих некоторые черты поэзии вагантов. К числу их принадлежит и приводимый фрагмент любовной песни (№ 49), значительная часть которого выскоблена чьей-то рукой из манускрипта и восстанавливается исследователями.
CARMINA BURANA
Составленное в первой четверти XIII в. большое собрание латинских стихотворений — лирических и эротических, дидактических и сатирических, в том числе пародий на культовые тексты, — дает наиболее яркое представление о характере и направленности вагантской поэзии. О том, что собрание составлено в Германии, свидетельствуют сопровождающие некоторые латинские стихотворения строфы на раннем средневерхненемецком языке. Сборник «Carmina burana» назван его первым издателем Шмеллером (1847) по месту нахождения рукописи (Бенедиктинский монастырь в Beuren).
ОРДЕН ВАГАНТОВ
Ученый клирик — школьный учитель. По рисунку из французской рукописи второй половины XIII в.
НИЩИЙ СТУДЕНТ
БЕЗЗАБОТНАЯ ПЕСНЯ
Архипиита
Дошедшие под этим псевдонимом поэтические произведения, сохранившиеся в немногочисленных рукописях, позволяют установить некоторые обстоятельства жизни гениального ваганта и приурочить ее к середине XII в., но не дают возможности раскрыть псевдоним. Приводимое ниже стихотворение, шутливо использующее формы исповеди, написано около 1161—1162 гг. и обращено к покровителю поэта—архиепископу Кельнскому и имперскому канцлеру Рейнальду.
ИСПОВЕДЬ[28]
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ ПЕСНЯ
Вальтер Шатильонский
Вальтер Шатильонский (ок. 1135—1200) — один из наиболее образованных латинских поэтов XII в., автор обширной поэмы «Александриада», посвященной деяниям Александра Македонского. В своих стихотворениях он сетует на упадок нравов и знаний и резко нападает на папскую курию, обвиняя князей церкви и их подручных в алчности, мздоимстве и лицемерии.
ОБЛИЧЕНИЕ РИМА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКИ СЕРЕБРА
Анонимная прозаическая пародия на евангелие, входившая и в состав пародических месс; приводимый текст (XII в.) представляет своеобразный подбор цитат из библии и евангелия (евангелия от Матфея, от Иоанна, от Марка, деяний апостолов и т. п.).
Святого Евангелия от Марки Серебра — чтение.
1. Во время оно ... рече папа к римлянам:
2. «Когда же приидет сын человеческий к престолу славы нашей, перво-наперво вопросите:
3. «Друг, для чего ты пришел?»
4. Но если не престанет стучаться, ничего вам не давая, выбросьте его во тьму внешнюю».
5. И было так, что явился бедный некий клирик в курию отца папы и возгласил, говоря:
6. «Помилуйте меня, привратники папские,
7. ибо рука нищеты коснулась меня;
8. я же беден и нищ;
9. а посему прошу, да поможете невзгоде моей и нужде моей».
10. Они же, услышав, вознегодовали зело и рекли:
11. «Друг, бедность твоя да будет в погибель с тобою.
12. Отойди от меня, сатана,
13. ибо не пахнешь ты тем, чем пахнут деньги.
14. Аминь, аминь, глаголю тебе: не войдешь в радость господина твоего, —
15. пока не отдашь последнего кодранта[38]».
16. Бедный же пошел и продал плащ и рубаху и все, что имел,
17. и дал кардиналам и остиариям и камерариям[39]; но они отвечали:
18. «Что это для такого множества?»
19. И выгнали его вон.
20. Он же, вышед вон, плакал горько, не видя себе утешения.
21. После же пришел к вратам курии некий клирик,
22. утучневший, отолстевший и ожиревший,
23. который во время мятежа соделал убийство.
24. Сей дал, во-первых, остиарию, во-вторых, камерарию, в-третьих, кардиналам.
25. Но они думали, что получат больше.
26. Отец же папа, услышав, что кардиналы и слуги прияли от клирика мзду многую, заболел даже досмерти.
27. Но богатый послал ему снадобие златое и серебряное,
28. и он тотчас же исцелился.
29. Тогда призвал отец папа к себе кардиналов и слуг и вещал к ним:
30. «Смотрите, братие,
31. никто да не обольщает вас пустыми словами,
32. ибо я дал вам пример...
33. дабы так, как я беру, и вы бы брали».
ВСЕПЬЯНЕЙШАЯ ЛИТУРГИЯ[40]
Анонимная пародия XIII в. «Всепьянейшая литургия», сохранившаяся в лондонской и гальберштадтской рукописях XIV в., точно воспроизводит все моменты мессы, сохраняя не только последовательность, но и самое звучание их, и при этом насмешливо искажая все слова.
Возникновение подобных пародий, примыкавших к озорной литературе вагантов, наглядно свидетельствовало о том, что уже в средние века проявлялось то свободное насмешливое отношение к церковному культу, которое в эпоху Возрождения в новых общественных условиях развилось в жизнерадостное вольномыслие, питавшее антиклерикальную сатиру гуманистов.
Исповедуйтеся Бахусу, ибо благ есть, ибо в кубках и кружках — воспивание его.
Аз же, скверный и недостойный кромешник, исповедуюсь шутейшему Бахусу, и всем кружкам его, и вам, бражникам, яко же аз, бражник, бражничал, многажды в жизни моей выпиваючи, за столами сидючи, кости бросаючи, ризы свои в зернь[41] спускаючи.
А посему молю вас, братия бражники, приложитеся за меня ко бочке и к шутейшему Бахусу, да помилует меня бражного.
Да помилует тебя винососущий Бахус, буде на то воля его, и да поведет тебя в доброе кружало[42], и да велит пропить одеяние твое, и да избавит он тебя от глаз и от зубов, и от рук, и от ног. Он же есть треклятая Зернь, иже хлещет и кости мечет — во веки веков. Опрокинь.
Обнищай и посмеяние, и погубление, и расточение, и всех твоих одежд совлечение, и во всех суетных делах твоих нераскаянное упорство да ниспошлет тебе мордобиющий Бахус, иже есть Зернь злосчастная и своевластная. Опрокинь.
Внидем к бочке нашей во имя Бахуса, иже сотворил и кружку и кружало.
Входная. Восплачем все в бочке, проклинаючи день воздыхания ради безумия одной четвероугольной зерни, от ее же метания вопиют неимущие и всуе поминают имя божие.
Псалом[43].
Блаженны живущие в кружале твоем, о Бахус. Во шкалики шкаликов восхвалят тебя. Славы ни малой не воздали мне, когда опустела мошна моя.
К ковшику приложимся. Боже, иже три кости игральные, четвероугольные, шестьюдесятью тремя очками одарил, подаждь, молим тебя, дабы всяк, кто грузом риз своих отягчен, чрез метание сих костей был бы разоблачен. Во имя бочонка нашего и прародителя нашего Бахуса, иже с тобою хлещет и кости мечет — во веки веков. Опрокинь.
Послание[44].
Чтение послания от бражников к винопьяным. Братие! Во время оно собралось множество бражников в кружале, телом же были наги, и рубах никаких. И никто же от имений своих ничего не называл своим, а все у них было общее. И кто приносил добычу, выносил ее на бочище перед очами бражников. И был там муж некий по имени Дринк[45], кромешник, явственно, из подлейших. Ссужал он бражников на игру и винопитие по цене одеяния их [и так выжимал из кубков лихву и поживу. И, извергнув его из кружала, побили камнями. И учинилось тут совлечение риз его, и роздано было пойло коемуждо по потребе его[46]].
Градуале[47].
Возложи на Зернь заботы твои, и она обманет тебя. Это — от бочки, и есть дивно в мошнах наших.
Аллилуйя! Аллилуйя! Из кубка и из кружки, упиваясь, тянул я, и Зернь обчистила меня. Потяну я! потяну я!
Гимн[48].
Евангелие.
В круговороте оном говорили бражники друг с другом, глаголючи: «Дойдем до кружала и увидим, правдиво ли слово, что отец целовальник изрек о полном оном бочонке. Вошед же во кружало, обрели целовальника, у порога сидяща, и стол убранный, и три кости, возложенны на диск. Куликая же, познали Бахуса и уверовали в слово то, изреченное об оном бочонке. Целовальничиха же помышляла в сердце своем, какова цена одеяниям их. И опьяневши зело, разделили одеяния свои. Возвратилися же бражники вспять, Бахуса славословя и восхваляя, а Зернь проклиная.
Зане евангелье гласит:
Кто раз упал, тот там лежит[50].
Проскомидия.
Пир вам. И со духом свиным. О Бахус, отважнейший бражник, бог, иже из мудрых глупых творишь, и злых из добрых, приди во спаивание нам. Не медли.
Приступ.
Во шкалики шкаликов. Опрокинь. Пир вам. И со духом свиным. Вознесем сердца наши к Зерни. Возблагодарим господа ворога Бахуса. Пенно и искристо.
Воистину пенно и искристо есть и допьяна напоить нас способно есть. Нам же убо надлежит благодарствовать и во кружале доброе вино восхвалять и благословлять и питие оного проповедовать. Его же насаждают презренные мужланы, его же испивают благородные сеньоры и клирики, его же чтут боголюбивые иереи, от него же проистекают мордобития велие, им же жаждущие утоляются, им же жизнь человеческая ко здравию возвращается, от него же играют неимущие, от него же распевают в духовном звании сущие, каковые, пьяны будучи, непрестанно и ежедневно возглашают, единогласно глаголючи:
«Колик, колик, колик еси, господи Бахус Хапаоф. Наполнены кубки. Во трапезе слава твоя. Осанна в вышних. Проклят, кто лакает и одежду спускает. Осанну возглашаем в вышних».
К ковшику приложимся. Наставлениями отца-целовальника умудренные и добрым вином упоенные, возгласить дерзаем:
«Отче Бах[51], иже еси в винной смеси. Да изольется вино твое, да приидет царствие твое; да будет неволя твоя, яко же в зерни, и в кабане. Вино наше насущное даждь нам днесь, и остави нам кубки наши, яко и мы оставляем бражникам нашим, и не введи нас во заушение[52], но избави сиволапых от всякого блага. Опрокинь».
Хула мужику да пребудет с вами вовеки. И со духом свиным. Хозяин Бахусов, иже изъял трезвость из мира, даруй нам пир. Хозяин вина, иже содержишь блудилища мира, даруй нам пир. Хозяин добрый, иже приемлешь заклады от нас, даруй нам пир.
Причастие.
Приидите, сыны Бахусовы, да восприимете вино чистое, еже уготовано вам от начала лозы. Пир вам. И со духом свиным.
К ковшику приложимся. Боже, иже вечную распрю меж клириком и мужиком посеял и всех мужиков господскими холопами содеял, подаждь нам, молим тебя, везде и всегда от трудов их питаться, с женами и дочерьми их баловаться и о смертности их вечно веселиться. Во имя бочки нашей и ворога Бахуса, иже с тобой хлещет и кости мечет — во веки веков. Опрокинь.
Пир вам. И со духом свиным.
Идите. Час пития вашего настал. Благодарение Бахусу. О влага приятнейшая! Сколь сладка ты для испивания! Ты творишь из простеца мудреца, из смерда осла, из монаха игумена. Приди во спаивание нам и не медли.
ВИДЕНИЯ
До XII в. все видения (кроме скандинавских) написаны по-латыни, а с XII в. появляются видения на народных языках. Наиболее законченная форма видений представлена в латинской поэзии. Жанр этот по своим истокам тесно связан с канонической и апокрифической религиозной литературой и близок по своей целенаправленности к церковной проповеди.
Редакторы видений (они всегда из среды духовенства, и их надо отличать от самого «ясновидца») пользовались случаем от имени «высшей силы», якобы пославшей видение, пропагандировать свои политические взгляды или обрушиться на личных врагов. Возникают и видения — злободневные памфлеты (например, «Видение Карла Великого» и др;).
Однако уже с X в. форма и содержание видений вызывают протест, идущий частью от деклассированных слоев самого духовенства (нищих-клириков и школяров-вагантов). Протест этот выливается в форму пародических видений, особенно удачно используемых позднее революционно настроенным «третьим сословием» в его борьбе с претензиями церкви и монашества (ср. «Пролог судебного пристава» в «Кентерберийских рассказах» Чосера). С другой стороны, формой видения овладевает куртуазная рыцарская поэзия на народных языках: видения приобретают здесь новое содержание, становясь обрамлением любовно-дидактической аллегории; таков знаменитый «Роман о Розе» Гильома де Лорриса — энциклопедия куртуазной любви.
Новое содержание вкладывает в форму видений третье сословие. Так, продолжатель незаконченного романа Гильома де Лорриса — Жеан Клопинель из Мёна превращает изысканную аллегорию своего предшественника в сочетание поучения и сатиры, острие которой направлено против отсутствия равенства, против несправедливых привилегий аристократии и против «разбойничьей» королевской власти. Не менее ярко выражены настроения «третьего сословия» в знаменитом «Видении о Петре-Пахаре» Ленгленда, сыгравшем агитационную роль в английской крестьянской революции XIV в. Величайший памятник литературы средневековья — «Божественная комедия» Данте — тоже построена по принципу видения. Но гений Данте обращает с непревзойденной силой острие выкованного церковью оружия против нее и ее владык — римских пап.
ВИДЕНИЕ ТНУГДАЛА
«Видение Тнугдала» является наиболее популярным произведением этого жанра повествовательной литературы средневековья; об этом свидетельствуют многочисленные рукописи, в которых сохранился латинский текст (свыше 50), и еще более многочисленные пересказы его на всех языках Европы. Написанное в середине XII в., «Видение Тнугдала» состоит из дидактического введения (послания к аббатиссе Гисле), опущенного нами, и самого повествования, написанного простым стилем и кое-где украшенного цитатами из евангелия и библии.
I. НАЧИНАЕТСЯ ВИДЕНИЕ НЕКОЕГО ИРЛАНДСКОГО РЫЦАРЯ ДЛЯ ПОУЧЕНИЯ МНОГИХ ЗАПИСАННОЕ
Итак, Гиберния[53] есть остров, на крайнем западе океана расположенный, тянущийся с юга на север, полный озер и рек, покрытый рощами, в злаках плодороднейший, молоком и медом и всяческими видами рыбного промысла и охоты изобильный, виноградников не имеющий, но вином богатый, со змеями, лягушками, жабами и всеми ядовитыми животными настолько незнакомый, что его деревья, кожи, рога и пыль известны как противоядия против всех ядов; духовными мужами и женами он достаточно известен, оружием же могуч и славен; с полуденной стороны он соседит с Англией, с востока — со скоттами, а также с бриттами, коих некоторые называют валлийцами, с севера — Катами и Оркадами[54], напротив же к югу лежит Испания. Этот остров имеет 34 главных города, епископы коих подчинены двум митрополитам. Артимаха[55] — метрополия северных ирландцев, южных же — великолепнейший Касель[56], из которого происходил некий муж высокородный по имени Тнугдал, жестокосердие коего или, вернее, то, что сотворило в нем божье милосердие, составляет содержание сего труда нашего.
Был означенный муж летами молод, родом знатен, обличием весел, наружностью красив, воспитан в придворных нравах, в одежде изыскан, образом мысли великодушен, военному делу изрядно обучен, обходителен, учтив и радушен. Однако, о чем я не могу говорить без огорчения, чем больше верил он в красоту тела и храбрость, тем меньше заботился о вечном спасении души своей. Ибо, как он теперь часто со слезами сознается, ему было неприятно, если кто, хотя бы и в немногих словах, хотел поговорить с ним о спасении души. Церкви божьей не почитал, на нищих же Христовых не хотел и смотреть. Бахарям, скоморохам и песенникам, ради бренной славы, раздавал все, что имел.
Но поелику божественному милосердию захотелось положить конец таковому злу, оно призвало сего мужа, когда пожелало. Ибо, как о том свидетельствуют многие жители города Коркагии[57], которые тогда были при нем, он в течение трех дней и ночей лежал мертвым, во время коих он горьким опытом познал то, что прежде с легкостью отметал, так как теперешняя его жизнь показывает, что он выстрадал. Перенес же он многие неприятные и нестерпимые виды пыток, коих порядок и названия нам нетрудно будет описать вам для поднятия вашего благочестия согласно рассказу, услышанному нами из уст того, который видел их и претерпел.
Имел он много друзей-приятелей, а среди них одного, который после какого-то обмена состоял его должником за трех коней. Он же, выждав до назначенного срока, по прошествии положенного времени посетил друга. Радушно принятый, он провел там три ночи и затем заговорил о делах. Когда же тот отвечал, что у него нет под рукой того, что он требовал, он в сильном гневе порешил вернуться тем путем, каким пришел. Должник же, желая смягчить друга, просил его, чтобы он перед уходом соизволил с ним откушать. Не желая отказать ему в просьбе, он сел и, поставив рядом секиру, которую держал в руках, стал вкушать пищу вместо с приятелем. Но божественное милосердие предупредило его намерение. Ибо, не знаю чем внезапно пораженный, он не сумел поднести ко рту протянутой руки. Тогда он стал кричать ужасающим голосом и с такими словами поручил только что оставленную секиру жене своего друга: «Храни, — сказал он, — мою секиру, ибо я умираю». И немедленно вслед за сими словами бездыханное тело упало, точно в нем никогда не было души. Наступают все признаки смерти: волосы белеют, чело застывает, глаза закатываются, нос заостряется, губы бледнеют, подбородок отпадает и все члены тела твердеют. Бегут слуги, уносятся яства, вопиют латники, плачет хозяин, укладывают тело, бьют тревогу, сбегается духовенство, дивится народ, весь город взволнован смертью доброго рыцаря. Что же далее? От десятого часа четвертого признака жизни, за исключением того, что легкое тепло в левой стороне груди ощущалось теми, кто внимательно ощупывал тело. Поэтому, т. е. потому что они чувствовали тепло в этом месте, они не пожелали похоронить тело. Вслед за тем он в присутствии клира и народа, которые сошлись для его похорон, ожил и стал слабо дышать в течение приблизительно одного часа. Изумились все, даже мудрые, говоря: «Это ли дух уходящий и не возвращающийся?» Он же, слабым взором оглядевшись вокруг и спрошенный, хочет ли он что-нибудь сказать, дал понять, чтобы принесли тело господне и, приняв его и вкусив вина, начал с благодарностью восхвалять бога, говоря: «Боже, больше твое милосердие, чем моя скверна, хоть и очень она велика. Ты послал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, из бездн земли опять выводил меня».
И, сказав сие, он разделил все имущество свое и роздал бедным, и велел осенить себя знамением креста спасительного, и поклялся во всем бросить прежнюю жизнь. Все же, что он видел и претерпел, он после пересказал нам следующими словами.
II. ОБ ИСХОДЕ ДУШИ
Когда, сказал он, душа моя сбросила тело и познала, что оно мертво, затрепетала она в сознании греховности своей и не знала, что делать. Она страшилась, но, чего страшилась, не ведала. Хотела вернуться к своему телу, но не могла войти в него; хотела удалиться в другое место, но повсюду робела. И так несчастнейшая колебалась душа, сознавая вину свою, ни на что не надеясь, кроме божьего милосердия. После того, как она долго так металась, плача, рыдая и дрожа, и не знала, что ей делать, узрела она такое великое множество приближающихся к ней нечистых духов, что не только они наполнили весь дом и палату, в коей лежал мертвец, но и во всем городе не было улицы и площади, которая не была бы полна ими. Окружив оную несчастную душу, они старались не утешить ее, но еще больше огорчить, говоря: «Споем этой несчастной заслуженную песнь смерти, ибо она — дочь смерти и пища огня неугасимого, возлюбившая тьму, ненавистница света». И все, обратясь против нее, скрежетали на нее зубами и собственными черными когтями терзали щеки: «Вот, несчастная, тот народ, избранный тобою, с которым сойдешь ты для сожжения в глубину Ахерона. Питательница раздоров, любительница распрей, почему не чванишься? почему не прелюбодействуешь? почему не блудодействуешь? где суета твоя и суетная веселость? где смех твой неумеренный? где смелость твоя, с которой нападала ты на многих? что же ты теперь, как бывало, не мигаешь глазами, не топаешь ногой, не тычешь перстом, не замышляешь зла в развращенности своей?»
Испуганная этим и тому подобным, ничего не могла несчастная сделать, разве только плакать, ожидая смерти, грозившей ей от всех окружающих ее. Но тот, кто не хочет смерти грешника, тот, кто один может дать исцеление после смерти, господь всемогущий, жалостливый и милосердный, сокровенным решением своим все направляющий ко благу, по желанию своему смягчил и эту напасть.
III. О ПРИШЕСТВИИ АНГЕЛА НА ПОМОЩЬ ДУШЕ
И послал он на помощь ей ангела своего; она же, увидев его, издали к ней направляющегося, подобно звезде лучезарнейшей, непрестанно устремляла на него взоры, надеясь получить от него какой-либо совет. Приблизившись к ней, он назвал ее по имени и приветствовал следующими словами: «Здравствуй, — сказал он, — Тнугдал! Что ты делаешь?» Оный же несчастный, видя прекрасного юношу (ибо он был прекрасен превыше сынов человеческих), слыша, что он называет его по имени, преисполненный одновременно и страхом, и радостью, так возгласил со слезами: «Увы мне, — сказал он, — господи-отче, муки ада облегли меня и сети смерти опутали меня». Отвечал ему ангел: «Ныне называешь ты отцом и господином меня, коего прежде всегда и повсюду имел при себе, но никогда не считал достойным такого имени». Он же возразил: «Господи, где я когда-либо тебя видел? или где голос твой сладчайший когда-либо слышал?» В ответ ангел сказал ему: «Я всегда следовал за тобою с рождения твоего, и ты никогда не хотел следовать моим советам». И, протянув руку к одному из нечистых духов, который более других злоязычных нападал на него: «Вот, — сказал он, — с чьими советами ты соглашалась[58], моими же желаниями вовсе пренебрегала. Но так как бог милосердие всегда предпочитает справедливости, то и ты не будешь лишена незаслуженного милосердия. Будь только спокойна и весела, ибо ты претерпишь немногое из всего того, что должна была бы претерпеть, если бы не помогло тебе милосердие нашего спасителя. Итак, следуй за мною и все, что я покажу тебе, удержи в памяти, ибо вновь должна ты возвратиться в тело свое».
Тогда душа, безмерно испуганная, присоединилась к нему, оставив тело свое, на котором прежде стояла. Демоны же, слыша сие и видя, что они не могут причинить ей того зла, которым раньше грозили, обратили голос свой против неба, говоря: «О сколь несправедлив бог и жесток, ибо, кого хочет, умерщвляет и, кого хочет, оживляет, а не так, как обещал он, воздаст каждому по делам его и заслугам: освобождает недостойных освобождения и осуждает недостойных осуждения». И, сказав сие, бросились друг на друга, и поражали друг друга изо всех сил ударами, и, оставив позади себя великое зловоние, с большою печалью и возмущением удалились.
Ангел же, идя впереди, сказал душе: «Следуй за мною». Она же отвечала: «Увы, господин мой, если ты пойдешь впереди, то они увлекут меня назад и предадут огню вечному». Ангел сказал ей: «Не бойся, ибо больше сил с нами, чем с ними. Ибо падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизятся, только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ты же претерпишь, как я уже сказал, немногое из того многого, что ты заслужила». И после этих слов отправились они в путь.
IV. О ПЕРВОМ НАКАЗАНИИ УБИЙЦ
После того как они долго шли вместе и не видели никакого света, кроме сияния ангела, дошли они до долины, весьма ужасной и мрачной и покрытой смертною мглою. Была она очень глубока и полна горящих угольев и покрыта железною крышкой толщиною, как казалось, в шесть локтей, которая раскалением превышала ярко горящие уголья. Зловоние же там превышало все мучения, какие душа до тех пор претерпела. Спускалось на эту доску множество несчастнейших душ, и там сжигались, пока на подобие жира, поджариваемого на сковороде, не растоплялись окончательно и, что хуже всего, не проливались сквозь означенную доску, как воск просачивается сквозь сукно, и возвращались к мучениям на горящих угольях. Увидев такое, душа оная в великом испуге сказала ангелу: «Увы, господин мой, прошу тебя: пожалуйста, скажи мне, какое зло совершили эти души, что они признаны достойными таких мучений?» Ангел ответил ей: «Это, — молвил он, — убийцы, отцеубийцы и братоубийцы. Это первое наказание совершивших такое злодеяние и участвовавших в совершении, а затем они предаются худшим карам, которые ты увидишь». — «А я, — спросила она, — подвергнусь ли сему?» Ангел же отвечал ей: «Ты заслужила это, но теперь не подвергнешься. Ибо хотя ты не отцеубийца, не матереубийца и не братоубийца, однако все же убийца, но ныне не воздастся тебе. В будущем же опасайся, чтобы, вернувшись в тело свое, вновь не заслужить этого или худшего». И прибавил: «Пойдем далее, ибо долгий путь предстоит нам».
V. О НАКАЗАНИИ КОЗНЕДЕЙЦЕВ И ВЕРОЛОМНЫХ
Итак, следуя далее, подошли они к горе изумительной вышины, весьма страшной и пустынной. Проходящим по ней открывалась чрезвычайно узкая тропа. С одной стороны этого пути был огонь зловонный, темный и серный, с другой — холодный снег и ужасный ветер с градом. Ибо была гора эта уготована для наказания душ, полна истязателей, так что ни один проход не являлся безопасным для желающих пройти. Вышесказанные же оные истязатели держали наготове вилы железные раскаленные и трезубцы преострые, коими они кололи души, хотевшие пройти, и гнали их на муки. После того как несчастные, брошенные в сторону серы, долго терпели мучения, их прокалывали вышереченными орудиями и бросали в геенну огненную. Увидев сие и убоявшись, спросила душа ангела, шедшего перед нею: «Спрашиваю тебя, господи, как смогу я пройти по этой тропе, когда ясно вижу козни, уготованные мне на гибель». Он отвечал ей: «Не бойся, но следуй за мною или иди впереди». И тогда ангел пошел впереди, а она вслед за ним, как прежде.
(Далее душа, сопровождаемая ангелом, созерцает адские муки гордых, скупых, воров и грабителей, обжор и блудников, распутных и порочных священников, великих грешников, наконец, спускается в глубину ада, где ангел показывает ей самого сатану.)
XIV. О САМОМ КНЯЗЕ ТЬМЫ
«Итак, пойдем, — сказал он, — я покажу тебе злейшего врага рода человеческого». И, идя впереди, дошел до врат ада и сказал ей: «Приди и смотри; но узнай, что тем, кто ввергнут сюда, свет вовсе не светит. Ты, однако, сумеешь их видеть, но они не смогут увидеть тебя». И душа, приблизившись, узрела глубину ада, но какие и коликие увидела там мучения, она никак не могла бы пересказать, если бы даже сто голов было у нее, а в каждой голове сто языков. То немногое, однако, что она нам передала, вряд ли будет полезно опустить.
Итак, узрела она самого князя тьмы, врага рода человеческого, дьявола, который величиною превосходил всех тех зверей, которых она ранее видела. Огромность его тела ни сама видевшая его душа не могла ни с чем сравнить, ни мы, не узнавшие этого из ее уст, не можем вообразить, но рассказа в том виде, как мы его слышали, не можем обойти молчанием. Был означенный зверь черен, как ворон, нося человеческое обличие с ногдо головы, за исключением того, что имел хвост и множество рук. А именно, было у сего ужасающего чудовища рук не менее тысячи, и каждая рука — длиною около ста локтей, а толщиною в десять. Каждая же рука была снабжена двадцатью пальцами, каковые пальцы были длиною в сто ладоней, а толщиною в десять; когти же были железные и длиннее воинских пик, столько же когтей было на ногах. Клюв у него чрезвычайно длинный и толстый, хвост же весьма жесткий и длинный и для поражения душ усеянный колючими иглами. Лежит же это огромное диво плашмя на железной решетке, под которую подложены раскаленные уголья, раздуваемые мехами бесчисленным количеством демонов. Самого его окружает такое количество душ и демонов, что всякому показалось бы невероятным, чтобы мир от начала своего породил столько душ. Связан же означенный враг рода человеческого по всем членам и суставам цепями железными и медными, раскаленными и очень толстыми. Так-то, корчась на угольях и со всех сторон обжигаясь, распаленный великой яростью, ворочается с боку на бок, простирает все руки свои к толпе душ и, набрав полные пригоршни, сдавливает их, подобно тому, как поселянин, мучимый жаждой, выдавливает гроздья, так что ни одна душа не может уйти невредимой, чтобы не быть разорванной или лишенной головы, рук, ног... Тогда он, точно вздыхая, дует и разбрасывает все души в разные стороны геенны, и тотчас же колодезь, о коем мы говорили раньше, изрыгает зловонное пламя. А когда свирепый зверь снова вдыхает воздух, он стягивает обратно все души, которые только что рассеял, и пожирает попадающихся ему в рот вместе с дымом и серой. Если же кто-либо и избежит его рук, то, ударяя хвостом, несчастный зверь поражает их, поражая постоянно и себя, и, таким образом, причиняя страдания душам, сам мучится.
Дьявол в модном женском наряде. Рисунок из оксфордской рукописи XIII в.
Видя это, сказала душа ангелу господню: «Спрошу тебя, господин мой: каково имя сего чудовища?» В ответ ангел сказал: «Зверь, которого ты видишь, именуется Люцифером; он — первое из созданий божиих и обитал среди райских услад. Если бы он был свободен, он потряс бы до оснований и небо, и землю. В этой же толпе часть состоит из духов тьмы и прислужников сатаны, часть же — из сынов адамовых, не заслуживающих милосердия. Это — те, которые и не надеялись на божье милосердие, и в самого бога не верили. И потому они принуждены бесконечно страдать так вместе с самим князем тьмы, что они не пожелали словом и делом примкнуть к господу славы, который воздал бы им за то благом вечным». «Это — те, — сказал он, — которые уже осуждены; они ожидают еще многих других, тех, кто обещает на словах творить добро, а на деле отказывается. Так же, — добавил он, — пострадают те, кои или вовсе отрицают Христа, или творят дело отрицающих, каковы прелюбодеи, человекоубийцы, воры, разбойники, гордецы, не принесшие должного покаяния. Сначала они подвергаются тем более слабым мукам, которые ты видела, а затем приводятся к этим, которых никогда больше не избежит тот, кто однажды попал сюда. Здесь же нескончаемо истязаются прелаты и сильные мира, которые хотят начальствовать не ради пользы, но ради власти, которые не считают, что могущество, данное им для управления подданными и исправления их, вручено им богом, и потому проявляют власть свою над порученными им не так, как должно. Вот почему писание восклицает: «Сильные сильно будут истерзаны». Тогда сказала душа: «Раз ты говоришь, что власть дана им богом, то почему они страдают из-за нее?» И молвил ангел: «Не плоха власть, исходящая от бога, но плохо, когда плохо ею пользуются». И спросила душа: «Почему господь всемогущий не всегда вручает власть добрым, чтобы они исправляли подданных и правили ими, как должно?» Отвечал ангел: «Иногда власть отнимается у добрых ради прегрешений подданных, ибо плохие не заслуживают иметь хороших правителей, иногда же ради самих добрых, чтобы они спокойнее пеклись о спасении душ своих». И сказала душа: «Хотела бы я знать, по какой причине чудовище это именуется князем тьмы, тогда как оно не в силах никого защитить и само себя не может спасти». И молвил ангел: «Князем именуется он не из-за власти, а из-за первенства, которым обладает в царстве тьмы. Хотя ты до сих пор видела много наказаний, но все они считаются ни за что, если сравнить их с этою безжалостной пыткой». И сказала душа: «Это я считаю несомненным, ибо смотреть на этот водоем мне страшнее и выносить его зловоние для меня тягостнее, чем претерпеть все то, что я терпела прежде. Посему я прошу тебя, если возможно, поскорее увести меня отсюда и не дать мне мучиться дольше. Ибо вижу я в муке этой много родичей, друзей и знакомых, с которыми с радостью общалась в миру и коих сообщество теперь весьма мне ненавистно. Ведь я достоверно знаю, что если бы мне не помогло божественное милосердие, то я бы по заслугам моим страдала не меньше, чем они». И сказал ангел: «Приди, о душа блаженная, возвратись к успокоению своему, ибо господь облагодетельствовал тебя. Не будешь ты ни терпеть этого, ни дольше смотреть на это, если вновь не заслужишь. До сих пор видела ты темницу врагов господних, теперь увидишь славу друзей его».
(Покинув ад, душа проходит сперва через места наказания и отдохновения «не слишком плохих» и «не слишком хороших», где встречает и королей ирландских, а затем попадает в Серебряный город, где наслаждаются праведные миряне, в Золотой город, где блаженствуют мученики и аскеты, монахи и инокини, строители и защитники церквей, и, наконец, в город Драгоценных камней, где пребывают святые и где она встречает святого патрона Ирландии — Патрика. Получив от ангела приказание вернуться в свое тело, душа раскаявшегося рыцаря заставляет его вести благочестивый образ жизни. На этом кончается видение некоего рыцаря по имени Тнугдал.)
ДИДАКТИКО-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОЗА XIII—XV ВВ.
Значительное место в средневековой литературе занимали поучительные повести, притчи и басни, написанные латинской прозой. Многие произведения этого рода были объединены в повествовательные сборники, из которых наибольшей известностью пользовались: «Поучение для духовных лиц» («Disciplina clericalis») Петра Альфонса (начало XII в.) и «Римские деяния» («Gesta Romanorum», XIV в.). Как по своему происхождению, так и по своему характеру эти произведения не были однородными. Если одни назидательные рассказы всецело пронизаны религиозными взглядами, то другие имеют преимущественно светский характер. Зачастую назидательные рассказы, восходящие к книжной или устной традиции, использовались в качестве притч (exempla) в церковных проповедях. Подобные притчи нередко представляют собой живые зарисовки средневековых обычаев и нравов, близко напоминая отдельные фабльо и шванки.
EXEMPLA
I
[Об отроке, пожелавшем сохранить для отца своего часть сукна][59]
Был некий человек добропорядочный, и он, пока в силах был работать, все добро свое отдавал сыну своему единородному, коего весьма возлюбил. И просил его, да почитает его до самой смерти. Тот же, пока не был женат, укладывал отца спать на печи, когда же взял себе жену, поместил его в сенях, дабы там он спал. И когда усилился хлад зимний, умолял старец сына купить для него какие-либо одежды, дабы не умереть от холода. Тот же ни о чем не заботился. Тогда призвал старец внука своего. «Сынок, — сказал он ему, — ступай к отцу твоему и умоли его, да купит мне что-либо, чем покрываться мне». Отрок пошел и получил разрешение купить четыре локтя сукна. И сын дал два локтя отцу, остальное же велел убрать. Узрев сие, отрок стал плакать, требуя, чтобы дали ему остаток. Отец ему: «К чему оно потребно тебе?» Отрок же, наставленный святым духом: «Для тебя желаю сберечь, когда ты состаришься. А тогда дам тебе не более того, что ныне дал ты деду моему». Услышав сие, возместил тот отцу своему все, в чем ранее утеснял его.
II
[О сыновьях, пронзивших стрелами труп отца][60]
Некий знатный человек имел супругу, втайне распутную, она же, находясь при смерти, по наставлению духовника своего возвестила мужу: из трех сыновей, коих почитал он своими, лишь один рожден от него, двое же остальных зачаты в прелюбодеянии. Словами оными тяжко уязвленный, не успел допросить он, кто же подлинно сын его. И так умерла жена, он же, от скорби иссохнув, через немного дней лег на одр смертный. И, призвав к себе троих сыновей, рек им: «Один лишь среди вас — сын мой, ему оставляю наследство, двух же, в прелюбодеянии рожденных, наследства лишаю». После кончины отца меж ними начался тяжкий раздор. Ибо каждый говорил, что он есть подлинный сын. И так дело пошло к судье проницательному, он же, коль скоро ни по каким приметам не мог найти подлинного сына, заставил труп мертвеца вырыть из могилы и повелел тем троим стрелами пронзить мертвеца, объявив, — кто-де стрелой пронзит сердце мертвого отца, тот-де и есть подлинный сын. И первый сын и второй нанесли раны мертвецу, но младший сын, залившись слезами: «Отступаюсь, — говорит, — от наследия отцовского, ибо, как другие сыны, возлюбленного отца моего мертвому телу наносить раны не могу». И по той примете почтения стало очевидным, что он один подлинно сын.
III
[Притча о корыстолюбии][61]
Некий отшельник, пожелав развести в роще сад и роя посему яму, нашел клад и тотчас возопил трижды гласом велиим: «Смерть, смерть, смерть!» Проходившие мимо трое купцов-сотоварищей подошли к нему, говоря: «Где же та смерть, о коей ты возвестил?» И он показал им клад, и тотчас они его оттуда прогнали. Он же, удалившись, вернулся в келию свою.
Они, обсудив, что надлежит делать, распорядились — один из них да пойдет в город и весы принесет. Когда же он удалился, замыслили убить его, когда он спустится в яму. Он же в пути своем тоже замыслил погибель двух остальных и, яду достав, все съестные припасы их отравил и, возвратясь, тем молвил:
«Вкусим ли сперва пищи или клад извлечем?» Они ответствовали: «Сперва клад извлечем». И побудили его спуститься в яму, дабы убить его. Когда же спустился он, убили его, а сами, немного спустя, вкусив пищи, оба умерли; и так клад нетронутым оставили.
Когда же отшельник пришел и их мертвыми узрел: «Во истину, — рек, — не что иное сокровища земные — иже гибель и смерть!»
IV
[О юноше, надевшем перстень на палец статуи Венеры]
Во времена папы Льва IX благородный юноша, обручившийся с некоей девой, вышел на игрище со сверстниками и перстень свой, полученный при обручении, надел на палец статуи, там стоявшей. По окончании игр хотел его взять обратно, но не смог снять его. Вернулся ночью с другом своим, но не нашел кольца, ибо было похищено оно. Когда же возлег он с супругою своей, почувствовал он между ними видение некое, как бы из густого тумана, но не видел его, и говорило оно: «Супруг ты мой, ибо обручился ты со мной». Так постоянно поступало оно.
И молодой супруг объявил об этом деле друзьям и родителям, и призвали они Палумбуса, пресвитера-чернокнижника, и сулили ему многое. Он же, призванный ими, написал послание и дал его юноше, говоря: «Ступай и стань в полночь на месте том, где расходятся четыре дороги, и пройдут мимо тебя многие, радостные и печальные, в обличиях разных. Ты же ни с кем не говори, но когда прибудет жена, восседающая на звере, одеянная одеянием блудницы, подай ей сию грамоту». И когда он так сделал, тотчас найден был перстень и возвращен ему. Но дьяволица, простирая к небу руки, громко возгласила: «О всемогущий, доколе будешь терпеть козни Палумбуса-пресвитера?»
Когда же вопль сей дошел до Палумбуса, почуял он час кончины своей и покаялся пред лицом всего народа римского, признавшись в злодеяниях неслыханных, и, по желанию его, были отсечены все члены его, и скончался он в ужасных муках пред лицом всего народа, обреченный демонам.
ИЗ «РИМСКИХ ДЕЯНИЙ»
Сборник назидательных рассказов «Римские деяния» («Gesta Romanorum», нач. XIV в.), составленный в Англии, пользовался значительной популярностью. В него вошли старинные анекдоты и легендарные истории, частью из римской жизни, заимствованные из различных западных и восточных источников. В дальнейшем к рассказам сборника обращались многие писатели, в том числе Боккаччо и Шекспир. Был этот сборник известен также и на Руси (конец XVII в.).
33. О тщеславии
Повествует Валерий о том, что некий муж по имени Ператин со слезами сказал своему сыну и соседям: «О горе, горе мне! Есть в саду у меня злосчастное древо, на коем повесилась моя первая жена, потом на нем же вторая, а ныне третья, и посему горе мое неизмеримо. Но один человек, именуемый Аррий, сказал ему: «Удивлен я, что ты при стольких удачах проливаешь слезы. Дай мне, прошу тебя, три отростка от этого дерева, я хочу их поделить между соседями, чтобы у каждого из них было дерево, на котором могла бы удавиться его жена». Так и было сделано.
Нравоучение. Любезнейшие! Сие дерево есть святой крест, на коем был распят Христос. Сие дерево должно посадить в саду человека, дондеже душа его хранит память о страстях Христовых. На сим древе повешены три жены человека, как то гордость, вожделение плоти и вожделение очей. Ибо человек, идя в мир, берет себе трех жен: одна — дочь плоти, именуемая наслаждением, другая — дочь мира, именуемая алчностью, третья — дочь диавола, именуемая гордостью. Но если грешник по милости Божией прибегает к покаянию, эти его три жены, не добившись того, чего желали, вешаются. Алчность вешается на вервии милосердия, гордость — на вервии смирения, наслаждение — на вервии воздержания и чистоты. Тот, кто просит дать ему отростки, — добрый христианин, который должен добиваться и просить их не только для себя, но и для ближних своих. Тот же, кто плачет, есть человек несчастный, который больше любит плоть и все плотское, чем то, что от Духа святого. Однако часто и его человек добрый может своими наставлениями повести по верному пути, и войдет он в жизнь вечную.
ХРОНИКИ
Среди памятников средневековой словесности видное место занимают труды историков, созданные первоначально на языке латинском, а затем и на языках туземных. Обилие фактов делает их ценным источником исторического познания. Вместе с тем эти труды еще во многом связаны с литературой, с поэтической фантазией. Авторы охотно обращаются к старинным народным сказаниям, не стремясь отделить в них достоверные факты от вымысла, вкладывают в уста исторических деятелей пространные «речи», прежде всего свидетельствующие о риторической одаренности историографа, и т. п.
Саксон Грамматик
Саксон, прозванный Грамматиком, вероятно, за совершенство стиля, — видный датский историк второй половины XII в. (умер ок. 1216). Был капелланом и доверенным лицом влиятельных советников короля. Его монументальный труд «Деяния датчан» («Gesta Danorum») состоит из 16 книг, в которых излагается история датских королей от древнейших времен до 1187 г. Черпая из самых различных источников, будь то античная словесность или средневековые хроники, языческие скандинавские легенды, исландские саги, датские песни и др., Саксон Грамматик проявляет несомненный литературный талант. Он создает выразительные картины средневековой жизни, а также яркие зарисовки отдельных человеческих судеб. Мы обязаны любознательному историку тем, что он сохранил для последующих поколении многие народные легенды и эпические сказания, бытовавшие в устной передаче. Писатели ряда столетий неоднократно обращались к «Деяниям датчан», заимствуя из них различные сюжеты и образы. Среди этих писателей встречаем мы и У. Шекспира, нашедшего в конце III книги «Деяний» увлекательную сагу о Гамлете, принце ютландском, мстящем за предательское убийство отца. Дальнейшие судьбы Гамлета, излагаемые в IV книге «Деяний», к шекспировской трагедии отношения не имеют.
ДЕЯНИЯ ДАТЧАН
[САГА О ГАМЛЕТЕ ИЗ КНИГИ III]
После трех лет отважнейших военных действий он[62] предназначил Рорику[63] почетные трофеи[64] и лучшую добычу, желая тем завоевать еще большее его расположение. Поощренный дружбой с ним, он в жены испросил себе Геруту[65], дочь его, и у нее родился сын Гамлет[66].
Фенгон[67], снедаемый завистью к такому счастью, решился извести брата кознями. — Столь мало доблесть ограждена от опасностей даже со стороны родственников. — Как только выпал случай для убийства, насытил он кровавою рукой пагубную страсть своего сердца. И овладев затем женой убитого брата, усугубил злодейство кровосмешением. — Ибо всякий, кто предался одному бесчестью, вскоре еще легче бросится к другому; так первое является второго побужденьем. — К тому же он прикрыл чудовищность содеянного столь наглой хитростью, что придумал оправдать вину видом доброжелательства и убийство брата скрасить долгом милосердия. Герута, говорил он, хоть так кротка, что никому не причинила и самой маленькой обиды, терпела между тем от мужа лютую ненависть. И брата он убил ради ее спасенья, ибо ему казалось нестерпимым, чтобы нежнейшая, без злобы, женщина страдала от тяжелейшей надменности супруга. И уверение достигло цели. Ибо у вельмож лжи обеспечено доверие, у них шутам порой оказывается милость и честь клеветникам. И Фенгон не колеблясь простер братоубийственные руки к постыдным объятиям, усугубив грех двойного нечестия вторым подобным же преступлением.
Гамлет видел все это, но, опасаясь, как бы слишком большой проницательностью не навлечь на себя подозрений дяди, облекшись в притворное слабоумие, изобразил великое повреждение рассудка; такого рода хитростью он не только ум прикрыл, но и безопасность свою обеспечил. Ежедневно в покоях своей матери, грязный и безучастный, кидался он на землю, марая себя мерзкой слякотью нечистот. Его оскверненный лик и опачканная грязью наружность являли безумие в виде потешного шутовства. Что бы он ни говорил, соответствовало такому роду безумия, что бы ни делал — дышало безмерной тупостью. Чего же более? Не за человека его можно было почесть, а за чудовищную потеху безумной судьбы. Часто сидя у очага, он сгребал руками тлеющую золу, вытачивал деревянные крючья и обжигал их на огне. Концам их он придавал форму зубцов, желая сделать их еще более прочными в сцеплениях. А когда его спрашивали, что он делает, отвечал, что готовит острые дротики для мести за своего отца. Ответ этот вызывал немало издевок, потому что все с пренебрежением относились к бессмысленности его смешного занятия, хотя оно и помогло впоследствии выполнению его замысла. Впрочем, у наблюдателей с умом более тонким занятие это возбудило первые подозрения в хитрости Гамлета. Ибо сама по себе ловкость, хотя и в пустяковом деле, выдавала скрытый талант мастера. Невозможно было поверить, что помрачен ум у того, чьи руки способны к столь искусной работе. К тому же он всегда с тщательнейшей заботливостью сохранял груду своих обожженных на огне крючьев. Вот почему многие уверяли, что он в здравом уме и только прячет его под маской простоватости, и что он прикрывает глубокий умысел ловким притворством; для разоблачения его хитрости, говорили они, ничего не может быть лучше, чем вывести ему навстречу в каком-либо укромном месте красивую женщину, которая воспламенит его сердце любовным желанием. Ибо естественная склонность к любви столь велика, что скрыть ее искусно невозможно; эта страсть слишком пылка, чтобы быть преодоленной хитростью. Поэтому, если тупость его притворна, он не упустит случай и тотчас уступит порыву страсти. И вот поручено было людям проводить юношу верхом на лошади в дальнюю часть леса и провести такого рода испытание. Случилось оказаться среди них молочному брату Гамлета, в душе которого еще не угасло уважение к их общему воспитанию; и он, предпочитая память о прошлой их совместной жизни теперешнему повелению, сопровождал Гамлета среди прочих отряженных спутников скорее из желанья защитить его, чем изловить в сети; потому что он не сомневался, что тот претерпит худшее, если проявит хотя бы слабый признак здравомыслия. Особенно же, если он открыто поддастся Венере. Это и самому Гамлету было совершенно ясно. Ибо, получив приглашение сесть на коня, он умышленно уселся так, что спиной был повернут к его шее, лицом же обращен к хвосту, на который он принялся накидывать узду, как будто и с этой стороны намеревался править конем в его стремительной скачке. Благодаря этой выдумке он избежал ловушки дяди, одолел коварство. Это было презабавное зрелище — бегущий без поводьев конь со всадником, который правил его хвостом.
Продолжая путь, Гамлет в кустарнике встретил волка, и когда спутники сказали, что это выбежал ему навстречу молодой жеребенок, он согласился, добавив, что в стаде Фенгона имеется слишком мало такого рода бойцов; в такой сдержанной и остроумной форме он призвал проклятие на богатства дяди[68]. Когда они в ответ ему сказали, что слова его разумны, он в свою очередь стал уверять, что говорил это нарочно, чтобы никоим образом не подумали, что он склонен ко лжи. Ведь желая казаться чуждым лживости, он смешивал хитрость и прямоту таким образом, что в его словах всегда была истина, однако острота ее не обнаруживалась никакими признаками.
Равным образом, когда он проезжал вдоль берега и его спутники, наткнувшись на руль потерпевшего крушение корабля, сказали, что нашли необычайно большой нож, он ответил: «Им можно резать громадный окорок», разумея под ним море, бескрайности которого под стать огромный руль. Далее, когда они проезжали мимо дюн и предложили ему взглянуть на «муку», имея в виду песок, он заметил, что она намолота седыми бурями моря. Когда спутники осмеяли его ответ, он снова стал уверять, что сказанное им разумно. После этого они умышленно оставили его одного, чтобы он мог набраться большей храбрости для удовлетворения своей страсти. И вот он повстречался с женщиной, подосланной дядей и будто случайно оказавшейся на его пути в темном месте, и овладел бы ею, не подай ему безмолвно его молочный брат знака о ловушке. Брат этот, соображая, как бы ему удобнее исполнить свой долг тайной опеки и предупредить опасную выходку юноши, подобрал на земле соломинку и приладил ее к хвосту летящего мимо овода, а овода погнал как раз туда, где, как он знал, был Гамлет. И этим оказал он неосторожному великую услугу: знак был истолкован с неменьшим остроумием, чем передан. Ибо Гамлет, увидев овода, сразу заметил и соломинку, что была прилажена к его хвосту, и понял, что это тайное предостережение опасаться коварства. Встревоженный подозрением о засаде, он обхватил девушку и отнес подальше к непроходимому болоту, где было безопаснее. Насладившись любовью, он стал просить ее весьма настойчиво никому не говорить об этом; и просьба о молчании была с такой же страстностью обещана, как и испрошена. Ибо в детстве у обоих были одни и те же попечители, и эта общность воспитания соединила тесной дружбой Гамлета и девушку.
Когда он вернулся домой и все стали его с насмешкой спрашивать, преуспел ли он в любви, он заявил, что так оно и было. Когда его опять спросили, где это случилось и что служило ему подушкой, ответил: конские копытца и петушьи гребешки служили ложем; ибо когда он шел на испытание, то, во избежанье лжи, собрал листочки растений, носящих такое название. Ответ его присутствующие встретили громким смехом, хотя шуткой он ущерба истине ничуть не причинил. Девушка, тоже спрошенная об этом, ответила, что ничего подобного он не содеял. Отрицанию ее поверили и притом тем легче, чем меньше, как было очевидно, провожатые об этом знали. Тогда тот, кто метил овода, чтобы подать сигнал, желая показать Гамлету, что он своим спасением обязан его смекалке, стал говорить, что недавно один лишь он ему был предан. Ответ юноши был подходящим; чтобы ясно было, что он не пренебрег заслугой знака, он сказал, что видел некоего носильщика соломы, который вдруг пролетел мимо него с соломинкой, прилаженной к хвосту. Слова эти разумностью своей обрадовали друга Гамлета, прочих же заставили трястись от смеха.
Итак, все потерпели поражение, и никто не смог открыть секретного замка мудрости молодого человека; но один из друзей[69] Фенгона, наделенный больше самонадеянностью, нежели рассудительностью, заявил, что непостижимую хитрость его ума невозможно разоблачить какой-то обычной интригой, ибо его упорство слишком велико, чтобы можно было сломить его легкими средствами. Вот почему к его многообразной хитрости следует подступаться не с простым способом испытания. И тогда, продолжал он, его глубокая проницательность натолкнется на более тонкое и разумное средство, которое легко выполнимо и для распознания сути дела наиболее действенно: Фенгон должен будет нарочно отлучиться, якобы по важному делу, и Гамлет останется наедине со своей матерью в ее опочивальне; но прежде надо будет поручить кому-то притаиться в темной части комнаты, так чтобы остаться незамеченным, и внимательнейшим образом слушать их беседу. Ибо, будь у сына хоть какое-то соображенье, он не колеблясь выскажется предушами матери и доверится без опасений той, что родила его. В то же время советчик усердно предлагал себя в подслушиватели, дабы не казаться только зачинщиком плана, но и его исполнителем. Обрадовавшись такому плану, Фенгон отбыл, будто бы в дальнее путешествие. А тот, кто дал совет, тайком пробрался в спальню, где Гамлет должен был закрыться с матерью, и расположился под соломенной подстилкой. Однако у Гамлета не было недостатка в средствах против козней. Опасаясь, как бы его не подслушали какие-нибудь скрытые уши,он первым делом прибег к своему обычному приему — прикинулся больным. Он закукарекал, как голосистый петух, и, колотя по бокам руками, как будто хлопая крыльями, вскочил на подстилку и принялся, раскачиваясь, прыгать туда-сюда, намереваясь узнать, не скрывается ли там что-нибудь. И когда ощутил под ногами ком, то, нащупав мечом это место, пронзил лежащего и, вытащив из тайника, убил. Тело его он разрубил на части, ошпарил кипятком и сбросил через открытое отверстие сточной трубы на корм свиньям, покрыв жалкими останками зловонную грязь. Избежав таким способом ловушки, он вернулся в опочивальню. И когда мать с громкими воплями стала оплакивать безумие своего сына при нем же, он ей сказал: «Бесчестнейшая из женщин! Под этим притворным плачем ты пытаешься скрыть тягчайшее преступление? Похотливая, как блудница, не ты ли вступила в этот преступный и омерзительный брак, прижимая к греховной груди убийцу твоего мужа? Не ты ли ласкала с бесстыдно-соблазнительной нежностью того, кто убил отца твоего сына? Так поистине лишь кобылицы сочетаются с победителями их самцов — животным присуще поспешно и без разбора спариваться. Наверное, и у тебя по их примеру изгладилась память о первом супруге. Что до меня, то я прикинулся умалишенным не без цели, ибо, несомненно, убийца своего брата будет неистовствовать с равной жестокостью и против других своих родичей. Поэтому лучше облачиться в наряд глупости, чем здравомыслия, и защиту своей безопасности искать в видимости полного безумия. Но стремление отмстить за отца еще твердо в моем сердце; я ловлю такой случай, выжидаю удобное время. Всему свое место. Против темного и жестокого духа должно напрячь все умственные силы. Тебе же, коей лучше горевать о собственном бесчестье, не к чему лить слезы о моем безумии! Не чужой, а собственной души пороки оплакивать надобно. О прочем помни и храни молчание». Таким упреком терзал он сердце своей матери, призывая ее почитать стезю добродетели и увещевая предпочесть прежнюю любовь теперешним соблазнам.
Фенгон по возвращении, нигде не находя зачинщика коварного плана, продолжал его искать тщательно и долго, но никто не мог сказать, что видел его где-либо. Гамлет тоже был спрошен в шутку, не заметил ли он какого-нибудь его следа, и ответил, что тот подошел к сточной трубе, свалился вниз, и его, заваленного гущей нечистот, пожрали набежавшие отовсюду свиньи. И хотя ответ этот выражал истину, он был осмеян теми, кто его слышал, ибо казался им бессмысленным.
Фенгон же, заподозрив пасынка в несомненной хитрости, захотел убить его; но не осмеливался на это из боязни вызвать недовольство не только деда его Рорика, но и своей супруги; и он решил осуществить убийство с помощью британского короля, так чтобы другой за него сотворил дело, а он бы прикинулся невинным. Итак, желая скрыть собственную жестокость, он предпочел лучше опорочить друга, чем на себя навлечь бесславие. При отъезде Гамлет потихоньку попросил мать увесить зал ткаными занавесями и через год справить по нему мнимые поминки. К этому времени он обещал вернуться. С ним отправились в путь два вассала[70] Фенгона, которые везли с собой послание, начертанное на дереве (это был в те времена обычный способ письма), в коем королю Британии поручалось убить направляемого к нему юношу. Но пока они спали, Гамлет, обыскав их карманы, нашел письмо; прочитав приказ, он тщательно соскоблил написанное и, вписав новые слова, изменил содержание поручения так, что свое собственное осуждение обратил на своих спутников. Не довольствуясь избавлением от смертного приговора и перенесением опасности на других, он приписал под фальшивой подписью Фенгона просьбу о том, чтобы король Британии выдал свою дочь за умнейшего юношу, коего он к нему посылает.
И вот по прибытии в Британию послы пришли к королю и передали ему в письме, которое считали средством гибели другого, собственный смертный приговор. Король, скрыв это, оказал им гостеприимный и дружелюбный прием. Гамлет, однако, с пренебрежением отверг все великолепие королевского стола, как будто это была самая обыкновенная еда; он отвернулся с удивительной воздержанностью от всего изобилия пира и от питья удержался так же, как от кушаний. Всем было на диво, что молодой чужеземец пренебрегает изысканнейшими лакомствами королевского стола и пышной роскошью пира, словно это какая-то деревенская закуска. А когда пир закончился и король отпустил гостей на отдых, то подосланному к ним в спальню человеку поручил узнать об их ночной беседе. И вот на вопрос спутников, почему он отказался от вчерашнего угощения, будто от яда, Гамлет ответил, что хлеб был обрызган заразной кровью, что питье отдавало железом, что мясные блюда были пропитаны зловонием человеческих трупов и испорчены чем-то вроде могильного смрада. Он добавил еще, что у короля глаза раба и что королева трижды выказала манеры, присущие лишь служанке; так поносил он оскорбительной бранью не только обед, но и тех, кто давал его. Тотчас спутники, попрекая его прежним слабоумием, принялись изводить его разными насмешками за дерзость: что он порицал благопристойное, придирался к достойному, что замечательного короля и женщину столь благородного обхождения оскорбил непочтительной болтовней и тех, кто заслуживает всяческой похвалы, очернил позорящими упреками.
Узнав все это от слуги, король уверенно заявил, что сказавший такое должен быть или сверхчеловечески умен, или вовсе безумен; в этих немногих словах он выразил всю глубину проницательности Гамлета. Потом он осведомился у вызванного управляющего, откуда был получен хлеб. Когда тот заверил, что выпечен он в королевской пекарне, поинтересовался также, где росло зерно, из которого он выпечен, и нет ли там каких-либо признаков человеческого побоища. Тот отвечал, что неподалеку есть поле, усеянное старыми костями убитых, которое и до сих пор обнаруживает следы давней битвы; и что он сам его засеял весенним зерном, поскольку оно было плодороднее других, в надежде на богатый урожай. Вот почему, быть может, хлеб и вобрал в себя какой-то дурной запах крови. Когда король услышал это, то, удостоверившись, что Гамлет сказал правду, постарался также выяснить, откуда были доставлены свиньи. Управляющий сообщил, что его свиньи, по нерадивости пастухов, отбившиеся от стада, паслись на истлевших трупах грабителей, и потому, пожалуй, мясо их приобрело несколько гнилостный привкус. Когда король понял, что и в этом случае суждение Гамлета справедливо, то спросил, какой жидкостью разбавлялся напиток? И, узнав, что приготовлен он был из воды и муки, приказал копать указанное ему место источника в глубину и обнаружил там несколько разъеденных ржавчиной мечей, от которых вода, очевидно, и получила скверный привкус... Король, видя, что мнение Гамлета об испорченности вкуса справедливо, и, предчувствуя, что неблагородство глаз, в чем попрекал его Гамлет, касается какого-то пятна в его происхождении, украдкой встретился с матерью и спросил у нее, кто был его отцом. Сперва она ответила, что никому, кроме короля, не принадлежала, но, когда он пригрозил, что дознается у нее истины пыткой, то услышал, что рожден он от раба, и через очевидность вынужденного признания узнал о своем позорном происхождении. Подавленный стыдом своего положения, но и восхищенный прозорливостью юноши, он спросил у него, почему он запятнал королеву упреком в рабских повадках. Однако же, пока он еще досадовал о том, что обходительность его супруги была осуждена в ночном разговоре чужеземца, он узнал, что мать ее была служанкой. Ибо Гамлет сказал, что отметил у нее три недостатка, выдающих повадки рабыни: во-первых, что она прикрывает голову плащом, как служанка[71], во-вторых, что при ходьбе подбирает платье, в-третьих, что она выковыривает остатки пищи, застрявшей между зубами, и выковыренное прожевывает снова. Упомянул он также, что мать ее попала в рабство из плена, чтобы ясно было, что она рабыня не только по своим повадкам, но вдобавок и по своей природе.
Король, чтя мудрость Гамлета как некий божественный дар, отдал ему в жены свою дочь. И всякое его слово принимал будто какое-то указание свыше. Как бы там ни было, стремясь исполнить поручение друга, он приказал на следующий день повесить спутников (Гамлета). А он принял эту любезность, словно несправедливость, с таким притворным недовольством, что получил от короля в счет возмещения золото, которое впоследствии, расплавив тайно на огне, велел залить в две выдолбленные трости[72].
По истечении года Гамлет испросил у короля позволение на путешествие и отправился на родину, ничего не увозя с собой из всего великолепия королевских сокровищ, кроме тростей, наполненных золотом. По прибытии в Ютландию он сменил свою теперешнюю манеру держаться на прежнюю, что была необходима для достойного дела, и умышленно напустил на себя шутовской вид. И когда он весь в грязи вошел в триклиний, где справляли его собственные поминки, то поразил всех необычайно, потому что ложный слух о его смерти уже разнесся повсюду. В конце концов оцепенение сменилось смехом, и гости в шутку пеняли один другому, что тот, по ком они справляли поминки, стоит живой пред ними. Когда его спросили о спутниках, он, посмотрев на трости, что нес с собой, ответил: «Здесь они оба». Сказал ли это он всерьез или же в шутку — неведомо. Ибо слова его, хотя и были сочтены большинством за бессмыслицу, от истины, однако, не отклонялись: они указывали на плату, полученную им в качестве вознагражденья за убитых. Вслед за тем Гамлет присоединился к виночерпиям, желая еще больше потешить гостей, и самым усердным образом принялся исполнять обязанность розлива напитков. А чтобы его просторная одежда не стесняла движений, он повязал на боку свой меч, и, умышленно обнажая его время от времени, ранил острием кончики пальцев. Поэтому стоящие рядом позаботились сколотить меч и ножны железным гвоздем. Для обеспечения еще более надежного исхода своего коварного плана он подходил к вельможам с бокалами и вынуждал их пить беспрерывно и до того опоил всех неразбавленным вином, что ноги их ослабели от опьянения и они предались отдыху посреди королевского зала, в том самом месте, где пировали. И вот когда он увидел, что они в подходящем для его замысла состоянии, то, полагая, что представился случай исполнить задуманное, извлек из-за пазухи давно припасенные крючья из дерева и вошел в зал, где на полу там и сям вперемешку лежали тела знатных и изрыгали во сне хмель. Сбив крепления, он стянул занавеси, изготовленные его матерью, что покрывали также и внутренние стены зала, набросил их на храпящих и с помощью крючьев связал столь искусно запутанными узлами, что никто из лежащих внизу не сумел бы подняться, хотя бы и старался изо всех сил. После этого он поджег крышу; разраставшееся пламя, распространяя пожар вширь, охватило весь дом, уничтожило зал и сожгло всех, объятых ли глубоким сном или напрасно силившихся подняться. Потом он пошел в спальню Фенгона, куда того еще раньше проводили придворные, выхватил меч, висевший у изголовья, и повесил вместо него свой собственный. После этого, разбудив дядю, он сказал ему, что гости его сгорели в огне, что здесь перед ним Гамлет, во всеоружии давешних своих крючьев, и жаждет взыскать кару, причитающуюся за убийство отца. При этих словах Фенгон вскочил с кровати, но был убит, прежде чем, лишенный своего меча, тщетно пытался обнажить чужой. Храбрый муж, достойный вечной славы, благоразумно вооружившись притворным безрассудством, Гамлет скрыл под личиной слабоумия поразительное для человека разуменье! И не только получил в хитрости защиту собственной безопасности, но с ее помощью нашел способ отмстить за отца! Искусно защитив себя, отважно отомстив за родителя, он заставляет нас недоумевать, храбростью он славнее или мудростью.
Кельтская литература
ИРЛАНДСКИЙ ЭПОС
Древние кельты, в античную пору занимавшие значительную часть Европы, оставили глубокий след в последующей культурной истории европейских народов. Правда, их былое могущество исчезло, не сохранилась и древняя литература континентальных кельтских племен. В средние века лишь на Британских островах преимущественно процветала кельтская словесность: в Ирландии существовал многообразный эпос, в Уэльсе — лирическая поэзия. Затем, когда в XII в. в Европе началось повсеместное увлечение рыцарским куртуазным романом, старинные кельтские (бретонские) сказания приобрели необычайную популярность и с тех пор уже не исчезали из круга зрения европейских поэтов и прозаиков.
Но самым значительным и при этом монументальным памятником кельтской литературы средних веков остается ирландский эпос.
Первоначально зародившиеся примерно во II—VII вв., окончательно оформленные в обширных компиляциях IX—X вв., ирландские саги дошли до нас в многочисленных рукописях XI—XII вв., важнейшими из которых являются «Книга бурой коровы» (названная так по качеству пергамента, нач. XII в.) и «Лейнстерская книга» (сер. XII в.).
В этих сагах, возникших еще во времена язычества, отразилась жизнь Ирландии эпохи родового строя. Во всяком случае, в период раннего средневековья общинно-родовые порядки в Ирландии были еще достаточно прочными. Правда, заметно возросшая имущественная и социальная дифференциация ирландского общества уже свидетельствовала о начавшемся разложении родового строя. Тем не менее обычаи и представления этого строя продолжали оставаться определяющими для ирландских средневековых саг, которые наряду с сагами исландскими являются замечательным памятником народного эпоса дофеодальной эпохи.
Во многом ирландские саги весьма своеобразны. Так, в отличие от эпоса других народов ирландские саги сложились не в стихах, а в прозе. Своеобразен их стиль: очень ясный, четкий и вместе с тем нарядный, украшенный множеством риторических фигур. Характерную особенность ирландских саг составляет также широкая разработка наряду с темой героической темы любовной, а также пристрастие авторов к очень красочным сказочно-фантастическим мотивам.
САГИ ГЕРОИЧЕСКИЕ
ИЗГНАНИЕ СЫНОВЕЙ УСНЕХА
К числу наиболее примечательных памятников эпоса любви, культивировавшегося древними кельтами (ср. сказание о Тристане и Изольде), принадлежит сага «Изгнание сыновей Уснеха». На значительную древность саги указывает то, что в ней еще не появился племянник короля Конхобара, славный Кухулин, занявший впоследствии такое видное место в сагах Уладского цикла. Перевод сделан с наиболее древнего варианта саги X в.
Как произошло изгнание сыновей Уснеха? Нетрудно сказать.
Однажды собрались улады на попойку в доме Федельмида, сына Далла, рассказчика короля Конхобара. Жена Федельмида прислуживала собравшимся, а между тем она должна была вскоре родить. Рога с пивом и куски мяса так и ходили по рукам, и вскоре поднялся пьяный шум.
Наконец всем захотелось спать. Пошла и хозяйка к своей постели. Но в то время как она проходила по дому, дитя в ее чреве испустило крик такой громкий, что он был слышен по всему двору. Все мужчины повскакали с мест и наперебой кинулись на этот крик. Но Сенха, сын Айлиля, остановил их.
— Ни с места! — сказал он. — Пусть приведут к нам жену Федельмида, и пусть она объяснит нам, что означает этот крик.
Подошла она к Катбаду[73], мудрецу великому, и сказала:
Орнамент из ирландской рукописи. IX в.
Тогда Катбад произнес:
После этого Катбад положил руку на чрево женщины и ощутил трепет, словно дрожь, под рукой своей.
— Поистине, — сказал он, — здесь девочка. Да будет имя ее подобно трепету: Дейрдре. Много зла произойдет из-за нее.
Вскоре девочка родилась, и тогда Катбад запел:
— Смерть этой девочке! — воскликнули улады.
— Нет! — сказал Конхобар. — Отнесите ее завтра ко мне. Она будет воспитана, как я прикажу, и, когда вырастет, станет моей женой.
Улады не посмели противоречить ему. Как он сказал, так и было сделано.
Она воспиталась под надзором Конхобара и, когда выросла, стала красивейшей девушкой во всей Ирландии. Она жила все время в отдельном доме, чтобы ни один улад не мог ее увидеть до того часа, когда она должна была разделить ложе Конхобарово Ни один человек не допускался в дом ее, кроме приемных отца и матери, да еще Леборхам[76], этой ничего нельзя было запретить, ибо она была могучая заклинательница.
Однажды зимой приемный отец Дейрдре обдирал во дворе, на снегу, теленка, чтобы приготовить из него обед для своей воспитанницы. Прилетел ворон и стал пить пролитую кровь. Увидела это Дейрдре и сказала Леборхам:
— Три цвета будут у человека, которого я полюблю: волосы его будут цвета ворона, щеки — цвета крови, тело — цвета снега[77].
— Честь и удача тебе! — воскликнула Леборхам. — Недалек от тебя такой человек, в этом же дворе он. — Найси[78], сын Уснеха.
— Не буду я здорова, пока не увижу его, — сказала Дейрдре.
Вскоре после этого случилось, что Найси прогуливался один, распевая на валу королевского замка Эмайн. Сладкими были голоса у сыновей Уснеха. Каждая корова или иная скотина, слыша их, начинала давать молока на две трети больше обычного. Каждый человек, слыша их, наслаждался и впадал в сон, как от волшебной музыки. Велико было и боевое искусство их: если б все люди одной из пятин Ирландии ополчились на них, то и тогда, — стоило им лишь сплотиться, упершись друг в друга спинами, — не одолеть было бы их: таково было искусство трех братьев в защите и ловкой помощи друг другу в бою. На охоте же они были быстры, как псы, и поражали зверя, нагнав его.
Так вот, пока Найси гулял один и пел, Дейрдре выскользнула из своей комнаты и пошла по двору, норовя пройти мимо него. Сначала он не узнал ее.
— Красивая телочка прохаживается около нас, — сказал он.
— Телочки остаются телочками, пока около них нет бычков, — сказала она.
Тут Найси догадался, кто она такая.
— Около тебя есть славный бык, повелитель целого королевства, — сказал он.
— Я хочу сама сделать выбор между вами двумя, — отвечала она, — и милей мне молодой бычок — ты.
— Не бывать этому! — воскликнул он, вспомнив предсказание Катбада.
— Значит, ты отказываешься от меня? — спросила она.
— Да! — ответил он.
Она бросилась на него и схватила его за оба уха, говоря:
— Позор и насмешка на твои уши, если ты не уведешь меня с собой!
— Отойди от меня, о женщина! — воскликнул он.
— Будет так, как я хочу, — сказала она.
Тогда он кликнул клич своим звонким голосом. И улады, заслышав его, повскакали все, готовые броситься друг на друга с оружием. Оба брата Найси прибежали на клич его.
— Что с тобой? — спросили они его. — Улады готовы перебить друг друга из-за тебя.
Он рассказал, что случилось с ним.
— Большие беды могут произойти от этого, — сказали они, — но, что бы там ни было, тебя не коснутся позор и обида, пока мы живы. Мы уйдем все, вместе с девушкой, в другую область. Нет в Ирландии князя, который не принял бы нас охотно к себе.
Они посовещались и приняли решение. В ту же ночь они выступили в путь. Трижды пятьдесят воинов было с ними, трижды пятьдесят женщин, трижды пятьдесят псов и трижды пятьдесят слуг. И Дейрдре пошла вместе с ними.
Долго блуждали они по Ирландии, переходя из-под охраны одного князя под охрану другого, ибо Конхобар все время пытался погубить их хитростью и предательством. Всю Ирландию обогнули они, начиная от Эрсруайда и далее по южным и восточным областям, вплоть до Бенд-Энгара, что на северо-востоке.
Под конец улады заставили их перебраться в Шотландию, где они поселились в пустынной местности. Когда стало им недоставать дичи в горах, они вынуждены были делать набеги на шотландцев и угонять их скот. Те однажды собрались вместе, чтобы уничтожить их. Тогда изгнанники пришли к королю шотландскому, и тот взял их к себе на службу, сделав своими воинами. Они построили отдельные дома для себя на королевской земле. Сделали они это ради девушки, — чтоб никто не увидел ее, дабы им не погибнуть из-за нее.
Однажды управитель королевского дома, проходя рано поутру мимо их дома, увидел любящих, спавших в объятиях друг у друга. Он тотчас поспешил к королю и разбудил его.
— До этого дня, — сказал он ему, — мы не могли найти для тебя жены, достойной тебя. Но вот, вместе с Найси, сыном Уснеха, живет женщина, достойная короля Западного Мира[79]. Прикажи тотчас убить Найси, и пусть его жена разделит твое ложе.
— Нет, — сказал король, — это не годится. Лучше ходи к ней каждый день тайком и уговаривай полюбить меня.
Тот так и сделал. Но все, что управитель говорил Дейрдре днем, она немедленно передавала своему мужу ночью. Так как она не соглашалась на желание короля, то он стал посылать сыновей Уснеха на трудные дела, в тяжкие битвы, в опасные предприятия, чтобы они погибли в них. Но они проявляли себя несокрушимыми во всем этом, так что и таким путем король не достиг ничего.
Тогда король созвал шотландцев, чтобы напасть на сыновей Уснеха и умертвить их, после того как Дейрдре притворно дала согласие на это. Она тотчас же предупредила Найси:
— Собирайтесь скорее в путь. Если вы не уйдете этой ночью, то завтра же будете убиты.
Они ушли ночью и удалились на один из островов среди моря. Дошла об этом весть до Улада.
— Горестно будет, о Конхобар, — сказали улады, — если сыновья Уснеха погибнут во вражеской стране из-за одной дурной женщины. Прояви к ним милость: пусть лучше вернутся они в свою землю, чем погибнут от руки врагов.
— Пусть приходят они на мою милость, — отвечал Конхобар. — Мы вышлем заложников навстречу им.
Сыновьям Уснеха сообщили об этом решении.
— Мы рады этому, — сказали они, — и вернемся охотно. Пусть дадут нам в заложники Фергуса[80], Дубтаха и Кормака, сына Конхобарова.
Эти трое вышли навстречу сыновьям Уснеха и, когда те сошли на берег, взялись с ними за руки.
Жители того места, по наущению Конхобара, стали звать Фергуса на попойку. Он пошел к ним вместе с Дубтахом и Кормаком. Но сыновья Уснеха отказались от приглашения, сказав, что они не примут никакой пищи в Ирландии[81], прежде чем вкусят пищу за столом Конхобара. И потому, оставив там своих заложников, они пошли в Эмайн-Маху, куда их проводил до самой лужайки замка, Фиаха, сын Фергуса.
Случилось, что как раз в это время прибыл в Эмайн-Маху Эоган, сын Дуртахта, король Ферманага, чтобы заключить мир с Конхобаром, с которым он долгое время перед тем вел войну. Ему-то и поручил Конхобар взять несколько его воинов и убить сыновей Уснеха, прежде чем те успеют дойти до него.
Сыновья Уснеха были на лужайке, а недалеко от них женщины сидели на валу, окружавшем двор замка. Эоган вышел с воинами на лужайку и приветствовал Найси ударом своего мощного копья, раздробившим ему хребет. Сын Фергуса, стоявший неподалеку, успел обхватить Найси сзади руками, прикрыв его собой, и копье пронзило Найси, пройдя сквозь тело сына Фергуса. Затем были перебиты все пришельцы, бывшие на лужайке, и ни один из них не уцелел, но каждый пал либо от острия копья, либо от лезвия меча. Дейрдре же отвели к Конхобару со связанными за спиной руками.
Как только Фергус, Дубтах и Кормак, бывшие поручителями за убитых, узнали о случившемся, они поспешили в Эмайн; и там они совершили великие дела: Дубтах убил своим копьем Мане, сына Конхобарова, и Фиахну, сына Федельм, дочери Конхобара; Фергус же — Трайгтрена, сына Трайглетана, а также брата его. Великий гнев овладел Конхобаром, и в тот же день произошла битва, в которой пало триста уладов от руки мстителей. Затем Дубтах перебил уладских девушек, а Фергус под утро поджег Эмайн-Маху.
После этого Фергус и Дубтах ушли в Коннахт к Айлилю и Медб[82], зная, что их там с радостью примут. Три тысячи воинов ушли вместе с ними. Они сохранили великую вражду к уладам, и в течение шестнадцати лет Улад не мог избавиться от стона и трепета: каждую ночь наполнялся он стоном и трепетом от их набегов.
Дейрдре прожила году Конхобара, и за все это время ни разу не шевельнула она губами для улыбки, ни разу не поела и не поспала вдоволь, ни разу не подняла головы своей от колен. Когда приводили к ней музыкантов, она говорила:
Когда Конхобар пытался ее утешить, она отвечала ему:
— Кто всех ненавистней тебе из тех, кого ты видишь? — спросил ее Конхобар.
— Поистине ты сам и еще Эоган, сын Дуртахта.
— В таком случае ты проживешь год в доме Эогана, — сказал Конхобар.
И он отдал ее во власть Эогана.
На другой день Эоган выехал с нею на празднество в Эмайн-Махе. Она сидела на колеснице позади него. Но она дала клятву, что у нее не будет на земле двух мужей одновременно.
— Добро тебе, Дейрдре! — крикнул Конхобар, увидев ее. — Ты поводишь глазами меж нами двумя, мной и Эоганом, как овечка меж двух баранов!
В это время колесница проезжала мимо большой скалы. Дейрдре бросилась на нее с колесницы и ударилась о скалу головой. Разбилась голова ее, и она умерла на месте.
САГИ УЛАДСКОГО ЦИКЛА
Из циклов героических саг особенное значение по содержанию и художественному оформлению имеет Уладский цикл — сказание о героях Ульстера (одного из пяти ирландских королевств на севере и северо-востоке Ирландии). Величайшим из уладских героев саги изображают племянника короля Конхобара — непобедимого Кухулина. Отдельные саги описывают: его чудесное рождение девственной сестрой Конхобара от бога света, искусств и ремесел Луга; его детство, когда ему пришлось сидеть на цепи у кузнеца Кулана вместо убитого им сторожевого пса (отсюда его имя Ку-Хулайнд — «пес Кулана»); его сватовство к красавице Эмер, связанное со многими опасными подвигами; многочисленные подвиги его юности и зрелых лет, из которых величайшими являются героическая защита брода в страну уладов от войска коннахтской королевы Медб (сага «Похищение быка из Куальнге»); борьбу за первенство среди уладских героев (сага «Пир у Брикрена») и поход в «страну блаженных» (сага «Болезнь Кухулина»); его доблестную смерть при защите своей родины.
В образе Кухулина ирландский народ воплотил свой идеал доблести и нравственного совершенства. Кухулин рисуется могучим богатырем, справедливым и благородным. «Горд яв мощи и доблести моей, — говорит он Эмер, — и способен охранять рубежи страны от внешних врагов. Я — защита каждого бедняка, я — боевой вал всякого крепкого бойца. Я даю удовлетворение обиженному и караю проступки сильного». Никогда поступками Кухулина не движут корыстные намерения. Он горячо предан отчизне. Ей он отдает свою жизнь на поле брани.
Приводимый ниже отрывок «Бой Кухулина с Фердиадом» является эпизодом из упомянутой уже саги «Похищение быка из Куальнге»; отрывок сокращен таким образом, чтобы не нарушить развертывания сюжета.
БОЙ КУХУЛИНА С ФЕРДИАДОМ
Стали мужи Ирландии думать, кто бы мог сразиться и выдержать бой с Кухулином завтра поутру. И сказали все, что способен на это лишь Фердиад, сын Дамана[84], сына Даре, храбрейший герой из рода Домнана. Ибо в битве, в борьбе и в бою они были равны меж собой. У одних воспитательниц обучались они ловким приемам мужества и силы боевой, в школе Скатах, Уатах и Айфе[85]. И не было ни у одного из них никакого преимущества перед другим, если не считать удара рогатым копьем, которым владел Кухулин, взамен чего Фердиад имел роговой панцирь для сражения и единоборства с противником у брода.
Послали вестников и послов за Фердиадом. Но Фердиад отказался, отверг, отослал обратно вестников и послов. Не пошел на их зов Фердиад, ибо он знал, чего хотели пославшие их: чтобы он бился с другом, товарищем, названым братом своим.
Тогда Медб[86] послала друидов, заклинателей и злых певцов к Фердиаду, чтобы они спели ему три цепенящих песни и три злых заклинания и наслали три нарыва на его лицо — нарывы позора, стыда и поношения, от которых должен был умереть, если не тотчас, то не позже, чем через девять дней, если откажется прийти. И Фердиад пошел с ними, ибо легче казалось ему пасть от копья силы, смелости и ловкости боевой, чем от копья позора стыда и поношения[87].
Немного времени потратил возница Фердиада, чтобы достигнуть брода. И там он увидел прекрасную колесницу с четырьмя осями, несшуюся в стремительном порыве, искусно управляемую, с зеленым пологом, с разукрашенным остовом из тонкого, сухого, длинного, твердого, как меч, дерева, влекомую двумя конями, быстрыми, резвыми, длинноухими, прыгающими, с чуткими ноздрями, широкой грудью, крутыми бедрами, громадными копытами, тонкими ногами, — конями сильными, пылкими, стремительными.
Один из коней был серый, с крутыми бедрами, с длинной гривой, делавший короткие прыжки; другой — черный, с вьющимся волосом, длинным шагом и короткой спиною. Подобны соколам, налетающим на добычу, когда дует резкий ветер, подобны порыву бурного ветра, несущегося по равнине в мартовский день, подобны дикому оленю, почуявшему впервые охотничьих псов, были кони Кухулина. Они казались несущимися по пламенным, раскаленным камням, и земля дрожала, трепетала под ними от неистового их бега.
Кухулин достиг брода. Фердиад ожидал его с южной стороны брода. Кухулин стал на северной его стороне.
Приветствовал Фердиад Кухулина:
— В добрый час явился ты, Кухулин! — воскликнул он.
— Правду сказал ты о добром часе, — отвечал Кухулин, — лишь про это мгновенье нашей встречи. А дальше нет во мне веры словам твоим. Больше пристало бы, Фердиад, чтоб я приветствовал твой приход, чем ты мой, ибо ты вступил в область и королевство, где стою я! И не очень пристало тебе являться сюда, чтобы нападать и биться со мной, а скорей бы мне пристало напасть и биться с тобой, ибо от тебя идет обида нашим женам, сыновьям и детям, нашим коням и табунам, нашему скоту и стадам
— Ладно, Кухулин, — молвил Фердиад. — Что за причина тебе биться-сражаться со мной? Когда мы жили вместе у Скатах, Уатах и Айфе, ты прислуживал мне, готовил копья, стелил постель.
— Правда, что так, — отвечал Кухулин. — По молодости, по юности своей делал я это для тебя, теперь же дело иное. Нет ныне бойца на свете, которого бы я не мог сразить.
И они стали осыпать друг друга горькими упреками за измену былой дружбе. Обменялись они такими речами:
— Поистине, Фердиад, — продолжал Кухулин, — не должен был ты вызывать меня на бой-поединок, после того как, живя у Скатах, Уатах и Айфе, мы вместе ходили в каждую битву и сражение, в каждую схватку и боевую затею, в каждый лес и пустыню, в каждую темь и логовище.
И он прибавил:
Отвечал ему Фердиад:
Затем он воскликнул:
— Слишком долго медлим мы! С какого оружия начнем мы сегодня, о Кухулин?
— Тебе принадлежит сегодня выбор оружия, — отвечал тот, — ибо ты первый пришел к броду.
— Помнишь ты первые боевые приемы, — спросил Фердиад, — которым мы обучались у Скатах, Уатах и Айфе?
— Конечно, я помню их.
— Если так, начнем с них.
И они приступили к первым приемам боя. Они взяли два равных больших щита, восемь малых Щитов с острыми бортами, восемь копий, отделанных рыбьим зубом.
Полетели их дротики и копья вперед и назад, подобно пчелам в ясный день. Не было удара, который не попал бы в цель. Каждый из обоих старался поразить другого, отражая удары противника шишками и бортами щитов; и длилось это от утреннего рассвета до середины дня. Насколько превосходно было нападение, настолько же превосходна была и защита, и ни один из них не мог окровавить другого.
— Бросим эту игру, — сказал Фердиад, — видно, таким путем не решить нам спор.
Они прекратили бой и перекинули свои дротики в руки возниц.
— Каким же оружием станем мы теперь биться? — спросил опять Фердиад.
— Тебе принадлежит выбор, — отвечал Кухулин, — ибо ты первый пришел к броду.
— Если так, то возьмемся за тяжелые копья, обтесанные, гладкие, с веревками из тугого льна.
— Возьмемся за них, — сказал Кухулин.
Они схватили два крепких, равных щита и взялись за тяжелые копья, обтесанные, гладкие, с веревками из тугого льна. Каждый стремился поразить копьем другого, и длилось это от середины дня до захода солнца. И хотя превосходна была защита, еще превосходнее было нападение, и ни один из них не мог окровавить и ранить другого.
— Бросим это, Кухулин, — сказал наконец Фердиад.
— Бросим, — сказал Кухулин, — уже пора.
Они прервали бой и перекинули свое оружие в руки возниц. После этого они подошли друг к другу, обнялись за шею и трижды поцеловались.
Эту ночь их кони провели в одном загоне, и их возницы сошлись у одного костра; из свежего тростника они изготовили два ложа с подушками для раненых героев. Знахари и лекари были присланы к ним, чтобы залечить раны и исцелить их; они наложили травы, лекарственные растения на их раны, язвы, опухоли, больные места и спели целительные заклинания над ними. И от каждой травки, от каждого лекарственного растения, от каждого заклинания на его раны, язвы, опухоли и больные места Кухулин пересылал половину через брод, на запад, Фердиаду, чтоб мужи Ирландии не могли потом сказать, если Фердиад падет от его руки, что Кухулин имел избыток лечебной помощи. А от каждой пищи, от каждого вкусного, укрепляющего хмельного напитка, что доставляли Фердиаду мужи Ирландии, тот пересылал половину через брод, на север, Кухулину, ибо больше людей доставляло пищу Фердиаду, чем Кухулину. Все мужи Ирландии несли пищу Фердиаду, защищавшему их от Кухулина, а тому носили пищу только люди из Маг-Брега[90], каждую ночь приходившие к нему для беседы.
Так провели Кухулин и Фердиад эту ночь. На другой день рано утром встали они и снова сошлись у боевого брода[91].
Когда настал полдень, распалилась ярость бойцов, и они тесно сошлись. Прыгнул Кухулин со своего края брода прямо на шишку щита Фердиада, сына Дамана, чтобы срубить ему голову над бортом щита. Но Фердиад левым локтем встряхнул свой щит, — и Кухулин отлетел от него, как птица, на свою сторону брода. И снова прыгнул Кухулин со своего края на шишку щита Фердиада, сына Дамана, чтобы срубить ему голову над бортом щита. Но ударом левого колена Фердиад тряхнул щитом своим, — и Кухулин отлетел от него, как маленький ребенок, на свою сторону брода.
Увидел это Лойг[92].
— Горе тебе! — воскликнул он. — Противник наказал тебя, как милая женщина наказывает малого ребенка! Он вымыл тебя, как в лоханке моют чашки! Он размолол тебя, как мельница мелет доброе зерно! Он рассек тебя, как топор рассекает дуб! Он обвил тебя, как вьюнок обвивает дерево! Он обрушился на тебя, как обрушивается ястреб на малых пташек! Отныне —навеки конец притязаньям и правам твоим на славу и честь боевую, о маленький бешеный гном!
Тогда в третий раз метнулся Кухулин со скоростью ветра, с быстротой ласточки, с порывом заоблачного дракона и обрушился на шишку щита Фердиада, сына Дамана, чтобы срубить ему голову над бортом щита. Но снова Фердиад тряхнул своим щитом, и Кухулин отлетел на середину брода, где был он до своего прыжка.
Тогда произошло с Кухулином чудесное искажение его[93]: весь он вздулся и расширился, как раздутый пузырь; он стал подобен страшному, грозному, многоцветному, чудесному луку, и рост храброго бойца стал велик, как у фоморов[94], далеко превосходя рост Фердиада.
Так тесно сошлись бойцы в схватке, что вверху были их головы, внизу ноги, в середине же, за бортами и над шишками щитов, руки. Так тесно сошлись они в схватке, что щиты их лопнули и треснули от бортов к середине. Так тесносошлись они в схватке, что копья их согнулись, искривились и выщербились. Так тесно сошлись они в схватке, что демоны козловидные и бледноликие,духи долин и воздуха[95], испустили крик с бортов их щитов, с рукояток их мечей, с наконечников их копий. Так тесно сошлись они в схватке, что вытеснили поток из его русла, из его пространства, так что в его ложе образовалось достаточно свободного места, чтобы лечь там королю с королевой, и не осталось ни одной капли воды, не считая тех, что два бойца-героя, давя и топча, выжали из почвы. Так тесно сошлись они в схватке, что ирландские кони в страхе запрыгали и сорвались с мест, обезумев, порвали привязи и путы, цепи и веревки и понеслись на юго-запад, топча женщин и детей, недужных и слабоумных в лагере мужей Ирландии.
Бойцы теперь заиграли лезвиями своих мечей. И было мгновенье, когда Фердиад поразил Кухулина, нанеся ему своим мечом с рукояткой из рыбьего зуба удар, ранивший его, проникши в грудь его, так что кровь Кухулина брызнула на пояс его и брод густо окрасился кровью из тела героя.
Не стерпел Кухулин этих мощных и гибельных ударов Фердиада, прямых и косых. Он велел Лойгу, сыну Риангабара, подать ему рогатое копье[96].
Пробило копье крепкие, глубокие штаны из литого железа, раздробило натрое добрый камень величиной с мельничный жернов и сквозь одежду вонзилось в тело, наполнив своими остриями каждый член, каждый сустав тела Фердиада.
— Хватит с меня! — воскликнул Фердиад. — Теперь я поражен тобою насмерть. Но только вот что: сильный удар ты мне нанес пальцами ноги и не можешь сказать, что я пал от руки твоей.
И еще прибавил:
Одним прыжком Кухулин очутился рядом. Обхватив тело обеими руками, он перенес его, вместе с оружием, доспехами и одеждой, через брод, чтобы водрузить этот трофей победы на северной стороне брода, не оставив его на южной, среди мужей Ирландии. Он опустил его на землю, но тут, перед челом убитого Фердиада, свет померк в глазах Кухулина, слабость напала на него, и он лишился чувств[98].
Принялся Кухулин стонать и оплакивать Фердиада. Говорил он[99]:
— О Фердиад, предали и обрекли тебя на гибель мужи Ирландии, побудив на бой-поединок со мной; ибо не легко вести бой-поединок со мной при похищеньи быка из Куальнге.
И он еще прибавил:
Кухулин устремил свой взор на тело Фердиада[101].
Увидел Кухулин свое окровавленное, красное оружие рядом с телом Фердиада и сказал такие слова:
— Ну, что ж, Кукук[102], — сказал Лойг, — уйдем теперь от брода. Слишком долго мы здесь пробыли.
— Да, пойдем, — отвечал Кухулин. — Знай, что игрою, легкой забавой были для меня все бои и поединки, которые я выдержал здесь, по сравнению с боем-поединком с Фердиадом.
И еще сказал он — таковы его слова:
САГИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ПЛАВАНИЕ БРАНА, СЫНА ФЕБАЛА
Сага эта, не связанная с героическим эпосом, разрабатывает излюбленный в кельтской поэзии сюжет о плавании в «потустороннюю чудесную страну». В основе произведения лежат древние мифологические представления кельтов о «загробной жизни», вместе с тем в саге слышатся также отзвуки христианских воззрений.
Двадцать два четверостишия спела женщина неведомых стран, став среди дома Брана[104], сына Фебала, когда его королевский дом был полон королей, и никто не знал, откуда пришла женщина, ибо ворота замка были заперты.
Вот начало повести. Однажды Бран бродил одиноко вокруг своего замка, когда вдруг он услышал музыку позади себя. Он обернулся, но музыка снова звучала за спиной его, и так было всякий раз, сколько бы он ни оборачивался. И такова была прелесть мелодии, что он, наконец, впал в сон. Когда он пробудился, то увидел около себя серебряную ветвь с белыми цветами на ней, и трудно было различить, где кончалось серебро ветви и где начиналась белизна цветов.
Бран взял ветвь в руку и отнес ее в свой королевский дом. И когда все собрались там, им явилась женщина в невиданной одежде, став среди дома. И вот тогда она пропела Брану двадцать два четверостишия, и все собравшиеся слушали и смотрели на женщину:
Она пела:
Вслед за этим женщина покинула их, и они не знали, куда она ушла; и она унесла ветвь с собою. Ветвь выпала из руки Брана и перешла в руку женщины, и в руке Брана не было силы, чтобы удержать ветвь.
На другой день Бран пустился в море. Трижды девять мужей было с ним. Во главе каждых девяти был один его молочный брат и сверстник. После того как он пробыл в море два дня и две ночи, он завидел мужа, едущего навстречу ему по морю на колеснице. Этот муж спел ему двадцать два четверостишия; он назвал себя, — сказал, что он Мананнан, сын Лера[108].
Он спел ему:
После этого Бран поплыл дальше. Вскоре он завидел остров. Бран стал огибать его. Большая толпа людей была на острове, хохотавших, разинув рот. Они все смотрели на Брана и его спутников и не прерывали своего хохота для беседы с ним. Они смеялись беспрерывно, глядя плывущим в лицо. Бран послал одного из своих людей на остров. Тот тотчас же присоединился к толпе и стал хохотать, глядя на плывущих, подобно людям на острове. Бран обогнул весь остров. Всякий раз, как они плыли мимо этого человека, его товарищи пытались заговорить с ним. Но он не хотел говорить с ними, а лишь глядел на них и хохотал им в лицо. Имя этого острова — Остров Радости. Так они и оставили его там.
Вскоре после этого они достигли Страны Женщин и увидели царицу женщин в гавани.
— Сойди на землю, о Бран, сын Фебала! — сказала царица женщин. — Добро пожаловать!
Бран не решался сойти на берег. Женщина бросила клубок нитей прямо в него. Бран схватил клубок рукою, и он пристал к его ладони. Конец нити был в руке женщины, и таким образом она притянула ладью в гавань. Они вошли в большой дом. Там было по ложу на каждых двоих — трижды девять лож. Яства, предложенные им, не иссякали на блюдах, и каждый находил в них вкус того кушанья, какого желал. Им казалось, что они пробыли там один год, а прошло уже много, много лет.
Тоска по дому охватила одного из них, Нехтана, сына Кольбрана. Его родичи стали просить Брана, чтобы он вернулся с ними в Ирландию. Женщина сказала им, что они пожалеют о своем отъезде. Они все же собрались в обратный путь. Тогда она сказала, чтобы они остерегались коснуться новой земли.
Они плыли, пока не достигли селения по имени Мыс Брана[112]. Люди спросили их, кто они, приехавшие с моря. Отвечал Бран:
— Я Бран, сын Фебала.
Тогда те ему сказали:
— Мы не знаем такого человека. Но в наших старинных повестях рассказывается о плавании Брана.
Нехтан прыгнул из ладьи на берег. Едва коснулся он земли Ирландии, как тотчас же обратился в груду праха, как если бы его тело пролежало в земле уже много сот лет.
После этого Бран поведал всем собравшимся о своих странствованиях с начала вплоть до этого времени. Затем он простился с ними, и о странствиях его с той поры ничего неизвестно.
Скандинавская литература
СТАРШАЯ ЭДДА
«Старшая, или стихотворная, Эдда» представляет собой собрание эпических текстов мифологического и героического содержания, в основной своей массе сложенных древнегерманским аллитерационным тоническим стихом и лишь в незначительной части сопровождаемых прозаическими пересказами. В своей основной части тексты «Эдды» (восходящие в своих элементах к глубокой древности) были сложены около X в. н. э., записаны же они были, вероятно, в XII в. Древнейшая из сохранившихся рукописей — пергаментный «Codex Regius» («Королевский список») — относится ко второй половине XIII в. В 1643 г. он был открыт исландским епископом Бринйольфом Свейнсоном, который ошибочно приписал его исландскому ученому XII в. Сэмунду Мудрому (1056—1133) и дал ему укрепившееся за ним название «Эдды» по аналогии с прозаическим трактатом по поэтике Снорри Стурлусона (в XII—XIII вв.), носившим заглавие «Эдда» и теперь называемым «Младшей, или прозаической, Эддой».
В ряду памятников древнескандинавской (точнее, древнеисландской) литературы «Старшая Эдда» занимает особое место. Являясь наиболее значительным образцом скандинавской народной поэзии средних веков, «Эдда» одновременно является единственным в своем роде памятником европейской языческой поэзии названного периода. В то время как в других западноевропейских странах в X—XII вв. древние туземные языческие воззрения были почти полностью вытеснены христианским вероучением, на острове Исландия (впервые заселенном в 870—930 гг.) еще продолжали жить сказания языческой древности. По словам Т. Н. Грановского, «даже по принятии христианства исландцы оставались верны обычаям старины». Эта живучесть старинных обычаев и воззрений объясняется тем, что в средневековой Исландии в этот период в известной мере еще сохранились архаические общественные отношения. В социальном укладе и культуре проявлялись разнообразные пережитки первобытнородового строя. Когда с конца IX в. выходцы из Норвегии начали обосновываться в Исландии, «они принесли с собою в новое отечество вместе с прекрасным и звучным языком целую вымиравшую в собственной Скандинавии мифологию и изумительное богатство героических песен и преданий. Таким образом, Исландии досталось на долю быть последним убежищем скандинавского язычества и связанного с ним гражданского быта» (Т.Н. Грановский. Песни Эдды о Нифлунгах).
Песни «Старшей Эдды» весьма разнообразны как по форме, так и по содержанию. Всего «Старшая Эдда» содержит более 30 текстов, обычно группируемых в два раздела: 1) песни мифологические, включающие сказания о сотворении мира и о конце мира, а также мифы о божествах древних скандинавов; 2) песни героические, излагающие трагические судьбы знаменитых родов, в том числе рода Волсунгов и Гьюкунгов. Среди мифологических песен прежде всего обращает на себя внимание «Прорицание вёльвы», помещенное в самом начале древнего («королевского») списка «Эдды». Это патетический, исполненный глубокого драматизма рассказ о сотворении мира, его грядущей гибели и возрождении. Образы этой песни отличаются грандиозностью и могучей, суровой силой. Тема гибели богов переплетается с темой неодолимости всевластной судьбы. Суровость, даже некоторая мрачность мифических представлений «Эдды» коренилась в суровых условиях жизни древних скандинавов периода раннего средневековья. Иной характер носит приводимая ниже.«Песнь о Трюме», не лишенная юмора, отличающаяся стройностью композиции, во многом близкая средневековым балладам. Одно время ученые относили ее к числу древнейших эддических песен, сейчас преобладает мнение, согласно которому названная песнь возникла на рубеже XII и XIII вв. В песне повествуется о том, как могучий Тор, прибегнув к хитрости, вернул свой молот Мьёлльнир, похищенный великанами (турсы, ётуны). Отдельные эпические мотивы «Эдды» (в частности, тема гибели богов) были использованы Р Вагнером в его оперной тетралогии «Кольцо Нибелунга».
Атли приказывает вырезать у Хогни сердце. Резьба по дереву из Аустадской церкви.
ПРОРИЦАНИЕ ВЁЛЬВЫ[113]
РЕЧИ ВЫСОКОГО
«Речи Высокого» (т.е. Одина) знакомят нас с образцами древнескандинавской гномической поэзии. Строфы 1—95 содержат правила житейской мудрости, видимо, бытовавшие в устной традиции. Они близки к пословицам и поговоркам. Многие строчки этой пространной песни до сих пор живут в Исландии в качестве пословиц и поговорок. Строфы 112—137 представляют собой ряд жизненных советов, даваемых некоему Лоддфафниру.
ПЕСНЬ О ТРЮМЕ[202]
(Фрейя сказала:)
(Трюм сказал:)
(Локи сказал:)
(Трюм сказал:)
(Локи сказал:)
ПЕСНЬ О ВЁЛЮНДЕ[215]
Жил конунг в Свитьоде, звали его Нидуд. Двое сыновей было у него и дочь по имени Бёдвильд.
Жили три брата — сыновья конунга финнов, — одного звали Слягфид, другого Эгиль, третьего Вёлюнд. Они ходили на лыжах и охотились. Пришли они в Ульвдалир[216] и построили себе дом. Есть там озеро, зовется оно Ульвсъяр[217]. Рано утром увидели они на берегу озера трех женщин, которые пряли лен, а около них лежали их лебяжьи одежды, — это были валькирии. Две из них были дочери конунга Хлёдвера: Хлядгуд Лебяжье-белая и Хервёр Чудесная, а третья была Эльрун, дочь Кьяра из Валлянда. Братья увели их с собой. Эгиль взял в жены Эльрун, Слягфид — Лебяжьебелую, а Вёлюнд — Чудесную. Так они прожили семь зим. Потом валькирии умчались в битвы и не возвратились. Тогда Эгиль отправился искать Эльрун. Слягфид пошел на поиски Лебяжьебелой. А Вёлюнд остался в Ульвдалире. Он был искуснейшим человеком среди всех людей, известных нам из древних сказаний. Конунг Нидуд велел схватить его, как здесь об этом рассказано.
О ВЁЛЮНДЕ И НИДУДЕ
Золотые бляшки с изображением мужчины и женщины, найденные при раскопках жилищ в Швеции и Норвегии.
(Вёлюнд сказал:)
(Вёлюнд сказал:)
Конунг Нидуд отдал дочери своей Бёдвильд золотое кольцо, которое он снял с лыковой веревки у Вёлюнда, а сам он стал носить меч Вёлюнда. Тогда жена Нидуда сказала:
Так и было сделано: ему подрезали сухожилья под коленями и оставили его на острове, что был недалеко от берега и назывался Севарстёд. Там он ковал конунгу всевозможные драгоценности. Никто не смел посещать его, кроме конунга. Вёлюнд сказал:
(Бёдвильд сказала:)
(Вёлюнд сказал:)
(Вёлюнд сказал:)
Битва, погребение павшего воина, въезд его в Валхаллу. Изображение на камне.
(Нидуд сказал:)
(Нидуд сказал:)
(Бёдвильд сказала:)
МЛАДШАЯ ЭДДА
Написанная около 1222—1225 гг. исландским скальдом (поэтом) Снорри Стурлусоном так называемая «Младшая Эдда» представляет собой своего рода учебник, предназначенный, по словам автора, для «молодых скальдов, пожелавших изучить язык поэзии и оснастить свою речь старинными именами или пожелавших научиться толковать темные стихи». О «старинных именах», т.е. о старинных языческих мифах, к которым еще продолжали обращаться скальды в XIII в., повествуется преимущественно в первой части книги «Видение Гюльви». Конунг Гюльви в обличии странника беседует в Асгарде с тремя асами — Высоким, Равновысоким и Третьим, которые рассказывают ему о богах и событиях, составляющих содержание древних исландских мифов. Приводимый ниже замечательный миф о гибели Бальдра изложен в «Младшей Эдде» гораздо обстоятельнее, чем в «Старшей Эдде».
...Второй сын Одина — это Бальдр. О нем можно сказать только доброе. Он лучше всех, и его все прославляют. Так он прекрасен лицом и так светел, что исходит от него сияние. Есть растение столь белоснежное, что равняют его с ресницами Бальдра, из всех растений оно самое белое. Теперь ты можешь вообразить, насколько светлы и прекрасны волосы его и тело. Он самый мудрый из асов, самый сладкоречивый и благостный...
...Бальдру Доброму стали сниться дурные сны, предвещавшие опасность для его жизни. И когда он рассказал те сны асам, они держали все вместе совет, и было решено оградить Бальдра от всяких опасностей. И Фригг[226] взяла клятву с огня и воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и змей, что они не тронут Бальдра. А когда она это сделала и другим поведала, стали Бальдр и асы забавляться тем, что Бальдр становился на поле тинга, а другие должны были кто пускать в него стрелы, кто рубить его мечом, а кто бросать в него каменьями. Но что бы они ни делали, все было Бальдру нипочем, и все почитали это за великую удачу.
Как увидел то Локи, сын Лаувейи, пришлось ему не по нраву, что ничто не вредит Бальдру. Он пошел к Фригг, в Фенсалир, приняв образ женщины. А Фригг и спрашивает, ведомо ли той женщине, что делают асы на поле тинга. Та отвечает, что все, мол, стреляют в Бальдра, но это не причиняет ему вреда. Тогда промолвила Фригг: «Ни железо, ни дерево не сделают зла Бальдру. Я взяла с них в том клятву». Тут женщина спрашивает: «Все ли вещи дали клятву не трогать Бальдра?» Фригг отвечает: «Растет к западу от Вальгаллы один побег, что зовется омелою. Он показался мне слишком молод, чтобы брать с него клятву». Женщина тут же ушла.
Локи вырвал с корнем тот побег омелы и пошел на поле тинга. Хёд стоял в стороне от мужей, обступивших Бальдра, ибо он был слеп. Тогда Локи заговорил с ним: «Отчего не метнешь ты чем-нибудь в Бальдра?» Тот отвечает: «Оттого, что я не вижу, где стоит Бальдр, да и нет у меня оружия». Тогда сказал Локи: «Все же поступи по примеру других и уважь Бальдра, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит; метни в него этот прут». Хёд взял побег омелы и метнул в Бальдра, как указывал ему Локи. Пронзил прут Бальдра, и упал он мертвым на землю. И так свершилось величайшее несчастье для богов и людей.
Когда Бальдр упал, язык перестал слушаться асов, и не повиновались им руки, чтобы поднять его. Они смотрели один на другого, и у всех была одна мысль — о том, кто это сделал. Но мстить было нельзя: было то место для всех священно. И когда асы попытались говорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. Но Одину было тяжелее всех сносить утрату, лучше других постигал он, сколь великий урон причинила асам смерть Бальдра.
Когда же боги обрели разум, молвила слово Фригг и спросила, кто из асов хочет снискать любовь ее и расположение, и поедет Дорогою в Хель, и постарается разыскать Бальдра, и предложит за него выкуп Хель[227], чтобы она отпустила Бальдра назад в Асгард. И тот, кого называют Хермод Удалой, сын Одина, вызвался ехать. Вывели тут Слейпнира, коня Одина, вскочил Хермод на того коня и умчался прочь.
Асы же подняли тело Бальдра и перенесли к морю. Хрингхорни[228] звалась ладья Бальдра, что всех кораблей больше. Боги хотели спустить ее в море и зажечь на ней погребальный костер. Но ладья не трогалась с места. Тогда послали в Страну Великанов за великаншей по имени Хюрроккин[229]. Когда она приехала — верхом на волке, а поводьями ей служили змеи — и соскочила наземь, Один позвал четырех берсерков[230]подержать ее коня, но те не могли его удержать, пока не свалили. Тут Хюрроккин подошла к носу ладьи и сдвинула ее с первого же толчка, так что с катков посыпались искры и вся земля задрожала. Тогда Тор разгневался и схватился за молот. Он разбил бы ей череп, но все боги просили пощадить ее.
Потом тело Бальдра перенесли на ладью, и лишь увидела это жена его Нанна, дочь Непа, у нее разорвалось от горя сердце, и она умерла. Ее положили на костер и зажгли его. Тор встал рядом и осветил костер молотом Мьёлльнир. А у ног его пробегал некий карлик по имени Лит[231], и Тор пихнул его ногою в костер, и он сгорел.
Множество разного народу сошлось у костра. Сперва надо поведать об Одине и что с ним была Фригг и валькирии и его вороны. А Фрейр ехал в колеснице, запряженной вепрем Золотая Щетина, или Страшный Клык. Хеймдалль ехал верхом на коне Золотая Челка. Фрейя же правила своими кошками. Пришел туда и великий народ инеистых исполинов и горных великанов. Один положил на костер золотое кольцо Драупнир[232]. Есть у этого кольца с тех пор свойство: каждую девятую ночь каплет из него по восьми колец такого же веса. Коня Бальдра взвели на костер во всей сбруе.
Теперь надо поведать о Хермоде, что он скакал девять ночей темными и глубокими долинами и ничего не видел, пока не подъехал к реке Гьёлль[233] и не ступил на мост, выстланный светящимся золотом. Модгуд — имя девы, охраняющей тот мост. Она спросила, как звать его и какого он роду, и сказала, что за день до того проезжали по мосту пять полчищ мертвецов, «так не меньше грохочет мост и под одним тобою, и не похож ты с лица на мертвого. Зачем же ты едешь сюда, по Дороге в Хель?» Он отвечает: «Нужно мне в Хель, чтобы разыскать Бальдра, да может статься, видала ты Бальдра на дороге в Хель?» И она сказала, что Бальдр проезжал по мосту через Гьёлль, «а дорога в Хель идет вниз и к северу».
Тогда Хермод поехал дальше, пока не добрался до решетчатых ворот в Хель. Тут он спешился, затянул коню подпругу, снова вскочил на него, всадил в бока шпоры, и конь перескочил через ворота, да так высоко, что вовсе их не задел. Тогда Хермод подъехал к палатам и, сойдя с коня, ступил в палаты и увидел там на почетном месте брата своего Бальдра.
Хермод заночевал там. А наутро стал он просить Хель отпустить Бальдра назад, рассказывая, что за плач великий был у асов. Но Хель сказала, что «надо проверить, правда ли все так любят Бальдра, как о том говорят. И если все, что ни есть на земле живого иль мертвого, будет плакать по Бальдру, он возвратится к асам. Но он останется у Хель, если кто-нибудь воспротивится и не станет плакать». Тогда Хермод поднялся, а Бальдр проводил его из палат и, взяв кольцо Драупнир, послал его на память Одину, а Нанна послала Фригг свой плат и другие дары, а Фулле — перстень.
Вот пустился Хермод в обратный путь, приехал в Асгард и поведал, как было дело, что он видел и слышал. Асы тут же разослали гонцов по всему свету просить, чтобы все плакали и тем вызволили Бальдра из Хель. Все так и сделали: люди и звери, земля и камни, деревья и все металлы, и ты видел, что все они плачут, попав с мороза в тепло. Когда гонцы возвращались домой, свое дело как должно исполнив, видят: сидит в одной пещере великанша. Она назвалась Тёкк[234]. Они просят ее вызволить плачем Бальдра из Хель. Она отвечает:
И люди полагают, что это был не кто иной, как Локи, сын Лаувейи, причинивший асам величайшее зло.
САГИ
Наряду с эддической поэзией выдающееся место в скандинавской литературе средних веков занимали исландские прозаические саги. Сложившиеся между X и XIV вв., закреплявшиеся в письменной форме начиная с XII в., исландские саги необычайно разнообразны по своему содержанию, они охватывают все виды повествования: исторические предания (саги о колонизации Исландии — Ланднамабок), описания путешествий (открытие Америки — сага об Эрике Красном), семейные предания (сага о Ниале), героический, а позднее и куртуазный эпос.
Эпизоды из сказаний о Волсунгах. Изображение на камне.
Как и в песнях «Эдды», в сагах отражена суровая жизнь скандинавского средневековья. По словам Т. Н. Грановского, «в них не должно искать ни изящной формы классического и вообще южного искусства, ни светлого, успокаивающего душу взгляда на жизнь. Зато в сумрачном мире скандинавской поэзии мы встречаем образы, дивно отмеченные трагической красотой страдания, носящие в себе «избыток сил и скорби» («Песни Эдды о Нифлунгах»),
Эпизоды из сказаний о Сигурде. Резьба по дереву из Сетересдальской церкви, начало XIII в.
САГА О ВОЛСУНГАХ
Один из важнейших памятников героической саги, сложившаяся в середине XIII в. «Сага о Волсунгах», в значительной своей части (начиная с IX главы) представляет прозаический пересказ героических песен «Старшей Эдды», излагающих трагические судьбы славных родов — Волсунгов и Гьюкунгов. Таким образом, «Сага о Волсунгах» дает в основном скандинавский вариант сюжета, получившего особую известность в его верхненемецкой разработке «Песни о Нибелунгах» (см. раздел «Немецкая литература»). Несмотря на то что «Сага о Волсунгах» возникла позднее «Песни о Нибелунгах», в ней в силу особенностей исторического развития Исландии, не знавшей феодализма, продолжают сохраняться более архаические черты старинного германского сказания. В «Саге о Волсунгах» еще живы языческие мифы, а также обычаи и воззрения родового строя. Трагическим лейтмотивом саги является вера в неодолимость судьбы, столь характерная для языческих воззрений древних скандинавов. В связи с этим большая роль в повествовании отводится проклятому кладу карлика Андвари, приносящему гибель каждому, кто им владеет. В архаические тона окрашена также в исландской саге тема мести Гудруны (Кримхильды). Ее ярость обрушивается не на братьев, умертвивших Сигурда (Зигфрида) (как об этом рассказывается в «Песни о нибелунгах»), но на Атли (Этцеля), ее второго мужа, который из алчности погубил ее братьев. Так кровные родовые связи оказываются выше связей супружеских.
В начале саги рассказывается о трагической гибели правнука Одина, конунга Волсунга, и его сыновей; о том, как Сигмунд, сын Волсунга, владелец чудесного меча, дарованного ему Одином, отомстил за гибель отца и как ему в этом помогал его молодой сын Синфйотли; о том, как в свой черед погибли и Сигмунд и Синфйотли; о том, как вторая жена Сигмунда — Хйордис родила, попав в полон после смерти мужа, сына-богатыря Сигурда; о том, как юного Сигурда, воспитанного в чужой семье, его дядька Регин подговаривает вступить в бой с могучим змием Фафни, хранителем драгоценного клада, некогда проклятого карликом Андвари.
XV. РЕГИН ВЫКОВАЛ ГРАМ
Тогда Регин смастерил меч и дает его Сигурду. Тот принял меч и молвил:
— Такова ли твоя ковка, Регин? — и ударил по наковальне и разбил меч. Он выбросил клинок тот и приказал сковать новый, получше. Смастерил Регин другой меч и дал Сигурду, и тот на него взглянул:
— Этот тебе уж верно понравится, хоть и трудно тебе угодить. Сигурд испытал этот меч и сломал, как и прежний. Тогда молвил Сигурд Регину:
— Видно, ты похож на древних своих родичей и очень коварен.
Тут пошел он к своей матери, и она хорошо его принимает, и вот они друг с другом беседуют и пьют. Молвил тогда Сигурд:
— Правда ли мы слыхали, будто Сигмунд-конунг отдал вам меч Грам, надвое сломанный?
Она отвечает:
— Это правда.
Сигурд молвил:
— Отдай его в мои руки! Я хочу им владеть.
Она сказала, что он обещает быть славным воином, и дала ему меч тот. Тут пошел Сигурд к Регину и приказал ему починить меч по своему уменью. Регин рассердился и пошел в кузницу с обломками меча, и думает он, что трудно угодить Сигурду ковкой. Вот смастерил Регин меч, и, когда вынул его из горна, почудилось кузнечным подмастерьям, будто пламя бьет из клинка. Тут велит он Сигурду взять меч тот, а сам говорит, что не может сковать другого, если этот не выдержит. Сигурд ударил по наковальне и рассек ее пополам до подножья, а меч не треснул и не сломался. Он сильно похвалил меч, и пошел к реке с комком шерсти, и бросил его против течения, и подставил меч, и рассек комок пополам. Тогда Сигурд весело пошел домой. Регин молвил:
— Нужно теперь выполнить наш уговор, раз я сковал меч, и разыскать Фафни.
Сигурд отвечает:
— Выполним мы это; но сперва — другое: отомщу я за отца своего.
Тем дороже был Сигурд народу, чем старше он становился, так что каждый ребенок любил его от всего сердца[235].
Эпизоды из сказаний о Сигурде. Резьба по дереву из Сетерсдальской церкви, начало XIII в.
XVIII. ВОТ ЕДУТ РЕГИН И СИГУРД
Вот едут Сигурд и Регин в пустынные горы к той тропе, по которой обычно проползал Фафни, когда шел на водопой, и сказывают, что с тридцать локтей был тот камень, на котором лежал он у воды, когда пил.
Тогда промолвил Сигурд:
— Сказал ты, Регин, что дракон этот не больше степного змея, а мне сдается, что следы у него огромные.
Регин молвил:
— Вырой яму и садись в нее, а когда змей поползет к воде, ударь его в сердце и так предай его смерти: добудешь ты этим великую славу.
Сигурд молвил:
— Как быть, если кровь змея того зальет меня?
Регин отвечает:
— Нечего тебе и советовать, раз ты все пугаешься и не похож ты отвагою на своих родичей.
Тут поехал Сигурд в пустыню, а Регин спрятался от сильного страха. Сигурд выкопал яму; а пока он был этим занят, пришел к нему старик с длинной бородой[236] и спросил, что он делает, и Сигурд ему сказал. Отвечает ему старик:
— Это дурной совет: вырой ям побольше, чтобы кровь туда стекала, а ты сиди в одной и бей змея того в сердце.
Тут старик исчез, а Сигурд выкопал ямы, как было сказано. А когда змей тот пополз к воде, то задрожала вся округа, точно сотряслась земля, и брызгал ядом он из ноздрей по всему пути, но не устрашился Сигурд и не испугался этого шума. А когда змей прополз над ямой той, вонзил Сигурд меч под левую ключицу, так что клинок вошел по рукоять. Тут выскакивает Сигурд из ямы той и тянет к себе меч, и руки у него — все в крови по самые плечи. И когда огромный тот змей почуял смертельную рану, стал он бить головой и хвостом, дробя все, что под удар попадало. И когда принял Фафни смертельную рану, стал он спрашивать:
— Кто ты таков, и кто твой отец, и какого ты роду, что дерзнул занести на меня оружье?
Сигурд отвечает:
— Род мой неведом, и имя мне — Статный зверь, и нет у меня ни отца, ни матери, и один совершил я путь.
Фафни отвечает:
— Если нет у тебя ни отца, ни матери, то от какого же чуда рожден ты? И если ты скрываешь от меня имя свое в смертный мой час, то знай, что ты — лжец.
Тот отвечает:
— Называюсь я Сигурд, а отец мой — Сигмунд.
Фафни отвечает:
— Кто подговорил тебя на это дело и как дал ты себя подговорить? Разве ты не слыхал, что все люди боятся меня и моего шлема-страшилища? Остроглазый отрок, отважен был твой отец.
Сигурд отвечает:
— Подстрекнул меня крепкий дух, а совершить помогла эта мощная длань и этот мой острый меч, как ты теперь изведал; и редко в старости стоек, кто в детстве дрябл.
Фафни говорит:
— Знаю я, что если бы взращен ты был в роду своем, то умел бы биться грозно; но большое диво, что полоняник отважился биться со мною, ибо редко пленник отважен в поле.
Сигурд молвил:
— Попрекаешь ты меня тем, что возрос я вдали от рода. Но хоть был я взят на войне, никогда я не был рабом, и ты на себе испытал, что я — свободнорожденный.
Фафни отвечает:
— За обиду принимаешь ты все, что я говорю. Но будет тебе на погибель золото то, которым я владел ... и всякому другому, кто им завладеет.
Сигурд встал и молвил:
— Поехал бы я домой, хоть бы и лишился великого этого богатства, если бы знал, что никогда не умру.
И отважнейший воин властен над золотом
По некий суженый срок.
Ты ж, Фафни, майся в предсмертных муках,
И пусть тебя примет Гэль[237].
И тут умер Фафни.
XIX. РЕГИН ИСПИЛ КРОВИ ФАФНИ
После этого пришел Регин к Сигурду и молвил:
— Благо тебе, господин мой! Великую победу ты одержал, убивши Фафни, и до сей поры никто не дерзал стать ему поперек дороги, и этот подвиг будут помнить, пока свет стоит.
Вот стоит Регин и глядит в землю, а затем говорит в великом гневе:
— Брата моего ты убил, и вряд ли я непричастен к этому делу.
Тут берет Сигурд свой меч Грам и вытирает о траву и молвит Регину:
— Далеко ушел ты, когда я совершил это дело и испытал этот острый меч своею рукою; и своей мощью поборол я силу змея, покуда ты лежал в степном кустарнике и не знал, ни где земля, ни где небо.
Регин отвечает:
— Долго пролежал бы этот змей в своем логове, если бы ты не владел мечом, что сковал я тебе своею рукою, и не совершил ты этого один без чужой помощи.
Сигурд отвечает:
— Когда доходит до боя между мужами, лучше тут служит человеку храброе сердце, чем острый меч.
Тогда молвил Регин Сигурду в великой печали:
— Ты убил моего брата, и вряд ли я непричастен к этому делу.
Тут вырезал Регин сердце у змея тем мечом, что звался Ридил; тут испил Регин крови Фафни и молвил:
— Исполни мою просьбу; для тебя это — легкое дело: пойдя к костру с сердцем этим, изжарь его и дай мне поесть.
XX. СИГУРД СЪЕЛ ЗМЕИНОЕ СЕРДЦЕ
Сигурд пошел и стал жарить на вертеле, а когда мясо зашипело, он тронул его пальцем, чтобы испытать, хорошо ли изжарилось. Он сунул палец в рот, и едва кровь из сердца змея попала ему на язык, как уразумел он птичий говор.
Услышал он, как сойки болтали на ветвях подле него:
— Вот сидит Сигурд, жарит сердце Фафни, что сам бы он должен был съесть. Стал бы он тогда мудрее людей.
Другая говорит:
— Вот лежит Регин и хочет изменить тому, кто во всем ему доверяет.
Тут молвила третья:
— Лучше бы он отрубил ему голову: мог бы он тогда один завладеть золотом этим несметным.
Тут молвит четвертая:
— Был бы он разумнее, если бы поступил так, как они ему советуют, а затем поехал к логову Фафни и взял несметное то золото, что там лежит, а после поскакал бы на Хиндарфйалл, туда, где спит Брюнхилд, и может он там набраться великой мудрости. И был бы он умнее, если бы принял наш совет и думал бы о своей выгоде, ибо волка я чую, коль вижу уши.
Тут молвила пятая:
— Не так он быстр рассудком, как мне казалось, раз он сразил врага, а брата его оставляет в живых.
Тут молвила шестая:
— Ловко было бы, если бы он его убил и один завладел богатством.
Тут молвил Сигурд:
— Да не будет такой напасти, чтобы Регин стал моим убийцей, и пусть лучше оба брата пойдут одной дорогой.
Взмахнул он тогда мечом тем Грамом и отрубил Регину голову, а затем съел он часть змеиного сердца, а часть его сохранил. После вскочил он на коня своего и поехал по следам Фафни к его пещере и застал ее открытой. И из железа были двери все и также все петли и ручки, и из железа же все стропила постройки, и все это — под землей. Сигурд нашел там многое множество золота и меч тот Хротти, и там взял он шлем-страшилище и золотую броню, и груду сокровищ. Он нашел там так много золота, что, казалось, не снесут ни двое коней, ни трое. Это золото он все выносит и складывает в два огромных ларя.
Вот берет он под уздцы коня того Грани. Конь тот не хочет идти, и понукание не помогает. Тут Сигурд понял, чего хочет конь: вскакивает ему на спину, дает шпоры — и мчится тот конь, словно совсем без ноши.
XXI. О СИГУРДЕ
Вот едет Сигурд по дальним дорогам. И все он ехал, пока не прибыл на Хиндарфйалл и не свернул на юг, к Франкской земле. На горе увидал он пред собою свет великий, точно огонь горит, и сияние поднималось до неба, а когда он подъехал, встала перед ним стена из щитов, и высилось над ней знамя. Сигурд вошел за ограду ту и увидал, что там спит человек и лежит в полном вооружении. Сигурд сперва снял с него шлем и увидел, что это — женщина: она была в броне, а броня сидела так плотно, точно приросла к телу. И вспорол он броню от шейного отверстия книзу и по обоим рукавам, и меч резал панцирь, словно платье. Сигурд сказал ей, что слишком долго она спала. Она спросила, что за мощное оружье вскрыло броню ту — «и кто разбил мою дрему? разве явился Сигурд Сигмундарсон, что носит на голове шлем Фафни и убийцу его[238] в руках?»
Отвечает на это Сигурд:
— От семени Волсунгов тот, кто это сделал; и слышал я, что ты — могучего конунга дочь. И сказывали нам тоже о вашей красе и мудрости, и это мы хотим проверить.
Брюнхилд поведала, как сразились два конунга — одного звали Хйалмгуннар; был он старик и величайший воин, и ему обещал Один победу, а другой звался Агнаром или братом Ауд.
— Я убила Хйалмгуннара в бою, а Один уколол меня сонным шипом в отместку за это и рек, что никогда больше не одержу я победы, и приказал мне выйти замуж[239]. А я в ответ дала клятву: не выходить за того, кому ведом страх.
Сигурд молвил:
— Научи меня великому веденью.
Она отвечает:
— Вы сами лучше знаете, но с радостью научу я вас, если есть что-либо, что нам известно, а вам может прийтись по сердцу: руны[240] и прочие знания на всякие случаи жизни. И выпьем мы вместе кубок, и да пошлют нам боги те счастливый день, а ты запомни нашу беседу.
Брюнхилд наполнила кубок, подала Сигурду и промолвила[241]:
Сигурд отвечает:
Сигурд молвил:
— Нет человека мудрее тебя, и в том я клянусь, что женюсь на тебе, ибо ты мне по сердцу.
Она отвечает:
— За тебя я пойду охотнее всего, хоть бы пришлось мне выбирать между всеми людьми.
И так обменялись они клятвами.
[Дальнейшая часть саги ближе к развертыванию сюжета в «Песни о Нибелунгах». Принужденный расстаться с Брюнхилд, ибо «не судила судьба, чтобы они жили вместе», Сигурд поддается чарам Гримхилд-волшебницы, которая женит его на дочери своей Гудрун, сестре короля Гуннара. Для Гуннара же Сигурд добывает Брюнхилд, совершая все необходимые для этого подвиги в обличье Гуннара. Спор королев (ср. «Песнь о Нибелунгах») разоблачает обман.]
XXXI. РАЗРОСЛОСЬ ГОРЕ БРЮНХИЛД
После того ложится Брюнхилд в постель, доходит весть до Гуннара-конунга, что Брюнхилд хворает. Он едет к ней и спрашивает, что с ней приключилось, но она не отвечает ни слова и лежит словно мертвая. А когда он стал спрашивать настойчиво, она ответила:
— Что сделал ты с перстнем тем, что я дала тебе, а сама получила от Будли-конунга[256] при последнем расставании? Вы, Гьюкунги[257], пришли к нему и грозили войной и огнем, если вам меня не отдадут. В ту пору позвал меня отец на беседу и спросил, кого я выберу из тех, что прибыли; а я хотела оборонять землю и быть воеводой над третью дружины. Он же велел мне выбирать: либо выйти за того, кого он назначит, либо лишиться всего имения и отцовой приязни. Говорил он, что больше будет мне пользы от любви его, чем от гнева. Тут я стала размышлять про себя — должна ли я исполнить его волю или убить многих мужей. Решила я, что не в силах бороться с отцом, и кончилось тем, что обрекла я себя тому, кто прискачет на коне том Грани с наследием Фафни, и проедет сквозь полымя мое, и убьет тех людей, которых я назначу. И вот никто не посмел проехать, кроме Сигурда одного. Он проскакал сквозь огонь, потому что хватило у него мужества. Это он убил змея и Регина и пятерых конунгов, а не ты, Гуннар, что побледнел, как труп: не конунг ты и не витязь. Я же дала зарок у отца моего в доме, что полюблю лишь того, кто всех славнее, а это — Сигурд. А теперь я — клятвопреступница, потому что не с ним я живу; и за это замыслила я твою смерть, и должна я отплатить Гримхилд за зло: нет женщины бессердечнее ее и злее.
Гуннар отвечал так, что никто не слышал:
— Много остудных слов ты молвила, и злобная же ты женщина, если порочишь ту, что много лучше тебя: не роптала она на судьбу, как ты, не тревожила мертвых, никого не убила и живет похвально.
Брюнхилд отвечает:
— Я не совершала тайнодействий и дел нечестивых; не такова моя природа, но охотнее всего я убила бы тебя.
Тут она хотела убить Гуннара-конунга, но Хогни[258] связал ей руки.
Она сказала:
— Брось думать обо мне, ибо никогда больше не увидишь ты меня веселой в своей палате: не стану я ни пить, ни играть в тавлеи, ни вести разумные речи, ни вышивать золотом по добрым тканям, ни давать вам советы.
Почитала она за величайшую обиду, что не достался ей Сигурд. Она села и так ударила по своим пяльцам, что они разлетелись, и приказала запереть теремные двери, чтобы не разносились далеко горестные ее речи. И вот настала великая скорбь, и узнал об этом весь дом. Гудрун спрашивает девушек своих, почему они так невеселы и хмуры — «что с вами деется, и отчего ходите вы, как полоумные, и какая бука вас испугала?»
Отвечает ей одна челядинка по имени Свафрлод:
— Несчастный нынче день: палата наша полна скорби.
Тогда молвила Гудрун своей подруге:
— Вставай! Долго мы спали! Разбуди Брюнхилд, сядем за пяльцы и будем веселы.
— Не придется мне, — сказала та, — ни разбудить ее, ни говорить с нею; много дней не пила она ни вина, ни меда, и постиг ее гнев богов.
Тогда молвила Гудрун Гуннару:
— Пойди к ней, — говорит она, — скажи, что огорчает нас ее горесть.
Гуннар отвечает:
— Запрещено мне к ней входить и делить с ней благо.
Все же идет Гуннар к ней и всячески старается с ней заговорить, но не получает ответа; возвращается он и встречает Хогни и просит его посетить ее; а тот отвечал, что не хочет, но все-таки пошел и ничего от нее не добился. Разыскали тогда Сигурда и попросили зайти к ней; он ничего не ответил, и так прошел день до вечера. А на другой день, вернувшись с охоты, пошел он к Гудрун и молвил:
— Предвижу я, что не добром кончится гнев этот и умрет Брюнхилд.
Гудрун отвечает:
— Господин мой! великая на нее брошена порча: вот уже проспала она семь дней, и никто не посмел ее разбудить.
Сигурд отвечает:
— Не спит она: великое зло замышляет она против нас.
Тогда молвила Гудрун с плачем:
— Великое будет горе — услышать о твоей смерти; лучше пойди к ней и узнай, не уляжется ли ее гордыня; дай ей золота и умягчи ее гнев.
Сигурд вышел и нашел покой незапертым. Он думал, что она спит, и стянул с нее покрывало и молвил:
— Проснись же, Брюнхилд. Солнце сияет по всему дому, и довольно спать. Отбрось печаль и предайся радости.
Она молвила:
— Что это за дерзость, что ты являешься ко мне? Никто не обошелся со мной хуже, чем ты, при этом обмане.
Сигурд спрашивает:
— Почему не говоришь ты с людьми и что тебя огорчает?
Брюнхилд отвечает:
— Тебе я поведаю свой гнев.
Сигурд молвил:
— Околдована ты, если думаешь, что я мыслю на тебя зло. А Гуннар — твой муж, которого ты избрала.
— Нет! — говорит она. — Не проехал Гуннар к нам сквозь огонь, и не принес он мне на вено[259] убитых бойцов. Дивилась я тому человеку, что пришел ко мне в палату, и казалось мне, будто я узнаю ваши глаза, но не могла я ясно распознать из-за дымки, которая застилала мою хамингью[260].
Сигурд говорит:
— Не лучшие мои люди, чем сыны Гьюки: они убили датского конунга и великого хофдинга[261], брата Будли-конунга.
Брюнхилд отвечает;
— Много зла накопилось у нас против них, и не напоминай ты нам о наших горестях. Ты, Сигурд, победил змея и проехал сквозь огонь ради меня, а не сыны Гьюки-конунга.
Сигурд отвечает:
— Не был я твоим мужем, ни ты моей женой, и заплатил за тебя вено славный конунг.
Брюнхилд отвечает:
— Никогда не смотрела я на Гуннара так, что сердце во мне веселилось, и злобствую я на него, хоть и скрываю перед другими.
— Это бесчеловечно, — сказал Сигурд, — не любить такого конунга. Но что всего больше тебя печалит? Кажется мне, что любовь для тебя дороже золота.
Брюнхилд отвечает:
— Это — самое злое мое горе, что не могу я добиться, чтобы острый меч обагрился твоею кровью.
Сигурд отвечает:
— Не говори так. Недолго осталось ждать, пока острый меч вонзится мне в сердце, и не проси ты себе худшей участи, ибо ты меня не переживешь, да и мало дней жизни осталось нам обоим.
Брюнхилд отвечает:
— Ни малой беды не сулят мне твои слова, ибо всякой радости лишили вы меня своим обманом, и не дорожу я жизнью.
Сигурд отвечает:
— Живи и люби Гуннара-конунга и меня, и все свое богатство готов я отдать, чтобы ты не умерла.
Брюнхилд отвечает:
— Не знаешь ты моего нрава. Ты выше всех людей, но ни одна женщина не так ненавистна тебе, как я.
Сигурд отвечает:
Обратное — вернее: я люблю тебя больше себя самого, хоть я и помогал им в обмане, и теперь этого не изменишь. Но всегда с тех пор, как я опомнился, жалел я о том, что ты не стала моей женой; но я сносил это, как мог, когда бывал в королевской палате, и все же было мне любо, когда мы все сидели вместе. Может также случиться, что исполнится то, что предсказано, и незачем о том горевать.
Брюнхилд отвечает:
— Слишком поздно вздумал ты говорить, что печалит тебя мое горе; а теперь нет нам исцеления.
Сигурд отвечает:
— Охотно бы я хотел, чтоб взошли мы с тобой на одно ложе и ты стала моей женой.
Брюнхилд отвечает:
— Непристойны такие речи, и не буду я любить двух конунгов в одной палате, и прежде расстанусь я с жизнью, чем обману Гуннара-конунга. Но ты вспомни о том, как мы встретились на горе той и обменялись клятвами; а теперь они все нарушены, и не мила мне жизнь.
— Не помнил я твоего имени, — сказал Сигурд, — и не узнал тебя раньше, чем ты вышла замуж, и в этом великое горе.
Тогда молвила Брюнхилд:
— Я поклялась выйти за того, кто проскачет сквозь полымя, и эту клятву я хотела сдержать или умереть.
— Лучше женюсь я на тебе и покину Гудрун, лишь бы ты не умерла, — молвил Сигурд, и так вздымалась его грудь, что лопнули кольца брони.
— Не хочу я тебя, — сказала Брюнхилд, — и никого другого.
Сигурд пошел прочь, как поется в Сигурдовой песне:
И когда вернулся Сигурд в палату, спрашивает его Гуннар, знает ли он, в чем горе, и вернулась ли к ней речь. Сигурд отвечал, что она может говорить. И вот идет Гуннар к ней во второй раз и спрашивает, какая нанесена ей обида и нет ли какого-либо искупления.
— Не хочу я жить, — сказала Брюнхилд, — потому что Сигурд обманул меня, а я тебя, когда ты дал ему лечь в мою постель: теперь не хочу я иметь двух мужей в одной палате. И должен теперь умереть Сигурд, или ты, или я, потому что он все рассказал Гудрун, и она меня порочит.
[С помощью своего скудоумного брата Готторма[263] Гуннар убивает Сигурда. Брюнхилд сжигает себя на его погребальном костре.]
XXXIII. ПРОСЬБА БРЮНХИЛД
— Прошу я тебя, Гуннар, последнею просьбой: прикажи воздвигнуть большой костер на ровном поле для всех нас — для меня и для Сигурда, и для тех, что вместе с ним были убиты. Вели устлать его тканью, обагренной человеческой кровью, и сжечь меня рядом с гуннским конунгом, а по другую сторону — моих людей (двоих в головах, двоих в ногах) и двух соколов; так будет все по обряду. Положите между нами обнаженный меч, как тогда, когда мы вошли на одно ложе и назвались именем супругов, и не упадет ему тогда дверь[264] на пятки, если я за ним последую, и не жалкая у нас будет дружина, если пойдут за нами пять служанок и восемь слуг, что отец мой дал мне, да еще сожжены будут те, кто убит вместе с Сигурдом. Больше хотела бы я сказать, если бы не была ранена; но теперь рана прорвалась и вскрылась. Сказала я истину.
Снарядили тут тело Сигурда по старинному обычаю и воздвигли высокий костер, а когда он слегка разгорелся, возложили на него тело Сигурда Фафниробойцы и сына его трехлетнего, которого Брюнхилд велела убить, и Готторма. Когда же запылал костер сверху донизу, взошла на него Брюнхилд и сказала своим девушкам, чтобы они взяли золото то, что она им подарила. И тут умерла Брюнхилд и сгорела вместе с Сигурдом, и так завершился их век.
[Вторичное замужество Гудрун с Атли (Аттилой), приезд к ней братьев и их гибель даны в ином освещении чем в «Песни о Нибелунгах». Гудрун не только не предает братьев, но выступает мстительницей за них, убивая Атли и сжигая его дружину. Последние главы саги посвящены трагической гибели детей Гудрун: растоптанной конями прекрасной Сванхилд и побитых камнями братьев ее.]
САГА О ФРИДТЙОФЕ[265]
Сложившаяся в конце XIII — начале XIV в. «Сага о Фридтйофе Смелом» относится к ряду более поздних скандинавских саг. Сага сохранилась в двух редакциях — более древней и краткой (А) и более поздней и распространенной (В); именно в последней редакции особенно ярко выступают черты художественного метода, выделяющие «Сагу о Фридтйофе» среди «саг былых времен»: реалистичность изображения, четкость и стройность композиции, строгость стиля. Эта редакция и дана в предлагаемом переводе.
[О СМЕРТИ КОНУНГА БЕЛИ И ТОРСТЕЙНА ВИКИНГССОНА И ИХ ДЕТЯХ][266]
Так начинают эту сагу: Бели-конунг правил Сюгнафюльки[267]. У него было трое детей. Хельги звали одного сына, другого — Хальфдан, а дочь — Ингибйорг. Ингибйорг была хороша собой и разумна. Она была лучшее дитя конунга.
Вдоль фьорда по западной стороне тянулся берег. Там было большое селение. Это селение называлось Бальдрсхаги[268]. Там было мирное убежище и обширный храм и высокий тын вокруг. Там было много богов, всех же более чтили Бальдра. Язычники так уважали святость этого места, что там нельзя было причинять вреда ни животным, ни людям. Никаких сношений не смели мужчины иметь там с женщинами.
Сюрстрандом назывался участок, которым владел конунг, а по ту сторону фьорда стояло селение, и называлось оно Фрамнес. Там жил муж, которого звали Торстейн, и был он сыном Викинга. Его селение стояло против конунгова. Торстейн от жены своей имел сына, которого звали Фридтйоф. Он был из всех мужей самый рослый и сильный и был хорошо подготовлен к доблестным делам уже в юности. Его прозвали Фридтйофом Смелым. Он был так любим, что все желали ему добра.
Дети конунга были еще малолетни, когда скончалась их мать. Хильдингом звали доброго бонда[269] в Согне. Он вызвался взять на воспитание дочь конунга. Была она воспитана у него хорошо и заботливо. Ее прозвали Ингибйорг Прекрасной. Фридтйоф был также на воспитании у бонда Хильдинга[270], и стал он (по воспитанию) побратимом дочери конунга, и выделялись они из всех детей.
У конунга Бели стало убывать движимое добро, потому что он состарился. Торстейн имел в своем ведении треть государства, и был он главною опорою конунга. Торстейн давал конунгу роскошный пир каждый третий год, а конунг давал пир Торстейну каждые два года. Хельги Белесон[271] рано сделался великим жрецом. Не были он и брат его любимы народом.
У Торстейна был корабль, который звали Эллиди. Там гребли пятнадцать человек на каждом борту. У него были круто выгнутые штевни, и был он крепок, как морское судно. Борт был обит железом. Так силен был Фридтйоф, что он греб двумя веслами на носу Эллиди, а каждое было длиною в тринадцать локтей; а за каждое из прочих весел бралось по два человека. Фридтйоф считался первым из молодых мужей того времени. Завидовали сыновья конунга, что его хвалили более их.
Вот Бели-конунг занемог, и когда стал терять силы, призвал он сыновей своих и молвил им: «От этой болезни будет мне смерть. А потому прошу вас, сохраняйте дружбу с теми, кто были мне друзьями, потому что мне кажется, что отец с сыном, Торстейн и Фридтйоф, будут вам нужны и для совета, и для дела. Курган должны вы насыпать надо мной». После того Бели умер.
После этого занемог Торстейн. Тогда он молвил Фридтйофу, сыну своему: «Прошу тебя, оказывай покорность сыновьям конунга, так как это подобает их сану; впрочем, я предчувствую, что ты будешь счастлив. Желаю, чтоб меня похоронили против самого кургана Бели, по сю сторону фьорда, у моря. Будет нам тогда привольно перекликаться о предстоящих событиях».
Бйорном и Асмундом звали побратимов Фридтйофа. Они были рослые мужи и сильные.
Вскоре Торстейн скончался. Он был похоронен, как он приказал, аФридтйоф наследовал его землю и движимость.
[ФРИДТИОФ СВАТАЕТСЯ ЗА ИНГИБИОРГ, СЕСТРУ КОНУНГОВ]
Фридтйоф стал знаменитейшим мужем и вел себя храбро во всехвоинских делах. Бйорн, побратим его, был ему особенно дорог; Асмунд же служил им обоим. Корабль Эллиди был лучшим сокровищем, доставшимся ему после отца, и вторым сокровищем было золотое кольцо. Не было другого дороже в Норвегии.
Фридтйоф был так щедр, что большинство людей ставило его не ниже обоих братьев, находя, что ему недоставало только сана конунга.За это Хельги и Хальфдан прониклись ненавистью и враждой кФридтйофу и досадовали, что молва отдавала ему преимущество перед ними; притом же казалось им, что Ингибйорг, сестра их, и Фридтйофимели склонность друг к другу.
Случилось, что конунги поехали на пир к Фридтйофу во Фрамнес, и он, по обыкновению, угостил их лучше, чем они были достойны. Ингибйорг также была там, и Фридтйоф долго разговаривал с нею. Дочь конунга молвила ему: «Ты имеешь хорошее золотое кольцо». — «Верно это», — сказал Фридтйоф. После того братья отправились домой, и росла их зависть к Фридтйофу.
Вскоре Фридтйоф стал очень грустен. Бйорн, побратим его, спросил, какая тому причина. Он сказал, что у него на сердце разыгралось желание свататься за Ингибйорг; «хотя я и ниже по званию, чем братья ее, все же мне кажется, что я не ниже по достоинству». Бйорн сказал: «Сделаем так». Потом поехал Фридтйоф с несколькими из своих мужей к братьям. Конунги сидели на кургане своего отца. Фридтйоф приветствовал их учтиво и потом высказал свою просьбу, сватался за сестру их Ингибйорг. Конунги отвечают: «Неразумно ты требуешь, чтоб мы выдали ее за незнатного мужа, отказываем мы в этом решительно». Фридтйоф отвечает: «В таком случае скоро сделано мое дело. Но это отплатится тем, что я никогда уже не окажу вам помощи, хотя бы вы в ней и нуждались». Они сказали, что не будут тужить о том. Поехал Фридтйоф домой после этого и стал снова весел.
(КОНУНГ ХРИНГ ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ СЫНОВЬЯМ БЕЛИ)
Хрингом звали одного конунга. Он правил Хрингарики; это было в Норвегии. Он был могущественный областной конунг и доблестный муж, к тому времени достигший уже преклонного возраста. Он молвил своим мужам: «Я слышал, что сыновья конунга Бели поссорились с Фридтйофом, одним из славнейших мужей. Теперь хочу отправить послов к конунгам и объявить им, что или они должны покориться мне и платить дань, или я пойду на них войною. И это будет мне легко, так как они не могут сравниться со мною ни числом войска, ни разумом. Все же мне было бы великою славою на старости лет победить их». После того отправились послы конунга Хринга к братьям и сказали так: «Хринг-конунг велит вам объявить, чтобы вы прислали ему дань, а не то он опустошит ваше государство». Они отвечали, что не намерены в молодые годы учиться тому, чего не желают знать в старости, — позорно служить ему. «Нужно ныне собрать рать, какую можем добыть». Так и было сделано. Но когда им показалось, что рать их мала, послали они воспитателя Хильдинга к Фридтйофу, и должен он был просить его приехать на помощь к конунгам.
Фридтйоф сидел за игральной доской[272], когда Хильдинг вошел. Он молвил так: «Конунги наши шлют тебе поклон и хотят твоей помощи в войне против Хринга-конунга, который хочет нагло и несправедливо вторгнуться в их государство». Фридтйоф не отвечает ему ничего и молвил Бйорну, с которым играл: «Слабое место вот здесь, побратим. Но ты не переменяй хода. Лучше я нападу на красную шашку и посмотрю, защищена ли она». Хильдинг молвил тогда снова: «Хельги-конунг просил сказать тебе, Фридтйоф, чтобы ты также шел в поход, иначе тебе будет плохо, когда они воротятся». Бйорн молвил тогда: «Тут сомнительно, как поступить, побратим, и сыграть можно двояко». Фридтйоф сказал: «Тогда разумнее напасть прежде на главную шашку, и сомнению будет конец». Не получил Хильдинг иного ответа. Он поспешно поехал назад к конунгам и передал им речи Фридтйофа. Они спросили Хильдинга, как он разумеет эти слова. Хильдинг сказал: «Говоря про слабое место, он намекал, конечно, на свое неучастие в вашем походе. А когда собирался напасть на красную шашку, то выразил намерение идти к Ингибйорг, сестре вашей. Берегите же ее хорошенько. Когда я грозил ему вашим гневом, то Бйорн увидел в деле сомнение, а Фридтйоф сказал, что лучше прежде напасть на главную шашку. Тут он разумел конунга Хринга».
После того они стали снаряжаться и велели заблаговременно отправить Ингибйорг с восемью девушками в Бальдрсхаги. Сказали, что Фридтйоф не может быть таким дерзким, чтобы он поехал туда на свидание с нею: «ибо нет никого столь дерзкого, чтобы делать там зло». И братья отправились на юг к Ядару и нашли Хринга-конунга в Сокнарсунде. Конунг же Хринг был особенно раздражен тем, что братья сказали, что им казалось позорным сражаться с таким старым человеком, который не может сесть верхом на лошадь, если его не подсаживают.
[ПОЕЗДКИ ФРИДТЙОФА В БАЛЬДРСХАГИ]
Только что конунги отправились, Фридтйоф надел свое парадное платье, а на руку свое доброе золотое кольцо. Потом побратимы пошли к морю и спустили Эллиди. Бйорн молвил: «Куда держать путь, побратим?» Фридтйоф молвил: «К Бальдрсхаги, чтоб весело провести время с Ингибйорг». Бйорн молвил: «Не следует накликать на себя гнев богов». Фридтйоф отвечает: «Отважусь на это; мне важнее ласка Ингибйорг, чем гнев Бальдра». После того они переправились на веслах через фьорд и пошли в Бальдрсхаги в палату Ингибйорг. Она сидела там с восемью девушками. Их было тоже восемь. Когда ‘они вошли туда, все было там убрано паволоками и дорогими тканями. Ингибйорг встала и молвила: «Как ты столь дерзок, Фридтйоф, что приходишь сюда вопреки запрещению моих братьев и тем раздражаешь против себя богов?» Фридтйоф сказал: «Что бы ни случилось, твоя любовь мне важнее, чем гнев богов». Ингибйорг отвечает: «Будь тогда моим дорогим гостем со всеми твоими мужами». Потом она посадила его возле себя и пила за его здоровье лучшее вино, и так они сидели и весело проводили время. Тут увидела Ингибйорг доброе кольцо на руке его и спрашивает, ему ли принадлежит сокровище. Фридтйоф сказал, что ему. Она много хвалит кольцо. Фридтйоф промолвил: «Я дам тебе кольцо, если ты обещаешь не выпускать его из рук и прислать мне назад, когда не захочешь более иметь его. И таким образом мы дадим друг другу обет верности». При этой помолвке они поменялись кольцами. Фридтйоф часто бывал по ночам в Бальдрсхаги и между тем ездил туда каждый день и весело проводил время с Ингибйорг.
[Меж тем братья Ингибйорг, увидев перевес сил у Хринга, решили покончить с ним дело миром, выдав за него сестру. Вернувшись в свои владения, Хельги и Хальфдан услали Фридтйофа собирать дань на Оркнейские острова, поклявшись охранять его имение; когда же он уехал, они спалили его добро и призвали колдуний, чтоб «накликать на Фридтйофа и мужей его такую непогоду, от которой бы все погибли в море».]
[ПЛАВАНЬЕ ФРИДТЙОФА К ОРКНЕЙСКИМ ОСТРОВАМ]
Только что Фридтйоф со своими людьми вышел из Согна, посвежел ветер и сделалась сильная буря. Поднялась тогда большая волна. Понесся корабль очень быстро, ибо он был легок на ходу и лучшего не могло быть на море. Тогда Фридтйоф запел песню:
Бйорн промолвил: «Лучше бы тебе заняться другим делом, чем петь о девах Бальдрсхаги». — «От того не стало бы тише», — сказал Фридтйоф. Вот их понесло на север к проливу между островами, которые называются Солундами. Был тогда ветер всего сильнее. Тогда запел Фридтйоф:
Они пристали к Солундским островам и решились там обождать, и тогда погода утихла. Тогда они переменили намерение и отчалили от острова. Плавание казалось им приятным, ибо ветер сначала был попутный. Но вот ветер стал крепчать. Тогда запел Фридтйоф:
И когда они отплыли далеко от земли, море во второй раз сильно взволновалось, и сделалась великая буря с такою снежною метелью, что от одного штевня не виден был другой. И так стало заливать корабль, что нужно было беспрестанно черпать воду. Тогда запел Фридтйоф:
Бйорн молвил: «Многое увидит, кто далеко поедет». — «Правда, побратим», — сказал Фридтйоф и запел:
«Может быть, — говорит Бйорн, — она желает, чтоб тебе было лучше теперешнего. Все же и это теперь неплохо». Фридтйоф сказал, что представился случай испытать добрых спутников, хотя приятнее было бы в Бальдрсхаги. Они принялись за работу бойко, ибо тут сошлись все могучие мужи, и корабль был из лучших, какие виданы в северных странах. Фридтйоф запел песню:
[Буря продолжала бушевать со страшной силой, но ничто не могло сломить стойкости Фридтйофа и его мужей. Наконец, храбрые витязи благополучно пристали к одному из Оркнейских островов. Здесь они были радушно встречены ярлом[275] Ангантюром, другом покойного отца Фридтйофа. Они остались у него на зиму и были хорошо почтены ярлом.]
[КОНУНГ ХРИНГ ПОЛУЧАЕТ ИНГИБЙОРГ]
Теперь нужно сказать о том, что происходило в Норвегии после отъезда Фридтйофа. Братья велели сжечь все строения во Фрамнесе; между тем колдовавшие сестры свалились с колдовских подмостков и обе переломили себе спину. В ту осень конунг Хринг приехал на север в Согн, чтобы жениться, и был великолепный пир, когда он праздновал свою свадьбу с Ингибйорг. Он спрашивает Ингибйорг: «Как тебе досталось доброе кольцо, что у тебя на руке?» Она сказала, что оно прежде принадлежало отцу ее. Конунг сказал: «Это дар Фридтйофа, и ты его сейчас же сними с руки: у тебя не будет недостатка в золоте, когда ты приедешь в Альфхейм». Тогда она отдала кольцо жене Хельги и просила передать его Фридтйофу, когда он воротится. Хринг-конунг отправился тогда домой с женою своей и очень полюбил ее.
[ФРИДТЙОФ ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ДАНЬЮ]
Следующею весною уехал Фридтйоф с Оркнейских островов, и расстались они с Ангантюром в дружбе. Хальвард отправился с Фридтйофом. А когда они прибыли в Норвегию, узнал он, что жилье его сожжено, и когда он прибыл во Фрамнес, молвил Фридтйоф: «Почернело мое жилище, и недруги побывали здесь», — и он пропел песню:
Тогда он стал советоваться со своими мужами, что ему предпринять; но они просили, чтоб он сам подумал о том. Он сказал, что прежде всего хочет вручить дань. Они поплыли на веслах через фьорд в Сюрстранд. Там услышали они, что конунги Бальдрсхаги при жертвоприношении Дисам[276]. Фридтйоф отправился туда с Бйорном, Хальварду же и Асмунду поручил потопить между тем все суда, большие и малые, стоявшие поблизости; так они и сделали. Потом Фридтйоф и Бйорн пошли к воротам Бальдрсхаги. Фридтйоф хотел войти. Бйорн просил его поступать осторожно, когда он захотел войти один. Фридтйоф попросил его остаться перед входом на страже и запел:
Бйорн отвечал: «Хорошо сказано!» Здесь Фридтйоф вошел и увидел, что в палате Дис немного народу. Конунги были при жертвоприношении Дисам, сидели и пили. На полу был разложен огонь, а перед огнем сидели женщины и грели богов; другие мазали их и тканями вытирали. Фридтйоф подошел к конунгу Хельги и сказал:
«Теперь ты, конечно, желаешь получить дань». Тут он замахнулся кошельком, в котором было серебро, и ударил конунга по носу так сильно, что у него вывалилось изо рта два зуба, а сам он упал с седалища в беспамятстве. Хальфдан подхватил его так, что он не упал в огонь. Тогда Фридтйоф пропел песню:
В той палате было немного людей, потому что пили в другом месте. Отходя от стола, Фридтйоф увидел дорогое кольцо на руке у жены Хельги, которая грела Бальдра перед огнем. Фридтйоф схватил кольцо, но оно крепко держалось у нее на руке, и он потянул ее по полу к двери; тогда Бальдр упал в огонь. Жена Хальфдана быстро схватила ее, и тогда бог, которого она грела, также упал в огонь. Пламя охватило обоих богов, перед тем обмазанных, и потом ударило в крышу, так что весь дом запылал. Фридтйоф завладел кольцом, прежде чем он вышел. Тогда Бйорн спросил его, что случилось при нем в храме, а Фридтйоф поднял кольцо и пропел песню:
Люди говорят, что Фридтйоф закинул горящую головню на покрытую берестой кровлю, так что зал запылал весь. И он запел песню:
[Оскорбленный Фридтйоф покидает отчизну и становится морским воителем — викингом; но память об Ингибйорг не оставляет его, и через четыре года он тайно приходит во владение Хринга.]
[ФРИДТЙОФ У КОНУНГА ХРИНГА И ИНГИБЙОРГ)
Осенью Фридтйоф поехал в Упланд, так как он хотел увидеть любовь Хринга-конунга и Ингибйорг. Перед приездом туда он надел сверх платья широкую шубу и был весь космат; у него были две палки в руках, а на лице маска, и он притворился очень старым. Потом встретил он мальчиков-пастухов, приблизился нерешительно и спрашивает: «Откуда вы?» Они ответили: «Мы живем в Стрейталанде, близ конунгова жилища». Старик спрашивает: «Что, Хринг — могущественный конунг?» Они отвечали: «Нам кажется, ты уже так стар, что мог бы и сам знать все, что касается конунга Хринга». Старик сказал, что он более заботится о выварке соли, чем о делах конунгов. Потом он отправился к палате и под вечер вошел в палату и представился очень жалким и, заняв место у двери, надвинул капюшон на голову и спрятался под ним. Хринг-конунг молвил Ингибйорг: «Там вошел в палату человек, ростом гораздо выше других». Королева отвечает: «Тут нет ничего необыкновенного». Тогда конунг сказал молодому служителю, стоявшему у стола: «Поди спроси, кто этот человек в шубе, откуда он и какого он рода». Юноша побежал к пришельцу и сказал: «Как тебя зовут, старик? Где ты ночевал, откуда ты родом?» Человек в шубе отвечал: «Много зараз ты спрашиваешь, юноша, но сумеешь ли отдать отчет во всем, что я тебе скажу?» — «Сумею», — отвечал тот. Человек в шубе сказал: «Вором[277] меня зовут; у Волка был я этой ночью, а в Скорби был я вскормлен». Слуга побежал к конунгу и передал ему ответ пришельца. Конунг сказал: «Ты хорошо понял, юноша! Я знаю округ, который зовут «Скорбь», возможно также, что этому человеку невесело жить на свете. Он, наверное, умный человек и мне нравится». Королева сказала, что странен такой обычай, «что ты столь охотно разговариваешь со всяким, кто сюда придет. Чего же в этом человеке хорошего?» Конунг молвил: «Тебе это не лучше известно. Я вижу, что он думает про себя более, чем говорит, и зорко осматривается кругом». После того конунг велел подозвать его к себе, и человек в шубе приблизился к конунгу, совершенно сгорбившись, и приветствовал его тихим голосом. Конунг сказал: «Как зовут тебя, великий муж?» Человек в шубе в ответ пропел песню:
Конунг молвил: «От многого принял ты название вора, но где ты ночевал и где твое жилище? где ты вскормлен и что привело тебя сюда?» Человек в шубе отвечает: «В Скорби я вскормлен, у Волка я ночевал, желание привело меня сюда, жилища не имею». Конунг ответил: «Может быть, ты несколько времени питался в Скорби, но возможно также, что ты родился в Мире[279]. Ты должен был ночевать в лесу, ибо здесь поблизости нет поселянина, которого звали бы Волком. А что ты говоришь, будто у тебя нет жилища, так это, может быть, потому, что оно для тебя мало имеет цены в сравнении с желанием, привлекшим тебя сюда». Тогда промолвила Ингибйорг: «Поди, Тйоф, на другое угощение или в гридню[280]». Конунг сказал: «Я уж достиг таких лет, что сам могу назначать место своим гостям. Скинь с себя шубу, пришелец, и садись по другую сторону возле меня». Королева отвечает: «Да ты от старости впал в детство, что сажаешь нищих подле себя». Тйоф молвил: «Не подобает, государь; лучше сделать так, как говорит королева, ибо я более привык варить соль, нежели сидеть у вождей». Конунг сказал: «Сделай, как я приказываю, ибо хочу поставить на своем». Тйоф сбросил с себя шубу, и был под нею темно-синий кафтан, и на руке доброе кольцо; стан был обтянут тяжелым, серебряным поясом, за которым был большой кошель с светлыми серебряными деньгами, а на бедре висел меч. На голове он носил большую меховую шапку; у него были очень глубокие глаза и все лицо обросло волосами. «Вот так лучше, — говорит конунг. — Ты, королева, припаси ему хороший и приличный плащ». Королева сказала: «Ваша воля, государь! а мнедела нетдо этого вора». Потом ему принесли прекрасный плащ и посадили его на почетное место возле конунга. Королева покраснела, как кровь, когда увидела доброе кольцо; однако же не захотела ни единым словом обменяться с гостем. Конунг же был очень ласков к нему и молвил: «У тебя на руке доброе кольцо, и, конечно, ты долго варил соль, чтобы добыть его». Тот отвечал: «Это — все мое наследство после отца». — «Может быть, — сказал конунг, — у тебя не более этого, но я думаю, что мало равных тебе солеваров, если только старость не слишком затемняет глаза».
Тйоф прожил там всю зиму и был радушно угощаем и всеми любим; он был ласков и весел со всеми. Королева редко с ним говорила, но конунг всегда был к нему приветлив.
[КОНУНГ ХРИНГ ЕДЕТ В ГОСТИ]
Случилось однажды, что Хринг-конунг собрался ехать на пир, а также и королева, со многими мужами. Конунг сказал Тйофу: «Хочешь ли ты ехать с нами или останешься дома?» Тот отвечал, что лучше поедет. «Это мне более нравится», — сказал конунг. Они отправились и в одном месте должны были ехать по льду. Тйоф сказал конунгу: «Лед кажется мне ненадежен, и мы здесь неосторожно поехали». Конунг сказал: «Часто бывает видно, что ты о нас заботишься». Вскоре лед под ними проломился. Тйоф подбежал и рванул к себе повозку со всем, что было на ней и внутри ее. Конунг и королева сидели в ней оба; все это и лошадей, запряженных в повозку, он вытащил на лед. Хринг-конунг сказал: «Ты славно вытащил нас, и сам Фридтйоф Смелый не сильнее потянул бы, если б он был здесь; вот каково иметь удалых спутников». Приехали они на пир; там ничего особенного не случилось, и конунг отправился домой с почетными дарами.
[КОНУНГ ХРИНГ В ЛЕСУ]
Проходит зима, и когда наступает весна, погода начинает улучшаться и лес зеленеть, а трава расти, и корабли могут ходить между странами.
Однажды конунг Хринг говорит своим людям: «Желаю, чтобы вы сегодня поехали со мною в лес погулять и полюбоваться прекрасными местами». Так и сделали; множество людей отправилось с конунгом в лес. Случилось, чтоконунг и Фридтйоф очутились вместе в лесу вдали от других мужей. Конунг говорит, что чувствует усталость: «Хочу соснуть». Тйоф отвечает: «Поезжайте домой, государь! Это знатному мужу приличнее, чем лежать под открытым небом». Конунг молвил: «Этого бы мне не хотелось». Потом он лег на землю и крепко уснул и громко захрапел. Тйоф сидел около него и вынул меч из ножен и бросил его далеко прочь от себя. Через несколько мгновений конунг приподнялся и сказал: «Не правда ли, Фридтйоф, что многое приходило тебе на ум, против чего ты однако ж устоял? За это будет тебе у нас большой почет. Я тотчас же узнал тебя в первый вечер, когда ты вошел в нашу палату, и мы не скоро тебя отпустим; может быть, тебе предстоит здесь что-нибудь великое». Фридтйоф сказал: «Угощали вы меня, государь, хорошо и приветливо, а теперь мне в путь пора скорее, так как дружина моя придет вскоре ко мне навстречу, как я раньше распорядился». Затем они верхом поехали домой из лесу. К ним присоединилась челядь конунга, и они возвратились в палату и пировали вечером. Тогда народу стало известно, что Фридтйоф Смелый прогостил у них зиму.
[Тронутый верностью Фридтйофа, престарелый Хринг завещает ему свое королевство и жену, поручая ему и опеку над своими несовершеннолетними сыновьями. Фридтйоф побеждает братьев Ингибйорг и в счастье проводит конец своей жизни.]
И здесь заканчивают ныне сагу о Фридтйофе Смелом.
Провансальская литература
ЛИРИКА ТРУБАДУРОВ
В XI—XII вв. Прованс переживал большой экономический и культурный подъем. Именно в Провансе при дворах феодальных сеньоров впервые возникла куртуазная поэзия, представлявшая собой характерное выражение новой, светской рыцарской культуры, которая требовала от феодальной аристократии «куртуазного» (изысканного, вежливого) поведения, воспитанности и умения служить «прекрасным дамам». Культ дамы занимает центральное место в творчестве провансальских поэтов — трубадуров (от прованс. trobar — находить, изобретать, сочинять), среди которых преобладали рыцари и представители феодальной знати. Певец признавал себя вассалом дамы, которой обычно являлась замужняя женщина, жена его сеньора. Он воспевал ее достоинства, красоту и благородство; он прославлял ее господство и «томился» по недосягаемой цели. Его «любовь» была неотделима от «страдания», но это было «сладостное» страдание. Конечно, во всем этом было много условного, куртуазное «служение» зачастую оказывалось лишь проявлением придворного этикета. Однако нередко за условными формами рыцарского служения таилось неподдельное индивидуальное чувство, которое в условиях феодального быта, когда заключение брака основывалось на материальных, сословных и фамильных интересах, могло найти себе выражение лишь за пределами брачных отношений.
В качестве лирики индивидуального чувства поэзия провансальцев проторяла путь поэзии «Нового сладостного стиля» (см. раздел «Итальянская литература») и лирике эпохи Возрождения. Возникла поэзия трубадуров, видимо, из народных провансальских хороводных песен, широко разрабатывавших любовную тему. На связь с народной поэзией указывают, например, обычные в лирике трубадуров «природные зачины» (описание весны, возрождающейся природы). Однако со временем поэзия трубадуров далеко отошла от простоты и безыскусственности народной песенной лирики. Трубадуры хотели быть виртуозами стиха. Они умножали строфические формы, большое внимание уделяли искусству рифмовки. По словам А. С. Пушкина, «поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке, сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность новейших народов... Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее все возможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы» («О поэзии классической и романтической», 1825). Результатом этого явилась большая вычурность провансальской поэзии, чрезмерное нагнетание стихотворной формы при известной ограниченности поэтического содержания. Зародившись в конце XI в., поэзия трубадуров наивысшего расцвета достигла в XII в. В начале XIII в. начался ее упадок, усугубленный так называемыми альбигойскими войнами (1209—1229), приведшими к завоеванию Прованса французскими феодалами.
Важнейшими жанрами, культивировавшимися трубадурами XI—XIII вв., являются:
кансона (или канцона) (cansos или chansons) — песня, ограниченная в своей тематике любовными или религиозными темами и отличающаяся изысканным и сложным строением строфы, соединяющей часто стихи различной длины;
сирвента (sirventes) — строфическая песня, разрабатывающая темы политические или общественные, а также часто содержащая личные выпады поэта против его врагов;
плач (pianti), приближающийся к сирвенте, выражает печаль поэта по поводу смерти какого-либо важного сеньора или близкого ему человека;
альба (alba — «утренняя заря») — строфическая песня, рисующая расставание влюбленных утром, после тайного свидания; часто альба получает форму диалога;
пасторела (pastorela или pastoreta) — лирическая пьеса, изображающая встречу рыцаря с пастушкой и их спор; чаще всего пасторела представляет стихотворный диалог, которому предпослано небольшое введение, описывающее ситуацию встречи;
тенсона (tensos — «спор» или joc pastitz — «разделенная игра», или partimens — «раздел») является стихотворным диалогом двух поэтов и представляет собой диспут на темы любовные, поэтические или философские;
баллада (balada) — плясовая песня, обычно сопровождаемая припевом.
Формы провансальской лирики отличаются большой изысканностью; стих построен на определенном числе слогов и ритмическом движении, создаваемом распределением ударений (чаще всего встречается ямбический ход); рифма — притом рифма точная — обязательна, причем она может связывать между собой как стихи одной строфы, так и соответствующие стихи разных строф; строфика необычайно разнообразна, число стихов в строфе и строф в стихотворении не ограничено никакими правилами.
Большая часть лирических произведений, дошедших до нас, приписывается определенным трубадурам; в общем рукописи сохранили около 500 имен, из них около 40 — наиболее знаменитых. Однако о большей части этих поэтов не сохранилось точных сведений: так называемые биографии трубадуров, которые начинают составляться в XIII в., представляют в значительной своей части художественный вымысел.
АЛЬБА
Анонимная песня XII в.
БАЛЛАДА
Анонимная песня XII в.
Баллада связана с весенними обрядами — с выборами в качестве «королевы весны» самой красивой из девушек и с плясками вокруг майского (апрельского в Провансе) деревца.
Маркабрюн
Вымышленные биографии подчеркивают неаристократический характер поэтических произведений, связанных с именем этого трубадура (около 1140—1185); особенно характерно для него отрицательное отношение к куртуазному служению даме, как к делу безнравственному и постыдному.
ПАСТОРЕЛА
Приводимая пасторела, представляющая спор рыцаря с пастушкой, является наиболее типической для жанра; встречаются, однако, и другие формы, более дидактические, где рыцарь ведет беседу не с пастушкой, а с пастухом.
Встретил пастушку вчера я,
РОМАНС
Образец этого, мало разрабатываемого трубадурами лиро-эпического жанра интересен еще и по тем страстным выпадам против крестовых походов, которые поэт вложил в уста своей героине.
Бернарт де Вентадорн
Сын бедного министериала Бернарт де Вентадорн (около 1140—1195) является одним из наиболее ярких певцов fin amor — любви-служения, обращенной к знатной даме.
КАНСОНА
Джауфре Рюдель
Мотив «любви издалека», проходящий через лирику этого знатного трубадура (Джауфре Рюдель, около 1140—1170, происходил из рода графов Ангулемских и владел княжеством Блая), послужил основанием для создания легенды о любви Джауфре к Мелисанде — графине Триполитанской (графство Триполитанское существовало от 1103 до 1200 г.). Эта легенда разрабатывается и в вымышленных биографиях.
КАНСОНА
Любовь наставляет влюбленных. Верхняя часть оправы зеркала. Резьба по слоновой кости. Прованс.
Бертран де Борн
Три приводимые пьесы связываются с именем Бертрана де Борна, небогатого лимузинского барона (около 1140—1215; расцвет творчества между 1180—1195), видного поэта своего времени. Будучи типичным представителем феодально-рыцарских кругов, Бертран де Борн принимал деятельное участие в феодальных распрях, прославлял войну, а также не скрывал своей ненависти к крестьянам и горожанам. Вымышленные биографии объединяют вокруг его имени ряд легенд, приписывающих ему едва ли не руководящую роль в войнах его времени, в частности в войнах короля английского Генриха II Плантагенета со своими сыновьями. Эта вымышленная биография вдохновила и Данте, поместившего Бертрана де Борна, «ссорившего короля-отца с сыном», в ад («Божественная комедия», песнь 28-я «Ада»),
ПЛАЧ
«Плач» посвящен младшему сыну Генриха II Плантагенета — Джефри, герцогу Бретонскому, возглавившему восстание лимузинских баронов против своего отца — их сеньора. В самом разгаре междоусобной войны Джефри неожиданно умер от горячки (1183).
СИРВЕНТА
СИРВЕНТА
Сирвента эта, направленная не только против крестьян, но и против горожан, отражает настроения разоряющегося в эпоху роста городов мелкого феодала — его неистовую зависть и злобную ненависть к богатеющей буржуазии.
В переводе рифмы подлинника упрощены.
Пейре Видаль
Вымышленные биографии подчеркивают романтический характер поэзии этого трубадура (около 1175—1215), объединяя вокруг его имени ряд авантюрных новелл.
КАНСОНА
Предлагаемая кансона посвящена Адалазии де Рокемартин, супруге виконта марсельского Барраля, покровителя поэта.
Гираут де Борнейль и Рамбаут III, граф Оранский
(расцвет творчества первого 1175—1220, второй правил в 1150—1173)
ТЕНСОНА
Темой этого поэтического диспута двух трубадуров (родовитого и незнатного) является один из центральных вопросов поэтики провансальских трубадуров — вопрос о так называемом trobar cius («замкнутой манере») — томном, затрудненном стиле поэзии. Рамбаут выступает в защиту этого стиля, тогда как Гираут высказывается в пользу простого и ясного, всем понятного языка.
Гираут де Борнейль
АЛЬБА
Беатриса, графиня де Диа
По преданию, героем лирики этой знатной поэтессы — супруги графа Гилельма из дома Пейтьеу (Пуатье) — является трубадур Рамбаут III, граф Ауренга (Оранский). Сохранилась тенсона Беатрисы и Рамбаута, в которой она упрекает его в чрезмерной осторожности и расчетливости в любви.
КАНСОНА
КАНСОНА
Ук де ла Баккалариа
(XIII в.)
АЛЬБА[287]
АЛЬБА
Альба эта, изысканная по строению строфы, приписывается то Бертрану, барону Аламанскому, то Гаусельму Файдиту.
БИОГРАФИИ ТРУБАДУРОВ
Написанные в первой половине XIII в., биографии эти представляют собой интересные образцы повествовательной (новеллистической) прозы; композиция их и тематика во многих случаях предвосхищают формы позднейшей новеллы и в некоторых случаях составляют ее основу (биография Гильома де Кабестань и новелла о графе Руссильонском в «Декамероне» Боккаччо).
Историческая ценность этих биографий незначительна; в настоящее время можно считать доказанным, что составители их опирались почти исключительно на самые тексты произведений трубадуров, свободно истолковывая встречающиеся в них намеки и указания и вплетая в ткань своего повествования эпизоды преимущественно романтического содержания.
Маркабрюн
Маркабрюн был гасконец, сын бедной женщины по имени Мария Брюна, как он сам говорит в своей песне: «Маркабрюн, сын Брюны, родился под такой звездой, что знает, как любовь губит человека. Он никогда не любил ни одну женщину и ни одною не был любим». Он был один из первых трубадуров, слагал стихи и сирвенты, полные зла и обид, о женщинах и о любви.
Джауфре Рюдель
Джауфре Рюдель де Блая был очень знатный человек — князь Блаи. Он полюбил графиню Триполитанскую, не видав ее никогда, за ее великую добродетель и благородство, про которые он слышал от паломников, приходивших из Антиохии, и он сложил о ней много прекрасных стихов с прекрасной мелодией и простыми словами. Желая увидеть графиню, он отправился в крестовый поход и поплыл по морю. На корабле его постигла тяжкая болезнь, так что окружающие думали, что он умер на корабле, но все же они привезли его в Триполи, как мертвого, в гостиницу. Дали знать графине, и она пришла к его ложу и взяла его в свои объятия. Джауфре же узнал, что это графиня, и опять пришел в сознание. Тогда он восхвалил бога и возблагодарил его за то, что он сохранил ему жизнь до тех пор, пока он не увидел графиню. И таким образом, на руках графини, он скончался. Графиня приказала его с почетом похоронить в доме триполитанского ордена тамплиеров, а сама в тот же день постриглась в монахини от скорби и тоски по нем и из-за его смерти.
Гильом де Кабестань
Гильом де Кабестань был рыцарь из графства Руссильон, которое граничит с Каталонией и Нарбонной. Был он очень строен станом и умел ловко обращаться с оружием и служить дамам и был благовоспитан. В его крае была дама Соремонда, супруга сеньора Раймона Руссильонского, человека очень знатного и богатого, но дурного, грубого, свирепого и гордого. Гильом де Кабестань полюбил эту даму, стал петь о ней и слагать свои песни, вдохновляясь любовью к ней. Соремонда, которая была молода, весела и прекрасна, полюбила его больше всего на свете. О том рассказали Раймону, и он, как человек гневный и ревнивый, разузнал дело и убедился, что это правда. Тогда он приказал стеречь жену, а когда однажды встретил Гильома де Кабестань, шедшего в одиночестве, он убил его, приказал вынуть у него сердце из груди, отрезать голову и голову и сердце отнести в свой замок. Сердце он приказал приготовить с перцем, изжарить и подать это блюдо жене. Когда она съела его, Раймон спросил ее: «Знаете ли вы, что вы съели?» Она ответила, что не знает, кроме того, что съеденное было очень вкусно. Тогда Раймон сказал ей, что съеденное ею блюдо было сердцем Гильома де Кабестань, и, чтобы убедить ее окончательно, приказал принести ей его голову. Увидав голову Гильома, она тотчас лишилась чувств, когда же пришла в себя, то промолвила: «Государь, вы, конечно, дали мне столь прекрасное блюдо, чтоб я никогда не ела другого». Услышав эти слова, Раймон бросился на жену со шпагой и хотел поразить ее в голову, но она подбежала к балкону и, бросившись вниз, таким образом лишила себя жизни. По Руссильону и всей Каталонии разошлась весть о том, что Гильом де Кабестань и Соремонда так ужасно погибли, что Раймон Руссильонский дал съесть сердце Гильома своей жене. И повсюду была великая скорбь и печаль от этого. Жалобы дошли до короля Аррагонского, который был сеньором Раймона Руссильонского и Гильома де Кабестань; он прибыл в Перпиньян в Руссильоне и приказал Раймону явиться к нему. Когда тот явился, король приказал его схватить, отнял у него все замки, приказав их разрушить, и лишил его всего имущества, а самого посадил в темницу. Прах Гильома де Кабестань и Соремонды король приказал перевезти в Перпиньян и похоронить в могиле пред входом в церковь и сделать надпись на могиле о том, как они умерли. Потом он распорядился по всему графству Руссильонскому, чтобы все рыцари и дамы приходили ежегодно на могилу справлять память о них. Раймон Руссильонский умер жалким образом в темнице короля Аррагонского.
Бертран де Борн
Бертран де Борн был рыцарь в Пейрегосском епископстве, владетель замка, называвшегося Латуфорт. Вечно он воевал со своими соседями: графом Пейрегосским, виконтом Лиможским, своим братом Константином и Ричардом, пока тот был графом Пейтьеу. Бертран де Борн был доблестный рыцарь и воин, умел прекрасно служить дамам и слагать песни, был умен, хорошо говорил и был способен на дурное и хорошее. Он был вассалом короля Генриха Английского и его сына, но всегда он желал, чтобы они вели войну против брата, всегда он желал, чтобы король Франции и король Англии воевали друг с другом. И если между ними бывал мир или заключалось перемирие, Бертран очень бывал недоволен и стремился своими сирвентами расстроить мир, убеждая каждого, что мир лишает его чести. Таким образом, он испытывал много хорошего и плохого, оттого что сеял вражду меж ними, и оттого же он сложил много хороших сирвент.
Французская литература
ПЕСНЬ О СВ. ЕВЛАЛИИ
Гимн, написанный двустишиями, связанными ассонансами (в переводе — рифмами), и представляющий пересказ жития Евлалии, испанской мученицы IV в., является первым художественным текстом на французском языке; записан в начале IX в. в бенедиктинском монастыре Эльнон.
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ
Величайший памятник французского народного героического эпоса (так называемых chansons de geste) — «Песнь о Роланде» в своей древнейшей редакции (оксфордский текст, записанный около 1170 г. в Англии) возникла, видимо, в конце XI или в начале XII в. В основе поэмы лежит исторический факт, отмеченный Эйнхардом в «Жизнеописании Карла Великого» (около 830). По сообщению летописца, в 778 г. арьергард армии Карла Великого был уничтожен басками в Пиренейских горах, причем среди погибших именитых франков находился «Хруодланд (Роланд), начальник бретонской марки». В народной поэме это трагическое событие приобрело несколько иные очертания (баски заменены «неверными» сарацинами, испанский поход Карла, начавшийся и закончившийся в 778 г., превратился в семилетнюю войну и пр.), а главное — оно приобрело совсем новый социальный смысл.
В «Песни» франки оказываются жертвой низкого предательства графа Ганелона, который свои личные пристрастия и интересы ставит выше интересов империи и безопасности франков.
Преступному эгоизму Ганелона в поэме противопоставлен беззаветный патриотизм Роланда, для которого служение императору и «милой Франции» является высшей жизненной целью. Роланд — наиболее патетический образ поэмы. В нем французский народ воплотил свой героический идеал. Ради вящего прославления Роланда автор поэмы даже заставляет ангела слететь с небес на поле брани, чтобы принять богатырскую перчатку умирающего героя. Тем самым христианская мифология служит в «Песни» не церковной, но чисто светской, гражданской идее. Ореолом эпического величия окружен в поэме также образ Карла. В нем воплощается идея государственного единства, несовместимого с принципами феодального своеволия. В период крестовых походов весьма злободневной являлась также тема борьбы христианского воинства против «неверных».
По своей художественной природе «Песнь о Роланде» является ярким образцом героического эпоса с присущими ему монументальными фигурами, тяготением к гиперболизму, повторением излюбленных (главным образом батальных) мотивов, эпическими вариациями и т. п. Поэма сложена в строфах — лессах, или тирадах, — соединенных ассонансами, из десятисложных стихов с обязательной цезурой; число стихов в тираде колеблется от семи до семнадцати, иногда доходя до 35 стихов. В конце значительной части тирад стоит «Аой», толкуемый одними исследователями как припев, другими — как условное обозначение какого-нибудь музыкального мотива.
Битва норманнов. Ковровая ткань. Байе. XI в.
[«Песнь» начинается перечнем великих побед Карла в Испании. Лишь в Сарагосе укрепился «богопротивный Марсилий», царь сарацинский; он созывает совет своих вассалов, на котором решает обмануть франков: заключить с ними перемирие и затем нарушить его, когда франки выведут войска. Он отправляет торжественное посольство ко двору Карла.]
Воображаемые портретные статуи Роланда и Оливера. С портала Веронского собора, XII в.
[Разгневанный Ганелон, поклявшись отомстить Роланду, направляется с посольством сарацинов в Сарагосу; по дороге он вступает в беседу с главой посольства Бланкандрином о том, как погубить Роланда.]
[Однако Ганелон быстро примиряется с маврами и дает им совет напасть при отступлении франков из Испании на их арьергард. Осыпанный подарками, предатель возвращается к Карлу и заверяет его в миролюбивых намерениях мавров. Карл решает вывести войска из Испании, но всю ночь его тревожат зловещие сны.]
[Вновь продолжают франки бой; но на них наступают все новые и новые силы сарацин. Падает в бою Оливер, оплаканный Роландом, падает израненный архиепископ Турпин. Но и сарацины обращены в позорное бегство.]
[Карл хочет продолжать отступление, но его вызывает на бой Балигант со своими полчищами. В великой битве между франками и сарацинами Карл разбивает наголову Балиганта, убивает его самого в стычке, берет Сарагосу, Марсилий умирает в отчаянии, и обращает в христианство всех оставшихся в живых.]
ДУХОВНАЯ ДРАМА
ДЕЙСТВО ОБ АДАМЕ
Сохранившееся в англо-нормандской рукописи рождественское действо середины XII в. отражает тот этап развития литургической драмы, когда она переносится из церкви на паперть. «Действо об Адаме» состоит из трех частей: грехопадения (занимающего около 600 стихов); убийства Каином Авеля (около 150 стихов) и явления пророков (около 200 стихов). Весь текст — уже на народном языке (рифмованные восьмисложные двустишия, кое-где перебиваемые десятисложными четверостишиями); только сценические ремарки, весьма подробные и дающие ясное представление о театральном оформлении пьесы, а также литургические тексты, читаемые клириком, написаны по-латыни.
«Действо об Адаме» примечательно тем, что в нем уже проявляется известная свобода поэтических характеристик, обычно отсутствовавшая в более ранних литургических драмах. Мы находим в пьесе живой диалог, попытку индивидуализации действующих лиц, ряд комических черт. «Действо» подготовляет дальнейший подъем средневековой французской духовной драмы, все более и более выходившей за пределы собственно клерикальной (культовой) литературы, наполнявшейся бытовыми, реалистическими деталями. Эта эволюция духовной драмы была тесно связана с ростом средневековых городов, ставших средоточием новой литературы, тяготевшей к реальной жизни. Выйдя со временем на городскую площадь, духовная драма уже прямо превратилась в один из видов литературы городского сословия.
Приводимые отрывки все взяты из первой части пьесы. В переводе текст местами сокращен.
(он обращается к Еве:)
(Ева внимательно взирает на свесившийся плод и, взирая, говорит:)
(Дьявол удаляется от Евы и уходит в ад. Подходит Адам, недовольный, что с Евой беседовал Дьявол, и говорит ей:)
(Змей, искусно сделанный, выползает по стволу запретного дерева, Ева преклоняет к нему ухо, как бы прислушиваясь к советам. Она берет яблоко и протягивает Адаму, но Адам не принимает его, и Ева говорит:)
(Ева съедает часть яблока и говорит Адаму:)
(Адам съедает часть яблока и познает, что согрешил; он опускает глаза, снимает пышные одежды и надевает одежду бедную, сшитую из фиговых листьев, и, являя вид великой скорби, начинает сетовать:)
ЛИРИКА XII—XIII ВВ.
В Северной Франции куртуазная лирика возникла несколько позднее, чем в Провансе. И здесь она была тесно связана с феодально-рыцарской средой. Во всяком случае, почти все известные нам труверы (так назывались французские поэты; слово это имеет то же значение, что слово «трубадур») принадлежали к кругам феодальной знати. Правда, подчас в поэзии труверов слышатся отзвуки народной поэзии. На это указывают, например, распространенные во французской куртуазной лирике так называемые ткацкие песни (см. ниже), представляющие собой переработку старых французских трудовых песен, распевавшихся девушками или женщинами из народа во время тканья. На связь с народной поэзией указывают также излюбленные труверами рефрены, столь характерные для народной песенной лирики. К традициям французской народной поэзии были, видимо, особенно близки произведения ранних труверов. В дальнейшем труверы усваивают аристократическую концепцию куртуазной любви, сложившуюся в Провансе, а также используют в своих произведениях основные жанры провансальской поэзии, уступая, однако, провансальским поэтам в творческой самобытности и поэтической яркости.
С жанрами провансальской лирики совпадают следующие жанры французской куртуазной лирики XII—XIII вв.: провансальской кансоне соответствует французская chanson, провансальской альбе — французская aubade, провансальской пастореле — французская pastourelle, провансальской тенсоне — французская tenson или jeu parti и т. д. Поэтому в характеристике этих жанров можно ограничиться сказанным во вводной заметке к провансальской лирике.
Однако наряду с этими жанрами, усвоенными рыцарской поэзией Франции от поэзии провансальского рыцарства, во французской лирике XII—XIII вв. широко представлены жанры, мало распространенные или совсем отсутствующие в провансальской лирике. Таковы: chansons de toile — ткацкие песни, лиро-эпические романсы, за исключением нескольких поздних произведений начала XIII в., непритязательные в своей художественной форме (простые строфы из стихов, соединенных ассонансами, с припевом из более короткого стиха или двух-трех стихов); chansons de mal-mariee — песни о несчастном замужестве, с определенной тематикой (жалоба молодой жены на мужа), часто весьма изысканные по форме; chansons de croisade — песни о крестовом походе, пропагандирующие идею организации крестового похода.
Дошедшие до нас произведения французской куртуазной лирики приписаны определенным авторам. Напротив, ткацкие песни и песни о крестовом походе по большей части анонимны.
ТКАЦКИЕ ПЕСНИ
I
Анонимная chanson de toile, засвидетельствованная в одной только рукописи XIII в., но относимая исследователями к значительно более раннему времени.
II
Анонимная chanson de toile, засвидетельствованная в рукописи XIII в., но возводимая исследователями к XII в.
III
Анонимная chanson de toile XIII в.
Конон де Бетюн
Конон де Бетюн (вторая половина XII в.), родом из Пикардии (сохранилось предание, что его пикардское произношение вызывало насмешки при парижском королевском дворе), был участником третьего и четвертого крестовых походов. Из дошедших донас десяти его песен наиболее оригинальны песни о крестовом походе, рисующие конфликт любви и долга; остальные его любовные песни выдержаны в духе куртуазной лирики. Подражание песне Конона де Бетюна о крестовом походе — песня немецкого миннезингера Фридриха фон Хаузена — см. раздел «Немецкая литература».
ПЕСНЬ О КРЕСТОВОМ ПОХОДЕ
ПЕСНЬ О КРЕСТОВОМ ПОХОДЕ
Рукописи этой песни предпосланы слова: «Мастер Рено сложил ее для господа нашего». Установить историческое лицо этого Рено исследователям не удалось, хотя язык его указывает на северо-восточную часть Франции, а начитанность в библии — на клирика. Простота языка и строфики песни, отсутствие изысканной рифмы, пользование припевом свидетельствуют о том, что песнь предназначалась не для аристократических кругов, а для народной массы.
Гас Брюле
С именем этого шампанского поэта (конец XII—начало XIII в.), пользовавшегося в свое время большой известностью (так, например, составитель романа «Guillaume de Dole» начала XIII в. говорит о Гасе как о знаменитом поэте), традиция связывает более пятидесяти песен, но по отношению к доброй трети их авторство Гаса является спорным. Песни Гаса изображают различные стадии любви — радость тайных свиданий, скорбь разлуки, гнев отвергнутого влюбленного. Предлагаемая песня представляет оригинальную разработку альбы в виде монолога влюбленной.
ПЕСНЯ
ПЕСНЬ О ЗАРЕ
Анонимная песня этого жанра (XIII в.) дает очень сложное и своеобразное развертывание обычной ситуации. Вместо традиционного диалога рыцаря и его верного друга, стоящего на страже (ср. альбу Гираута де Борнеля), первая часть этой песни представляет спор двух стражей: первый, ничего не подозревающий о тайном свидании влюбленных, обеспокоен появлением рыцаря, которого он принимает за разбойника (строфы 1-я и 2-я); он готов поднять тревогу, но его успокаивает второй страж — друг рыцаря, разъясняя ему, в чем дело (строфы 3-я и 4-я), после чего он обращается с приветной речью к рыцарю (строфа 5-я); последние строфы представляют ответ рыцаря (строфы 6-я и 7-я).
Тибо, граф Шампанский
Для более поздней куртуазной лирики произведения Тибо, графа Шампанского (1201—1253 гг., с 1234 г. — король Наваррский), необычайно типичны и по своей тематике (любовь — служение знатной даме, не названной поэтом и отождествленной современниками с Бланкой Французской), и по изысканности форм. Первая пьеса представляет собой так называемое jeu parti на типичную тему любовной схоластики средневековья — смертность и бессмертие любви.
Вторая пьеса носит название песни. Следует обратить внимание на сложное строение этой песни, сближающее ее с ронделями позднейшей эпохи.
Третья пьеса представляет собой куртуазную переработку тематики «песен о крестовых походах».
ПРЕРЕКАНИЕ
ПЕСНЯ
ПЕСНЬ О КРЕСТОВОМ ПОХОДЕ
ЛЭ (LAIS)
Мария Французская
Из произведений этой поэтессы, жившей при английском дворе во второй половине XII в., до нас дошли: двенадцать лэ, сложенных в середине 60-х годов, сборник басен, частью переводных, частью оригинальных, под названием «Эзоп», и религиозно-дидактическое «Чистилище св. Патрика», приближающееся к жанру видений (ср. выше «Видения»).
Лэ Марии Французской являются первым образцом этого жанра куртуазной литературы — небольших лиро-эпических рассказов о необычайных приключениях, сюжеты которых большей частью заимствовались из кельтских преданий (отсюда и название жанра — lais bretons). Из лэ Марии Французской часть разрабатывает сказочные сюжеты (как «Об оборотне», «О ясене», «Об Ионеке», сюжет которого совпадает с французской народной сказкой «L’oiseau bleu»), часть же тесней примыкает к так называемому бретонскому циклу куртуазных романов (как «Об Эллидюке», «О Милуне» и приводимое здесь лэ «О жимолости»). При этом собственно куртуазный элемент выражен в произведениях Марии Французской еще довольно слабо. Ее не привлекает роскошная придворная жизнь. Любовь в ее изображении — это не галантное служение знатной даме, но естественное нежное человеческое чувство. Всякое насилие над этим чувством глубоко печалит Марию Французскую. В этом она сближается с народной поэзией. Обрабатывая бретонские народные сказания, она сохраняет их задушевность и вложенный в них глубокий человеческий смысл. Язык ее лэ очень прост, поэтическая форма лишена вычурности.
Высокого мнения о произведениях Марии Французской был Гете, заметивший, что «отдаленность времени делает для нас их аромат еще прелестнее и милее».
Мария Французская. По рукописи конца XIII в.
О ЖИМОЛОСТИ
(CHIEVREFUEIL)
Древнейшая из дошедших до нас разработок знаменитого сюжета о Тристане и Изольде (полное изложение см. ниже), лирическая повесть Марии Французской предполагает известным слушателю все содержание романа — историю о том, как добывал Тристан Изольду в жены дяде своему — корнвалийскому королю Марку; как выпитый ими нечаянно любовный напиток заставил их нарушить долг рыцарской и супружеской верности; как, убедясь в измене, разгневанный король изгнал племянника и жену, но, смягчившись, вернул к своему двору Изольду, оставив Тристана в изгнании.
КУРТУАЗНАЯ ПОВЕСТЬ И РОМАН
Кретьен де Труа
Кретьен де Труа (вторая половина XII в.) — виднейший французский куртуазный эпик, создатель так называемого артуровского романа. Был, видимо, связан с дворами графини Марии Шампанской и графа Филиппа Фландрского. Испробовал свои силы в различных поэтических жанрах (житие святого, лирика, пересказы Овидия), однако наибольшего мастерства достиг в жанре куртуазного рыцарского романа. Еще в молодости он написал роман о Тристане (не дошедший до нас), за которым последовал ряд других романов («Эрек и Энида», «Клижес», «Ланселот, или Рыцарь Телеги», «Ивен, или Рыцарь Льва», «Персеваль, или Повесть о Граале»), относящихся к лучшим образцам европейского куртуазного эпоса. Используя бретонские сказания (о короле Артуре и его паладинах), Кретьен, в отличие от Марии Французской, далеко отходит от их фольклорной основы. Под пером Кретьена король Артур из незначительного кельтского князька превращается в могущественного властелина необъятной феодальной державы. При его дворе царят самые утонченные куртуазные обычаи и нравы. Сюда стекаются храбрые рыцари со всех концов земли. Здесь они служат прекрасным дамам, участвуют в турнирах и празднествах; отсюда они отправляются на поиски рыцарских приключений. Кретьен стремится поэтизировать мир феодально-рыцарских отношений. Он изображает только его блестящую, парадную сторону, вовсе умалчивая о многочисленных преступлениях этого мира, державшегося на крови и насилии. Зато все нарядное, праздничное, великолепное находит в лице Кретьена своего выдающегося живописца. В прихотливые, нарядные узоры складываются также излюбленные Кретьеном сказочные образы и мотивы (феи, волшебные источники, подводные замки, благодарные львы и т. п.), превращающие рыцарский мир в некую куртуазную феерию. Но Кретьен отнюдь не замыкается в этом очень условном фантастическом мире. В сущности, у него довольно трезвый ум и наблюдательный глаз. Его прежде всего занимают вполне реальные житейские проблемы (об обязанностях рыцаря в семье и обществе, о любви и куртуазии и пр.), и в связи с этим романы Кретьена имеют обычно проблемный характер. Все остальное, как, например, занимательные рыцарские приключения или сказочная фантастика, играет лишь подсобную роль. При этом Кретьен обнаруживает интерес к переживаниям личности и незаурядный аналитический дар при изображении этих переживаний. Достаточно показателен в этом отношении приводимый ниже эпизод из романа «Ивен, или Рыцарь Льва («Yvain ou le chevalier au lion», около 1175), в котором Кретьен стремится раскрыть противоречия человеческого чувства, проследив, как из ненависти рождается любовь. Романы Кретьена имели большой успех и вызвали множество подражаний. Их успеху в немалой степени способствовало выдающееся поэтическое мастерство Кретьена (богатый, точный и гибкий язык, искусство диалога, виртуозное стихосложение).
Приводимому отрывку предшествует следующее событие. При дворе короля Артура становится известным, что в Бросслиандском лесу есть волшебный источник, украшенный мрамором и самоцветами. Если из этого источника зачерпнуть воду и вылить ее, то мгновенно поднимается страшная буря, а затем появляется черный рыцарь, вызывающий на поединок каждого, кто осмеливается нарушить покой леса. Один из рыцарей короля Артура, Ивен, отправляется к источнику, бьется с черным рыцарем, смертельно ранит его, а затем проникает в его замок. Однако ворота замка захлопываются за Ивеном, и он становится пленником молодой вдовы Лодины, супруга которой он только что убил.
Посвящение в рыцари. По средневековой миниатюре.
РЫЦАРЬ ЛЬВА
Сцены из романов цикла короля Артура. По французской рукописи 1286 г.
МУЛ БЕЗ УЗДЫ
Куртуазная повесть, сложенная в конце XII в. анонимным подражателем Кретьена де Труа [имя автора Пайен де Мезьер, явно вымышленное, построено на игре слов: Кретьен (христианин) — Пайен (язычник)], по своей тематике входит в круг романов, разрабатывающих так называемые бретонские сюжеты, примыкая к циклу короля Артура и «Круглого стола». Об относительной древности повести свидетельствует то обстоятельство, что в ней, как и в «Персевале», воплощением рыцарского вежества выступает Говэн, а не Ланселот, как в более поздних романах. С другой стороны, слегка ироническое отношение автора к сюжету и героям сближает эту повесть с куртуазным фаблио «О плохо сшитом плаще», осмеивающим нравы при дворе Артура, и заставляет исследователей видеть в ней преломление сюжетики рыцарского романа в иной — нерыцарской, городской среде.
Рыцарь в бою со львом. Изображение на печати Роджера де Куинси, графа Винчестерского.
[Так Кей с позором возвращается назад]
[Без малейшего колебания преодолевает Говэн первые препятствия по пути и доезжает до реки.]
ОКАССЕН И НИКОЛЕТ
Сложенная в начале XIII в. эта песня-сказка (chante — fable) по своеобразной форме изложения (проза, чередующаяся с отдельными стихотворными тирадами) стоит особняком среди дошедших до нас памятников и является, очевидно, продуктом жонглерского (а не рыцарского) творчества. На нерыцарское происхождение песни-сказки указывает также ее содержание. Она весьма далека от того, чтобы прославлять типично феодальные «добродетели». Рыцарь Окассен менее всего напоминает средневекового рыцаря, для которого требования сословной рыцарской чести обычно стояли на первом месте. Горячо любя пленную сарацинку Николет, он нимало не смущается неравенством их общественного положения. Его не прельщают ни воинские подвиги, ни рыцарская слава. Ради того чтобы вечно быть с Николет, он даже готов пренебречь райским блаженством. Автор не без иронии пишет о феодальных войнах и стычках. Его симпатии всецело на стороне чистых сердцем любовников, мечтающих о мирной, счастливой жизни. Естественное человеческое чувство торжествует в повести над сословными феодальными предрассудками. С необычной для рыцарских романов теплотой относится автор также к простолюдинам. Он знает об их горькой доле и вовсе не стремится ее приукрасить (беседа Окассена с пастухом, глава 24). Стиль повести подкупает своей задушевной наивностью и безыскусственной грацией. Написана песня-сказка на пикардском наречии.
1.
2.
что граф Бугар Валенский вел с графом Гареном Бокерским войну, великую, жестокую и кровопролитную, и не проходило дня, чтобы он не стоял у ворот, укреплений и стен города с сотней рыцарей и десятком тысяч воинов, конных и пеших. При этом он опустошал огнем страну графа Гарена, грабил его землю и убивал его людей.
Граф Гарен Бокерский был стар и слаб — прошло его время. И не было у него других наследников, ни сыновей, ни дочерей, кроме одного только мальчика. Я вам опишу, каков он был.
Окассеном звали графского сына. Он был красивый юноша, высокий ростом; стройны были его ноги, руки и тело. Волосы у него были светлые, в пышных кудрях, глаза ясные и веселые, лицо приветливое и правильное, нос прямой и тонкий[367]. И столько в нем было добрых качеств, что не было ни одного дурного, все только одни хорошие.
Но был он охвачен любовью, которая все побеждает, не желал рыцарствовать, ходить вооруженным на турниры, не хотел делать того, что ему подобало[368]. Отец и мать говорили ему:
— Сын, бери оружие, садись на коня, защищай свою землю и помогай своим подданным. Когда они тебя увидят рядом, они будут лучше защищать свою жизнь, и имущество, и нашу землю
— Отец, — отвечал Окассен, — что вы там говорите? Пусть бог не даст мне того, о чем я прошу его, если я стану рыцарем, сяду на коня, пойду в сражение и в битву, чтобы там разить врагов и отражать удары, а вы мне не дадите Николет, мою нежную подругу, которую я так люблю.
— Сын мой, — отвечал отец, — оставь и думать о Николет. Она ведь пленница, привезенная из чужой страны; там ее купил виконт нашего города у сарацин и привез ее сюда. Здесь он ее вырастил, окрестил и воспитал, как свою крестницу. Теперь он даст ей в мужья какого-нибудь молодого человека, который честно будет зарабатывать для нее хлеб. Тут тебе нечего делать, а если ты желаешь жениться, то я дам тебе в жены дочь короля или графа. Нет такого важного человека во Франции, который бы не отдал за тебя свою дочь, если бы ты захотел ее иметь.
— Увы, отец! Где на земле такая высокая честь, которой бы не стоила Николет, моя нежная подруга? Если бы даже она была императрицей Константинополя или Германии, королевой Франции или Англии, всего этого было бы для нее мало — так хороша она и благородна, и приветлива, и полна достоинства.
3.
Окассена знатный род
В замке де Бокер живет.
Без прекрасной Николет
Для него ничтожен свет.
Но отец неумолим,
Мать во всем согласна с ним.
— Николет, мой милый сын,
Куплена у сарацин,
Где она была в плену.
Ты же должен взять жену
Рода знатного, как ты.
Брось безумные мечты!
— Мать, я не согласен, нет!
Кто прекрасней Николет?
Ясный взор и стройный вид
Сердце светом мне живит.
Мне любовь ее нужна,
Что так нежна.
4.
Когда граф Гарен Бокерский увидал, что не удается ему отвлечь Окассена от любви к Николет, он отправился в город к виконту, который был его вассалом, и сказал ему так:
— Господин виконт, удалите вы отсюда Николет, вашу крестницу. Пусть будет проклята земля, откуда вы ее привезли в нашу страну. Ведь из-за нее я теряю Окассена; он не хочет рыцарствовать, не хочет исполнять своего долга. Так знайте, что, если бы она была в моих руках, я бы ее сжег в огне, да и вы сами должны тоже меня остерегаться.
— Господин мой, — ответил виконт, — мне и самому очень не нравится, что он к ней ходит и разговаривает с нею. Я ведь ее купил на свои деньги, вырастил, окрестил и воспитал, как свою крестницу; теперь я дам ей в мужья какого-нибудь молодого человека, который будет для нее честно зарабатывать хлеб. Тут вашему Окассену нечего делать. Но если такова ваша воля и ваше желание, то я ее отошлю в такую страну, где он ее никогда и в глаза не увидит.
— Так берегитесь! — сказал граф Гарен. — Ато вам плохо придется.
Они расстались.
А виконт этот был очень важный человек, и был у него пышный дворец, а позади дворца — сад.
И приказал он посадить Николет в комнату наверху, а с нею вместе старушку для общества и компании и велел дать им хлеба, мяса, вина и все для них необходимое.
Потом приказал запечатать все двери, чтобы ниоткуда не было к ним ни входа, ни выхода. Оставалось у них снаружи только одно маленькое окошечко, откуда проникало к ним немного свежего воздуха.
5.
6.
Николет была в заточенье, как вы уже слыхали, в комнате. И пошел по всей земле и по всей стране слух, что она исчезла. Одни думали, что она сбежала в чужие страны, а другие полагали, что граф Гарен велел ее убить.
Если кого-нибудь эта весть и обрадовала, то Окассену совсем не было весело.
Он отправился к виконту в город и спросил его:
— Господин виконт, что вы сделали с Николет, моей нежной подругой, с той, кого я любил больше всего на свете? Вы отняли ее от меня, украли! Так знайте же, что, если я умру с горя, вам будут за меня мстить, и это будет только справедливо. Ведь вы меня убили собственными руками, отняв от меня ту, которую я любил больше всего на этом свете.
— Господин мой, — ответил виконт, — оставьте вы это. Николет — пленница, которую я привез из чужой земли, купив ее на собственные деньги у сарацин. Я ее вырастил, окрестил и воспитал, как свою крестницу; я ее кормил, а теперь найду ей в мужья какого-нибудь молодого человека, который будет для нее честно зарабатывать хлеб. Вам тут совсем нечего делать, а вы лучше возьмите себе в жены дочь короля или графа. Да и в самом деле, что вы выиграете, если сделаете Николет своей любовницей и она будет спать с вами? Мало будет от этого проку, так как на все дни вашей жизни вы будете опозорены, а душа ваша пойдет потом в ад, так как рая-то вам уж никогда не видать.
— Что мне делать в раю? Я совсем не желаю туда идти; мне нужна Николет, моя нежная подруга, которую я так люблю. Ведь в рай идут только те люди, которых я вам сейчас назову. Туда идут старые попы, убогие и калеки, которые день и ночь томятся у алтарей и старых склепов, и те, кто ходит в лохмотьях, истрепанных капюшонах, и те, которые босы и наги, и оборваны, кто умирает от голода, холода, жажды и всяких лишений. Все они идут в рай, но мне с ними там нечего делать. Я хочу попасть в ад, куда идут добрые ученые и прекрасные рыцари, погибшие на турнирах или в славных войнах, и хорошие воины и свободные люди. С ними хочу быть и я. Туда же идут и нежные, благородные дамы, у которых два или три возлюбленных, кроме их собственного мужа; идет туда золото, серебро и цветные меха; идут туда музыканты и жонглеры и короли мира. С ними хочу быть и я, пусть только Николет, моя нежная подруга, будет со мною.
— Напрасно вы все это говорите, — ответил виконт, — вы больше ее никогда не увидите. А если б вы с ней поговорили и отец ваш узнал бы об этом, он бы сжег и ее, и меня в огне, да и вам самому было бы чего бояться.
— Тяжко мне это, — сказал Окассен и, печальный, ушел от виконта.
7.
11.
12.
Окассен был заключен в темницу, как вы уже слышали, а Николет сидела взаперти в комнате. Это было летом, в мае месяце, когда дни стоят теплые, долгие и ясные, а ночи тихи и прозрачны.
Однажды ночью Николет лежала в своей постели, и увидела она, что луна светит в окошко, услышала, что в саду поет соловей. Вспомнила она об Окассене, своем милом друге, которого она так любила. И стала она думать о графе Гарене Бокерском, который смертельно ее ненавидел, и решила, что ни за что больше здесь не останется. Ведь если бы ее кто-нибудь выдал и граф Гарен узнал, где она, он бы предал ее злой смерти.
Услыхав, что старушка, которая была с нею, заснула, она встала, надела красивый шелковый блио[370], потом взяла простыни и полотенца, связала их вместе и сделала из них веревку, такую длинную, как только могла. Привязала ее к подоконнику и спустилась вниз в сад.
Она подобрала свои одежды, одной рукой спереди, а другою сзади, и пошла через сад по траве, обильно смоченной росою. Волосы у нее были светлые, в пышных кудрях, глаза ясные и веселые, продолговатое лицо, прямой и тонкий нос, а губы алее, чем вишня или роза летнею порою, зубы мелкие и белые, а упругие груди приподнимали ее одежду, как два маленьких волошских ореха. Она была стройна в бедрах, и стан ее можно было обхватить пальцами.
Цветы маргариток, которые она топтала своими ножками и которые ложились под ее стопами, казались совсем черными по сравнению с ними, — так бела была эта девушка.
Она подошла к калитке, открыла ее и пошла по улицам Бокера, держась в тени, так как луна светила очень ярко, и шла она до тех пор, пока не достигла башни, где сидел ее друг. Башня эта была местами в трещинах; она прислонилась к одному из столбов, плотно завернулась в свой плащ, просунула голову в одну из расселин башни, старой и ветхой, и услышала, как скорбел и плакал Окассен, сожалея оставленную подругу свою, которую он так любил. Когда она его выслушала, она начала говорить сама.
13.
14.
Когда Окассен услыхал, что Николет собирается бежать в чужие края, очень он рассердился.
— Милая подруга моя, — сказал он, — вы никуда не уйдете отсюда, потому что иначе я умру. Первый, кто вас увидит, если только сможет, овладеет вами, положит вас в свою постель, сделает своей любовницей. И если вы ляжете в чью-либо постель, кроме моей, не думайте, что я буду ждать, пока найдется нож, которым я могу ударить себя в сердце и Убить. Нет, в самом деле, долго ждать я не буду, и, если увижу издали крепкий камень или каменную стену, я разобью об него свою голову, так что глаза выскочат и мозги вывалятся наружу. Лучше уж умереть такою жестокою смертью, чем узнать, что вы лежали в чьей-либо постели, кроме моей.
— Ах, — молвила она, — я никогда не думала, что вы меня так сильно любите, но я-то вас люблю еще больше, чем вы меня.
— Увы, — ответил Окассен, — друг мой нежный, не может этого быть, чтобы вы любили меня так, как я вас. Женщина не может так любить мужчину, как он ее. Ведь любовь женщин живет в ее глазах, в кончиках грудей и в пальцах ног, а любовь мужчины заключена в его сердце, откуда она уйти не может.
Пока Окассен и Николет так разговаривали, городская стража внезапно появилась на улице; под плащом у стражников были спрятаны обнаженные мечи. Ибо граф Гарен приказал им, если они встретят Николет, схватить ее и убить.
А сторож на башне видел, как они шли, и слышал, как они говорили между собою о Николет и грозили убить ее.
— Боже, — сказал он себе, — как будет жалко, если они убьют эту славную девушку! Будет добрым делом — предупредить ее так, чтобы они не заметили, и помочь ей спастись от них. Иначе они ведь убьют ее, и от этого умрет Окассен, мой молодой господин, а это будет большая беда.
15.
16.
— Ах, — сказала Николет, — пусть покоятся в блаженном мире души твоих родителей за то, что ты так благородно и ласково меня предупредил об опасности. Если богу угодно, я уберегусь от них, и пусть он мне в этом поможет!
Она закуталась в свой плащ и укрылась в тени столба, пока они проходили мимо, потом простилась с Окассеном и пошла, пока не достигла стены замка. Стена эта была в одном месте разрушена и наскоро заделана. Николет перелезла через нее и очутилась между стеной и рвом. Взглянула она вниз, видит — ров глубокий и крутой, и стало ей страшно.
— Создатель милосердный, если я упаду, то сломаю себе шею, а если я здесь останусь, меня найдут завтра и сожгут в огне. Пусть уж лучше я умру, а то завтра весь город будет на меня дивиться.
Она перекрестилась и стала скользить вниз по склону рва, а когда достигла дна, ее нежные руки и ноги, которые до сих пор не знали ран, были все исцарапаны и исколоты, и кровь шла, наверно, в двенадцати местах, а она не чувствовала ни боли, ни страданий, — так ею владел страх.
Но если трудно было спуститься в ров, то выйти оттуда было еще труднее. Но она подумала, что там оставаться ей не годится, и, найдя заостренный кол, который горожане бросили сюда, защищая замок, она шаг за шагом стала с большим трудом подниматься и наконец вышла наверх.
Там был лес на расстоянии двух выстрелов из лука, и тянулся он на добрых тридцать миль в длину и в ширину, и были в нем дикие звери и всякие гады.
Она боялась идти туда и думала, что там ее съедят, но потом вспомнила, что если ее здесь найдут, то отведут в город и сожгут там.
17.
Перейти глубокий ров
Многих стоило трудов.
Николет, что так чиста,
Молит вся в слезах Христа:
— Царь небес, куда идти!
Мне закрыты все пути.
Если в темный лес пойду —
Смерть сейчас же там найду:
Стану пищей я волкам,
Львам и диким кабанам.
Если ж я останусь тут, —
На заре меня найдут,
И тогда, несчастной, мне
Предстоит сгореть в огне.
Боже мой, спаси меня!
Лучше пусть достанусь я
На съедение волкам,
Львам и диким кабанам,
Чем опять в Бокер идти
И смерть найти.
18.
Долго жаловалась так Николет, как вы уже слышали. Она поручила себя богу и пошла, пока не достигла леса. И не смела она войти в глубь его, так как боялась диких зверей и гадов, и спряталась под тень густого куста. Там ее охватил сон, и она проспала такдо ранней зари следующего дня, когда пастухи вышли из города и привели свои стада пастись на опушке леса у реки.
Там они отошли в сторону, сели на берегу славного ручейка, который протекал на опушке леса, разостлали на траве плащ и положили на него хлеб. Пока они ели, Николет проснулась от пения птиц и говора пастухов и подошла к ним.
— Милые дети, — сказала она, — бог вам на помощь!
— Бог да благословит вас, — ответил тот, который был поразговорчивее других.
— Милые дети, — продолжала Николет, — не знаете ли вы Окассена, сына графа Гарена?
— Конечно, знаем, даже очень хорошо.
— Если бог вам поможет, милые дети, — сказала она, — передайте ему, что в этом лесу водится зверь; пусть он придет охотиться на него, и если ему удастся его захватить, то ни одного кусочка этого зверя он не отдаст и за сто марок золотом[371] даже и за пять сотен, и за все свое имущество не отдаст.
Они смотрели на нее и были поражены ее красотой.
— Передать ему это? — ответил тот, который был поразговорчивее других. — Будь проклят тот, кто скажет и передаст ему это. Это все выдумки, что вы говорите; в этом лесу нет ни одного зверя — ни оленя, ни льва, ни кабана, — который был бы так дорог, что один кусочек его стоил бы дороже двух или самое большее трех денье[372], а вы говорите о таких больших деньгах! Будь проклят тот, кто вам поверит и ему скажет об этом! Вы фея, нам вас совсем не надо, идите своею дорогой.
— Милые дети, — сказала она, — сделайте то, о чем я говорю! У этого зверя есть такое лекарство, что Окассен сразу излечится от своего недуга. Вот у меня в кошельке есть пять су[373], возьмите их себе, если вы согласны передать ему то, что я прошу. Пусть он охотится здесь в течение трех дней, а если он не найдет ничего за три дня, то ему больше никогда не видать этого зверя и не вылечиться от своего недуга.
— Честное слово, — воскликнул пастух, — деньги-то мы возьмем и если он сюда придет, мы ему все скажем, но сами не пойдем его искать!
— Ну, хорошо, — ответила девушка. Она простилась с пастухами и ушла.
19.
[При встрече с Окассеном, которого отец выпустил из тюрьмы, пастухи передают ему слова Николет.]
23.
24.
Едет Окассен по лесу с дороги на дорогу, и конь несет его быстрым ходом. Не думайте, что его щадили шипы и колючки. Ничуть не бывало! Они рвали его одежды, так что скоро не осталось на нем ни одного целого куска, и в крови были его руки, грудь и ноги. Кровь шла из тридцати или сорока мест, так что можно было видеть на траве следы крови, которая капала из его ран. Но он так глубоко задумался о Николет, своей нежной подруге, что не чувствовал ни боли, ни страданий, и ехал все дальше в лес, но никаких вестей о ней не было.
И когда он увидел, что приближается вечер, он стал плакать о том, что не смог найти ее.
Проезжая по старой, заросшей травою дороге, он взглянул перед собою и увидел вдруг человека, вот такого, как я вам сейчас опишу.
Он был высок ростом, дикий с виду и чудовищно безобразный. Голова у него была огромная, чернее угля, расстояние между глаз — с добрую ладонь, щеки толстые, огромный плоский нос с широченными ноздрями, губы толстые, краснее сырого мяса, зубы длинные, желтые и безобразные. На ногах у него были гамаши, и обут он был в сандалии из воловьей кожи, обмотанные лыком и завязанные веревкой до самых колен. Он был закутан в плащ на подкладке и опирался на большую дубину.
Когда Окассен вдруг его увидел, охватил его сильный страх.
— Бог в помощь тебе, братец!
— Бог да благословит и вас, — ответил тот.
— Послушай-ка, что ты тут делаешь?
— А вам-то какое до этого дело?
— Никакого, я просто спросил по-хорошему.
— О чем это вы плачете, — сказал тот, — и что вас так печалит? Если бы я был таким важным человеком, как вы, никто в мире не мог бы заставить меня плакать.
— А! Так ты меня знаешь? — спросил Окассен.
— Да, я знаю, что вы Окассен, графский сын, и, если вы мне скажете, о чем вы плачете, я вам скажу, что я здесь делал.
— Ну, что же, — ответил Окассен, — я тебе скажу охотно. Сегодня утром я приехал в этот лес поохотиться, и со мною была белая левретка, самая прелестная в мире, и вот я ее потерял, потому и плачу.
— Бог мой, — воскликнул тот, — и чего только ни выдумают эти господа! И вы плачете из-за какой-то вонючей собачонки!
Будь проклят тот, кто вас за это похвалит. Нет в вашей стране такого важного человека, который, получив приказание вашего отца достать их десять, пятнадцать или двадцать, не исполнил бы этого с большой охотой и не был бы этому рад. Вот я так действительно могу плакать и печалиться.
— А ты о чем же, братец?
— Сударь, я расскажу вам почему. Я был нанят одним богатым крестьянином, чтобы ходить за плугом с четырьмя волами. Три дня тому назад со мной случилось большое несчастье, я потерял лучшего из моих волов — Роже, самого сильного. И теперь хожу и ищу его. Я ничего не ел и не пил три дня, а в город вернуться не смею: там меня посадят в тюрьму, так как мне нечем заплатить за вола. Во всем мире у меня нет никакого имущества, кроме того, что вы на мне видите. У меня есть бедная мать, у нее ничего не было, кроме старого тюфяка, да и тот теперь вытащили у нее из-под спины, и теперь она спит на голой соломе. И вот это-то и печалит меня больше, чем мое собственное горе. Потому что ведь деньги приходят и уходят. И если я теперь потерял, я выиграю в другой раз и заплачу за своего быка. Ради этого одного я бы не стал плакать. А вы убиваетесь из-за какой-то паршивой собачонки. Будь проклят тот, кто вас за это похвалит.
— Славно ты меня утешил, братец! Пошли тебе бог удачи. Сколько стоил твой вол?
— Сударь, с меня спрашивают двадцать су, а у меня не найдется и одного гроша.
— Вот возьми, у меня тут есть двадцать су, ты и заплатишь за своего вола.
— Сударь, — сказал крестьянин, — спасибо вам за это, пусть бог поможет вам найти то, что вы ищете.
Он уходит дальше, а Окассен продолжает путь. Ночь была ясная и спокойная, он ехал долго, пока не достиг того места, где расходились семь дорог. Здесь он увидел беседку, которую, как вы знаете, устроила Николет; она была вся разубрана цветами и листьями внутри, и снаружи, и сверху, и спереди и была так красива, что трудно себе представить что-нибудь лучшее. Когда Окассен ее увидел, он сразу остановился, а на беседку упал луч луны.
— Боже мой, — сказал он, — ведь это сделала Николет, моя нежная подруга! Она устроила это своими прекрасными руками. Ради нежности и любви моей к ней я сойду с коня и отдохну здесь сегодня ночью.
И он вынул ногу из стремени, чтобы сойти с коня, а конь его был высокий и большой. И так задумался он о Николет, своей подруге нежной, что упал на землю так тяжело, что ударился о камень и вывихнул себе плечо.
Он почувствовал себя сильно раненным, но употребил все старания и привязал лошадь здоровой рукой к кусту шиповника, потом повернулся на боку и растянулся в беседке на спине. И, глядя в отверстие над головою, он видел звезды. Одна из них казалась ярче других, и Окассен начал говорить так:
25.
26.
Когда Николет услышала Окассена, она подошла к нему, потому что была недалеко. Она вошла в беседку, бросилась в его объятия и стала его ласкать и целовать.
— Милый, нежный друг мой, наконец-то я нашла вас!
— Ия вас также, милая, нежная подруга!
И снова они обнимались и целовались, и велика была их радость.
— Подумайте, моя нежная подруга, — сказал Окассен, — я вывихнул себе плечо, а теперь не чувствую ни боли, ни страданий, потому что вы со мною.
Она его потрогала и увидела, что плечо вывихнуто. Тогда она стала его растирать своими белыми ручками, и с помощью бога, который любит влюбленных, она вправила ему плечо. А потом она нарвала цветов, свежих трав и зеленых листьев, привязала их к его плечу лоскутком своей рубашки, и Окассен стал здоровым.
— Окассен, милый и нежный друг мой, теперь послушайтесь моего совета. Если ваш отец пошлет искать вас завтра в этом лесу, меня найдут и, что бы ни случилось с вами, меня-то убьют наверно.
— Моя дорогая, нежная подруга, это причинило бы мне большое горе. Но если я смогу, я вас никому не отдам.
Он сел на коня, посадил перед собою свою подругу, целуя ее и обнимая, и они выехали в открытое поле.
27.
РОМАН О ТРИСТАНЕ
Принадлежащий к кругу бретонских (кельтских) сказаний сюжет о любви Тристана и Изольды, засвидетельствованный в многочисленных разработках с середины XII в. (древнейшая — лэ «О жимолости» Марии Французской), представлен двумя версиями: жонглерской, более примитивной и архаической (обработки французского жонглера Беруля и немецкого поэта Эйльхарта фон Оберге), и изысканной куртуазной (обработки англо-нормандского поэта Томаса, немецкого поэта Готфрида Страсбургского и некоторых других). В своем дальнейшем развитии сюжет в середине XIII в. становится предметом прозаического романа, постепенно включаемого в цикл романов «Круглого стола». Из прозаического романа XIII в. и взяты приводимые ниже отрывки.
Популярность сказаний о любви Тристана и Изольды в европейской литературе XII—XIII вв. (а также в последующие столетия) объясняется прежде всего тем, что в них центральное место отводится теме земной, человеческой любви, которая со времен трубадуров привлекала внимание многих средневековых поэтов. При этом если в более архаических версиях любовь Тристана и Изольды рисуется как некая «демоническая» страсть, порожденная колдовским, «дьявольским» зельем, то в версиях куртуазных роль любовного напитка заметно уменьшена и любовь изображена как всепоглощающее естественное чувство.
В романах изображается также конфликт между любовным влечением Тристана и его вассальным долгом, между большим человеческим чувством и обычаями феодального общества (см. заметку о Готфриде Страсбургском в разделе «Немецкая литература»).
[Истории Тристана в романе предшествует история сватовства отца его Ривалина, короля Лоона, к Бланшефлер, сестре Марка, короля корнвалийского. Ривалин добивается руки Бланшефлер, увозит ее в свое королевство; через несколько времени она родит сына и умирает в муках.]
Тристан и Изольда. Миниатюра из рукописи прозаического романа XIV в.
Весь день и всю ночь мучилась королева, и на рассвете разрешилась она прекрасным сыном, по воле господа нашего. И когда она разрешилась, то сказала своей придворной даме:
— Покажите мне мое дитя, я поцелую его, ибо я умираю.
И та исполнила ее желание. И когда королева взяла его на руки, увидела, что был он самым прекрасным созданием в мире, и сказала:
— Сын мой, — говорит она, — велико было желание мое иметь тебя, и вижу я, что ты прекраснее всех созданий, которых когда-либо породила женщина, но от красоты твоей мало мне проку, ибо умираю от мук, которые претерпела за тебя. В печали пришла я сюда, в печали родила я, в печали обрела тебя, и первая радость, которую я познала от тебя, была печалью, и из-за тебя умираю в печали. И так как в печали пришел ты на эту землю, имя тебе Тристан Печальный. Пусть же господь даст тебе прожить жизнь твою в большей радости и удаче, чем принесло твое рожденье.
И когда она это сказала, целует она его, и как только она его поцеловала, душа рассталась с ее телом, и умерла она.
Таким, как я вам рассказываю, было рождение Тристана, прекрасного и доблестного рыцаря, который претерпел потом столько страданий из-за Изольды.
[Осиротевшего Тристана король поручает воспитать доблестному рыцарю Гуверналю, который обучает его всем рыцарским наукам. После ряда приключений юный Тристан поступает на службу к королю корнвалийскому — Марку, своему дяде. Чтобы освободить Корнвалис от позорной дани королю Ирландии, Тристан вступает в единоборство с рыцарем ирландским Морольтом. Он побеждает Морольта, но сам ранен его отравленным мечом. Рана никак не может залечиться, и измученный ею Тристан просит короля Марка положить его в ладью и пустить в море на волю волн.]
Видит король, что нельзя поступить иначе, и приказал приготовить суденышко так, как просил об этом Тристан. Когда корабль был снаряжен всем нужным, отнесли они туда Тристана и положили его туда. И никогда вы не видали нигде столь великой печали, какая была при расставании с Тристаном. Когда Тристан увидел столь великую скорбь по себе, горестно было ему дольше медлить, и велел он пустить себя в море с распущенным парусом, и спустя немного времени так удалился от них, что не видел более ни дяди, ни друзей, ни они его.
Так отправился Тристан в море и пробыл там пятнадцать дней или более, пока не доплыл в некий день до Ирландии, к замку Эсседот. Был там король ирландский и королева, сестра Морольта, и была там Изольда, дочь их, и там они проводили время. А Изольда эта была самая прекрасная женщина в мире, и была она более сведущей в лечении, чем кто бы то ни был в те времена, и знала все травы и их силы, и не было ни одной столь тяжелой раны, которую бы она не могла вылечить, а было ей только 13 лет.
Когда Тристан доплыл до гавани и увидел землю, которой не знал, сердце его возликовало при виде новой страны, и так как господь спас его от опасности морской, он берет свою арфу и настраивает ее и начинает играть на арфе столь радостно, что всякий, услышавший его, охотно внимал ему. Король сидел у окна и услышал звуки эти, и увидел суденышко столь прекрасно убранным, что подумал, что это феи, и показал его королеве.
— Государь, — говорит она, — да поможет вам бог, пойдем посмотрим, что это такое.
И вот спускаются одни из замка, без свиты, король с королевой и приходят к берегу, и слушают, как Тристан играет на арфе, пока он не окончил всех своих песен и не поставил арфы рядом с собой. Потом он спрашивает у короля:
— Что это за земля, к которой я приплыл?
— Клянусь верой, — говорит король, — это Ирландия.
Тут стало Тристану хуже, чем раньше, ибо знал он: если узнают его, придется умереть ему за Морольта, которого он убил. Король его спрашивает, кто он такой.
— Государь, — говорит он, — я из Лоонойса, близ города Альбисмы, человек несчастный и больной. И пустился я наудачу в это море, и так прибыл я сюда, чтобы узнать, смогу ли я исцелиться от моей болезни; ибо столько я страдал от ужаса и от муки и столько страдаю еще, что никто не может более страдать чем я, и лучше предпочту я умереть, чем дольше томиться в этой муке.
— Рыцарь ли вы? — спрашивает король.
— Да, государь, — говорит Тристан.
Тогда говорит ему король:
— Не беспокойтесь более, ибо прибыли вы к такой гавани, где вы найдете исцеление; есть у меня дочь весьма мудрая, и если только кто-либо может вас исцелить, она исцелит вас в кратчайший срок, и я попрошу ее, чтобы занялась она этим ради господа и ради милосердия.
— Государь, да вознаградит вас бог, — говорит Тристан.
Тогда уходит король с королевой в свой дворец. Король зовет служителей своих и приказывает им, чтобы они пошли к гавани за больным рыцарем и чтобы они принесли его сюда, и сделали ему прекрасную постель, и уложили его. И делают, как он им приказал.
Когда Тристана уложили, король говорит Изольде, дочери своей, чтобы она позаботилась о рыцаре. И она это сделала с великой нежностью, и исследовала раны его, и положила на них травы, и говорит ему, чтобы он не беспокоился, и что она его исцелит с божьей помощью в короткое время.
И пробыл в этой комнате Тристан десять дней больным, и королевна каждый день заботилась о нем.
[Исцеленный Тристан в благодарность спасает Ирландию от опустошавшего ее дракона, после чего возвращается в Корнвалис, в замок Тинтанель к королю Марку.]
Случилось, что король сидел среди своих баронов, и Тристан был там вместе с ними. Бароны говорили, что дивятся они, почему король не женился. И Тристан сказал, что хотелось бы, чтобы король взял себе жену. Тогда сказал король:
— Тристан, — говорит он, — я возьму себе жену, когда вам будет угодно, ибо от вас зависит, достать мне ее, такую прекрасную, какой я хочу ее иметь, как вы знаете.
— Государь, — говорит Тристан, — если дело за мною, вы ее получите, ибо скорее я умру, чем не достану ее для вас.
— Как же я вам поверю? — говорит король.
И Тристан протягивает руку к часовне и клянется: если бог и святые помогут ему, он приложит все свои силы. Король его весьма благодарит.
— А теперь я скажу вам, — говорит король, — кто та, кого я хочу. Много раз вы говорили мне, если я женюсь, взять бы мне жену такую, чтоб я мог наслаждаться и радоваться ее красотой, а за красоту вы мне хвалили только одну женщину, и о той вы свидетельствовали, что она прекраснейшая женщина в мире. Ее хочу я и ее возьму в жены, если вообще я женюсь. И это Изольда Белокурая, дочь короля Анжина ирландского. Ее вам надлежит доставить мне, как вы мне обещали. Возьмите же из замка моего такую свиту, какая вам понадобится, и отправляйтесь в путь и добейтесь того, чтобы я получил ее[375].
Когда Тристан слышит эту новость, думает он, что дядя посылает его в Ирландию не за Изольдой, а за смертью, но не осмеливается отказать ему. А король, который более желает зла ему, чем добра, говорит ему льстиво:
— Мой прекрасный племянник, разве вы мне ее не добудете?
— Государь, — говорит Тристан, — я сделаю все, что могу, хотя бы пришлось мне за то умереть.
— Мой прекрасный племянник, великая вам благодарность, — говорит король, — теперь нужно вам двинуться в путь, ибо не узнаю я радости до тех пор, пока вы не вернетесь и не приведете мне Изольду Белокурую.
[После ряда приключений Тристан действительно добивается руки Изольды для своего дяди и увозит Изольду из Ирландии в Корнвалис.]
Король и королева плачут при расставании. И зовет королева Бранжьену и Гуверналя и говорит им:
— Вот сосуд чистого серебра, полный чудесного напитка, который сделала я своими руками. И когда Марк ляжет с Изольдой в первую ночь, дайте испить его королю Марку, затем Изольде и потом выплесните остатки и берегитесь, чтобы никто больше не испил его, ибо великое зло может произойти от того. А этот напиток называется любовным напитком, и как только король Марк изопьет его и дочь моя вслед за ним, они полюбят друг друга так сильно и так чудесно, что никто никогда не сможет разлучить их обоих. И сделала его я для них двоих. Берегитесь же, чтобы никто не испил его[376].
И они говорят, что будут беречь его.
Итак, они отправились в путь.
И Тристан и свита его выходят в море и держат путь в великой радости. Три дня был у них попутный ветер, а на четвертый день играл Тристан в шахматы с Изольдой, и была тогда слишком большая жара. Тристан захотел пить и попросил вина. Гуверналь и Бранжьева пошли за вином и нашли любовный напиток среди другой серебряной посуды, куда они его поставили, и ошиблись они, и не остереглись. Бранжьена берет золотую чашу, а Гуверналь наливает в чашу напиток, который был светел, как вино, и действительно был он вином, но были к нему подмешаны другие вещи.
Изольда играет на арфе. Миниатюра из рукописи прозаического романа XV в.
Тристан испил полную чашу и потом приказал, чтобы дали ее Изольде. И ей подают, и Изольда пьет.
— О боже, какой напиток!
Так вступили они на путь, с которого не сойти им во все дни их жизни, ибо испили они свою гибель и свою смерть, а напиток этот показался им добрым и весьма сладостным, но никогда сладость не была куплена столь дорогой ценой, как эта. Изменились сердца их и забились, как только испили они, и глядят друг на друга в изумлении, и думают о другом, чем раньше. Тристан думает об Изольде, Изольда о Тристане. Забыли они о короле Марке. Тристан думает лишь о любви к Изольде, а Изольда лишь о любви к Тристану. И так согласуются их сердца, что они будут любить друг друга всю свою жизнь. И если Тристан любит Изольду, то такова его воля, ибо более прекрасной не мог он отдать свое сердце. И если Изольда любит Тристана, то такова ее воля, ибо ни к кому более прекрасному и более доблестному не могла она обратить свою любовь. Он прекрасен, и она прекрасна, он благороден, и она знатного рода. Так согласуется в них красота и благородство. Пусть же король Марк ищет теперь другую королеву, ибо эту хочет Тристан, а Изольда хочет его. И так долго глядели они друг на друга, что каждый узнал волю другого. Тристан узнал, что Изольда любит его от всего сердца, а Изольда узнала, что она ему по душе. Радуется он этому и в великом волнении говорит, что он самый счастливый рыцарь, когда-либо живший, ибо любит его самая прекрасная благородная дева, какая есть на свете.
Когда они испили любовного напитка, о котором я вам рассказал, Гуверналь узнал сосуд и пришел в великое изумление. В таком он был унынии, что хотел бы умереть, ибо знает он теперь, что Тристан любит Изольду и Изольда Тристана, и знает, что этому виной он и Бранжьена. Тогда зовет он Бранжьену и говорит ей, как они ошиблись по недосмотру.
— Как? — говорит Бранжьена.
— Клянусь верой, — говорит Гуверналь, — дали мы Тристану и Изольде испить любовного напитка, и такова сила его, что полюбили они друг друга. — И показывает ей сосуд, в котором был напиток. И когда Бранжьена увидала, что это правда, заговорила она вся в слезах:
— Плохо мы поступили, и только зло может произойти от этого.
— Потерпим, — говорит Гуверналь, — посмотрим, чем дело это кончится.
Гуверналь и Бранжьена в печали, те же, кто испил любовного напитка, в радости. Тристан глядит на Изольду и воспламеняется страстью, так что не желает он ничего, кроме Изольды, а Изольда — кроме Тристана. Тристан открывает ей свое сердце и говорит, что любит ее больше всего на свете, а Изольда говорит ему, что так и она его.
Что вам рассказывать?
Тристан видит, что Изольда готова исполнить волю его, и они наедине друг с другом, и никто их не беспокоит, и не страшатся ни тот, ни другая. И поступает он с ней по воле своей, и теряет она имя девственницы.
И, как я вам рассказываю, полюбил Тристан Изольду так, что более в жизни своей не разлучался он с ней и другой не любил, и другой не знал. И из-за того напитка, которого он испил, терпел он муки и страдал более, чем кто-либо другой, и не было никогда рыцаря, который более страдал бы ради любви, чем Тристан.
[Однако долг верности требует, чтобы Тристан отдал Изольду королю. Король Марк женится на Изольде. В первую же брачную ночь верная Бранжьена заменяет собой Изольду, чтобы король не узнал об обмане. Но ни Тристан, ни Изольда не могут преодолеть овладевшей ими любви.]
Ежедневно бывали Тристан и Изольда наедине в опочивальне короля Марка[377]. Сандрет, который ненавидел Тристана, заметя любовь их, пошел к королю Марку и сказал ему, что он самый опозоренный и самый несчастный человек в мире, раз он терпит в замке своем того, кто позорит его с женой его.
— Кто же он? — говорит король.
— Государь, — говорит Сандрет, — это Тристан.
— Как же, — говорит король, — я узнаю об этом?
— Ступайте, — говорит Сандрет, — в вашу опочивальню, там их найдете наедине друг с другом.
[Разгневанный король, убедившись после ряда испытаний в неверности жены и измене племянника, приказывает их схватить.]
На следующее утро пришел Сандрет к королю и сказал ему:
— Государь, мы схватили Тристана и Изольду.
— Как вы нашли их? — говорит король.
И Сандрет рассказывает ему.
— Во имя господне, — говорит король, — позор этот лежит на мне, никогда не смогу я носить венец, если я не отомщу. Ступайте, приведите их.
И так тот делает.
Когда друзья Тристана услышали об этом, они пошли к Гуверналю и рассказали ему весть о Тристане. Гуверналь был от того в великой скорби. Тогда договорились они, что они спрячутся поблизости от того места, где казнят преступников, и если туда приведут Тристана, они его спасут или умрут. Тут вооружаются они, и Гуверналь вместе с ними, и отправляются в засаду. А Тристана и королеву привели к королю.
— Тристан, — говорит король, — я тебя осыпал почестями, а ты меня покрыл позором, и если я тебя обесчещу, никто не должен меня порицать, а расправляюсь я с тобой так, чтобы ты не причинял более зла ни мне, ни кому другому.
Тогда приказывает король, чтобы раздули костер на берегу моря и чтобы их сожгли на нем.
— Ах, государь, — говорят корнвалийцы, — отомстите королеве иным способом, не сжигайте ее. Отдайте ее прокаженным. Там она испытает большую муку, чем если бы ее сожгли. А Тристана пусть сожгут.
И король говорит, что он дает на это свое согласие[378].
Развели огонь близ того места, где были четыре друга Тристана. Король приказал Сандрету сжечь Тристана, а королеву отдать прокаженным. И тот говорит, что он сделает это с охотой. И поручают Тристана охране десяти солдат, а Изольду — десяти других слуг.
Когда король видит, как уводят Тристана и Изольду, испытывает он великую скорбь, так что не может смотреть на них, и входит в опочивальню свою, предаваясь скорби, и говорит:
— Я самый подлый король и самый несчастный, который когда-либо был, ибо приказал загубить таким способом Тристана, моего племянника, который рыцарством превышал всех в мире, и супругу мою, которая красотой превышала всех в мире.
И тогда он проклял Сандрета и всех, кто дал этот совет, ибо лучше бы хотел ее сохранить, чем отдать прокаженным.
Так безумствовал король. А те приводят Тристана и Изольду. Народ, который видит, как ведут Тристана на смерть, говорит:
— Ах, Тристан, — говорят они, — если бы король вспомнил те страдания, которые испытал ты в борьбе против Морольта за освобождение Корнвалиса, он не отдавал бы тебя на смерть, но почитал бы и берег тебя.
Так они ведут Тристана, пока не пришли к старой церкви, стоявшей на берегу морском. Тристан глядит на нее и говорит: если попасть ему туда, бог бы помог ему. И разрывает и развязывает свои узы и веревки, которыми он был связан, и бросается на одного из солдат, который держал его и у которого был меч, отнимает у него меч и отрубает ему голову, и тот падает мертвым; и когда остальные увидели Тристана освобожденным от оков и с мечом в руках, не осмелились они бороться с ним, но обратились в бегство и бросили его, а Тристан кинулся в церковь и поднялся на окно, обращенное к морю, и видит, что море под ним на сорок аршин глубины. Говорит тогда, что он не боится подлых корнвалийских рыцарей, ибо он скорее бросится в море, чем даст им себя погубить.
И вот идет Сандрет, а с ним двадцать рыцарей. И он говорит:
— О Тристан, это вам не поможет, ибо вы не сможете ускользнуть.
— Конечно, — говорит Тристан, — обжора! Если я умру, это не будет от руки таких подлецов, как вы. Скорее я брошусь в это море!
Тогда они подходят к нему с обнаженными мечами в руках и Тристан Ударяет одного так, что он падает мертвым, но другие теснят его. Тристан видит, что не сможет долго сопротивляться, ибо он — нагой, а они вооружены, и бросился он в море из одного из окон.
Когда они это видят, говорят они, что он, наверно, утонул. И прыжок этот должен быть назван Тристановым прыжком. Затем они идут в жилище прокаженных, и королева говорит Сандрету:
— Ах, ради бога, убейте меня, прежде чем отдадите меня столь подлому люду! Или дай мне твой меч, и я убью им себя.
— Госпожа, — говорит Сандрет, — вам надлежит здесь остаться.
И прокаженные берут Изольду и уводят ее силой.
[Но Тристан отбивает Изольду у прокаженных и уводит ее с собой в Моройский лес, который был величайшим лесом Корнвалиса.]
И когда размыслил Тристан, говорит он королеве Изольде:
— Госпожа моя, — говорит он, — что нам делать? Если я вас уведу в королевство Логрское, назовут меня изменником, а вас бесчестной королевой. Если же я отведу вас в Лоонойс, весь свет меня будет осуждать и говорить, что я держу у себя супругу дяди моего.
— Тристан, — говорит Изольда, — поступите по желанию вашему, ибо я сделаю все вам угодное.
— Госпожа моя, — говорит Тристан, — я скажу вам: есть здесь поблизости старый замок, принадлежавший мудрой деве, и если мы останемся в нем, вы и я, никто не посмеет лишить нас нашей радости, когда мы проживем год или два, может, бог пошлет нам какой-либо выход.
— Ах, Тристан, — говорит Изольда, — мы будем здесь как потерянные, ибо не увидим мы никого: ни рыцаря, ни дамы, ни знатной девицы и никого другого.
— Конечно, — говорит Тристан, — но раз я вижу вас, не хочу я видеть ни знатной дамы, ни девицы и никого другого на свете, кроме вас, и ради вас я хочу покинуть этот свет и хочу, чтобы мы остались в этом лесу.
— Государь, — говорит Изольда, — я поступлю по вашему желанию.
[Так Тристан и Изольда живут в диком лесу, добывая средства к жизни охотой. Но король Марк узнает об их убежище и похищает[379] Изольду. Одинокий Тристан принужден удалиться в изгнание в Бретань и здесь встречается с королевой бретонской — Изольдой Белорукой. В надежде забыть Изольду Белокурую Тристан берет в жены другую Изольду. Однако любовь Тристана неисцелима. Снова и снова он делает попытки встретиться с Изольдой Белокурой[380] и, наконец, получив смертельную рану во время одного из своих рыцарских приключений, посылает корабль в Корнвалис за королевой Изольдой.]
Вспомнил он, что был у него в городе кум-моряк, по имени Женес. Приказал он позвать его, чтобы поговорить с ним без промедления. И Женес пришел и сел около него.
— Женес, — говорит Тристан, — любезный мой куманек, позвал я вас для того, чтобы вы вернули мне здоровье, если захотите. Очень я вас люблю и знайте: если я спасусь, то выдам я замуж с большим приданым Изольду, вашу дочь, а мою крестницу, и окажу вам много всякого почета.
— Государь мой, — говорит Женес, — прикажите мне, и я исполню ваше приказание и на море, и на суше.
— Женес, — говорит Тристан, — тысячу раз благодарю вас. Вы отправитесь отсюда в Корнвалис, к королеве Изольде, моей возлюбленной, и скажите ей, что я прошу ее приехать исцелить меня, и скажите ей, как я ранен, и передайте ей этот перстень в знак того, чтобы она могла вам довериться. И если она приедет с вами, оставьте паруса белыми, если же не привезете ее, то смените их на черные.
[Женес удачно выполняет поручение Тристана, и королева Изольда, забыв обо всем, бежит с ним в Бретань. Но ревнивая жена Тристана узнала о тайном поручении, и, когда видит она, что приближается корабль с белыми парусами, она приходит к Тристану.]
И вот вам, приходит эта злая женщина, которая приносит ему злую весть, и говорит:
— Ах, господин, я прихожу из гавани и видела я там корабль, который несется сюда с большой быстротой, и полагаю я, что этой ночью будет он у пристани.
Когда Тристан услышал, что жена его говорит о корабле, открыл он глаза свои и повернулся с великим трудом и сказал:
— Ради господа, прекрасная сестра моя, скажите мне, каковы паруса корабля.
— Клянусь верой, — говорит она, — они чернее тутовых ягод. Увы, зачем ему сказала это она!
[Утратив последнюю надежду, Тристан умирает, и прибывшая Изольда находит лишь его труп, который обмывают для погребения.]
Когда Изольда увидела тело Тристана, друга своего, приказала она оставить всем опочивальню и упала без чувств на тело его, а когда пришла в себя от обморока, пощупала ему пульс и жилы, но было это ни к чему, ибо дух уже покинул его. Тогда сказала:
— Сладостный друг мой, Тристан, сколь тяжка эта разлука и для меня и для вас. Прибыла я сюда, чтобы исцелить вас, и тщетен был мой путь, и вы страдали, и вас я потеряла. И, разумеется, раз вы умерли, не хочу я жить без вас, ибо какой любовь была в вас и во мне при жизни, такой она должна быть в смерти.
Тут обнимает она его руками своими изо всех сил и падает без чувств на тело его, и испускает вздох, и сердце ее разрывается, и душа ее покидает ее.
Так умерли эти двое влюбленных — Тристан и Изольда.
[Король Марк приказывает положить их тела в каменные саркофаги и похоронить по разным сторонам часовни.]
И из могилы Тристана поднялась ветвь прекрасная, и зеленая, и пышнолиственная, и перекинулась через часовню, и опустился конец ветви на могилу Изольды и врос в нее.
Увидели это жители и рассказали королю. Король три раза приказывал ее срезать, и каждый раз на следующий день она являлась столь же прекрасной, какой была до того.
Таково было чудо о Тристане и Изольде.
ПОЭЗИЯ ГОРОДСКОГО СОСЛОВИЯ
ФАБЛИО
В XII и XIII вв. во Франции (как и в ряде других европейских стран) происходил быстрый подъем городов. Широкий характер приобрела торговля, росло цеховое ремесло. Подъем городов заметно обострил социальные противоречия средних веков. Горожане вели с соседними феодалами успешную борьбу за свою вольность. Подчас эта борьба принимала весьма ожесточенный характер. Значительную роль сыграли города в создании централизованного государства, оказывая деятельную поддержку королевской власти в ее столкновении с мятежными феодалами. Успехи городов влекли за собой глубокие сдвиги в культурной истории средних веков. Городские коммуны стали очагами новой литературы, отразившей возросшее самосознание молодого третьего сословия. В противоположность рыцарской поэзии, витавшей в призрачном царстве идеальной куртуазии, литература горожан тяготела к реальной повседневной жизни. Ее привычной средой была мастерская ремесленника, городская площадь, ярмарка, ратуша или таверна. Возникая на широкой демократической основе, она усердно черпает из фольклора материал и сама нередко является литературой собственно народной. У ней своя особая родословная, отнюдь не похожая на родословную рыцарскую. Она множеством нитей связана с трудовой средой. Поэтому городские поэты ценят трудолюбие, практическую сметку, народную смекалку. Ценят они также лукавство, хитроумие и пронырливость как верный путь к материальному довольству. На смену закованному в латы странствующему рыцарю, ломающему копья во славу прекрасной дамы, приходит новый литературный герой — смышленый виллан, разбитной жонглер или лукавый поп, — который без особого труда оставляет в дураках власть имущих, полагающихся на свое сословное превосходство. Особенно достается монахам и князьям церкви, которые чаще всего рисуются алчными тунеядцами, причиняющими немалый вред окружающим людям.
Наиболее популярным жанром городской литературы является жанр реалистической стихотворной новеллы, называемый во Франции фаблио, в Германии шванк. Возникновение фаблио относится, видимо, к середине XII в. По своему характеру фаблио весьма отличны как от церковной легенды, так и от куртуазного лэ. Свыше полутораста дошедших до нас фаблио разрабатывают ситуации и сюжеты обычно комического или авантюрного характера, никогда не выходя за пределы реалистического бытового изображения, нередко заостряемого сатирически. Конечно, реализм фаблио еще сильно ограничен возможностями средневекового развития. Фаблио нередко лубочны, примитивны, их комизм грубоват. Зато они подкупают своим плебейским задором, своей молодой веселостью, непринужденностью своего повествовательного тона.
Из приводимых ниже фаблио три (как и большая часть их) анонимны; «Завещание осла» принадлежит Рютбёфу (см. ниже); фаблио «О сером в яблоках коне» — Леруа Гугону. Последнее фаблио, переносящее читателей в феодальную среду и отличающееся более изысканным характером, в неприглядном свете выставляет дела и дни могущественных аристократов. Это увлекательный рассказ о вознагражденной любви и наказанном феодальном высокомерии, алчности и вероломстве.
О БУРЕНКЕ, ПОПОВСКОЙ КОРОВЕ
ЗАВЕЩАНИЕ ОСЛА
О ВИЛЛАНЕ, КОТОРЫЙ ТЯЖБОЙ ПРИОБРЕЛ РАЙ
ТЫТАМ
Жонглеры на пиру. Миниатюра из рукописи XIV в.
О СЕРОМ В ЯБЛОКАХ КОНЕ
САТИРИЧЕСКИЙ ЖИВОТНЫЙ ЭПОС
РОМАН О ЛИСЕ
В основе «Романа олисе» (Roman de Renart), который составлялся рядом авторов на протяжении почти полугора веков (XII—XIII вв.), лежат народные сказки о животных, с древнейших пор бытовавшие среди европейских народов. Примерно с середины XII в. эти сказки начали объединяться в обширный эпический цикл, как об этом свидетельствует немецкий пересказ Генриха Лицемера (около 1180). Одновременно авторы романа использовали также различные книжные источники, восходящие к греко-римской басенной традиции. На это указывает хотя бы наличие в романе экзотической фигуры царя зверей льва, отсутствующей в европейских народных сказках о животных. Еще в IX—X вв. ученые поэты обнаруживали интерес к животному эпосу. КIX в. относится латинская «Басня о Льве и Лисице», разрабатывающая сюжет из Эзопа (см. раздел «Латинская литература»). С Эзопом связана также латинская поэма «Бегство пленника» (X в.), в которой повествуется о том, как хитроумный лис излечил льва с помощью шкуры, содранной с волка. С отражением местных народных сказаний встречаемся мы в латинской поэме «Изенгрим» (около 1150).
Подъем городской культуры в XII—XIII вв. создал благоприятные условия для дальнейшего развития животного эпоса. Вокруг фигуры смышленого лиса (во многом родственной героям фаблио и шванков) группируются многочисленные эпизоды, в которых в иносказательной форме изображена жизнь тогдашней средневековой Европы. Так возникает французский «Роман о лисе», состоящий из двадцати шести эпизодов, или «ветвей» (branches).
Основной темой романа является успешная борьба лиса Ренара, олицетворяющего собой находчивость, ловкость и лукавство, с тупым, кровожадным волком Изенгрином. Роман изобилует яркими бытовыми деталями. Его действие протекает то при королевском дворе, то в монастыре, то в рыцарском замке. По мере развития событий в романе все громче начинают звучать сатирические мотивы. Авторы «Ренара», выражая интересы поднимающегося третьего сословия, обрушиваются главным образом на феодально-клерикальные круги. Они насмехаются над различными средневековыми предрассудками, обличают феодальные порядки как царство грубого насилия и произвола. Их симпатии всецело на стороне умного, находчивого лиса, торжествующего над крупными хищниками. Когда же Ренар сам превращается в хищника, когда он посягает на жизнь и достояние «меньшей братии» (куры, синицы, зайцы и пр.), то удача нередко его покидает. Испытанный хитрец попадает впросак. Врожденная смекалка и энергия какой-нибудь мирной синицы помогает ей избежать пасти лукавого Ренара. В этом очень ярко проявляется лежащая в основе романа народная мудрость, осуждающая алчность и кровожадность больших господ, какими бы личинами они ни прикрывались.
Роман имел огромный успех. Он вызвал ряд подражаний. Им зачитывались не только миряне, но и клирики. Недаром клирик Готье де Куанси (начало XIII в.) жаловался на то, что монахи читают побасенки о Ренаре охотнее, чем библию. В XV в. в Германии возник немецкий вариант животного эпоса — поэма «Рейнеке-лис», обработанная впоследствии Гете (1793).
ВСТУПЛЕНИЕ
Король Лев и его вассалы. Из рукописи «Романа о Лисе» XIII в.
РЕНАР И СИНИЧКА
ВОЛК-СВЯЩЕННИК
АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ ЭПОС
Наиболее значительное произведение аллегорической поэзии средних веков, «Роман о Розе» (Roman de la Rose), состоит из двух разнородных и разновременных частей. Первая часть романа (около четырех тысяч стихов), написанная около 1230 г. рано умершим рыцарем Гильомом де Лорисом, представляет собой куртуазно-любовную аллегорию. Все здесь очень изысканно и нарядно. Юный поэт во сне влюбляется в прекрасную Розу. Это дает автору возможность проследить самые различные оттенки любовного чувства. И он делает это с большим аналитическим мастерством. С не меньшим мастерством описывает он также чудесный сад, в котором произрастает дивная Роза. Его пленяют многоцветный наряд весны, журчание ручья, звонкие голоса птиц. Он любуется чувственным великолепием природы, ее ароматами, звуками, красками. Даже аллегорические фигуры под пером Гильома приобретают живописные очертания.
Бог любви пронзает сердце поэта. Из рукописи «Романа о Розе» конца XIII в.
Совсем иной характер имеет вторая часть романа (около 18 тысяч стихов), написанная через сорок лет после смерти Гильома ученым горожанином Жаном Клопинелем, обычно называемым Жаном де Мён. Заканчивая сюжетную линию, оборванную смертью Гильома, Жан де Мён в то же время далеко отходит от куртуазных традиций своего предшественника. Он прежде всего дидактик и сатирик. Выражая освободительные искания поднимающегося третьего сословия, он решительно обрушивается на феодально-церковные порядки, а также пропагандирует новые философские и социальные идеи. Любовная фабула отходит на второй план. В романе появляется ряд новых персонажей (Разум, Природа, Лицемерие), которые произносят пространные тирады, отражающие заветные взгляды самого автора. Жан де Мён ополчается против духовенства и не щадит даже самого папу. Он смеется над теми, кто приписывает королевской власти божественное происхождение и тем самым оправдывает самодержавный деспотизм. Он влагает в уста Природы речи против феодальных прерогатив, основанных на знатности происхождения.
Предвосхищая взгляды гуманистов эпохи Возрождения, автор развивает мысль, что истинное благородство заключается не в знатных предках, но в личных достоинствах человека (см. приводимый отрывок). Не менее радикальны взгляды Жана де Мёна и по ряду других вопросов. Так, он полагает, что сущность религии состоит в честной жизни, а не в пышных обрядах либо теологических хитросплетениях. Подлинным источником бытия является Природа, которая в своей дивной мастерской создает все многообразие живых существ, которая в человека вкладывает стремление к продолжению рода и, таким образом, несовместима с принципами аскетизма. Нет ничего выше Природы, поэтому задача искусства заключается в том, чтобы следовать за ней. Природа создает всех равными. Однако люди, одержимые алчностью и властолюбием, извращают ее мудрые законы. Алчность открыла путь угнетению, обману и коварству. Власть имущие и богатые присвоили себе богатства, которые по законам природы должны были бы принадлежать всем. Многие взгляды Жана де Мёна отличались необычной для того времени остротой. Недаром средневекового вольнодумца некоторые исследователи называли «Вольтером средневековья».
РОМАН О РОЗЕ
[Сюжет вкратце следующий. Во сне юный герой романа находит удивительный сад, за расписными стенами которого ведет хоровод Веселье. Праздность впускает его в этот Сад Наслаждений, где в Источнике Любви, у которого погребен Нарцисс, герой видит отражение Розы. Тотчас его поражает стрелами бог Амур и, обратив в своего вассала, поучает его, как добиться цели. Приветливость, Дружба, Жалость, Искренность помогают герою. Злоязычие, Страх, Стыд и другие охраняют от него Розу. Ему удается добиться поцелуя от Розы, но Злоязычие пускает об этом слух, и Ревность воздвигает башню вокруг розового куста, в которую запирает и Приветливость. Жалобой Влюбленного заканчивается часть, написанная Гильомом. В части, написанной Жаном, появляются новые действующие лица: Лицемерие, Природа, Разум, — поучают Влюбленного. Лицемерие душит Злоязычие, Щедрость и Вежество стараются освободить Приветливость, которую Стыд и Страх вновь заключают в башню. Перед башней разыгрывается решительный бой, и победе Влюбленного помогает Природа. Он срывает Розу и просыпается.]
Гильом де Лорис
НАЧАЛО РОМАНА
Заключены в Романе Розы
Любви искусство, сны и грезы.
[Поэт подробно перечисляет семь образов на стене: Ненависти, Предательства, Жадности, Скупости, Зависти, Печали и Старости.]
[Рассмотрев начертанные на стене картины, поэт входит в сад; его встречает Праздность и объявляет ему, что сад принадлежит Наслажденью. Миновав хоровод, который ведет Веселье и где Амур пляшет с Красотой, Щедростью и другими прекрасными дамами, поэт подходит к фонтану Любви.]
Жан де Мён
ИСТИННОЕ БЛАГОРОДСТВО
Вот поучает как Природа
Тех, кто кичится славой рода,
И вот как мудро говорит,
В чем благородство состоит.
МИРАКЛЬ
Рютбёф
Горожанин (вероятно, родом из Парижа), принимавший деятельное участие в политических событиях своего времени, в частности в знаменитом споре университета с монашескими орденами в 50-х годах XIII в., Рютбёф (около 1230—1285 гг.) разрабатывает почти все жанры литературы своего времени, за исключением героического и куртуазного эпоса. Ярый противник духовенства, для разоблачения которого он не жалеет красок (ср. приводимое выше «Завещание осла»), Рютбёф использует в целях антиклерикальной пропаганды и форму духовной драмы — миракля, противопоставляя (как это типично для критических выступлений того времени, идущих под прикрытием мистических, а иногда и еретических исканий) божественное начало его грешным служителям.
Легенда о Теофиле-управителе, несправедливо отстраненном от своей должности и продавшем за власть свою душу дьяволу, а затем спасенном заступничеством богоматери, известна в ряде разработок, начиная с латинской поэмы Хротсвиты Гандерсгеймской (X в.). Но разработка Рютбёфа насыщает старый сюжет новым социальным содержанием. Обращает на себя также внимание стремление Рютбёфа преодолеть примитивизм более ранней духовной драмы, в которой характеры людей изображались обычно достаточно плоскими и внутренне не раскрытыми. Рютбёф делает попытку ближе подойти к жизненной правде. Его Теофил — фигура более сложная В нем подчас борются различные чувства. Одно настроение сменяется другим. То он готов впасть в отчаяние, то исполняется надежды, то он надменен и зол, то охвачен глубоким раскаянием. Отдельные сценки миракля окрашены в бытовые тона. Сквозь старинную восточную легенду очень ясно проступают очертания французской жизни XIII в.
Текст миракля несколько сокращен.
ЧУДО О ТЕОФИЛЕ
Здесь идет Теофил к Саладину, который говорил с дьяволом, когда хотел.
Тогда уходит Теофил от Саладина и думает, что отречься от бога — дело не шуточное.
Здесь Саладин обращается к дьяволу и говорит:
Здесь Саладин заклинает дьявола:
Тогда заклятый дьявол появляется и говорит:
[По указаниям Саладина Теофил приходит к дьяволу.]
Тогда Теофил вручает расписку дьяволу, и дьявол велит ему поступать так:
Тогда кардинал посылает искать Теофила.
Здесь Задира говорит с Теофилом.
Тогда кардинал встает навстречу Теофилу. Он возвращает ему сан и говорит:
Здесь раскаивается Теофил, он приходит в капеллу мадонны и говорит:
Вот молитва, которую Теофил говорит перед мадонной:
[Мадонна прощает раскаявшегося Теофила, отбирает собственноручно у дьявола его расписку и возвращает ему. Кардинал возвещает о случившемся с Теофилом чуде народу. Миракль заканчивается словами:]
ЗАЧАТКИ СВЕТСКОГО ТЕАТРА
Адам де ла Аль
Родом из богатого Арраса, горожанин Адам де ла Аль, по прозвищу Горбун (около 1238—1286 гг.), человек бывалый, живший и в Париже (1262—1263 гг.), и при дворах графа д'Артуа (с 1272 г.) и Карла Анжуйского (с 1283 г.), является автором первых светских пьес на народном языке: «Игры под листвой» (Jeu de la feuillie) и «Игры с Робене и Марион». Первая пьеска — сатирическое изображение горожан из родного поэту города — приближается к позднейшим фарсам и соти (soties); вторая, рассчитанная на музыкальное исполнение, является по существу драматизированной пастурелью. В этой пьесе, написанной очень просто и живо, довольно правдиво изображаются обычаи и нравы французских поселян. Автор с нескрываемым сочувствием относится к молодым простолюдинам, на счастье которых посягает самонадеянный кичливый рыцарь.
Конец «игры», изображающей возвращение назойливого рыцаря, похищающего Марион, освобождение ее крестьянами и игры крестьян, нами опущен.
ИГРА О РОБЕНЕ И МАРИОН
КОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР XIV—XV ВВ.
ФАРС
Наиболее характерным и вместе с тем наиболее устойчивым комическим жанром этой эпохи является фарс; зачатки его засвидетельствованы еще в XIII в., но расцвета этот жанр достигает в XIV — начале XV в., когда он выступает как острое орудие политической и социальной сатиры; популярность фарса была столь велика, что его не смогла уничтожить даже комедия Ренессанса, сразу же вытеснившая моралитэ и соти (середина XIV в.). Фарс продолжает существовать на протяжении всего XVI в. и оказывает влияние на классическую комедию XVII в. (Мольер). Фарс — наиболее реалистический жанр средневековой драматургии. Подобно фаблио (с которыми фарс имеет много общего), он обращался к повседневной действительности (семейные отношения, плутни в суде и торговле, проделки попов и пр.), перенося из жизни на сцену те или иные забавные происшествия. При этом испытанным оружием фарса была насмешка, определявшая структурные особенности этого жанра (комические преувеличения, буффонные сцены и пр.).
Приводимый ниже в отрывках фарс "Господин Пьер Пателен" ("Maistre Pierre Pathelin"), сложенный в середине XV в., направляет свою сатиру против судейского крючкотворства; изображенная в нем фигура пройдохи-крючкотвора Пателена приобрела столь большую популярность, что вызвала создание ряда фарсов, изображающих другие проделки того же героя (фарс "Завещание Пателена" и др.).
ГОСПОДИН ПАТЕЛЕН
[Проныра-стряпчий Пателен сумел ловко выманить у богатого суконщика шесть локтей сукна; вместе с тем он подслушал перебранку купца с его батраком Тибо-пастухом, потихоньку воровавшим из доверенного ему стада овец. Услышав, что хозяин хочет подать на нерадивого батрака в суд, Пателен пригласил последнего к себе домой и предложил ему защищать его на суде; пастух согласился на предложенные ему условия.]
Сцена суда из "Господина Пателена". Рисунок из издания конца XV в.
[Придя в суд, пастух точно последовал совету Пателена, отвечая на все вопросы одним блеянием. Между тем суконщик, узнав неожиданно в почтенном судейском обманувшего его мошенника, пришел и сам в замешательство: начав жаловаться на батрака, он незаметно переходит к пропавшему у него сукну, сбивая с толку судью и производя на него впечатление человека не в своем уме.]
(К Пателену.)
[Судья следует совету адвоката и отказывает суконщику в иске против «слабоумного». Обиженный и дважды обманутый купец уходит ни с чем, но, когда Пателенхочет получить гонорар от своего подзащитного, он узнает, что имел дело со способным учеником.]
ЛИРИКА XIV—XV ВВ.
Основными жанрами французской лирики XIV—XV вв. являются строгие по своему строению:
баллада — стихотворение из трех строф с последующим более коротким посланием (envoy), написанных на три рифмы с обязательным рефреном; число стихов в строфе должно совпадать с числом слогов в строке (8—10);
рондель (или рондо) — строфическое стихотворение с обязательным повторением первого стиха в середине и в конце и с ограниченным количеством рифм (2—3);
вирелэ — строфическое стихотворение, начинающееся заключительными стихами своих строф. У поэтов XIV в. эти жанры иногда встречаются в более свободной форме.
Нряду с этим особое развитие получают большие по размерам произведения лирико-дидактического характера, таковы: сказ (dit), жалоба (complainte), завещание (testament).
Э. Дешан
Эсташ Дешан (Eustache Deschamps, 1340—1406) — горожанин, занимавший видные должности (королевский курьер, судейский чиновник), один из наиболее плодовитых поэтов своего времени; ему принадлежит около 1100 баллад, около 200 ронделей, много мелких пьес, два больших дидактико-аллегорических произведения — «Видение Льва» и «Зерцало брака» — и первый французский трактат по поэтике (1392).
Э. Дешан преподносит королю Карлу VI книгу своих стихов. Миниатюра из рукописи конца XIV в.
Э. Дешан принадлежит к той группе поэтов-горожан XIV в. (Машо, Фруассар, Христина Пизанская, Ален Шартье и др.), которые подвизались при различных влиятельных дворах, внося в придворную поэзию привычки и вкусы, характерные для выходцев из третьего сословия. Эти поэты заметно расширили тематический диапазон французской средневекой лирики.
Не ограничиваясь (подобно более ранним куртуазным поэтам) узким кругом любовных переживаний, они наполняли свою поэзию дидактическими, сатирическими или религиозными мотивами. Они охотно откликались на злобу дня (например, стихи Христианы Пизанской, посвященные победам Жанны Д'Арк), тяготели к реалистическим бытовым зарисовкам, обличали социальные язвы своего времени (см. приводимую балладу Дешана). Вместе с тем названные поэты стремились облечь свои произведения в очень стеснительную стихотворную форму. Чем более затейливой была эта форма, тем выше ее ставили поэты XIV в., усматривая в ней образец поэтического мастерства (ср. Поэтику Дешана). Для последователей Гильома де Машо поэзия была родной сестрой риторики. Они даже называли поэзию "второй риторикой", полагая, что у нее так же, как у риторики, есть свои правила и законы, которым обязан учиться поэт, если он хочет стать мастером своего дела.
Так, формалистические традиции куртуазной поэзии своеобразно сочетались с практицизмом и рассудочностью, характерными для мировоззрения и творчества поэтов-горожан позднего средневековья.
БАЛЛАДА
ВИРЕЛЭ
Карл Орлеанский
Карл Орлеанский (1390—1465)—один из крупнейших феодалов Франции—в битве при Азинкуре попал в плен к англичанам и провел 25 лет в заключении. Преимущественно на этот период падает его лирическое творчество, давшее значительное количество произведений.
Карл Орлеанский связан с «риторической» школой. Только поэзия его ограничена узким кругом чисто личных переживаний, среди которых любовь, как некогда у трубадуров, занимает господствующее место. Зато в качестве лирического поэта Карл Орлеанский превосходит многих французских стихотворцев XIV—XV вв. Его лучшие произведения, хотя и заключены в сложную поэтическую форму, отличаются большой задушевностью и неподдельным изяществом.
ПЕСНЯ
РОНДО
РОНДО
БАЛЛАДА
РОНДО
Вийон
Франсуа Монкорбье, по прозвищу Вийон (Villon) — наиболее самобытный и талантливый французский поэт позднего средневековья. Родился в 1431 г. в бедной семье, много испытал на своем веку. Еще будучи парижским школяром, Вийон во время драки убил ударом кинжала одного священника (1455). Вскоре его арестовывают за кражу. Он бежит из Парижа. С этого времени начинается его скитальческая жизнь. В 1457 г. он на краткий срок появляется при дворе Карла Орлеанского, где, между прочим, принимает участие в поэтическом состязании, устроенном владельцем замка. В дальнейшем Вийон сближается с ватагой бродяг и грабителей, не раз попадает в тюрьму, приговаривается к смертной казни. После 1463 г. его след теряется.
Творчество Вийона с большой поэтической силой отразило кризис традиционного средневекового мировоззрения. Оно отразило также глубокие социальные противоречия, раздиравшие Францию, которая только что вышла из опустошительной Столетней войны с Англией (1337—1453), осложненной крестьянскими и городскими восстаниями. Нищета широких народных слоев, голод и эпидемии сопровождали зарю нового времени. Продолжала бесчинствовать феодальная знать. Рушилась вековая мораль. Бродяжничество и разбой стали повседневным явлением.
Поэзия Вийона впитала в себя горечь тогдашней французской жизни. Она вся основана на резких диссонансах. Из царства аристократической куртуазии мы переносимся в шумный мир, наполненный терпкими запахами городской жизни, плебейским задором, гомоном улиц и разгулом кабака. Вийон разрушает традиционное благолепие куртуазной поэзии. Он с беспощадным реализмом показывает изнанку жизни, ее закоулки и мрачные углы. Нередко лиризм его окрашен в трагические тона. Многие стихотворения Вийона — это вопль человека, истерзанного превратностями судьбы и всяческими злоключениями. Вийон любит говорить о власти смерти, о бренности и быстротечности всего земного. В поисках утешения обращается он к мадонне. Однако менее всего Вийон был аскетом и праведником. Он не отвергает греховного мира и его соблазнов. Его влекут женская любовь, сытная пища и пьянящее вино. При этом его любовные порывы весьма далеки от платонических воздыханий куртуазных поэтов. Его любовь такая же бурная и неуемная, как и вся его жизнь. Да и среда Вийона совсем иная. Его прекрасные дамы — это дебелые трактирщицы и красотки притонов. Подчас Вийон, прикрываясь личиной скомороха, глумится над собой и над миром, но за гротескным сарказмом злополучного школяра все же таится мечта о простом человеческом счастье.
Вийоном написаны: «Малое завещание» («Lais», 1456), «Большое завещание» («Testament», 1461) и ряд отдельных баллад, в том числе несколько баллад на воровском жаргоне. Глубокий лиризм Вийона, поиски им новых художественных путей делают его предшественником поэтов эпохи Возрождения. В XVI в. творения Вийона высоко ценил великий французский гуманист Ф. Рабле.
ИЗ «БОЛЬШОГО ЗАВЕЩАНИЯ»
БАЛЛАДА О ДАМАХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
БАЛЛАДА ПРИМЕТ
БАЛЛАДА
поэтического состязания в Блуа[397]
БАЛЛАДА — ПОСЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ[398]
ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ ВИЙОН, ПРИГОВОРЕННЫЙ К ПОВЕШЕНИЮ
Немецкая литература
ЗАКЛИНАНИЯ
Приводимые ниже два заклинания записаны в X в. в одной рукописи богословских сочинений, принадлежавшей капитулу Мерзебургского собора. Сложены эти заклинания древним аллитерирующим ударным стихом: первое является заговором на удачное освобождение из плена, второе — на излечение от вывиха.
В одной трирской рукописи примерно в это же время записан христианизированный вариант второго заклинания, где Водан[399] и Бальдер[400] заменены Иисусом Христом и св. Стефаном. Впрочем, по мнению некоторых исследователей, в основе заговора лежит латинское заклинание, возникшее в христианской среде и видоизмененное лишь при переходе к германцам.
ПЕРВОЕ МЕРЗЕБУРГСКОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
ВТОРОЕ МЕРЗЕБУРГСКОЕ ЗАКЛИНАНИЕ
ПЕСНЬ О ХИЛЬДЕБРАНДЕ
«Песнь о Хильдебранде» — древнейшее произведение германской героической поэзии, единственный памятник немецкого эпоса в песенной форме. Героическое содержание древнегерманской поэзии, порожденной эпохой язычества, послужило причиной преследования ее со стороны католической церкви. В результате от богатого песенного творчества южных германских племен, образовавших позже немецкую нацию, сохранился лишь фрагмент «Песни о Хильдебранде», случайно уцелевший на страницах обложки трактата богословского содержания. Рукопись найдена в Фульде, она относится к началу IX в. и представляет собой копию более древнего оригинала, выполненную двумя не весьма искусными переписчиками. События «Песни о Хильдебранде», как и всего немецкого эпоса, относятся к бурной эпохе «великого переселения народов», когда германские племена вторглись в Италию и основали на обломках рухнувшей Римской империи свои первые варварские королевства. Историческая основа «Песни о Хильдебранде» — борьба основателя остготского государства в Италии Теодориха Великого (ок. 452—526 гг.), которого немецкий эпос воспевает под именем Дитриха Бернского, с Одоакром, низложившим в 476 г. последнего западноримского императора. Упоминающийся в песне властитель гуннов — Аттила, их знаменитый предводитель (с 433 по 453 г.). В «Песни о Хильдебранде» искажены отношения между историческими персонажами и нарушена хронология, но произведение хранит духтой грозной эпохи. По «Песни о Хильдебранде» Отахр (Одоакр) изгоняет Дитриха. Вместе с Дитрихом уходит в изгнание предводитель его дружины Хильдебранд, покидая на родине жену и маленького сына. Они отправляются на восток и попадают к гуннам, поступая на службу к Аттиле. Такова предыстория событий, изображаемых в «Песни о Хильдебранде». Через 30 лет, проведенных на чужбине, Хильдебранд, богато награжденный властителем гуннов, появляется вновь у границ отечества, чтобы с помощью войска гуннов прогнать Одоакра и вернуть Дитриху его владения. По обычаю, сражению между войсками предшествует единоборство их лучших воинов. Так встречаются на поединке Хильдебранд и Хадубранд, бойцы враждебных ратей. Задав по старшинству первым вопрос о роде-племени, Хильдебранд узнает из ответа противника, что перед ним собственный сын. Тема битвы отца с сыном — широко распространенный у различных народов эпический сюжет. Своеобразие его разработки в «Песни о Хильдебранде» состоит в обострении драматизма ситуации. Трагична судьба Хадубранда, не узнавшего отца и не поверившего ему. Еще трагичнее фигура старого Хильдебранда, вынужденного сражаться с людьми своего народа. Ретаясь на смертельный поединок с сыном, Хильдебранд должен порвать узы кровного родства. Он остается верен Дитриху, с которым его связывают обязанности приближенного.
Таким образом, в «Песни о Хильдебранде» первый закон зарождающихся феодальных отношений — закон верности князю — вступает в резкий конфликт с моральными нормами общества, основанного на кровнородственных связях. Утверждая победу новой морали и показывая в то же время, в каком глубоком противоречии с человеческими чувствами находятся ее требования, «Песнь о Хильдебранде» отражает перспективу общественного развития в восприятии народных масс.
Эпический сюжет «Песни о Хильдебранде», образы героев, фаталистическая концепция судьбы, эпические мотивы и вся система художественных средств (традиционный зачин, богатство синонимики, умеренное применение вариации, лаконизм языка, стремительное развитие сюжетного действия, движимого речами героев, преобладание диалогической формы над повествовательной, аллитерационный стих) делают «Песнь о Хильдебранде» образцом древнегерманской героической песни[407].
Упражнения в бросании камня и метании дрота. Из мюнхенской рукописи «Романа о Тристане».
ПЕСНЬ О ЛЮДВИГЕ
«Песнь о Людвиге» (рукопись IX в.) написана рифмованным стихом (причем рифмуется конец первого и второго полустишия длинной строки) на рейнско-франкском диалекте по случаю победы Людовика III над норманнами 3 августа 881 г. Она представляет собой сплав духовного стиха эпической песни, будучи создана в стиле фольклорной традиции, по образцу не сохранившихся хвалебных песен, о которых до нас дошли лишь исторические и литературные свидетельства.
«Песнь о Людвиге» написана по горячим следам исторического события: воздавая хвалу Людвигу, автор желает ему многие лета, в то время как уже через год после битвы при Сокуре молодой король умер, по всей вероятности, от ран, полученных в сражении. Нашествие норманнов, о котором идет речь в «Песни», было обычным набегом викингов, а сражение — основная ее тема — небольшим столкновением, победа в котором не положила конца пиратским походам скандинавов в прибрежные области Германии. Став темой «Песни», битва при Сокуре изображается гиперболизированно, средствами эпической стилизации. Это жаркая схватка, в которой франки проявляют отменную храбрость, боевое воодушевление и другие воинские доблести. На их стороне бог, он помогает франкам одержать победу над язычниками. Художественная функция придания Людвигу черт христианина состоит в создании героической идеализации. Отсутствие трагической коллизии в песне приводит к исчезновению драматизма повествования, что отражается на композиции произведения: резко уменьшается доля диалога по сравнению с героической песнью. Трагический драматизм поэзии периода крушения родового строя («Песнь о Хильдебранде») сменился историческим оптимизмом побеждавшей государственности в «Песни о Людвиге». Вместо концентрации драматической напряженности «Песни о Хильдебранде» всей системой композиционных и стилистических средств, структурой фразы «Песни о Людвиге» достигается настроение победной бодрости, впечатление ясной четкости, легкости. Немало способствует мажорному звучанию песни замена аллитерационного стиха конечной рифмой[413].
ВЕССОБРУНСКАЯ МОЛИТВА
«Вессобрунская молитва» (рукопись последней трети VIII в. или начала IX в.) обращает на себя внимание сходством с эддической песнью мифологического цикла «Прорицание вёльвы», рисующей космогоническую картину: изначальное состояние мира. Духовная литература раннего средневековья приобрела своеобразные черты, отражая переосмысление христианства в духе мифологических представлений. Она представляет собой смесь христианской дидактики с элементами народной поэзии. В палитре безымянных мастеров слова есть краски, исчезнувшие в последующие столетия средневековья.
В первой части стихотворения, условно названного «Вессобрунской молитвой», перечисляются части окружающего мира, притом традиционные для языческого культа (земля и небо, солнце, луна и звезды), а также картины родной природы: лес, горы и прекрасное море. Здесь царит настроение радости познания и восприятия зримого мира. Вводная формула представляет собой традиционный эпический зачин. Не из церковных книг узнал безымянный автор «Вессобрунской молитвы» древнюю историю земли, ему поведали это мудрые люди.
Всей своей гармонией и поэтичностью стихотворение обязано традиционным художественным приемам народной поэзии[415].
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
ПЕСНЬ О НИБЕЛУНГАХ
«Песнь о Нибелунгах» (около 1200 г.) — крупнейший памятник немецкого народного героического эпоса. Сохранившиеся 33 рукописи представляют текст в трех редакциях: «А» — самой сжатой, «В» и «С» — самой распространенной. Это расхождение редакций вызвало в свое время спор между исследователями о наиболее древней редакции. Известный немецкий филолог К. Лахман (1793—1851) отстаивал наибольшую достоверность «А». Новейшие исследователи высказались за наибольшую близость «В» к прототипу. С редакции «В» сделан и русский перевод.
В основе «Песни о Нибелунгах» лежат древние германские сказания, восходящие к событиям периода Варварских нашествий.
Исторической основой поэмы является гибель Бургундского царства, разрушенного в 437 г. гуннами. В поэме, сложившейся около 1200 г., эти события получают новое осмысление, да и весь бытовой колорит «Песни» в гораздо большей мере связан с феодально-рыцарской Германией XII в., чем с жизнью варварских племен V в. Рыцарские обычаи, как это изображается в поэме, царят при дворе бургундских королей. В облике юного рыцаря выступает храбрый и великодушный Зигфрид, полюбивший прекрасную Кримхильду по слухам о ее красоте. Поэт не упускает случая сообщить о пышных рыцарских празднествах и забавах, о рыцарском придворном вежестве, о роскошных нарядах дам и т. п.
При всем том блестящие картины рыцарского быта — это только внешняя сторона «Песни». Под этой блестящей оболочкой таятся события, исполненные глубокого трагизма. Трагична судьба «молодого героя» Зигфрида, который становится жертвой подлого предательства. Трагична судьба Кримхильды, счастье которой грубо разрушают Гунтер, Брюнхильда и Хаген. Трагична судьба бургундских королей, погибающих на чужбине, а также ряда других персонажей поэмы. Цепь кровавых событий начинается с гибели Зигфрида, который падает жертвой феодального самоуправства, не брезгающего никакими средствами. Характерно, что подлое убийство совершает Хаген фон Тронье — преданный вассал бургундских королей, не преследующий в данном случае никаких личных целей. Он только выполняетдолг вассала. В «Песни о Нибелунгах» мы находим правдивую картину злодеяний феодального мира, предстающего перед читателем как некое мрачное разрушительное начало, а также осуждение этих столь обычных для феодализма злодеяний. И в этом прежде всего проявляется народность немецкой поэмы, тесно связанной с традициями немецкого былевого эпоса. В поэме выступает ряд персонажей (Хаген, Дитрих Бернский, Хильдебранд, Этцель), известных нам по другим средневековым героическим поэмам.
С народным героическим эпосом связывают «Песнь о Нибелунгах» также и могучие монументальные образы, которыми так восхищался Г. Гейне. В то же время как в языке (наличие галлицизмов), так и в поэтической форме уже сказываются веяния куртуазно-рыцарского периода. Поэма сложена не древним аллитерирующим стихом, а строфами из четырех стихов, рифмующихся попарно; каждый стих распадается на два полустишия, первое из которых всегда четырехударно со спондеическим (двухударным) исходом, второе же имеет три ударения в трех первых стихах и четыре — в четвертом. Подобная строфа встречается у ранних миннезингеров (см. ниже лирику Кюренбергера).
Авентюра I
Погибли многие за то, что принял смерть один приехал ко двору Гунтера (авентюры II и III). Гунтер принимает радушно Зигфрида; прожив при дворе его год, последний принимает участие в походе против короля саксов, объявившего Гунтеру войну; IV авентюра повествует о том, «как он бился с саксами» и, одержав победу, вернулся в Вормс, где его удерживает любовь к еще не виданной им Кримхильде.)
Авентюра V
О ТОМ, КАК ЗИГФРИД ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛ КРИМХИЛЬДУ
Авентюра VI
О ТОМ, КАК ГУНТЕР ПОЕХАЛ В ИСЛАНДИЮ ЗА БРЮНХИЛЬДОЙ
(Окончив сборы, бойцы сели на корабль и поплыли вниз по Рейну; при этом Зигфрид уговорил всех выдавать его за вассала Гунтера. Скоро прибыли они в прекрасный замок Брюнхильды. Неприветливо, однако, встретила Брюнхильда гостей.)
Авентюра VII
О ТОМ, КАК ГУНТЕР ДОБЫЛ БРЮНХИЛЬДУ
(Опасаясь предательского нападения со стороны родичей Брюнхильды, бургунды посылают Зигфрида за подкреплением: он приводит тысячу бойцов из подвластного ему края Нибелунгов, после чего спешит впереди свадебного поезда гонцом в Вормс (VIII и IX авентюры). Пышная встреча ожидала Брюнхильду в Вормсе; Зигфрид же получил от Гунтера обещанную награду, и обе молодые пары сели за пиршественный стол.)
Авентюра Х
О ТОМ, КАК БРЮНХИЛЬДУ ПРИНЯЛИ В ВОРМСЕ
(Однако объяснение Гунтера не смогло унять слез Брюнхильды. После свадебного торжества ей чуть было не открылся обман: в первую брачную ночь Гунтер не смог совладать с неприступной богатыршей, и лишь с помощью Зигфрида в плаще-невидимке одолел он ее во вторую ночь. Зигфрид же незаметно снял с Брюнхильды пояс и перстень и скрыл их у себя (X авентюра). Девять лет счастливо прожили Гунтер и Зигфрид со своими женами; на десятый год Зигфрид, по приглашению Гунтера, приехал с Кримхильдой погостить в Вормс (XI, XII, XIII авентюры).)
Авентюра XIV
О ТОМ, КАК КОРОЛЕВЫ ПОССОРИЛИСЬ
(Порешив убить Зигфрида, Хаген хитростью выманил у Кримхильды признание об уязвимом месте на теле Зигфрида.)
Кнехты, вооруженные луком и копьем. Рисунок пером из французской рукописи.
Авентюра XV
О ТОМ, КАК ЗИГФРИД БЫЛ ПРЕДАН
Авентюра XVI
О ТОМ, КАК ЗИГФРИД БЫЛ УБИТ
Авентюра XVII
О ТОМ, КАК ЗИГФРИД БЫЛ ОПЛАКАН И ПОГРЕБЕН
(Схоронив Зигфрида, овдовевшая Кримхильда осталась жить у братьев, внешне примирясь с ними, но затаив в душе ненависть против убийц мужа. Из земли Нибелунгов привезли несметный клад, который Зигфриддарил ей как брачный дар. Но воспользовавшись отъездом Гунтера в поход Хаген погрузил в воды Рейна сокровище Нибелунгов, обездолив вдову. Так прожила она у братьев тринадцать лет, непрестанно горюя об убитом муже (авентюры XVIII—XIX). Тогда к Кримхильде посватался овдовевший языческий король Этцель (Аттила); не хотелось Кримхильде идти за него, но братья уговорили ее, и пышно была сыграна свадьба (авентюры XX, XXII). На тринадцатый год своего брака уговорила Кримхильда Этцеля пригласить к себе ее родичей; гонцам же она наказала обязательно пригласить и Хагена (XXIII авентюра). Доверчиво последовали братья зову сестры, как ни отговаривал их от поездки Хаген (XXIV авентюра). Не удержал их и зловещий сон матери Уты.)
Авентюра XXV
О ТОМ, КАК НИБЕЛУНГИ ЕХАЛИ К ГУННАМ[423]
(После нескольких приключений (авентюры XXVI—XXVII) бургундские витязи, не послушавшись предостережений Дитриха Бернского, явились ко дворцу Этцеля. Однако они держались настороже: не сдали оружия, в отведенной им для ночлега палате поставили часовых у дверей (авентюры XXVIII—XXX), а на следующий день в церковь пошли в полном вооружении. Предосторожность оказалась не лишней: во время пира действовавшие по наущению Кримхильды гунны напали на палату, где пировали бургундские кнехты, и перебили их; тогда уцелевший от побоища маршал Данкварт пробился в залу, где пировали князья, и объявил им об измене. Началась в чертоге страшная резня; первым ударом Хаген убил младенца Ортлиба, сына Этцеля. Лишь благодаря Дитриху Бернскому удалось спастись из залы Этцелю и Кримхильде (авентюры XXXI—XXXIII). Отдельные перипетии боя рисуют авентюры XXXIV—XXXV.)
Знатная дама и рыцарь за игрой в шахматы Из большой гейдельбергской рукописи XIV в.
Авентюра XXXVI
О ТОМ, КАК КОРОЛЕВА ПРИКАЗАЛА ПОДЖЕЧЬ ЗАЛ
(Убедясь в невозможности одолеть бургундов мечом и огнем, гунны и их союзники стали посылать против них лучших из бойцов: благородного графа Рюдигера, павшего в том бою (авентюра XXXVII), старого Хильдебранда (авентюра XXXVIII) и, наконец, Дитриха Бернского, который не может не отомстить за гибель всей своей дружины.)
Авентюра XXXIX
О ТОМ, КАК ДИТРИХ БИЛСЯ с ГУНТЕРОМ И ХАГЕНОМ
КУРТУАЗНЫЙ ЭПОС
Гартман фон дер Ауэ
Гартман фон дер Ауэ (около 1170—1210 гг.) — швабский рыцарь, вассал владетеля замка Ауэ, участник крестовых походов, один из наиболее видных куртуазных эпиков и лириков средневековой Германии. Стремясь воспитать немецкое рыцарство в духе новой куртуазной морали, покоящейся на принципе «меры», Гартман переводит на немецкий язык романы Кретьена де Труа («Эрек», около 1190 г., и «Ивейн», около 1200 г.). При этом он требует, чтобы в основе рыцарского подвига лежали не эгоистические, но гуманные побуждения, вступая, таким образом, в противоречие с реальной действительностью, основанной на частном феодальном интересе и жестоком кулачном праве. Стремясь преодолеть это противоречие, Гартман переносит вопрос о рыцарском долге в сферу религиозных представлений, видя в благочестии и христианском смирении путь к преодолению феодального эгоизма. Но, конечно, путь, избранный Гартманом, был чисто иллюзорным, поскольку христианство никогда не препятствовало утверждению феодального своекорыстия чувств.
Под пером Гартмана куртуазный роман приближается к религиозной житийной литературе, а житийная литература облекается в куртуазные формы. Об этом свидетельствуют духовная поэма «Григорий Столпник», а также наиболее самобытное создание Гартмана — стихотворная повесть «Бедный Генрих» (90-е годы XII в.). В этой повести рассказывается о знатном рыцаре Генрихе, которому при всех его куртуазных добродетелях недоставало благочестия. Он был счастлив, однако счастье свое он приписывал не богу, но только своим личным достоинствам. За это «высокомерие» бог поразил Генриха проказой. Вынужденный покинуть дом и близких, Генрих находит приют в хижине своего арендатора-крестьянина, юная дочь которого самоотверженно ухаживает за больным. Она даже решает отдать жизнь за Генриха, когда узнает, что врачи обещают прокаженному выздоровление, если его тело будет омыто кровью невинной девушки. Генрих уже готов принять эту жертву. Но в самый последний момент его охватывает глубокое раскаяние. Он познает греховность своего поведения, отказывается от жертвы и решает терпеливо сносить уготованные ему страдания. За это бог прощает его прегрешения, Генрих чудесным образом исцеляется и женится на самоотверженной девушке. Как видим, повесть Гартмана очень близка к религиозной легенде. Вместе с тем в основе «Бедного Генриха» лежит вполне мирская мысль о безобразии себялюбия и красоте альтруизма. Простая крестьянская девушка, способная на великую жертву, является подлинной героиней произведения. Вопреки всем сословным традициям Гартман ставит эту простолюдинку выше представителей феодального мира, что придает повести необычный для куртуазного эпоса демократический оттенок.
Другая особенность повести заключается в том, что в ней почти полностью отсутствует фантастический элемент, столь излюбленный в куртуазном эпосе. Повесть носит в значительной мере «бытовой» характер. По ясности изложения, легкости ритма и богатству рифмы Гартмана фон дер Ауэ из немецких куртуазных поэтов превосходит только Готфрид Страсбургский.
БЕДНЫЙ ГЕНРИХ
Вольфрам фон Эшенбах
Для уроженца Баварии, рыцаря Вольфрама фон Эшенбаха (около 1170—1220 гг.), так же как для Гартмана фон дер Ауэ, светский рыцарский идеал неотделим от идеала религиозного. Об этом свидетельствует крупнейшее произведение Вольфрама — роман «Парцифаль» («Parzival», около 1200—1210 гг.), примыкающий к эпическому циклу св. Грааля. Роман повествует о судьбе простодушного рыцаря Парцифаля, воспитанного матерью в лесу. Пройдя целый ряд испытаний, он становится хранителем таинственного Грааля и главой рыцарского братства тамплиеров (храмовников).
Мотив Грааля, видимо, почерпнут Вольфрамом у Кретьена де Труа («Персеваль»). У последнего Грааль — это священный сосуд, у Вольфрама же — это драгоценный камень, который, как скатерть-самобранка в народной сказке, насыщает каждого по его желанию, дает людям силы и блаженство. Используя народные сказочные мотивы, Вольфрам вместе с тем заметно усиливает мистическое звучание легенды о Граале. Однако главное внимание поэта сосредоточено на истории простака Парцифаля, которая раскрывается как история духовного роста героя романа, поставленного между условностями феодально-рыцарского этикета и требованиями естественной человечности. Парцифаль проходит извилистый жизненный путь, пока не достигает высшей степени духовного совершенства. Источником этого совершенства является человеколюбие. В апофеозе осознанной естественной человечности и заключается главная мысль романа Вольфрама. Еще будучи ребенком, живя вместе с матерью в лесу, Парцифаль обнаруживал добрые чувства (см. приводимый отрывок). Но это был только голос сердца, не подкрепленный доводами разума. Лишь соприкоснувшись с миром людей, созрел он как человек. Увидев людское страдание, он уразумел, что есть в мире нечто более высокое, чем заветы рыцарской куртуазии.
Значительную роль в духовной истории Парцифаля отводит Вольфрам религиозному элементу. Однако религиозные взгляды Вольфрама вовсе не совпадают с официальной церковной идеологией. Он не стоит на почве аскетического мировоззрения, подчас его религиозные взгляды окрашиваются в пантеистические тона, ему присуща также широкая веротерпимость, не знающая расовых предрассудков средних веков. В 1882 г. Р Вагнер по мотивам романа написал свою оперу «Парцифаль».
Н. Г. Чернышевский, говоря о выдающихся поэтах далекого прошлого, устарелый язык которых не позволяет нам «наслаждаться» их творениями «так свободно, как наслаждались их современники», называет Вольфрама наряду с Данте и Шекспиром («Эстетические отношения искусства к действительности». Полн. собр. соч. Т. II. М., 1949. С. 50).
Приводимый ниже отрывок из третьей книги романа рисует детство Парцифаля и его первую встречу с рыцарями. Парцифаль — сын короля Гахмурета, погибшего в рыцарском бою. Желая уберечь сына от подобной участи, мать воспитывает Парцифаля в лесу, вдалеке от рыцарских замков.
ПАРЦИФАЛЬ
Готфрид Страсбургский
Горожанин Готфрид Страсбургский (умер около 1220 г.) в отличие от Вольфрама является представителем чисто светского течения немецкой куртуазной поэзии. Он решительно выступает против «темного», насыщенного мистическими образами и мотивами стиля Вольфрама, называя автора «Парцифаля» «слагателем диких сказаний». Он не ищет путей к богу, его не привлекают «таинственные» легенды о Граале. В своем единственном романе «Тристан и Изольда» он обращается к истории двух молодых людей, отстаивающих свое право на земное счастье.
Под пером Готфрида старинное народное сказание превращается в волнующую повесть о пылкой любви, на пути которой стоят обычаи и представления феодального общества. В его истолковании любовь Тристана и Изольды не адское наваждение (как у более раннего поэта Эйльхарта), но великое чувство, естественно овладевающее всем существом человека. И трагическая вина молодых любовников коренится не в греховной природе человека, которую издавна третировала церковь, но в бесчеловечности феодального общества, в котором взаимная любовь возможна только в форме незаконной связи. Предвосхищая выступления гуманистов против феодально-церковной морали средних веков, Готфрид ратует за право человека на земное счастье, за право естественной любви, не скованной феодальными нормами. В этом уже ясно сказываются веяния новых воззрений на жизнь, зарождавшихся в городах. Привлекает Готфрида также чувственное великолепие земного мира. Он любит женскую красоту, нарядные одежды, цветущую, радостную природу. Ясность и изящество составляют характерную особенность его куртуазного стиля.
Готфриду не удалось закончить роман. Недостающие главы были написаны последователями Готфрида — поэтами Ульрихом фон Тюргеймом и Генрихом фон Фрейбергом. Опираясь на роман Готфрида, Р Вагнер написал свою оперу «Тристан и Изольда».
Тристан играет на арфе. Из мюнхенской рукописи «Романа о Тристане».
ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА
МИННЕЗАНГ
Миннезанг (Minnesang) — термин, введенный немецкими учеными в XVIII в. для обозначения немецкой средневековой рыцарской лирики. По своему характеру миннезанг близок к поэзии трубадуров и труверов, хотя и обладает рядом своеобразных черт. Так, в немецкой куртуазной поэзии чувственный элемент играет значительно меньшую роль, чем в поэзии романской. Немецкие поэты более склонны к рефлексии, морализации, к перенесению житейских проблем в сферу умозрительных спекуляций. Их гедонизм обычно носит более сдержанный характер. Многие произведения их окрашиваются в религиозные тона. Однако, несмотря на свою абстрактность, миннезанг, подобно поэзии романской, сыграл все же известную роль в деле секуляризации средневековой культуры. Нередко в произведениях миннезингеров слышалось живое биение простого человеческого сердца, нередко звучали в нем звонкие голоса природы.
Основной формой куртуазной лирики, культивировавшейся миннезингерами XII—XIII вв., является строфическая песня (Lied). Песня может состоять из одной или из ряда одинаковых строф. По тематическим признакам среди песен выделяются:
1. Плясовые песни (Reigen, Winterlied, Tanzlied), по своим сюжетным компонентам во многом соприкасающиеся с пасторелей (см. раздел «Провансальская литература») и рисующие веселье, споры крестьянских девушек и парней и столкновение с ними рыцаря-поэта;
2. Утренняя песня (Tagelied), совпадающая с провансальской альбой;
3. Крестовая песня (Kreuzlied), призывающая к участию в крестовых походах и изображающая переживания крестоносца.
Наличие диалогической формы изложения выделяет так называемый Wechsel, представляющий обычно обмен строфами рыцаря и его дамы.
Другим особенно культивировавшимся миннезингерами жанром является нестрофический шпрух (Spruch — изречение), усвоенный ими от шпильманов и становящийся излюбленной формой политической и поучительно-сатирической поэзии.
Меньшее значение имеет так называемый лейх (Leich), представляющий сложное объединение различных по строению строф и связанный по происхождению с латинским гимном.
Большая часть лирических произведений, дошедших до нас, приписывается определенным миннезингерам — как знатным рыцарям, так и незнатным министериалам и шпильманам.
KUME, KUM, GESELLE MIN...
Одна из анонимных песен, записанная среди латинских стихотворений знаменитого собрания вагантской роэзии — рукописи, известной под названием «Carmina burana» (начало XIII в.), но воспроизводящей тексты более ранней поры.
DU BIST MIN, ICH BIN DIN...
Стихи, приведенные в конце латинского любовного письма, написанного неизвестной монахиней монаху Берингеру из Тегернзе (XII в.). Два первых стиха представляют собой форму обручения.
Кюренбергер
Образцы миннезанга начинаются песнями, дошедшими под именем Кюренбергера (вторая половина XII в.). Засвидетельствовано несколько лиц с этим именем среди служилых дворян в Австрии и Баварии, но ни с одним из них не удается бесспорно отождествить поэта. Однако и тематика (использование фольклорных мотивов — I, ироническое отношение к служению даме — II), и форма (эпическая строфа, неточная рифма) свидетельствуют о далеко не достаточном знакомстве поэта с требованиями куртуазной поэзии.
Дитмар фон Айст
Самая ранняя из дошедших до нас утренних песен (Tagelied), разрабатывающая тему еще не по канонам куртуазной альбы (влюбленных будит не друг или страж своей песней, а птичка), приписывается Дитмару фон Айсту (имя Дитмара фон Айста встречается в документах середины XII в.).
Как и утренняя песня Дитмара, его женская песня тесно соприкасается с фольклором.
Генрих фон Фельдеке
Сатирическая песенка о женском легкомыслии принадлежит основоположнику куртуазного стиля в немецкой и нидерландской литературе фламандскому рыцарю Генриху фон Фельдеке (вторая половина XII в.), автору эпоса «Энеида», разрабатывающего тему, заимствованную из античного эпоса.
В отличие от более ранних миннезингеров, охотно заимствующих свои сравнения из фольклора, Фельдеке обращается к образам куртуазного эпоса.
Фридрих фон Хаузен
Куртуазная обработка мотивов крестовой песни (Kreuzlied) представляет собой подражание песне французского трувера Конона де Бетюна (см. раздел «Французская литература») и принадлежит рыцарю Фридриху фон Хаузену, занимавшему видные должности при дворе императоров Генриха VI и Фридриха I. Он принял участие в крестовом походе и погиб в сражении с турками в мае 1190 г., по свидетельству хроники.
Генрих фон Морунген
Обработка мотивов утренней песни (Tagelied) в форме так называемого Wechsel — «обмена» строф, произносимых по очереди рыцарем и дамой, — принадлежит рыцарю Генриху из рода Морунген в Верхней Саксонии, имя которого засвидетельствовано в документах начала XII в.
Рейнмар Старый
Типичный образец тематики «высокой любви» (hohe minne, провансальской fin amor), эта песня принадлежит Рейнмару, австрийскому рыцарю из рода Хагенау, участнику третьего крестового похода (жил во второй половине XII — начале XIII в.).
Соколиная охота. Миниатюра из большой гейдельбергской рукописи XIV в.
Гартман фон дер Ауэ
Песня Гартмана интересна своим осуждением «высокой любви» — куртуазного служения даме. Восхваляя любовь к простой, но преданной девушке, поэт выступает, таким образом, от своего лица с теми же мыслями, которые он вложил в уста «Бедного Генриха».
Вальтер фон дер Фогельвейде
Приводимые далее семь произведений принадлежат крупнейшему из миннезингеров — Вальтеру фон дер Фогельвейде (около 1160—1230 гг.), профессиональному поэту, переходившему от одного княжеского двора к другому и деятельно участвовавшему в основных политических распрях того времени — в споре претендовавших на самостоятельность германских епископов с папой и в борьбе вельфов и гогенштауфенов.
Начав как ученик миннезингера Рейнмара фон Хагенау с воспевания «высокой» рыцарской любви, Вальтер впоследствии сблизился с народной песенной лирикой, а также с жизнерадостной поэзией вагантов. Вальтер стремится спустить любовь с заоблачных высот на землю. Для него любовь — это «блаженство двух сердец», одно сердце не может ее вместить. При этом простое слово «женщина» (wtip) он предпочитает слову «госпожа» (frouwe). И героиней его песен подчас выступает не знатная, надменная дама, заставляющая страдать влюбленного, но простая девушка, сердечно отвечающая на чувства поэта. Лучшие лирические стихотворения Вальтера отличаются ясностью и простотой выражения, безыскусным . изяществом, музыкальностью стиха, непосредственностью и теплотой чувства.
Но Вальтер проявил себя не только в области любовной лирики. Он был также выдающимся политическим поэтом, откликавшимся на различные злободневные события того времени. Он резко нападал на папский Рим, обличая его необузданное корыстолюбие, его стремление обобрать немцев и подчинить их своему господству. Он восставал также против феодальных междоусобий, разгоревшихся в Германии после смерти единственного сына Фридриха Барбароссы Генриха VI. Он горячо любил свою отчизну и с горькой иронией описывал, как коварный папа Иннокентий III втихомолку смеется над немцами, наполняющими свою страну раздорами, а папскую казну деньгами (см. стих V). Инвективы Вальтера отражали рост антипапских настроений в широких общественных кругах Германии, которая со временем пришла к Реформации.
Вальтер фон дер Фогельвейде. Миниатюра из большой гейдельбергской рукописи XIV в.
Стихотворение I — образец тематики чувственной любви (провансальской fol amor), обработанный в форме монолога героини (так называемая женская песня — Frauenlied).
II—III — образцы тематики «высокой любви».
Следует отметить, что любовные песни относятся в большинстве к раннему периоду творчества Вальтера, связанному с его пребыванием при венском дворе герцога Фридриха Католического.
IV—VII — образцы политического шпруха.
Шпрухи IV и V связаны с борьбой гогенштауфена Филиппа Швабского и вельфа Оттона IV. В этой борьбе Вальтер поддерживал гогенштауфенов, и шпрух IV имеет своей целью доказать законность претензий Филиппа. Дело в том, что Оттон короновался на три месяца раньше, чем Филипп (в июле 1198 г.), но в Аахене, где не было подлинных имперских клейнодий; Филипп же короновался в Майнце в сентябре 1198 г. подлинной короной. Таким образом, восхваляя венец Филиппа, Вальтер подчеркивает законность его коронования. В шпрухах V—VI ответственность за междоусобную войну в Германии поэт, не без основания, возлагает на папу.
Шпрух VII направлен против сбора пожертвований на крестовые походы, организованного папой Иннокентием III в 1213 г. Пожертвования должны были собираться в особые ящики, ключи от которых находились на хранении у двух представителей духовенства — белого и черного — и у одного мирянина. Разоблачительная речь поэта и адресована такому ящику (в подлиннике — Stock).
Вольфрам фон Эшенбах
Утренняя песня Вольфрама фон Эшенбаха развертывает типичную ситуацию альбы в форме Wechsel — спора стража (ст. 1, 3) и дамы (ст. 2, 4), за которым следует короткий рассказ поэта (ст. 5). Глубоко своеобразным, характерным для Вольфрама является образ рассвета в виде страшного чудовища, рассекающего своими когтями-лучами тучи, которым начинается утренняя песня.
Нейдгарт фон Рейенталь
Образец плясовой песни — «хоровода» (Reigen) — принадлежит баварскому рыцарю Нейдгарту фон Рейенталю (около 1180—1250 гг.), крупнейшему представителю так называемого сельского миннезанга (hofische Dorfpoesie).
Это направление миннезанга, возникшее в период начинающегося упадка немецкого рыцарства и его культуры, порывает с традициями «высокой» куртуазной любви. Оно вводит в миннезанг грубоватые картины повседневной крестьянской жизни, а также использует народную плясовую песню, однако жизнь народа представителями сельского миннезанга изображается обычно с антидемократических феодальных позиций, народная же плясовая песня охотно пародируется ими.
Диалогическая форма изложения — спор матери с дочерью, старухи с молодой или двух подруг — типична для этого жанра лирики. Выпады против крестьян, довольно частые в «Зимних песнях» («Winterlieder») Нейдгарта, послужили основой для создания в XIV в. авантюрно-сатирической стихотворной повести «Нейдгарт с мужиками» («Neidhart mit den Bauern»),
Готфрид фон Нейфен
Поэт середины XIII в. Готфрид фон Нейфен выступает как представитель так называемого сельского миннезанга, продолжая манеру Нейдгарта. В своих песнях он еще шире, чем Нейдгарт, привлекает бытовые мотивы из крестьянской жизни, как показывает приводимая здесь песенка.
ЛИТЕРАТУРА ГОРОДСКОГО СОСЛОВИЯ
Штрикер
Штрикер (XIII в.) — странствующий поэт, проявил себя в различных литературных жанрах. Его самым значительным созданием, оставившим глубокий след в истории немецкой литературы, является сборник веселых, насмешливых шванков «Поп Амис» («Pfaffe Amis»), в центре которого стоит фигура ловкого смышленого попа, одного из предшественников неугомонного Тиля Эйленшпигеля. Повествуя о похождениях Амиса, Штрикер изображает различные стороны европейской жизни XIII в.
Подчас книга приобретает сатирический оттенок. Поэт осмеивает алчность высшего католического клира, кичливость феодальных кругов, средневековые суеверья, схоластические мудрствования и т. п. При этом из всего умеет извлечь для себя пользу смышленый Амис. Книга Штрикера представляет собой апофеоз смекалки, находчивости и лукавства, этих новых бюргерских добродетелей, ведущих человека по пути материального успеха. В мире плутовства Амис чувствует себя столь же легко и уверенно, как герои куртуазных романов чувствовали себя в мире рыцарских авантюр.
В известной мере книга Штрикера является и своего рода вызовом, брошенным бюргерским поэтом куртуазному рыцарскому роману. Рыцарской романтике, куртуазной героике и культу изящного противопоставлена здесь реальная жизнь в ее повседневном обличии, шутовской юмор, трезвый, практический взгляд на мир. Многие проделки попа Амиса были впоследствии приурочены к другим литературным героям (например, к Тилю Эйленшпигелю).
ПОП АМИС
[НЕВИДИМАЯ КАРТИНА]
[АМИС-ЧУДОТВОРЕЦ]
Фрейданк
Фрейданк (XIII в.) — странствующий поэт, наиболее значительный представитель немецкой бюргерской дидактической поэзии XIII в. Между 1225 и 1240 гг. он составил сборник рифмованных изречений «Разумение» («Bescheidenheit»), Черпая из различных источников, Фрейданк с особой охотой обращался к мудрости народа, облекая свои мысли в форму метких пословиц и поговорок, из которых многие стали достоянием последующих поколений. Свою задачу Фрейданк видел в том, чтобы бичевать пороки современного ему общества, исправлять нравы и откликаться на злобу дня. Высоко ставя бескорыстную дружбу, прямодушие, верность, филантропию и искреннюю любовь, он в то же время решительно выступал против брака по расчету, против своекорыстия чувств, лжи, алчности, лицемерия, зависти и других людских пороков.
Нередко Фрейданк затрагивал вопросы, имевшие большое общественное значение. Так, он обрушивался на князей, которые свои личные интересы ставят выше интересов государства, наполняют страну смутами, грабежом и насилием. Не ограничиваясь критикой князей, Фрейданк обращал свои удары против всех сильных мира сего; он был твердо убежден, что если бы высокое общественное положение основывалось на личных достоинствах человека, то «многие господа стали бы холопами, а многие холопы превратились бы в господ». Ведь истинное благородство заключено не в знатности рода, но в добродетели. Фрейданк сетует на то, что феодалы сооружают замки, чтобы «душить бедных людей», что под блестящими одеждами нередко таятся пороки и преступления. Он ясно видит также, что дурные нравы свили себе гнездо в монастырях, что папская курия превратилась в рассадник всевозможных пороков. В период, когда папство вело борьбу с империей, Фрейданк страстно обрушивается на папский Рим, интригующий против светской власти, выкачивающий из Германии огромные богатства.
ИЗ КНИГИ «РАЗУМЕНИЕ»
О РИМЕ
Вернер Садовник
Об авторе первой немецкой крестьянской повести Вернере Садовнике ничего неизвестно. Вероятно, он был баварцем или австрийцем. Вряд ли он принадлежал к рыцарскому сословию. Во всяком случае в своей стихотворной повести, написанной во второй половине XIII в., он резко осуждает моральную деградацию современного рыцарства и высоко поднимает крестьянский труд. В историко-литературном плане «Крестьянин Гельмбрехт» является своего рода вызовом, брошенным куртуазному роману с его далеко идущей идеализацией рыцарства, сказочной фантастикой и изысканностью поэтической формы. В повести Вернера Садовника жизнь изображена без прикрас. Симпатии автора всецело на стороне честного и трудолюбивого крестьянина Гельмбрехта, отца молодого Гельмбрехта, который презирает все крестьянское и хочет во всем походить на рыцарей. С этой целью он покидает отчий дом и, примкнув к свите рыцаря-разбойника, сам занимается разбоем. Сестру свою Готлинду, прельстившуюся «роскошной» жизнью, он уговаривает выйти замуж за разбойника Лемберслинда, по прозвищу Глотай Ягненка. Однако похождения молодого Гельмбрехта вскоре заканчиваются весьма бесславно. Палач лишает его зрения, а крестьяне, которым он причинил много зла, вешают его на дереве.
КРЕСТЬЯНИН ГЕЛЬМБРЕХТ
(Отец вспоминает о благородных рыцарских обычаях недавнего прошлого.)
(Ватага головорезов справляет свадьбу Готлинды и Лемберслинда.)
Испанская литература
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
ПЕСНЬ О МОЕМ СИДЕ
На протяжении веков (VIII—XV вв.) испанский народ вел упорную борьбу против арабских завоевателей, утвердившихся на Пиренейском полуострове. Особенно интенсивный характер эта национально-освободительная война (так называемая реконкиста) приобрела в XI—XIII вв., когда испанцам удалось овладеть почти всем полуостровом (под властью арабов осталось лишь Гранадское королевство, просуществовавшее до 1492 г.). Патриотическим порывом были охвачены широкие общественные круги Испании. Успехи реконкисты вдохновляли народных поэтов. Герои реконкисты заняли прочное место в народном испанском эпосе.
В атмосфере большого патриотического подъема сложился и величайший памятник испанского героического эпоса «Песнь о моем Сиде» (середина XII в.), дошедшая до нас в единственной рукописи начала XIV в., значительно попорченной. В «Песни» изображены подвиги знаменитого испанского воителя (el Campeador) XI в. Руя (Родриго) Диаса де Бивар, прозванного Сидом (арабское sidi — господин). Исторический Сид (около 1043—1099 гг.) оставил по себе память как один из наиболее выдающихся деятелей реконкисты. Он отнял у мавров область Валенсии, но главная его заслуга заключалась в том, что ему удалось наголову разбить грозные полчища альморавадов, которые из Африки явились на помощь мавританским царькам Испании и уже нанесли ряд поражений войскам Альфонса VI.
В «Песни» Сид Кампеадор становится воплощением народного нравственно-героического идеала. В связи с этим автор «Песни» кое в чем отходит от исторических фактов. Так, герой поэмы рисуется пламенным патриотом, все свои силы отдающим на борьбу с маврами (в то время как Руй Диас не пренебрегал службой у мавров). В отличие от исторического Сида, который, будучи типичным феодалом, стремился стать вполне самостоятельным властителем, герой поэмы ставит интересы Испании выше своих частных интересов. Именно на этом основана его вассальная преданность королю, который для него является символом национального могущества и единства. В условиях реконкисты проповедь политической централизации имела, разумеется, глубоко прогрессивное значение. Следует также указать на известную демократизацию Сида. В отличие от Руя Диаса, который, как мы знаем, принадлежал к высшей кастильской знати, герой поэмы рисуется инфансоном, т. е. рыцарем, не принадлежащим к феодальной аристократии. Он всем обязан только своей личной доблести и храбрости. Зато представители родовой феодальной знати в лице инфантов Каррионских изображены в поэме в резко отрицательных тонах. Они высокомерны, коварны, трусливы и жестоки. В поэме их постигает заслуженная кара.
Начало «Песни» утеряно. Оно должно было излагать причины изгнания Сида королем. По указаниям хроник, причины эти заключались в следующем: по поручению Альфонса VI Сид отправился собирать ежегодную дань в Севилью; он не только собрал ее, но и захватил в плен графа Гарсиа Ордоньеса, сражавшегося в союзе с маврами; однако, когда Сид вернулся ко дворцу Альфонса, враги оклеветали его перед королем в присвоении части добычи. Альфонс, уже таивший злобу на Сида (Сид осмелился требовать от короля присяги в том, что он непричастен к убийству брата своего Санчо), приговорил его к изгнанию (1087 г.). С удаления Сида в изгнание и начинается сохранившаяся часть «Песни».
«Песнь» написана четырехударным дольником, разделенным цезурой; стихи объединяются ассонансами в тирады разной величины. Первые несколько строк представляют прозаическое переложение тирады. Буквами (14а, 14б и т.д.) отмечены стихи, восстанавливаемые из других памятников.
Мавры в походе. Из испанской рукописи XIII в.
Послал он за своими родичами и вассалами[443] и объявил им, что король повелел ему выйти из своей земли, что дал он ему срок не более девяти дней и что теперь хочет он узнать, кто из них пойдет с ним, а кто останется.
(Сид проводит шесть дней в монастыре, собирая дружину; на седьмой, прослушав мессу и оставив в великой горести жену с детьми в монастыре, Сид направляется к границам Кастилии.)
(Опасаясь преследований Альфонса, Сид спешно продает пленных мавров жителям окрестных городов, очищает захваченный замок и уходит дальше, продолжая грабить и разорять страну. Взяв хитростью город Алькос, разбив войска мавританских царей, вышедших на помощь алькосерцам, собрав богатую добычу, Сид отправляет посольство к Альфонсу.)
(Тем временем Сид продолжает свои походы, облагая данью и грабя города; против него выступает дон Ремонд, граф Барселоны, но терпит повторное поражение. Наконец, после ряда побед Сид осаждает Валенсию, овладевает ею и посылает новое посольство к Альфонсу с просьбой отпустить к нему жену и детей, укрывавшихся до того времени в монастыре Сан-Педро де Карденья. С согласия короля жена и дети уезжают к Сиду, который устраивает им пышную встречу. Тем временем мавританские войска осаждают Сида в Валенсии.)
(Снова посылает Сид посольство с дарами Альфонсу.)
(Видя милость короля к Сиду и слыша о его несметных богатствах, наследники графа Каррионского — инфанты[466] из Карриона — решают посвататься к дочерям Сида. За посредничеством они обращаются к королю.)
(Примирившись с королем, Сид выдает своих дочерей за предложенных ему тем женихов. Но браки эти оказываются несчастными. Знатные зятья Сида обнаруживают всю свою подлость и трусость и в стычках с маврами, и при встрече с ручным львом, убежавшим из клетки. Наконец, они просят Сида отпустить их с женами в наследственные поместья.)
(Отделавшись от охраны, посланной Сидом их провожать, и услав вперед свою челядь, инфанты из Карриона жестоко расправились с нелюбимыми женами.)
(Несчастных спасает племянник Сида Фелес Муньос. Оскорбленный отец требует от короля созыва кортесов[473] для разбора дела. Альфонс исполняет его просьбу.)
(Король и кортесы назначают судебный поединок. Инфанты из Карриона и их боец терпят поражение от бойцов Сида, который вновь выдает замуж своих дочерей за королей Аррагона и Наварры. Переписчик заканчивает свою работу словами):
РОДРИГО
Поэма «Родриго», сложенная, видимо, в XIV в. (текст начала XV в.), повествует о юности Сида (Родриго). В ней, между прочим, рассказывается о том, как юный Родриго на поединке убивает графа Гомеса де Гормаса, совершившего грабительский набег на владения его престарелого отца, а затем по настоянию короля женится на дочери убитого им графа донье Химене (см. приводимый отрывок). Действие поэмы происходит не при Альфонсе VI (как в «Песни о моем Сиде»), а при его отце Фернандо I. При этом эпический Сид выступает перед нами в новом свете. Родриго во многом отличен от героя «Песни». Если последний даже в изгнании не забывал того, что он вассал короля Альфонса, то юный Родриго относится к королю с недоверием и даже с неприязнью. Вопреки обычаю он отказывается отдать королю пятую долю добычи, захваченную им в боях с маврами. Он пылок и дерзок, свободолюбив и бесстрашен. Когда же могущественные враги (французский король, германский император, патриарх и папа) обрушиваются на Испанию, Родриго становится ее верным и несокрушимым оплотом.
Дух неукротимого свободолюбия, наполняющий поэму «Родриго», свидетельствует о возросшей оппозиции широких кругов Испании деспотизму феодальных владетелей и князей церкви (в поэме — папа, патриарх). Родриго — патриот, Родриго — непокорный свободолюбец воплощает в себе вековые мечты испанского народа о свободе и национальной независимости Испании. Характерно, что испанские народные романсы о Сиде, высоко оцененные Н. Г. Чернышевским, примыкают в основном к поэтической версии «Родриго». Почти все темы названной поэмы мы находим в поздних романсах. Поэма состоит из длинных строф, разделенных цезурой и ассонирующих по тирадам.
РОДРИГО И ГРАФ ГОМЕС ДЕ ГОРМАС
ЖЕНИТЬБА РОДРИГО
ИСПАНСКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА XIV ВЕКА
Хуан Руис
Хуан Руис (?—1351?) — протопресвитер из Иты, автор стихотворной «Книги о хорошей любви» («Libro de Buen Amor»). Сведения о его жизни весьма скудны. Он был клириком. За какую-то провинность был по повелению архиепископа Толедского заключен в темницу, в которой провел много лет. Как это явствует из его творений, Хуан Руис отнюдь не являлся примерным сыном католической церкви. В «Книге о хорошей любви» он весьма откровенно повествует о своих любовных похождениях, набрасывая попутно выразительные картины современной испанской жизни. Жизнерадостного клирика не привлекает суровый аскетизм. Его манит пестрая череда земного бытия. Самый разнообразный и яркий материал наполняет книгу испанского поэта. История рассказчика обрамляет многочисленные рассуждения на различные темы, занимательные реалистические повестушки, аллегории, басни и апологи. Мы находим здесь и описание войны Масленицы с Постом, и пародии на церковные гимны, и пастушеские песенки, и сатирические выходки против монахов, и обличения папского двора или губительной власти денег, и беседу автора с доном Амуром и доньей Венерой, и цитаты из Катона и Аристотеля, и многое другое. Разнообразию содержания соответствует и разнообразие метрических форм, используемых автором. «Книга о хорошей любви», подобно «Графу Луканору» Хуана Мануэля, уже проторяла путь литературе эпохи Возрождения. Она свидетельствовала о том, что в Испании XIV в. в связи с развитием городов складывалась новая культура, тяготевшая к реальной жизни и далекая от сумрачной, аскетической доктрины средних веков.
КНИГА О ХОРОШЕЙ ЛЮБВИ
Хуан Мануэль
Инфант дон Хуан Мануэль (1282—1349) — наиболее видный испанский прозаик XIV в. Он был внуком Фернандо IV и племянником Альфонса X Мудрого. С ранних лет он воевал с маврами, был правителем Мурсии, деятельное участие принимал в междоусобиях, возникших после смерти короля Фернандо, восставал против Альфонса XI, с которым, однако, помирился в 1335 г. С этого времени он обращал свое оружие только против мавров. Он был участником ожесточенной битвы при Саладо (1340 г.), которая кончилась решительным поражением мавров, стремившихся использовать в своих интересах шаткое внутреннее положение Кастилии. Но столь кипучая деятельность дон Хуана Мануэля на военном и политическом поприще не помешала ему написать ряд литературных произведений преимущественно дидактического характера («Трактат об охоте», «Книга о рыцаре и оруженосце», «Советы сыну» и др.).
Наиболее значительным созданием Хуана Мануэля, занявшим прочное место в истории испанской литературы, является сборник назидательных рассказов и апологов, изречений и афоризмов «Граф Луканор, или Мудрость Патронио» («Conde Lucanor о el libro de Patronio», 1342). Все рассказы (примеры) этого сборника объединены следующей новеллической рамкой: могущественный сеньор граф Луканор то и дело спрашивает совета у своего мудрого приближенного Патронио. Последний облекает свой ответ в форму назидательного рассказа или басни. Используя самые различные как устные, так и письменные источники, Хуан Мануэль создает произведение, которое заметно возвышается над всеми другими памятниками дидактической повествовательной литературы средневековой Испании. Живость рассказа, гибкость и точность языка, выразительные картины испанской или восточной жизни, вполне светский, далекий от церковного ханжества взгляд на мир — все это позволяет рассматривать «Графа Луканора» как произведение, непосредственно подготовлявшее развитие испанской реалистической новеллистики эпохи Возрождения.
ГРАФ ЛУКАНОР, ИЛИ МУДРОСТЬ ПАТРОНИО
ПРИМЕР VI
О том, что произошло между ласточкой и другими птицами, когда ласточка увидела, что люди сеют лен
Однажды граф Луканор разговаривал с Патронио, своим советником, и сказал ему:
— Патронио, мне передали, что некоторые из моих соседей, более могущественные, нежели я, объединились и замышляют против меня разные козни, чреватые для меня большим вредом. А я не верю этому, и мало меня это беспокоит. Но поскольку вы очень благоразумны, я хотел просить вас сказать мне, не считаете ли вы нужным, чтобы я предпринял какие-либо меры.
— Сеньор граф Луканор, — сказал Патронио, — чтобы вы поступили так, как, по моему мнению, вы должны поступить, мне хотелось бы поведать вам о том, что произошло между ласточкой и другими птицами.
И граф попросил его рассказать, что между ними произошло.
— Сеньор граф Луканор, — сказал Патронио, — однажды ласточка увидела, как человек сеял лен, и благодаря своему хорошему рассудку она поняла, что, если этот лен вырастет, люди смогут сделать из него сети и тенета и ловить ими птиц. И ласточка тотчас же полетела к другим птицам, собрала их и сказала им о том, что человек сеет лен и что, если этот лен вырастет, они могут быть уверены, что ждать им от этого большой для себя беды и что она им советует, еще до того, как лен вырос, полететь на поле и вырвать его, ибо легче предотвратить опасность в самом начале, а позже — очень трудно.
Но птицы не придали значения ее словам и не послушались ее совета. Ласточка долго уговаривала их, пока не убедилась, что все бесполезно и птицы никак не хотят ее послушаться. А лен между тем вырос настолько, что птицы уже не смогли бы вырвать его ни коготками, ни клювами, даже если бы и захотели. И когда птицы увидели, как вырос лен и что им уже больше не под силу предотвратить угрожавшую опасность, они горько раскаялись, что не послушались ласточки. Но раскаяние пришло, когда было уже слишком поздно.
Однако еще до этого ласточка, убедившись, что птицы не хотят обращать внимания на надвигающуюся опасность, полетела к человеку, отдала себя в его распоряжение и получила за это безопасность для себя и для своего рода. И с тех пор ласточки мирно живут около людей и не боятся их. А остальных птиц, не пожелавших принять мер предосторожности, люди каждый день ловят в сети и тенета.
И вы, сеньор граф Луканор, если хотите предохранить себя от опасности, которая, как вы говорите, может вам угрожать, примите меры против нее заранее, ибо не тот благоразумен, кто видит беду, когда она уже совершилась, но тот, кто по каким-нибудь признакам и намекам предвидит ее и принимает меры для ее предотвращения.
И графу очень понравился этот совет, и он поступил, как посоветовал Патронио, и все было хорошо.
Но поскольку дон Хуан нашел, что это очень хороший пример, он поместил его в эту книгу и сложил к нему стихи, которые гласят:
ПРИМЕР XI
О том, что произошло между каноником из Сантъяго и доном Ильяном, великим магистром из Толедо
Однажды граф Луканор разговаривал с Патронио, своим союзником, и так говорил ему:
— Патронио! Один человек просил моей помощи и обещал мне за это сделать все, что только мне будет нужно. И я помог ему, как только сумел. Но еще до того, как закончилось его дело, которое он уже считал завершенным, случилось так, что и мне понадобилась его помощь, но когда я за ней к нему обратился, он под разными предлогами отказался мне помочь. Скоро представился один случай, когда он мог бы быть мне полезен, и он опять уклонился, как и в первый раз. И так он поступал во всем, о чем бы я его ни попросил. Однако дело, в котором он просил меня ему помочь, еще не доведено до конца и не будет доведено, если я этого не захочу. Так вот, полагаясь на вас и на ваш здравый смысл, я прошу теперь у вас совета, как мне поступить в этом затруднении.
— Сеньор граф, — сказал Патронио, — для того чтобы вы поступили, как вам надлежит поступить, мне бы очень хотелось, чтобы вы узнали о том, что произошло между одним каноником из Сантъяго и доном Ильяном, великим магистром, жившим в Толедо.
И граф спросил, что между ними произошло.
— Сеньор граф, — сказал Патронио, — в Сантъяго жил один каноник, которому очень хотелось научиться искусству черной магии, и он прослышал, что дон Ильян, великий магистр из Толедо, понимал в ней больше, чем кто-либо другой из людей, существовавших в то время на свете. И он отправился в Толедо, чтобы научиться этой науке. И в тот же день, как он туда прибыл, он пошел к дону Ильяну и застал его в уединенной комнате его дома, погруженного в чтение. Дон Ильян принял его очень хорошо и сказал ему, что не хочет говорить с ним о деле, ради которого тот к нему явился, пока они не пообедают. И дон Ильян угостил его отличным обедом и велел отвести ему прекрасную комнату и все, что ему нужно, и дал ему понять, что очень рад его приезду.
И после обеда они заперлись в комнате, и каноник сообщил магистру цель своего посещения и очень настойчиво просил научить его черной магии, которую ему так хотелось познать, и обещал за это отблагодарить его, как он только пожелает.
И дон Ильян отвечал ему на это, что он, будучи каноником, сможет достичь высоких ступеней в церковной иерархии, но что люди, достигшие высокого положения, часто забывают хорошее, что сделали для них другие, и что касается его, магистра, то он очень опасается, чтобы каноник, выучившись у него, чему он хочет, не отблагодарил бы его, как эти люди, и не забыл бы своих теперешних обещаний. Тогда каноник принялся уверять его и пообещал, что какого бы блага он ни достиг, он не воспользуется им иначе, как согласно желанию дона Ильяна.
В этой беседе они провели все время от обеда до ужина. И когда они обо всем договорились, дон Ильян сказал канонику, что науке черной магии можно учиться лишь в очень уединенном месте и что он сегодня же вечером сведет его туда, где ему предстояло пробыть до тех пор, пока он не выучится тому, чему хочет выучиться. И, взяв каноника за руку, он уже собрался вести его в уединенную комнату, но, прежде чем туда удалиться, велел своей служанке достать к ужину двух куропаток, но не начинать их жарить, пока он ей этого не прикажет.
И распорядившись таким образом, он позвал каноника, и они ступили на каменную лестницу очень крепкой кладки и спускались по ней очень долго, так что можно было допустить, что воды реки Тахо текут над их головами. И спустившись до самого низа лестницы, они очутились в очень хорошо обставленной комнате, где находились книги и приборы для изучения черной магии. Они сели и готовились приступить к занятиям. Но пока магистр решал вопрос, с какой книги начать, открылась дверь вошли два человека и подали канонику письмо, которое оказалось от архиепископа, его дяди. В письме архиепископ извещал его, что он очень болен, и просил, если он хочет застать его еще в живых, приехать без промедления. Каноника сильно огорчило это известие: во-первых, болезнь дяди, а во-вторых, необходимость отказаться оттолько что начатого изучения черной магии. Но он решил не прерывать теперь занятий, написал ответное письмо и отправил его архиепископу, своему дяде. Прошло три или четыре дня, и явились два новых скорохода и принесли канонику новые письма. В этих письмах ему сообщали, что архиепископ скончался и что все церковные чины единодушно желают избрать его, каноника, архиепископом и рассчитывают с божьей помощью произвести это избрание, что избрание удобнее осуществить в отсутствие каноника, и поэтому он может не торопиться с возвращением.
Прошло еще семь или восемь дней, и явились два гонца, очень нарядно и пышно одетые; представ перед каноником, они поцеловали ему руку и подали письма, из которых он узнал о своем избрании архиепископом.
И когда дон Ильян это услышал, он подошел к новоизбранному архиепископу и сказал ему, что он благодарит бога за то, что эти счастливые вести застали избранника в его, дона Ильяна, доме, и раз бог оказал ему такую милость, то он просит его отдать его приход, остающийся теперь незанятым, его, дона Ильяна, сыну. Но избранник ответил, что он просит дона Ильяна позволить ему отдать этот приход своему родному брату, но что при первом же благоприятном случае он устроит и для его сына хорошее назначение в церковной иерархии, и просил его отправиться вместе с ним в Сантъяго и захватить с собой и сына.
И они отправились в Сантъяго и по прибытии туда были встречены с большими почестями. И после того как они прожили там некоторое время, к архиепископу явились посланцы от папы с грамотой, которой папа назначал его епископом Тулузским[485] и оставлял за ним свободу самому назначить себе преемника по архиепископству Сантъяго.
И когда дон Ильян это услышал, он настойчиво напомнил епископу Тулузскому об их уговоре и просил отдать архиепископство его сыну. Но епископ просил его позволить отдать архиепископство своему дяде — родному брату его отца. Дон Ильян ответил, что это его очень огорчает, но что он готов согласиться, с тем, однако, что в дальнейшем он будет за это вознагражден каким-нибудь иным назначением его сына. И епископ обещал ему обязательно это сделать и просил его отправиться вместе с ним в Тулузу и захватить с собой и сына.
И прибыв в Тулузу, они очень хорошо были приняты тамошним графом и всей знатью. И после того как они прожили там два года, явились посланцы от папы с грамотой, которой папа назначал его кардиналом и предоставлял ему милость отдать епископство Тулузское, кому он пожелает.
И тогда явился к нему дон Ильян и сказал, что поелику он столько раз не выполнял своего обещания, то теперь не может быть места ни для каких отговорок и что он должен отдать епископство его сыну.
Но кардинал просил его позволить ему отдать епископство своему другому дяде — родному брату его матери, который был уже в очень преклонных летах. Но поскольку он теперь кардинал, то он просит дона Ильяна отправиться вместе с ним к папскому двору, где он найдет случай оказать ему милость. Дон Ильян был очень опечален и горько роптал, но все же согласился исполнить просьбу кардинала и отправился вместе с ним в Рим.
И по прибытии туда они были очень хорошо приняты кардиналами и всеми, кто состоял при папе, и прожили там очень долго. И изо дня в день дон Ильян просил кардинала оказать какую-либо милость его сыну, и изо дня в день кардинал просил его извинить.
И вот во время их пребывания у папского престола папа скончался, и все кардиналы избрали папой этого кардинала. И тогда пришел к нему дон Ильян и сказал, что больше не может быть отговорок и он должен исполнить обещание. Но папа ответил, что незачем спешить, так как всегда предоставится возможность оказать ему милость сообразно разумности.
Но тут дон Ильян начал очень горько роптать и напомнил папе о всех его обещаниях, из которых он ни одного не выполнил, и сказал, что он подозревал, что так оно и будет еще с первой же их беседы, и что если он на той ступени могущества, на которой он ныне находится, ничего не исполняет из обещанного, то, значит, не на что ему, дону Ильяну, больше надеяться. И эти слова очень разгневали папу, и он начал поносить дона Ильяна и пригрозил ему, что, если он не перестанет, он заключит его в тюрьму как еретика и чернокнижника и что ему хорошо известно, что у себя в Толедо он только и занимался черной магией.
И когда дон Ильян увидел, как плохо вознаградил его папа за все для него сделанное, он простился с ним, и папа даже не дал ему перед дорогой поесть. И тогда дон Ильян сказал папе, что раз ему даже отказано в пище, то он воспользуется куропатками, заказанными им в вечер их первого знакомства, и он позвал служанку и велел ей зажарить куропаток.
И едва проговорил дон Ильян эти слова, как папа вновь очутился в Толедо и вновь оказался каноником из Сантъяго, каким он туда прибыл, и он почувствовал себя настолько пристыженным, что даже не знал, что сказать дону Ильяну. Дон же Ильян сказа ему, что все вышло к лучшему, он хорошо его испытал и что он очень плохо распорядится своими куропатками, если поделится ими с каноником.
И вам, сеньор граф Луканор, если вы видите, что за все вами сделанное для человека, обратившегося к вам за помощью, он со своей стороны ничего для вас не хочет сделать, незачем, я думаю, особенно стараться, чтобы не поставить его в то положение, в котором он смог бы отблагодарить вас, как каноник отблагодарил дона Ильяна.
И граф почел это за хороший совет и поступил согласно ему, и все вышло хорошо.
И поскольку дон Хуан нашел, что это очень хороший пример, он поместил его в эту книгу и сложил стихи, которые гласят:
ПРИМЕР XVII
О том, что произошло с одним голодным человеком, которого другой очень неохотно пригласил обедать
Однажды граф Луканор разговаривал с Патронио, своим советником, и так сказал ему:
— Патронио, ко мне пришел один человек и сказал мне, что сделает для меня одну вещь, которая для меня очень важна, но, хотя он и обещал ее для меня сделать, я по той неохоте, с какой он это говорил, хорошо понял, что он весьма был бы не прочь, чтобы я отказался от предлагаемой им помощи.
А я, с одной стороны, очень нуждаюсь в том, что он предлагает для меня сделать, но, с другой стороны, мне очень не хочется принимать его помощь, раз он предлагает ее так неохотно. И зная вашу разумность, я прошу вас сказать мне, как, вы считаете, я должен поступить в таких обстоятельствах.
— Сеньор граф, — сказал Патронио, — чтобы вы поступили здесь, как, я нахожу, вам нужно поступить, мне бы очень хотелось чтобы вы узнали о том, что произошло с одним человеком, которого другой пригласил обедать.
И граф попросил его рассказать, что с ним произошло.
— Сеньор граф Луканор, — сказал Патронио, — один честный человек, некогда бывший очень богатым, впал в большую бедность, но ему было очень стыдно унижаться и просить себе на пропитание, и потому он часто претерпевал великие голод и нужду. И однажды, когда он шел очень печальный, потому что ничего не мог добыть себе поесть, ему пришлось проходить мимо дома одного своего знакомого, который в это время как раз обедал. И увидя его проходящим мимо, этот знакомый спросил его, но очень неохотно, не хочет ли он с ним пообедать. И бедный человек, которому ничего так не хотелось, как именно этого, тотчас же пошел, принялся мыть руки — в знак своего согласия — и сказал:
— Поистине, сеньор такой-то и такой-то, раз вы так просите и настаиваете, чтобы я с вами пообедал, с моей стороны было бы большой неучтивостью не принять вашего приглашения и не исполнить вашего желания. — И он сел обедать и утолил свой голод, а вместе с тем — и свою печаль.
А в дальнейшем бог помог ему, и он сумел найти выход и из своей нищеты.
И вы, сеньор граф Луканор, раз вы считаете, что предложение того человека вам очень на пользу, дайте ему понять, что вы принимаете его предложение, чтобы не обидеть его отказом, и не обращайте внимания на то, что он предлагает вам неохотно, и не дожидайтесь повторного предложения. Потому что может случиться, что он не станет повторять его еще раз, и вам будет гораздо неприятнее просить тогда у него о том, о чем теперь он просит вас сам.
И граф почел это за очень хороший совет и поступил согласно ему, и все получилось у него хорошо.
И дон Хуан, сочтя это за очень хороший пример, поместил его в эту книгу и сложил стихи, которые гласят:
ПРИМЕР XXXVII
О том, что ответил граф Фернан Гонсалес своим вассалам после победы в битве при Фасинас
Однажды граф Луканор возвратился с одного дела очень усталый, печальный и измученный, и прежде чем он успел отдохнуть и набраться сил, пришло к нему известие, что готовится новая серьезная встреча. И большинство приближенных графа советовало ему сначала немного отдохнуть и потом только приступать к новому делу. И граф спросил у Патронио, как бы он поступил при таких обстоятельствах. И Патронио сказал ему:
— Сеньор, для того чтобы вы выбрали в этом случае наилучший выход, мне бы очень хотелось, чтобы вы узнали об ответе, данном при похожих обстоятельствах графом Фернаном Гонсалесом[486] его вассалам.
И граф попросил Патронио ему об этом рассказать.
— Сеньор граф, — сказал Патронио, — когда граф Фернан Гонсалес победил в битве при Фасинас мавританского короля Альмансора, полегло великое множество его людей в той битве, а он сам и все, кто остался в живых, вышли из нее, покрытые тяжелыми ранами. Но прежде чем они успели оправиться от этих ран, граф получил известие, что король Наваррский вторгся в его пределы, и он тотчас же приказал своим людям готовиться к бою с наварцами.
Но тут его рыцари стали говорить ему, что если он не хочет считаться с тем, что и люди его, и кони измучены, то пусть посчитается с тем, что многие из его людей ранены, и потому отложит новое бранное дело и даст им немного оправиться.
Но когда граф увидел, что таково единодушное мнение его рыцарей, он, пещась более о чести, нежели о теле, сказал им:
— Друзья мои! Давайте не допустим, чтобы раны, уже нами полученные, помешали нам в новой битве получить новые раны, которые заставят нас забыть о ранах, полученных в предыдущей битве.
И когда его люди увидели, что он ради отчизны и чести готов пренебречь телесными страданиями, они пошли за ним в бой. И граф одержал новую победу, и все у него было очень хорошо.
И вы, граф Луканор, если вы хотите поступить согласно тому, что требует от вас защита земель ваших и людей ваших, а также ваша честь, никогда не устрашайтесь ни усилий, ни опасностей и поступайте так, чтобы новые опасности заставили вас позабыть предыдущие.
И граф нашел, что это очень хороший совет, поступил согласно ему, и все у него вышло очень хорошо.
И считая, что это очень хороший пример, дон Хуан поместил его в эту книгу и сложил стихи, которые гласят:
Итальянская литература
ПРОЗАИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА XIII ВЕКА
НОВЕЛЛИНО, ИЛИ СТО ДРЕВНИХ ПОВЕСТЕЙ
Составленный на рубеже XIII и XIV вв. сборник повестей самого разнообразного содержания, почерпнутых из самых разнообразных источников, начиная от библии и житий святых и кончая куртуазным эпосом и фабльо, «I Novellino» является первым образцом итальянской повествовательной прозы.
Из приводимых ниже новелл первая взята из флорентийской рукописи, изданной Biaggi в 1880 г., обе остальные — из старопечатного издания Gualteruzzi, 1525 г.
НОВЕЛЛА СЕМНАДЦАТАЯ[487]
У некоего царя родился сын. И предсказали мудрецы-астрологи, что ежели не пребудет он десять лет, не видя солнца, то потеряет зрение. Посему царь приказал его беречь, когда же истекли десять лет, приказал он показать ему свет и небо, море, золото и серебро, и животных, и людей; среди прочих вещей приказал показать ему прекрасных женщин. Отрок вопросил, кто они, и царь приказал сказать ему, что это — демоны. Тогда отрок сказал: «Демоны полюбились мне больше всех прочих вещей». И царь сказал: «Из сего явствует, сколь дивная вещь — красота женщин».
НОВЕЛЛА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ
Некий приходский поп, по прозванию поп Порчеллино[489], во времена некоего сластолюбивого епископа был обвинен пред епископом, что плохо управляет приходом из-за женщин. Епископ, расследовав дело о нем, признал его виновным. И когда он пребывал в епископском доме, ожидая на другой день отрешения, челядь епископская, желая ему добра, подучила его бежать. На ночь спрятали его под кроватью епископа. А в ту ночь епископ пригласил к себе одну свою подружку. И когда они были в постели и он хотел ее коснуться, подружка не позволила ему, говоря: «Много обещаний вы мне давали и ни разу не сдержали ни одного». Епископ ответствовал: «Жизнь моя, обещаю тебе это и клянусь». «Нет, — говорит она, — я хочу денежки чистоганом». Поднялся епископ, чтоб пойти за деньгами и дать их подружке; тогда попик вылез из-под кровати и сказал: «Мессир, на том же они и меня ловили. Да и кто смог бы поступить иначе?» Епископ устыдился и простил его. Но перед прочими клириками всячески угрожал ему.
НОВЕЛЛА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ[490]
Султан, нуждаясь в деньгах, послушался совета затеять тяжбу с неким богатым иудеем, проживавшим в землях его, и затем отобрать у него все богатства его, коим счету не было. Султан позвал этого иудея и вопросил его, какая вера лучше всех, помышляя: «Ежели он скажет иудейская, то я скажу ему, что он хулит мою веру, а ежели скажет — сарацинская, то я скажу: тогда зачем ты придерживаешься иудейской?» Иудей, услышав вопрос сеньора своего, ответствовал так: «Мессир, был некогда отец, у которого было три сына, и был у него перстень с камнем драгоценным, лучшим в мире. Каждый из них просил отца, чтобы по кончине своей оставил ему тот перстень. Отец, видя, что каждый из них его хочет, позвал превосходного золотых дел мастера и сказал ему: «Маэстро, сделай мне два перстня точь-в-точь как этот и вставь в каждый из них камень, который был бы подобен этому». Мастер сделал перстни так точно, что никто не мог узнать подлинного, кроме отца. Призвал он сыновей порознь и каждому отдал перстень втайне, и каждый почитал свой подлинным, и никто не ведал настоящего, помимо отца их. И так же говорю тебе о верах, коих три. Отец всевышний ведает, какая лучшая; сыновья же, сиречь мы, полагаем каждый, что обладаем хорошей». Тогда султан, поняв увертку его, не знал, что сказать, чтобы затеять тяжбу с ним, и отпустил его с миром.
ЛИРИКА «НОВОГО СЛАДОСТНОГО СТИЛЯ»
«Новый сладостный стиль» («Dolce stil nuovo») — литературное направление, возникшее на грани средних веков и эпохи Возрождения в городах Тосканы и Романьи (Флоренция, Болонья и др.). Представленный лирическими произведениями многочисленных поэтов XIII—XIV вв. (Гвидо Гвиницелли, Онесто да Болонья, Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни, Чекко Анджольери, Данте Алигьери, Чино да Пистойя и др.), «новый сладостный стиль» характеризуется своеобразным разрешением центральной проблемы средневековой лирики — взаимоотношения «земной» и «небесной» любви. В то время как религиозная поэзия прославляет в терминах земной страсти мадонну, призывая к отречению от плотского греха, в то время как куртуазная поэзия, восхваляя рыцарское служение даме, воспевает радость физического обладания, поэзия «нового сладостного стиля» находит разрешение конфликту обоих мировоззрений в сложной символике образов. Образ земной владычицы не устраняется, но превращается в символ — в доступное чувственному восприятию воплощение и откровение божества. Так освящается любовь к женщине — «земная» любовь сливается воедино с любовью «небесной».
Этой «философией любви» определяются все особенности содержания и формы «нового сладостного стиля». Для него характерен величавый образ возлюбленной, «благородной и пречестной», «одеянной смирением» (Данте), «сияющей паче звезд» (Гвиницелли). Не менее типичен и образ возлюбленного — поэта и философа, проникшего во все тонкости хитросплетенной любовной схоластики, умеющего уловить и запечатлеть глубочайшие извивы тайной любви. При этом любовь, воплощаемая обычно в образе прекрасного юноши, мыслится поэтами как стихийная сила, «проникающая через взоры в сердце» и воспламеняющая его желанием той, «что с небес сошла на землю — явить чудо» (Данте). Но любовь эта в то же время проникнута чисто земным вежеством, она влечет за собой столь чуждые монашескому аскетизму и мистическим экстазам добродетели радости и веселья. Новые формы любовных отношений, чуждые реминисценций феодального строя, отсутствие в образе возлюбленной черт знатной дамы — супруги сеньора — и вознесение ее путем сложной символики, искренность лирической эмоции, обусловленная свободным выбором героини, углубление философского содержания лирики — все это являлось порождением новой итальянской городской культуры, стоявшей на пороге эпохи Возрождения.
Важнейшими формами, культивировавшимися поэтами «нового сладостного стиля» (XIII — начало XIV в.), являются:
канцона (canzone) — строфическое произведение с одинаковыми по своей структуре строфами;
сонет (sonetto) — твердая в своей структуре форма, объединяющая 14 стихов четырьмя рифмами по одному из типов: для первых двух четверостиший — abba или abab, Для последних двух трехстиший cdd dcd или (с допущением пятой рифмы) ede ede, или ссе dde;
менее распространенная баллата (ballata)—произведение из неодинаковых строф, более свободное по своему строению, чем старофранцузская баллада XIV—XV вв.
Приводимые ниже сонеты принадлежат Гвидо Кавальканти (Guido Cavalcanti, около 1259—1300 гг.), флорентийскому философу и поэту, сыну гвельфа Кавальканте Кавальканти и другу Данте. Сонеты эти типичны для тематики «нового сладостного стиля» с его превращением любви к земной возлюбленной в преклонение перед воплощением божественного начала. В первом сонете особенно характерно прославление изысканных переживаний радости (allegrezza) и благоговения, во втором — самый образ Amore — образ, созвучный видению первого сонета из «Vita nova» Данте.
Гвидо Кавальканти
СОНЕТ
СОНЕТ
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ
Данте Алигьери (1265—1321) — первый европейский писатель, к которому по праву применимо определение «великий». Данте родился во Флоренции и в период правления в городе партии белых гвельфов (отделившихся от партии черных гвельфов — сторонников папы Бонифация VIII) занимал престижные должности.
К 1292 или началу 1293 г. относится завершение работы Данте над книгой «Новая жизнь» — комментированным поэтическим циклом и одновременно первой европейской художественной автобиографией. В нее вошли 25 сонетов, 3 канцоны, 1 баллада, 2 стихотворных фрагмента и прозаический текст — биографический и филологический комментарий к стихам. В книге (в стихах и комментариях к ним) рассказывается о возвышенной любви Данте к Беатриче Порнари, флорентийке, вышедшей замуж за Симоне де Барди и умершей в июне 1290 г., не достигнув 25 лет. Так в творчестве Данте возникает образ Беатриче. После того, как в «Божественной комедии» Данте обессмертил имя Беатриче, она становится одним из «вечных образов» мировой литературы.
В 1302 г., когда в результате измены черные гвельфы пришли к власти, Данте вместе с другими белыми гвельфами был изгнан из города.
В пору изгнания Данте, готовясь к созданию поэмы о Беатриче, пишет трактаты «Искусство поэзии на народном языке», « О монархии», «Пир». В неоконченном «Пире» изложено учение о четырех смыслах произведения (см. приводимый фрагмент). В изгнании он пишет свое величайшее произведение — «Божественную комедию» (1307—1321).
В 1315 г. власти Флоренции, опасаясь усиления гибеллинов, даровали белым гвельфам амнистию, под которую подпал и Данте, но он вынужден был отказаться от возвращения на родину, так как для этого должен был пройти унизительную, позорную процедуру. Тогда городские власти приговорили его и его сыновей к смерти. Данте умер на чужбине, в Равенне, где и похоронен.
Выдающийся английский искусствовед Д. Рёскин называл Данте «центральным человеком мира». Ф. Энгельс нашел точную формулировку для определения особого места Данте в культуре Европы: он «последний поэт средневековья и вместе с тем первый поэт нового времени». «Божественная комедия» принесла Данте бессмертную славу, оказала огромное воздействие на литературу последующих веков, поставила его имя в один ряд с именами величайших гениев человечества[491].
Данте Алигьери. Портрет, приписываемый художнику XIV в. Джотто.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Написанная Данте на двадцать шестом году жизни «Vita nova» представляет собой собрание его лирических стихотворений периода 1283—1290 гг., расположенное поэтом по определенному сюжетному заданию и снабженное им автобиографическим и философско-эстетическим комментарием. Прозаическая часть повествования отчасти соприкасается с вымышленными биографиями провансальских трубадуров, неизмеримо превосходя их, однако, мастерством изложения и глубиной психологического анализа; стихотворные же вставки, представляя в более ранних по времени написания своих частях лучшие образцы лирики dolce stil nuovo, в более поздних частях (произведения на смерть Беатриче) уже приближаются к стилю «Божественной комедии».
I. В этом разделе книги моей памяти[492], до которого лишь немногое заслуживает быть прочитанным, находится рубрика, гласящая: incipit vita nova[493]. Под этой рубрикой я нахожу слова, которые я намерен воспроизвести в этой малой книге, и если не все, то по крайней мере их сущность.
II. Девятый раз[494] после того, как я родился, небо света приближалось к исходной точке в собственном своем круговращении[495], когда перед моими очами появилась впервые исполненная славы дама, царящая в моих помыслах, которую многие, — не зная, как ее зовут, — именовали Беатриче[496]. В этой жизни она пребывала уже столько времени, что звездное небо передвинулось к восточным пределам на двенадцатую часть одного градуса[497]. Так предстала она предо мною почти в начале своего девятого года, я же увидел ее почти в конце моего девятого. Появилась облаченная в благороднейший кроваво-красный цвет, скромный и благопристойный, украшенная и опоясанная так, как подобало юному ее, возрасту. В это мгновение — говорю по истине — дух жизни, обитающий в самой сокровенной глубине сердца, затрепетал столь сильно, что ужасающе проявлялся в малейшем биении. И дрожа, он произнес следующие слова: «Ессе dens fortior me, qui veniens dominabitur mihi»[498]. В это мгновение дух моей души[499], обитающий в высокой горнице, куда все духи чувств несут свои впечатления, восхитился и, обратясь главным образом к духам зрения, промолвил следующие слова: «Apparuit iam beatitudo vestra»[500]. В это мгновение природный дух, живущий в той области, где совершается наше питание, зарыдал и, плача, вымолвил следующие слова: «Heu miser, quia frequenter impeditus ero deinceps»[501]. Я говорю, что с этого времени Амор стал владычествовать над моею душой, которая вскоре вполне ему подчинилась. И тогда он осмелел и такую приобрел власть надо мной благодаря силе моего воображения, что я должен был исполнять все его пожелания. Часто он приказывал мне отправляться на поиски этого юного ангела; и в отроческие годы я уходил, чтобы лицезреть ее. И я видел ее, столь благородную и достойную хвалы во всех ее делах, что, конечно, о ней можно было бы сказать словами поэта Гомера: «Она казалась дочерью не смертного, но бога»[502]. И хотя образ ее, пребывавший со мной неизменно, придавал смелости Амору, который господствовал надо мною, все же она отличалась такой благороднейшей добродетелью, что никогда не пожелала, чтобы Амор управлял мною без верного совета разума в тех случаях, когда совету этому было полезно внимать. И так как рассказ о чувствах и поступках столь юных лет может некоторым показаться баснословным, я удаляюсь от этого предмета, оставив в стороне многое, что можно было извлечь из книги, откуда я заимствовал то, о чем повествую, и обращусь к словам, записанным в моей памяти под более важными главами.
III. Когда миновало столько времени, что исполнилось ровно девять лет после упомянутого явления благороднейшей, в последний из этих двух дней случилось, что чудотворная госпожа предстала предо мной, облаченная в одежды ослепительно белого цвета среди двух дам, старших ее годами. Проходя, она обратила очи в ту сторону, где я пребывал в смущении, и по своей несказанной куртуазности, которая ныне награждена в великом веке[503], она столь доброжелательно приветствовала меня, что мне казалось — я вижу все грани блаженства. Час, когда я услышал ее сладостное приветствие, был точно девятым этого дня. И так как впервые слова ее прозвучали, чтобы достигнуть моих ушей, я преисполнился такой радости, что, как опьяненный, удалился от людей; уединясь в одной из моих комнат, я предался мыслям о куртуазнейшей госпоже. Когда я думал о ней, меня объял сладостный сон, в котором мне явилось чудесное видение. Мне казалось, что в комнате моей я вижу облако цвета огня и в нем различаю обличье некоего повелителя, устрашающего взоры тех, кто на него смотрит[504]. Но такой, каким он был, повелитель излучал великую радость, вызывающую восхищение. Он говорил о многом, но мне понятны были лишь некоторые слова: среди них я разобрал следующие: «Ессе dominus tuus»[505]. В его объятиях, казалось мне, я видел даму, которая спала нагая, лишь слегка повитая кроваво-красным покрывалом. Взглянув пристально, я в ней узнал госпожу спасительного приветствия, соизволившую приветствовать меня днем. И в одной из рук своих, казалось мне, Амор держал нечто, объятое пламенем, и мне казалось, что он произнес следующие слова: «Vide cor tuum[506]». Оставаясь недолго, он, казалось мне, разбудил спящую и прилагал все силы свои, дабы она ела то, что пылало в его руке; и она вкушала боязливо. После этого, пробыв недолго со мной, радость Амора претворилась в горькие рыданья; рыдая, он заключил в свои объятия госпожу и с нею — чудилось мне — стал возноситься на небо. Я почувствовал внезапно такую боль, что слабый мой сон прервался, и я проснулся. Тогда я начал размышлять о виденном и установил, что час, когда это виденье мне предстало, был четвертым часом ночи; отсюда ясно, что он был первым из последних девяти ночных часов. Я размышлял над тем, что мне явилось, и наконец решился поведать об этом многим из числа тех, кто были в это время известными слагателями стихов. И так как я сам испробовал свои силы в искусстве складывать рифмованные строки, я решился сочинить сонет, в котором приветствовал бы всех верных Амору, прося их высказать то, что думают они о моем видении. И я написал им о сне. Тогда я приступил к сонету, начинающемуся: «Влюбленным душам».
Этот сонет делится на две части: в первой я шлю приветствие, испрашивая ответа, во второй указываю, на что я жду ответа. Вторая часть начинается: «На небе звезд не меркнуло сиянье».
Мне ответили многие, по-разному уразумевшие мой сонет. Мне ответил и тот, кого я назвал вскоре первым своим другом[507]. Он написал сонет, начинающийся: «Вы видели пределы упованья». Когда он узнал, что я тот, кто послал ему сонет, началась наша дружба. Подлинный смысл этого сна тогда никто не понял, ныне он ясен и самым простым людям.
IV С тех пор как мне предстало это видение, мой природный дух стал стеснен в своих проявлениях, так как душа моя была погружена в мысли о благороднейшей. Таким образом по прошествии краткого времени я стал слабым и хилым, так что многим моим друзьям было тяжко смотреть на меня, а иные, полные зависти и любопытства, стремились узнать то, что я хотел скрыть от всех. Но я, заметив недоброжелательность их вопросов, по воле Амора, руководившего мною сообразно с советами разума, отвечал им, что тот, кем я столь измучен, — Амор. Я говорил об Аморе, так как на лице моем запечатлелось столько его примет, что скрывать мое состояние было невозможно. А когда меня спрашивали: из-за кого тебя поражает этот Амор? — я смотрел на них, улыбался и ничего не говорил им[508].
XIX. Через некоторое время, когда я проезжал по дороге, вдоль которой протекала быстрая и светлая река, меня охватило такое сильное желание слагать стихи, что я принялся думать, как мне следует поступать, и я решил, что говорить о совершенной даме надлежит, обращаясь к дамам во втором лице, и не ко всем дамам, а лишь к тем из них, которые наделены благородством. И тогда мой язык заговорил как бы сам собой и произнес: «Лишь с дамами, что разумом любви владеют». Эти слова я удержал в памяти с большой радостью, решив воспользоваться ими для начала. Возвратившись в упомянутый город, я размышлял несколько дней, а затем приступил к сочинению канцоны с этим началом, сложенной так, как будет ясно ниже, когда я приступлю к ее делению. Канцона начинается: «Лишь с дамами».
XXI. После того как в предыдущем стихотворении я говорил об Аморе, я решил восхвалить благороднейшую даму и в словах моих показать, как благодаря ее добродетели пробуждается Амор, и не только там, где он дремлет. Даже там, где нет его в потенции, она, действуя чудесным образом, заставляет его прийти. И тогда я сложил этот сонет, начинающийся: «В ее очах».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[511]
XXIII. Случилось по истечении немногих дней, что тело мое было поражено недугом, так что в продолжение девяти дней я испытывал горчайшую муку. Недуг столь ослабил меня, что я должен был лежать, как те, кто не может двигаться. И когда на девятый день моей болезни я ощутил почти нестерпимую боль, во мне возникла мысль о моей даме. И так, думая о ней, я вернулся к мысли о моей немощной жизни, и видя, сколь она недолговечна даже у людей здоровых, я стал оплакивать в душе моей столь печальную участь. Затем умножая вздохи, я произнес про себя: «Неизбежно, что когда-нибудь умрет и благороднейшая Беатриче». И столь великое охватило меня смущение, что я закрыл глаза и начал бредить, как человек, охваченный умопомрачением, и предался весь фантазии. В начале этого заблуждения моей фантазии передо мной явились простоволосые женщины, мне говорящие: «Ты умер». Так начала блуждать фантазия моя, и я не знал, где я находился. И мне казалось, что я вижу женщин со спутанными волосами, рыдающих на многих путях, чудесно скорбных; и мне казалось, что я вижу, как померкло солнце, так что по цвету звезд я мог предположить, что они рыдают. И мне казалось, что летящие в воздухе птицы падают мертвыми и что началось великое землетрясение[512]. Страшась и удивляясь, во власти этой фантазии, я вообразил некоего друга, который пришел ко мне и сказал: «Разве ты не знаешь, твоя достойная удивления дама покинула этот век». Тогда я начал плакать, исполненный величайшей горести, и не только в моем воображении, но истинные слезы омывали мои глаза. Затем я вообразил, что следует мне посмотреть на небо, и мне показалось, что я вижу множество ангелов, которые возвращались на небо, а перед ними плыло облачко необычайной белизны. Мне казалось, что эти ангелы пели величальную песнь и что я различаю слова их песни: «Osanna in excelsis»[513], и ничего другого я не слышал. Тогда мне показалось, что сердце, в котором заключалась столь великая любовь, сказало мне: «Поистине мертвой покоится наша дама». И после этого мне показалось, что я иду, чтобы увидеть тело, в котором обитала благороднейшая и блаженная душа. Столь сильна была обманчивая фантазия, что она показала мне мою даму мертвой. И мне казалось, что дамы покрывают ее голову белой вуалью; и мне казалось, что на лице ее отобразилось такое смиренье, что слышалось — она говорила: «Я вижу начало умиротворения». И в этом мечтании, когда я увидел ее, меня охватило чувство такого смирения, что я призывал Смерть, говоря: «О пресладостная Смерть, приди ко мне, не поступай со мною недостойно, ты должна быть благородна, в таком месте была ты! Приди ко мне, столь жаждущему тебя. Посмотри — уже ношу твой цвет». Когда же я увидел завершенье скорбных обрядов, которые надлежит совершать над телом умерших, мне почудилось, что я возвращаюсь в мою комнату. Там привиделось мне, будто я гляжу на небо. И столь сильно было мое воображение, что истинным своим голосом, плача, я произнес: «О прекраснейшая душа, блажен видевший тебя!» Произнося эти слова скорбным голосом, прерываемым приступами рыданий, я призывал Смерть. Молодая и благородная дама, бывшая у моего ложа, думая, что мои рыданья и мои слова были вызваны лишь моим недугом, также начала плакать. Другие дамы, бывшие в комнате, по ее слезам заметили, что и я плачу. Тогда они удалили молодую даму, связанную со мной ближайшим кровным родством, и подошли ко мне, чтобы меня разбудить, полагая, что я вижу сны. Они сказали мне: «Не спи» и «Не отчаивайся». От этих слов прервалось сильное мое мечтание как раз, когда я хотел воскликнуть: «О, Беатриче, будь благословенна!» И я уже сказал «О, Беатриче», когда, придя в себя, я открыл глаза и увидел, что заблуждался. И хотя я назвал это имя, мой голос был прерван приступом рыданий, так что эти дамы не смогли, как я полагаю, меня понять. Несмотря на мое великое смущенье и стыд, по совету Амора, я повернулся к ним. Увидев мое лицо, они сказали сначала: «Он кажется мертвым»; затем, обращаясь друг к другу: «Постараемся утешить его», и произнесли много слов утешения, порою спрашивая меня, чем я был так испуган. Несколько успокоенный, я понял, что был охвачен ложным мечтанием, и ответил им: «Я вам поведаю, что со мной случилось». Тогда — от начала до конца — я рассказал им о том, что видел, скрыв имя благороднейшей. Излечившись от этой болезни, я решился сложить стихи о том, что случилось со мной, ибо я полагал, что тема эта достойна Амора и приятна для слуха; и об этом я сочинил следующую канцону, начинающуюся: «Благожелательная госпожа».
XXVI. Благороднейшая дама, о которой говорилось в предыдущих стихотворениях, снискала такое благоволение у всех, что, когда она проходила по улицам, люди бежали отовсюду, чтобы увидеть ее; и тогда чудесная радость переполняла мою грудь. Когда же она была близ кого-либо, столь куртуазным становилось сердце его, что он не смел ни поднять глаз, ни ответить на ее приветствие; об этом многие, испытавшие это, могли бы свидетельствовать тем, кто не поверил бы моим словам. Увенчанная смирением, облаченная в ризы скромности, она проходила, не показывая ни малейших знаков гордыни. Многие говорили, когда она проходила мимо: «Она не женщина, но один из прекраснейших небесных ангелов». А другие говорили: «Это чудо; да будет благословлен господь, творящий необычайное». Я говорю, что столь благородной, столь исполненной всех милостей она была, что на видевших ее нисходили блаженство и радость; все же передать эти чувства они были не в силах. Никто не мог созерцать ее без воздыхания; и ее добродетель имела еще более чудесные воздействия на всех. Размышляя об этом и стремясь продолжить ее хваления, я решился сложить стихи, в которых помог бы понять ее превосходные и чудесные появления, чтобы не только те, которые могут ее видеть при помощи телесного зрения, но также другие узнали о ней все то, что в состоянии выразить слова. Тогда я написал следующий сонет, начинающийся:
То, что рассказывается в этом сонете, столь понятно, что он не нуждается в разделении на части. Оставляя его, я скажу, что моя дама снискала такое благоволение людей, что они не только ее восхваляли и почитали, но благодаря ей были хвалимы и почитаемы всеми многие дамы. Видя это и стремясь сообщить об этом тем, кто не видел ее своими глазами, я начал складывать благовествующие слова и написал второй сонет, начинающийся: «Постигнет совершенное спасенье»; он повествует о ней и о том, как ее добродетель проявлялась в других, что и станет ясно из его разделений.
XXVIII. ...Я только начинал эту канцону и успел закончить лишь вышеприведенную станцу, когда Владыка справедливости призвал благороднейшую даму разделить славу его под знаменем благословенной королевы Девы Марии, чье имя столь превозносилось в словах блаженной Беатриче[514]...
XXXI. Глаза мои изо дня в день проливали слезы и так утомились, что не могли более облегчить мое горе. Тогда я подумал о том, что следовало бы ослабить силу моих страданий и сложить слова, исполненные печали. И я решился написать канцону, в которой, жалуясь, скажу о той, оплакивая которую я истерзал душу. И я начал канцону: «Сердечной скорби...». И чтобы канцона эта, когда она будет закончена, еще более уподобилась неутешной вдовице, я разделю ее прежде, чем запишу; так я буду поступать и впредь.
Я говорю, что несчастная эта канцона имеет три части: первая служит вступлением; во второй я повествую о моей даме; в третьей я говорю, преисполненный сострадания, обращаясь к самой женщине. Вторая часть начинается так: «На небе Беатриче воссияла», третья: «Рыдая, скорбная, иди, канцона». Первая часть делится на три: в первом разделе я объясняю, что побудило меня высказаться; во втором я говорю, к кому я обращаюсь; в третьем открываю, о ком я хочу поведать. Второй начинается так: «Лишь дамам благородным до разлуки», третий же: «Той, чье сердце благородно». Затем, когда я произношу: «На небе Беатриче», — я говорю о ней в двух частях: сначала я показываю причину, по которой она была взята от нас; затем, как люди оплакивают ее уход; эта часть начинается так: «Покинула». Она делится на три: в первой я говорю о тех, кто о ней не плачет; во второй о тех, кто плачет; в третьей открываю мое внутреннее состояние. Вторая начинается так: «Но тот изнемогает»; третья: «Рыдая, скорбная, иди, канцона», — я обращаюсь к самой канцоне, указывая ей тех дам, к которым я хочу, чтобы она пошла, чтобы остаться вместе с ними.
XLII. После этого сонета явилось мне чудесное виденье, в котором я узрел то, что заставило меня принять решение не говорить больше о благословенной, пока я не буду в силах повествовать о ней более достойно. Чтобы достигнуть этого, я прилагаю все усилия, о чем она поистине знает. Так, если соблаговолит Тот, кем все живо, чтобы жизнь моя продлилась еще несколько лет, я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не было сказано ни об одной женщине[516]. И пусть душа моя по воле владыки куртуазии вознесется и увидит сияние моей дамы, присноблаженной Беатриче, созерцающей в славе своей лик Того, qui est per omnia saecula benedictus[517].
СТИХОТВОРЕНИЯ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ПЕРИОДА[518]
СОНЕТЫ
БАЛЛАТА
СТАНЦА
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЕРИОДА ИЗГНАНИЯ
СОНЕТЫ
СЕКСТИНА[526]
ИЗ ТРАКТАТА «ПИР»[527]
[ДАНТЕ О СЕБЕ]
...После того как гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона, где я был рожден и вскормлен вплоть до вершины моего жизненного пути и в котором я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый дух и завершить дарованный мне срок — я как чужестранец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только проникает родная речь, показывая против воли рану, нанесенную мне судьбой и столь часто несправедливо вменяемую самому раненому. Поистине, я был ладьей без руля и без ветрил; сухой ветер, вздымаемый горькой нуждой, заносил ее в разные гавани, устья и прибрежные края; и я представал перед взорами многих людей, которые, прислушавшись, быть может, к той или иной обо мне молве, воображали меня в ином обличии. В глазах их не только унизилась моя личность, но и обесценивалось каждое мое творение, как уже созданное, так и будущее. Причины этого, поражающей не только меня, но и других, я и хочу здесь вкратце коснуться... (I, 3).
[ОБ ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ]
...Итак, возвращаясь к нашей главной задаче, я утверждаю, что ничего не стоит удостовериться в том, что латинский комментарий был бы благодеянием лишь для немногих, народный же окажет услугу поистине многим...
...Велико должно быть оправдание в том случае, когда на пир со столь изысканными угощениями и со столь почетными гостями подается хлеб из ячменя, а не из пшеницы; требуется также очевидное основание, которое заставило бы человека отказаться от того, что издавна соблюдалось другими, а именно от комментирования на латинском языке...
...Я утверждаю, что самый порядок всего моего оправдания требует, чтобы я показал, что меня на это толкала природная любовь к родной речи; а это и есть третье и последнее основание, которым я руководствовался. Я утверждаю, что природная любовь побуждает любящего: во-первых, возвеличивать любимое, во-вторых, его ревновать и, в-третьих, его защищать; и нет человека, который не видел бы, что постоянно так и случается. Все эти три побуждения и заставили меня выбрать наш народный язык, который я по причинам, свойственным мне от природы, а также привходящим, люблю и всегда любил...
...Любовь заставила меня также защищать его от многих обвинителей, которые его презирают и восхваляют другие народные языки, в особенности язык «ос»[528], говоря, что он красивее и лучше, и тем самым отклоняются от истины. Великие достоинства народного языка «си» обнаружатся благодаря настоящему комментарию, где выявится его способность раскрывать, почти как в латинском смысле, самых высоких и самых необычных понятий подобающим, достаточным и изящным образом; эта его способность не могла должным образом проявиться в произведениях, рифмованных вследствие связанных с ними случайных украшений, как-то: рифма, ритм и упорядоченный размер, подобно тому как невозможно должным образом показать красоту женщины, когда красота убранства и нарядов вызывает большее восхищение, чем она сама. Всякий, кто хочет должным образом судить о женщине, пусть смотрит на нее тогда, когда она находится наедине со своей природной красотой, расставшись со всякими случайными украшениями: таков будет и настоящий комментарий, в котором обнаружится плавность слога, свойства построений и сладостные речи, из которых он слагается; и все это будет для внимательного наблюдателя исполнено сладчайшей и самой неотразимой красотой. И так как намерение показать недостатки и злокозненность обвинителя в высшей степени похвально, я, для посрамления тех, кто обвиняет италийское наречие, скажу о том, что побуждает их поступать таким образом, дабы бесчестие их стало более явным... (I, 9, 10).
[О ЧЕТЫРЕХ СМЫСЛАХ]
После вступительного рассуждения в предыдущем трактате мною, распорядителем пира, хлеб мой уже подготовлен достаточно. Вот время зовет и требует, чтобы судно мое покинуло гавань; сему, направив парус разума по ветру моего желания, я выхожу в открытое море с надеждой на легкое плавание и на спасительную и заслуженную пристань в завершение моей трапезы. Однако, чтобы угощение мое принесло больше пользы, я, прежде чем появится первое блюдо, хочу показать, как должно вкушать.
Я говорю, что, согласно сказанному в первой главе, это толкование должно быть и буквальным и аллегорическим. Для уразумения же этого надо знать, что писания могут быть поняты и должны с величайшим напряжением толковаться в четырех смыслах[529]. Первый называется буквальным (и это тот смысл, который не простирается дальше буквального значения вымышленных слов — таковы басни поэтов). Второй называется аллегорическим; он таится под покровом этих басен и является истиной, скрытой под прекрасной ложью; так, когда Овидий говорит, что Орфей своей кифарой укрощал зверей[530] и заставлял деревья и камни к нему приближаться, это означает, что мудрый человек мог бы властью своего голоса укрощать и усмирять жестокие сердца и мог бы подчинять своей воле тех, кто не участвует в жизни науки и искусства; а те, кто не обладает разумной жизнью, подобны камням. В предпоследнем трактате будет показано, почему мудрецы прибегали к этому сокровенному изложению мыслей. Правда, богословы понимают этот смысл иначе, чем поэты; но здесь я намерен следовать обычаю поэтов и понимаю аллегорический смысл согласно тому, как им пользуются поэты.
Третий смысл называется моральным, и это тот смысл, который читатели должны внимательно отыскивать в писаниях на пользу себе и своим ученикам. Такой смысл может быть открыт в Евангелии, например, когда рассказывается о том, как Христос взошел на гору, дабы преобразиться, взяв с собою только трех из двенадцати апостолов, что в моральном смысле может быть понято так: в самых сокровенных делах мы должны иметь лишь немногих свидетелей.
Четвертый смысл называется анагогическим, то есть сверхсмыслом или духовным объяснением писания; он остается (истинным) также и в буквальном смысле и через вещи означенные выражает вещи наивысшие, причастные вечной славе... (II, 1).
ТРЕТЬЯ КАНЦОНА
ПИСЬМО[533]
Внимательно изучив ваши письма, встреченные мною и с подобающим почтением и с чувством признательности, я с благодарностью душевной понял, как заботитесь вы и печетесь о моем возвращении на родину. И я почувствовал себя обязанным вам настолько, насколько редко случается изгнанникам найти друзей. Однако, если ответ мой на ваши письма окажется не таким, каким его желало бы видеть малодушие некоторых людей, любезно прошу вас тщательно его обдумать и внимательно изучить прежде, чем составить о нем окончательное суждение.
Благодаря письмам вашего и моего племянника и многих друзей, вот что дошло до меня в связи с недавно вышедшим во Флоренции декретом о прощении изгнанников: я мог бы быть прощен и хоть сейчас вернуться на родину, если бы пожелал уплатить некоторую сумму денег и согласился подвергнуться позорной церемонии. По правде говоря, отче, и то и другое смехотворно и недостаточно продумано; я хочу сказать, недостаточно продумано теми, кто сообщил мне об этом, тогда как ваши письма, составленные более осторожно и осмотрительно, не содержали ничего подобного.
Таковы, выходит, милостивые условия, на которых Данте Алигиери приглашают вернуться на родину, после того как он почти добрых три пятилетия промаялся в изгнании? Выходит, этого заслужил тот, чья невиновность очевидна всему миру? Это ли награда за усердие и непрерывные усилия, приложенные им к наукам? Да не испытывает сердце человека, породнившегося с философией, столь противного разуму унижения, чтобы, по примеру Чоло[534] и других гнусных злодеев, пойти на искупление позором, как будто он какой-нибудь преступник! Да не будет того, чтобы человек, ратующий за справедливость, испытав на себе зло, платил дань, как людям достойным, тем, кто свершил над ним беззаконие!
Нет, отче, это не путь к возвращению на родину. Но если сначала вы, а потом другие найдете иной путь, приемлемый для славы и чести Данте, я поспешу ступить на него. И если ни один из таких путей не ведет во Флоренцию, значит, во Флоренцию я не войду никогда! Что делать? Разве не смогу я в любом другом месте наслаждаться созерцанием солнца и звезд? Разве я не смогу под любым небом размышлять над сладчайшими истинами, если сначала не вернусь во Флоренцию, униженный, более того — обесчещенный в глазах моих сограждан? И, конечно, я не останусь без куска хлеба!
БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
«Божественная комедия» (1307—1321) — один из величайших памятников мировой литературы, синтез средневекового мировоззрения и предвестие Возрождения, ярчайшее воплощение «персональной модели» Данте — одной из самых влиятельных в мировой литературе.
Сюжет поэмы развивается в двух планах. Первый — рассказ о путешествии Данте по загробному миру, ведущийся в хронологической последовательности. Этот план позволяет развиться второму плану повествования — отдельным историям душ тех людей, с которыми встречается поэт.
Данте дал своей поэме название «Комедия» (средневековый смысл этого слова: произведение со счастливым финалом). Название «Божественная комедия» принадлежит Д. Боккаччо, великому итальянскому писателю эпохи Возрождения, первому исследователю творчества Данте. При этом Боккаччо вовсе не имел в виду содержания поэмы, где речь идет о путешествии по загробному миру и лицезрении Бога, «божественная» в его устах означало «прекрасная».
По жанру «Божественная комедия» связана с античной традицией (прежде всего, «Энеидой» Вергилия) и несет в себе черты средневекового жанра видения (ср. с «Видением Тнугдала» в разделе «Латинская литература»).
Черты средневекового мировоззрения обнаруживаются и в композиции «Божественной комедии», в которой велика роль мистических чисел 3, 9, 100 и др. Поэма делится на три кантики (части) — «Ад», «Чистилище», «Рай», в соответствии со средневековыми представлениями об устройстве загробного мира. В каждой кантике по 33 песни, итого вместе со вступительной песнью поэма состоит из 100 песен. Ад подразделяется на 9 кругов в соответствии с тяжестью и характером грехов. На 7 уступах Чистилища (горы на противоположной стороне Земли) наказываются 7 смертных грехов: гордость, зависть, гнев, уныние, корыстолюбие, чревоугодие и блуд (здесь грехи не столь тяжелы, поэтому наказание не вечно). У подножия Чистилища есть его преддверие, а на вершине горы — Земной рай, поэтому снова возникает мистическое число 9. Рай состоит из 9 сфер (Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, звезд, Эмпирея — местопребывания Божественного света).
Число 3 присутствует и в строфике поэмы, которая разбита на терцины — трехстишия с рифмовкой aba beb ede ded и т. д. Здесь можно провести параллель с готическим стилем в средневековой архитектуре. В готическом соборе все элементы — архитектурные конструкции, скульптуры, помещенные в нишах, орнамент и т. д. — не существуют отдельно друг от друга, а вместе образуют движение по вертикали снизу вверх. Точно так же терцина оказывается незавершенной без следующей терцины, где нерифмованная вторая строка дважды поддерживается рифмой, зато появляется новая нерифмованная строка, требующая появления следующей терцины.
Учение о четырех смыслах, изложенное Данте в «Пире», применимо к его поэме. Ее буквальный смысл — изображение судеб людей после смерти. Аллегорический смысл заключается в идее возмездия: человек, наделенный свободой воли, будет наказан за совершенные грехи и вознагражден за добродетельную жизнь. Моральный смысл поэмы выражен в стремлении поэта удержать людей от зла и направить их к добру. Анагогический смысл «Божественной комедии», т. е. высший смысл поэмы, заключается для Данте в стремлении воспеть Беатриче и великую силу любви к ней, спасшую его от заблуждений и позволившую написать поэму.
В основе художественного мира и поэтической формы поэмы — аллегоричность и символичность, характерные для средневековой литературы. Пространство в поэме концентрично (состоит из кругов) и в то же время подчинено вертикали, идущей от центра Земли (одновременно центра Вселенной и низшей точки Ада, где наказывается Сатана) в две стороны — к поверхности Земли, где живут люди, и к Чистилищу и Земному раю на обратной стороне Земли, а затем — к сферам Рая вплоть до Эмпирея, местопребывания Бога. Время также двуедино: с одной стороны, оно ограничено весной 1300 г., с другой — в историях душ, находящихся в загробном мире, концентрированно представлены как античность (от Гомера до Августина), так и все последующие времена вплоть до современности; более того, в поэме есть предсказания будущего. Так, предсказание делает в сфере Марса прапрадед Данте Каччагвида, предрекающий поэту изгнание из Флоренции (тоже ложное предсказание, т. к. поэма писалась уже в изгнании) и будущий триумф поэта. Историзма как принципа в поэме нет. Люди, жившие в разные века, сопоставляются вместе, время исчезает, превращаясь или в точку, или в вечность.
Велика роль «Божественной комедии» в формировании нового взгляда на человека. Путешествующий по загробному миру поэт освобождается от грехов не традиционным церковным путем, не через молитвы, посты и воздержание, а ведомый разумом и высокой любовью. Именно этот путь приводит его к созерцанию Божественного света. Итак, человек не ничтожество, разум и любовь помогают ему достичь Бога, достичь всего. Данте, подводивший итог достижениям средневековой культуры, пришел к ренессансному антропоцентризму (представлению о человеке как центре мироздания), к гуманизму эпохи Возрождения[535].
АД[536]
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
«Ад» Песнь I (поэт в темном лесу, явление трех зверей, приход Вергилия). Рисунок итальянского художника XV в. Сандро Боттичели.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПЕСНЬ ПЯТАЯ[559]
ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ[569]
«Ад». Песнь X (в середине — Данте с Фаринатой и Кавальканте Кавальканти; слева — Данте удаляется в печали). Рисунок Сандро Боттичели.
ПЕСНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ[585]
ПЕСНЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ[589]
«Ад». Песнь XIX. Рисунок Сандро Боттичели (фрагмент).
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ[600]
ПЕСНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ[607]
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
«Ад». Песнь XXXIV (три лика Сатаны). Фрагмент рисунка Сандро Боттичели.
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЧИСТИЛИЩЕ
(Пройдя Ад, Данте с Вергилием попадают в Чистилище; оно помещается на противоположном земном полушарии, покрытом Великим океаном, и представляет собой остров, на котором возвышается высочайшая гора; гора разделена на семь уступов, или кругов, в каждом из которых происходит очищение от одного из семи смертных грехов: гордости, зависти, гнева, уныния, корыстолюбия, чревоугодия и блуда. Перед вступлением в первый круг путники проходят еще преддверие, пройдя же седьмой круг, они попадают в Земной рай, где Вергилий покидает Данте, и где Данте вновь встречается с Беатриче.)
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
ПЕСНЬ ТРИДЦАТАЯ
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
РАЙ
(Примирясь с Данте, Беатриче ведет его через девять небесных сфер в эмпирей — «розу света» высших небес — местопребывание божества. Эта часть произведения особенно много места уделяет богословской схоластике.)
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
«Рай». Песнь XXX (живые цветы и рой искр над огненной рекой). Рисунок Сандро Боттичели.
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ[642]
ПЕСНЬ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Английская литература
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
БЕОВУЛЬФ
Поэма о Беовульфе (3183 стиха), дошедшая до нас в рукописи начала X в., сложилась, видимо, в VIII или IX столетии. Это единственный известный нам образец англосаксонского героического эпоса на традиционный народный былинный сюжет. В основе «Беовульфа» лежат старинные германские предания, возникшие, вероятно, в языческие времена задолго до VIII—IX вв.
Героем поэмы является геатский (геаты — гауты, скандинавское племя, населявшее южные области Швеции) витязь Беовульф, храбрый, великодушный, всегда готовый прийти на помощь людям. Он бесстрашно вступает в единоборство с кровожадным чудовищем Гренделем, который в течение долгого времени пожирал приближенных датского короля Хротгара. Победив Гренделя, Беовульф побеждает также его свирепую мать, явившуюся во дворец отомстить за гибель сына. Ради этого Беовульфу пришлось опуститься на дно страшного болота, где обитало лютое чудовище. Благодаря самоотверженной доблести Беовульфа Дания была избавлена от смертельной опасности. Во второй части поэмы (начиная с 2223 стиха) рассказывается о новом, на этот раз последнем, подвиге Беовульфа. Став королем геатов, престарелый Беовульф убивает свирепого дракона, который огнем опустошал страну. Однако дракон своим ядовитым зубом успел нанести Беовульфу смертельную рану. Беовульф умирает, оплакиваемый храбрыми дружинниками.
Поэма возникла в период начавшегося разложения родового строя. На это указывают картины дружинного быта, взаимоотношений короля и витязей. Находим мы также в поэме отзвуки языческих сказаний. В то же время на «Беовульфе» лежит явственный отпечаток христианских воззрений (автор называет Гренделя потомком Каина и т.п.), что дало основание многим историкам литературы видеть в авторе этого произведения англосаксонского клирика. Однако христианский элемент отнюдь не играет в поэме ведущей роли, он растворяется в старинных народных былях, в могучих эпических образах, овеянных героическим духом. Поэма написана характерным для древнегерманской поэзии ударным аллитерирующим стихом.
В начале поэмы повествуется о том, как один из потомков легендарного датского короля Скильда Скефинга король Хротгар, сын Хеальфдена, с успехом правил Данией. Он воздвиг обширную, богато украшенную палату для пиров, назвав ее Хеорот, т. е. Оленьей палатой. Однако недолго пришлось дружинникам короля весело пировать в этой палате, ибо вскоре кровожадный Грендель начал совершать свои опустошительные набеги на Хеорот. Никто из датских витязей не мог одолеть могучего людоеда. Тогда из страны геатов в Данию явился храбрейший витязь геатского короля Хигелака — Беовульф, прослышавший о горе, постигшем датчан. Вместе с Беовульфом приплыли в Данию и другие храбрые геатские воины. С великим почетом принял их король Хротгар. Когда закончился пир, устроенный в честь прибывших, в Оленьей палате остались только Беовульф и его соратники-геаты.
[ГРЕНДЕЛЬ]
Англосаксонские воины. Рисунки из рукописи начала XI в.
[ПИР]
(Певец поет о сражении, в котором пали брат и сыновья королевы Хильдебург, жены фризского короля Финна, и о том, как Хильдебург после гибели своего супруга попала в плен к датчанам.)
Сражающиеся рыцари. Миниатюра из рукописи начала XIV в.
БОЙ ПОД БРУНАНБУРГОМ
Отрывок из англосаксонского исторического эпоса, сложенного древним аллитерирующим стихом, вписанный в «Англосаксонскую хронику» (так называемая Винчестерская рукопись) под 937 г.
ЛЕНГЛЕНД
Вильям Ленглена (около 1332 г.—около 1377 г.), автор аллегорической поэмы «Видение о Петре-Пахаре» («Vision of Piers the Plowman», первая редакция — около 1362 г., вторая — около 1377 г.), был выходцем из крестьянской семьи. Получив образование в монастырской школе, он, однако, не стал клириком, но, перебравшись в Лондон, разделил тяжелую долю столичных бедняков. Он никогда не заискивал перед богатыми и знатными. По его словам, он был «слишком длинен, чтобы низко нагибаться».
В то время Англия вступала в полосу социальных потрясений. Быстрое развитие товарно-денежных отношений порождало усиленную эксплуатацию крестьянства и городского плебейства. В стране царило всеобщее брожение. Все более грозный характер принимало народное антифеодальное движение, приведшее к восстанию 1381 г.
Ленгленд явился одним из выразителей этого народного протеста против несправедливых социальных порядков. Его «Видение о Петре-Пахаре» представляет собой широкую картину общественной жизни Англии второй половины XIV в. Поэт глубоко сочувствует угнетенным массам и негодует на высокомерие и пороки сильных мира сего. Перекликаясь с лоллардами (последователями английского реформатора Джона Виклифа), он горячо протестует против алчности, тунеядства и эгоизма католического клира во главе с самим римским папой. В лице Петра-Пахаря, знающего путь в царство Правды, он прославляет трудовой люд, который, по мнению Ленгленда, составляет естественную здоровую основу всякого общества. И хотя Ленгленд не призывал к коренной ломке существующих социальных отношений, перенося вопрос о социальной справедливости в плоскость нравственных идеалов, его поэма в немалой мере содействовала революцинизированию народного сознания. Недаром идеологи и вожди народного восстания широко использовали «Видение о Петре-Пахаре» в своей пропаганде.
Как поэт, Ленгленд еще довольно тесно связан с традициями средневековой литературы. Типично средневековой является, например, форма видения, сна, в которую облечена поэма. Однако образы видения взяты не из загробного мира, как это обычно было в памятниках культовой литературы (ср. «Видение Тнугдала», раздел «Латинская литература»), и не из галантного мира куртуазного любовного романа (ср. «Роман о Розе», раздел «Французская литература»), но из повседневной английской жизни XIV в., и это придает аллегорической поэме Ленгленда реалистический характер, тем более что многие аллегорические образы воплощены в такую типично житейскую форму, что читатель подчас забывает об их иносказательной природе. В этом отношении особенно примечательна колоритная галерея пороков, например изображение Чревоугодия, выведенного в образе пьяницы-ремесленника, который шел в церковь, а попал в кабак (см. приводимый отрывок).
Поэма Ленгленда имела большой успех у демократического читателя. Она вызвала ряд подражаний. Имя Петра-Пахаря стало нарицательным. Накануне английской буржуазной революции XVII в. о Ленгленде как о мастере антифеодальной сатиры с большим сочувствием отзывался Мильтон.
ВИДЕНИЕ О ПЕТРЕ-ПАХАРЕ
ПРОЛОГ
(Сон автора прерывается, но затем он засыпает опять, и ему снится, что Разум призывает грешников покаяться. Следует описание исповеди семи грешников — семи смертных грехов. Один из них — чревоугодие.)
Из главы V
[ЧРЕВОУГОДИЕ]
Из глав V и VI
[ПЕТР-ПАХАРЬ]
(Петр-Пахарь перечисляет пилигримам добродетели, через которые ведет путь к Правде: кротость, скромность, воздержание и т. д.)
ЧОСЕР
Джеффри Чосер (около 1340—1400 гг.) — крупнейший английский писатель XIV в., называемый «отцом английской поэзии». Родился в Лондоне в семье виноторговца. Деловые связи отца открыли будущему поэту доступ ко двору. Чосер был пажом, королевским камердинером, а затем королевским курьером (дипломатические поездки во Фландрию, Францию и Италию между 1370—1378 гг.). В 1374 г. он получил место таможенного контролера при лондонском порте. В 1386 г. был избран депутатом в парламент. Когда же придворная партия во главе с герцогом Глостером захватила власть, Чосер оказался не удел. Вскоре, однако, материальное положение его вновь начало поправляться. В 1389 г. он получил надзор за рядом казенных построек. Новый король Генрих IV назначил ему пенсию.
Творчество Чосера очень ярко отразило сдвиги, наметившиеся в английской культуре второй половины XIV в. Уже начали шататься устои феодальной системы. Народное восстание 1381 г. с огромной остротой поставило вопрос об упразднении крепостнических порядков. Поднимались города.
Джеффри Чосер. С рисунка его ученика Томаса Окклива. Из английской рукописи XV в.
Заметно потускнел ореол католической церкви. Англия стояла на дороге большого исторического перелома. Поэзия Чосера проторяет путь литературе английского Возрождения. Правда, Чосер еще довольно тесно связан с традициями средних веков. Он переводит на английский язык французский аллегорический «Роман о Розе». Его продолжает привлекать столь излюбленная в средние века форма «видения» («Книга о герцогине», «Дом славы», «Птичий парламент»). Характерно, однако, что сквозь аллегории и символы у Чосера уже начинают проступать образы вполне реальной жизни. Его влечет все земное, осязаемое, человеческое. С большим интересом следит он за успехами передовой итальянской гуманистической литературы XIV в., с которой он тесно соприкоснулся в бытность свою в Италии. Особенно близок ему Боккаччо. Поэма Чосера «Троил и Крессида» (1382) представляет собой вольную обработку поэмы Боккаччо «Филострато». Поэма Боккаччо «Тезеида» и новелла о Гризельде из «Декамерона» (X, 10) того же автора появляются в «Кентерберийских рассказах» (рассказы рыцаря и студента).
Но Чосер отнюдь не был раболепным подражателем иноземных авторов. У него был широкий литературный кругозор. Он вовсе не скрывал своей склонности к ряду древних и новых европейских поэтов. Однако всегда оставался он самобытным английским писателем. Его главным источником всегда оставалась жизнь современной Англии. Из года в год внимательно наблюдал он ее течение. И в лучшем своем создании, в «Кентерберийских рассказах» («Canterbury Tales», 1386—1389), он создал удивительно яркую, красочную панораму этой жизни. По силе реалистического письма, острой иронии и свободному взгляду на вещи это произведение не имеет себе равных во всей английской литературе до XVI в. Не случайно М. Горький назвал Чосера «основоположником реализма». Правда, будучи представителем переходной эпохи, Чосер и в данной книге еще не свободен от ряда средневековых предрассудков. Однако вовсе не эти предрассудки составляют ведущую тенденцию рассказов. Его творение уже пронизано жизнерадостным вольномыслием, столь характерным для эпохи Возрождения. Чосер смело ломает вековые традиции. Он отрекается от средневекового схематизма, противопоставляя ему новый эстетический принцип, воплощенный в требовании жизненной правды. Он верит в право человека на земное счастье. Он хочет, чтобы человек не был рабом судьбы.
Он всегда готов прославить его энергию, ловкость, ум, находчивость и жизнелюбие. Вслед за лоллардами[690] он ядовито осмеивает клевретов папского Рима, высасывающих из английского народа последние соки. При этом Чосера, как впоследствии Шекспира, вовсе не страшит плебейская простонародная стихия. Он отдает дань скоромной шутке, площадным анекдотам, грубоватому комизму, хотя, когда это необходимо, умеет быть изысканным и даже галантным. Он любит разнообразие. Для каждого рассказа находит он особый тон.
Стремление к разнообразию, к богатству характеристик проявляется уже в новеллистическом обрамлении книги. Его рассказчики, встречающиеся на большой дороге, это люди из различных уголков Англии, представители различных профессий и социальных групп, с различными интересами, вкусами и пристрастиями. Объединяет их чисто внешний бытовой мотив: все они идут в городок Кентербери на поклонение гробу средневекового английского святого Фомы Бекета, убитого при Генрихе II. На пути в Кентербери они сближаются и, чтобы скоротать путь, сговариваются рассказывать каждый по две новеллы.
Чосер по неизвестным причинам не закончил своего лучшего произведения. Всего им написано двадцать четыре новеллы. Книга открывается «Общим прологом», в котором дана характеристика всех рассказчиков, вместе с тем каждой новелле предпослан особый пролог, включающий в себя беседы и споры богомольцев или же откровенные признания рассказчика о его обычаях и привычках. Избранная Чосером метрическая форма, резко отличаясь от аллитерирующего стиха англосаксонской поэзии, закладывала основы тонико-силлабического английского стиха. Велика роль Чосера в создании единого английского литературного языка, в основу которого поэт положил лондонский диалект.
КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ
ОБЩИЙ ПРОЛОГ
Паломники в Кентербери. Из английской рукописи XV в.
ПРОЛОГ ПРОДАВЦА ИНДУЛЬГЕНЦИЙ
ТОМАС МЭЛОРИ
Томас Мэлори (Malory, ок. 1417—1471), дворянин, был членом парламента, принимал участие в феодальных междоусобицах, известных под названием «Войны алой и белой розы» (1455—1485). В тюрьме написал обширный роман «Смерть Артура» (La mort d'Arthur, 1469), изданный английским первопечатником Вильямом Какстоном в 1485 году и являющийся наиболее значительным памятником английской художественной прозы XV в. В романе Мэлори широко использованы старинные сказки о рыцарях круглого стола. Перед читателем проходят король Артур и его супруга королева Гвинивера, прославленные рыцари Ланселот, Ивеин и другие воители бретонского цикла. Они служат сюзерену и прекрасным дамам, сражаются, участвуют в турнирах, разыскивают св. Грааль. Но, пожалуй, наибольшую силу обретает Мэлори, когда он описывает феодальные распри, кровавую борьбу феодальных кланов. Ведь он сам был активным участником подобной борьбы и окончил свои дни в темнице.
ИЗ РОМАНА «СМЕРТЬ АРТУРА»
Книга 21
КАК СЭР МОРДРЕД НАГЛО ЗАДУМАЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ АНГЛИИ И ПОЖЕЛАЛ ЖЕНИТЬСЯ НА КОРОЛЕВЕ, СУПРУГЕ ОТЦА СВОЕГО
Оставшись правителем всей Англии, сэр Мордред повелел составить письма, которые пришли словно бы из-за моря, а в письмах тех значилось, что король Артур убит в бою с сэром Ланселотом[733]. И тогда сэр Мордред назначил парламент и созвал баронов и принудил их провозгласить его королем. И был он коронован королем в Кентербери и устроил там пир на пятнадцать дней.
А после прибыл он в Винчестер, захватил королеву Гвиниверу и открыто объявил, что намерен на ней жениться (а она была сестрой его дяди и женой отца).
Стали готовиться к празднеству, и назначен уже был день, когда должны были они повенчаться; и тяжко было на душе у королевы Гвиниверы. Но печаль свою она открыть не осмелилась, говорила речи любезные и согласилась поступить по желанию сэра Мордреда.
И для того испросила она у сэра Мордреда позволения отправиться в Лондон и закупить там всякой всячины, потребной к свадьбе. Сэр же Мордред из-за речей ее любезных ей поверил и отпустил. А она, лишь только прибыв в Лондон, удалилась в Лондонский Тауэр[734] и, со всей поспешностью запасшись всевозможным провиантом, засела там с надежным гарнизоном.
Когда узнал об этом сэр Мордред, жестока и безмерна была его ярость. И говоря коротко, он обложил Тауэр могучей ратью, то и дело пускаясь на штурмы, наставляя стенобитные машины и паля из тяжелых пушек. Но все было напрасно, ибо королеву Гвиниверу ни добром, ни угрозами не удавалось склонить довериться сэру Мордреду и вновь отдаться ему в руки. И прибыл к сэру Мордреду епископ Кентерберийский, муж ученый и святой, и сказал ему так:
— Сэр, что задумали вы? Или вы хотите оскорбить господа бога, а затем еще опозорить себя и все рыцарство? Ибо разве король Артур вам не дядя родной, и не далее как брат вашей матери? И разве не от него же она и родила вас, его родная сестра? И потому как можно вам взять себе жену вашего собственного отца? Потому, сэр, — сказал епископ, — оставьте этот замысел, а иначе я прокляну вас книгой, колоколом и свечой[735].
— Делай, что хочешь, — отвечал ему сэр Мордред. — Я же знать тебя не желаю!
— Сэр, — сказал епископ, — да будет вам ведомо, что я не побоюсь исполнить мой долг. К тому же, вы пустили слух, будто господин мой Артур убит, а это ложь, и потому черное дело затеяли вы на этой земле!
— Молчать, лживый поп! — вскричал сэр Мордред. — Если ты еще будешь меня попрекать, я отсеку тебе голову!
Епископ удалился и предал его самому грозному проклятью, какое только можно произнести. Тогда сэр Мордред решил разыскать епископа Кентерберийского и предать его смерти. Пришлось епископу бежать, захватив с собою часть своего добра, и скрылся он в окрестностях Гластонбери. Там жил он отшельником в часовне, пребывая в бедности и в святых молитвах, ибо он хорошо понимал, что близится усобная война.
А сэр Мордред меж тем пытался письмами и посольствами, добром или хитростью выманить королеву из Лондонского Тауэра; но все его усилия были тщетны, ибо королева отвечала ему кратко и на открытые его послания и на тайные, что она охотнее убьет себя, чем станет его женой.
Но вот прибыло к сэру Мордреду известие, что король Артур снял осаду с сэра Ланселота и возвращается домой с большим войском, дабы отомстить сэру Мордреду. И тогда сэр Мордред разослал письма ко всему баронству нашей страны. Собралось к нему множество народу, ибо среди баронов общее было мнение, что при короле Артуре нет жизни, но лишь войны и усобицы, а при сэре Мордреде — веселие и благодать. Так был ими король Артур подвергнут хуле и поруганию, а между ними были многие, кого король Артур возвысил из ничтожества и наделил землями, но ни у кого не нашлось для него доброго слова.
О вы, мужи Англии! Разве не видите все вы, какое творилось злодейство? Ведь ты был величайший из королей и благороднейший рыцарь в мире, всего более любивший общество благородных рыцарей и всем им слава и опора, но даже и им не остались довольны англичане. Вот таков был прежде обычай и нрав в нашей стране, и люди говорят, что мы и по сей день не отстали от этого обычая. Увы! это у нас, англичан, большой порок, что долго нам ничто не мило.
Так было с людьми и в тот раз: им более по нраву стал теперь сэр Мордред, а не благородный король Артур, и много народу стеклось к сэру Мордреду, и они объявили ему, что будут стоять за него и в беде, и в удаче. И вот с большим войском сэр Мордред подошел к Дувру, ибо там, он слышал, должен был высадиться король Артур, и потому он задумал силой не допустить родного отца на родную землю. И почти вся Англия была на стороне сэра Мордреда, ибо люди так падки до перемен.
КАК, УЗНАВ ОБ ЭТОМ, КОРОЛЬ АРТУР ПОВЕРНУЛ ВОЙСКО И ПРИБЫЛ В ДУВР, ГДЕ СЭР МОРДРЕД ПОДЖИДАЛ ЕГО, ДАБЫ ПОМЕШАТЬ ВЫСАДКЕ, И О СМЕРТИ СЭРА ГАВЕЙНА
И вот, когда сэр Мордред со всем войском был уже в Дувре, прибыл туда король Артур с большим флотом кораблей, галеонов и карак, но сэр Мордред уже наготове поджидал его на берегу, дабы воспрепятствовать родному отцу высадиться на землю, на которой тот был королем.
Стали спускать на воду суда большие и малые, полные славных воинов; и немало благородных рыцарей тут было побито, и немало высокомерных баронов повержено в ничтожество с обеих сторон. Но король Артур был так храбр, что никто из рыцарей не смог помешать ему высадиться на берег, и его рыцари бесстрашно пробились вслед за ним. Так высадились они вопреки сэру Мордреду со всем его могуществом и обратили в бегство его и его войско.
А когда окончился бой, король Артур повелел разыскать всех своих рыцарей, кто был ранен или убит. И был найден сэр Гавейн лежащим замертво на дне большой лодки. Когда услышал король Артур про такую беду, он пошел к нему и нашел его при смерти. Горько заплакал король, убивался жестоко, он заключил сэра Гавейна в свои объятья и трижды лишился чувств. А когда пришел в себя, то сказал так:
— Увы! сэр Гавейн, сын сестры моей, вот лежишь ты, кого я всех более на свете любил! Не видать мне больше радости! Ибо теперь племянник мой сэр Гавейн, я открою тебе, что в тебе и в сэре Ланселоте была вся моя радость, на вас — все мое доверие. И теперь я лишился вас обоих, и потому не видать мне уж больше радости на этом свете!
— Ах, мой дядя, — сказал сэр Гавейн, — знайте же, что наступил мой смертный срок. И все это через собственную мою нетерпимость и ненависть, ибо моею ненавистью я навлек на себя же погибель; ведь нынче я принял удар по старой моей ране, которую нанес мне сэр Ланселот, и чувствую я, что к полудню должен буду умереть. Это из-за меня, из-за моей гордыни терпите вы такой позор и урон, ведь будь благородный рыцарь сэр Ланселот сейчас с вами, как бывал он прежде и был бы и в этот раз, эта злосчастная война никогда бы не началась; ибо он рыцарским своим благородством вместе с рыцарями его благородной крови всех ваших злобных врагов держал в страхе и повиновении. И вот теперь, — молвил сэр Гавейн, — вы пожалеете, что нет с вами сэра Ланселота. Увы! зачем я не примирился с ним! И потому прошу, любезный дядя, пусть мне дадут бумагу, перо и чернила, дабы я мог написать письмо сэру Ланселоту, начертанное моею собственной рукой...
...Тут он заплакал, и король Артур тоже, и они оба лишились чувств. А когда они пришли в себя, то король распорядился, чтобы дали сэру Гавейну последнее причастие, а потом сэр Гавейн стал просить короля послать за сэром Ланселотом и принять его с лаской и почетом как ни одного из рыцарей.
А в час полудня сэр Гавейн испустил дух. И повелел король похоронить его в часовне в стенах Дуврского замка. Там и сейчас все люди могут видеть его череп, и видна та рана, что нанес ему в поединке сэр Ланселот.
Вскоре король узнал о том, что сэр Мордред опять расположил войска свои для боя на взгорье Бархем-даун. Ранним утром король Артур поскакал туда со своей ратью, и там был у них великий бой, и много людей было побито и с той, и с другой стороны. Но под конец войско короля Артура одержало верх, и сэр Мордред со своими людьми бежал в Кентербери…
КАК ИЗ-ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ СЛУЧАЙНОСТИ С ГАДЮКОЙ СРАЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ, В КАКОВОМ СРАЖЕНИИ СЭР МОРДРЕД БЫЛ УБИТ, А КОРОЛЬ АРТУР СМЕРТЕЛЬНО РАНЕН
И на том они сговорились, что король Артур и сэр Мордред встретятся на глазах у обеих армий, каждый в сопровождении четырнадцати человек. С тем и возвратились они к королю Артуру. И сказал он:
— Я доволен, что дело удалось.
И отправился на поле.
Но уходя, король Артур наказал своему войску, что, если где-нибудь блеснет обнаженный меч, пусть нападают, не мешкая, и убьют этого предателя сэра Мордреда.
— Ибо я вовсе ему не доверяю.
Точно так же и сэр Мордред наказал своему войску:
— Если только заметите вы блеск меча обнаженного, нападайте, не мешкая, и рубите всех, кто будет перед вами, ибо я вовсе не доверяю этому перемирию.
Ибо я, — сказал сэр Мордред, — знаю наверное, что мой отец захочет мне отомстить.
И вот встретились они, как было условлено, и обо всем сговорились и согласились. Принесли вино, и они выпили друг с другом. Но в это самое время из кустика вереска выползла гадюка и ужалила одного из рыцарей в ногу. Почуяв боль, взглянул рыцарь вниз, увидел гадюку и, не чая зла, выхватил меч свой, чтобы ее убить. Но в тот же миг оба войска, заметив блеск обнаженного меча, затрубили в рога, трубы и горны и с грозными возгласами ринулись навстречу друг другу. Тогда вскочил король Артур на коня, молвил: «Увы, несчастный этот день!» — и поскакал к своим; и так же поступил и сэр Мордред.
С тех пор не видел свет ни в одной христианской земле битвы ужаснее, — разили пешие, кололи конные, носились воины по полю, и немало страшных слов было произнесено между врагами; и немало обрушено смертоносных ударов. Но король Артур скакал сквозь ряды Мордредова войска, свершал славные подвиги, какие подобает столь благородному королю, и не дрогнул ни разу. Так же и сэр Мордред поступал в тотдень подолгу чести, идя навстречу жестоким опасностям.
Так бились благородные рыцари целый день без передышки, покуда не ложились костьми на сырую землю. И продолжалась битва до самой ночи, а к тому времени уже сто тысяч человек полегло мертвыми на холмах. И жестоко разгневался король Артур, видя, сколько народу его перебито.
Вот огляделся он вокруг себя и от всего его славного войска и ото всех его добрых рыцарей лишь двух рыцарей увидел в живых: один был сэр Лукан-Дворецкий, а второй — брат его сэр Бедивер. Но и они оба были тяжко изранены.
— Иисусе милостивый! — молвил король, — куда же делись все мои благородные рыцари? Увы! зачем дожил я и увидел этот горестный день! Ибо теперь, — сказал король Артур, — наступил мой конец. Но клянусь, хотелось бы мне знать, — сказал он, — где сейчас этот предатель сэр Мордред, по чьей вине случилась вся эта беда?
Тут король Артур оглянулся еще раз и увидел сэра Мордреда — он стоял, опираясь на меч свой, а вокруг него была большая груда мертвых тел.
— Дайте мне мое копье, — сказал король Артур сэру Лукану, — ибо вон там я вижу предателя, который навлек на нас все это горе.
— Сэр, оставьте его, — сказал сэр Лукан, — ибо он несчастен. И если только вы переживете этот злосчастный день, вы еще будете отомщены. Ибо вспомните, мой господин, сон, что приснился вам минувшей ночью, вспомните, о чем предупреждал вас дух сэра Гавейна, и все же господь в милости своей сохранил вас от смерти. Потому, господа бога ради, оставьте это, ибо, благословенье богу, победа ныне осталась за вами, ведь нас с вами в живых здесь трое, тогда как у сэра Мордреда в живых нет больше никого. И потому если теперь вы прекратите бой, этот недобрый День Рока с тем и минет.
— Нет, смерть ли, жизнь ли будет мне дальше уделом, — отвечал король, — но я вижу его там одного, и он не уйдет из моих рук! Ибо больше он мне, быть может, уже никогда не попадется.
— Помоги вам бог! — сказал сэр Бедивер.
Вот взял король копье обеими руками и побежал на сэра Мордреда, крича так:
— А, предатель! Пришел твой смертный час!
Но сэр Мордред, увидя бегущего на него короля, устремился ему навстречу с обнаженным мечом в руке. Король Артур достал сэра Мордреда из-под щита и пронзил его насквозь острием своего копья. Но почуяв смертельную рану, из последних сил рванулся сэр Мордред вперед, так что по самое кольцо рукоятки вошло в его тело копье короля Артура, и при этом, держа меч обеими руками, ударил он отца своего, короля Артура, сбоку по голове, и рассек меч преграду шлема и черепную кость. И тогда рухнул сэр Мордред наземь мертвый.
Но и благородный король Артур повалился без чувств на землю. И много раз он падал без чувств, а сэр Лукан с сэром Бедивером его поднимали, и так, потихоньку, из последних сил, довели они его до маленькой часовни у самого моря, и когда король очутился там, ему словно бы сразу полегчало. Вдруг слышат они крики на поле.
— Пойди, сэр Лукан, — сказал король, — и узнай мне, что означает этот крик на поле.
Сэр Лукан с ними простился, ибо был он тяжко изранен, и отправился на поле, и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и лихие воры и грабят и обирают благородных рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты и добрые кольца и драгоценные камни во множестве. А кто еще не вовсе испустил дух, они того добивают, ради богатых доспехов и украшений.
Разглядев все это, поспешил сэр Лукан, как мог, к королю и поведал ему обо всем, что видел и слышал.
— И потому мой совет, — сказал сэр Лукан, — чтобы мы доставили вас в ближайший город[736].
ШОТЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ XIV-XV вв.
Джон Барбор
Джон Барбор (1316—1396) — выдающийся шотландский поэт. Родился в Эбердине, обучался в Оксфордском университете, был клириком, дипломатом и королевским чиновником. Его самое значительное произведение — обширная (около 14 000 стихов) поэма «Брюс» (1376 г.), прославлявшая освободительную борьбу шотландцев под предводительством Роберта Брюса с английскими завоевателями (начало XIV в.). Поэма эта, встретившая живой отклик в широких кругах, стала национальным эпосом Шотландии.
БРЮС
[Начинается патриотическое творение Барбора с прославления свободы, с призыва восстать против полчищ английского короля Эдварда I.]
[Далее говорится о самоотверженной борьбе патриотов, руководимых национальным героем шотландцев — Робертом Брюсом — против безжалостных захватчиков — английских феодалов и их короля — Эдварда I (а затем и его сына Эдварда II).
Разбитый при Метвине, травимый собаками и преданный шотландскими феодалами, потеряв в борьбе жену и 14-летнюю дочь, Брюс бежит в Ирландию, дабы переждать «эпидемию измен». Когда король шотландцев ступил на почву Ирландии, к нему подошла простая крестьянка:]
[Брюс возвращается снова на родину и после тяжелой борьбы изгоняет английских захватчиков за пределы Шотландии. Ему остается взять только замок Стирлинг, где находился сильный английский гарнизон. Из-за Стирлинга разгорелась решающая битва при Баннокберне, вошедшая в историю как пример шотландской доблести и славы.
Целых пять книг своего эпоса посвящает Джон Барбор описанию этой битвы (кн. IX—XIII).
Брюс и его свита заранее подготовили оборонительную полосу в долине шириной 8—10 миль, имеющей всего одну твердую узкую дорогу, в то время как вправо и влево от нее располагались болота, почти непроходимые. Воины Брюса искусно замаскировали ловушку для вражеской конницы: железные колючки, старые морские якоря, неглубокие канавки, прикрытые дерном, волчьи ямы...
23 июня 1314 г. Брюс выслал навстречу приближающемуся войску англичан конную разведку под командой маршала Кейта и генерала Дугласа:]
[Английский король Эдвард II въезжает на холм, чтобы оглядеть перед битвой вражеские полки.]
[Впервые в истории шотландские войска наголову разгромили огромную английскую армию, состоявшую из отборных арбалетчиков, рыцарской конницы, многочисленной пехоты.
Английский король Эдвард II едва не попал в плен. Его лучшие рыцари и гвардия — все погибли. При жизни Брюса англичане не дерзали больше нападать на Шотландию.]
Генрисон
Роберт Генрисон (1425—1508) — шотландский поэт предренессанской поры. Был школьным учителем, позднее стал магистром, преподавателем университета в Глазго. Его перу принадлежат дидактические стихи и поэмы, пастораль в октавах «Робин и Макейл», поэмы на сюжеты античных сказаний: «Орфей и Евридика» и «Завещание Крессиды». Последняя из названных поэм представляет собой продолжение поэмы Чосера «Троил и Крессида». Значительный интерес представляют «Нравоучительные басни» Генрисона, принадлежащие к лучшим образцам этого жанра в европейской литературе позднего средневековья. Написанные живо и остроумно, они содержат жанровые зарисовки, изобилующие выразительными бытовыми деталями. В этом отношении примечательна басня «О городской и сельской мышах», приобретшая значительную известность. Басня осуждает богатую праздную жизнь, превращающую человека (а в басне — городскую мышь) в черствого себялюбца, способного покинуть ближнего в трудную минуту. Написана басня семистрочной «королевской» строфой (ав ав всс), впервые введенной в литературный обиход шотландским королем поэтом Яковом I (начало XV в.).
БАСНЯ О ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКОЙ МЫШАХ
Чешская литература
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА XIV ВЕКА
Нижеследующие три стихотворения по всем признакам принадлежат поэтам XIV в. (Рукопись стихотворения «Деревья оделись листвою...» хранится в Вене, рукописи двух других стихотворений — в Праге.) Попытки некоторых современных литературоведов (В. Черный) установить зависимость этих стихотворений от западноевропейских образцов (провансальских и итальянских) не могут быть признаны убедительными: и свободная форма, и содержание этих стихотворений в достаточной степени самобытны, чтобы воспринимать их как самостоятельные образцы чешской национальной поэзии. В стихотворении «Деревья оделись листвою...» очень характерен свойственный чешскому жизнерадостному мироощущению неожиданный переход от любовной грусти к совершенно шутливой концовке.
ДЕРЕВЬЯ ОДЕЛИСЬ ЛИСТВОЮ…
СКОРБИ ТАЙНОЙ И ГЛУБОКОЙ...
СТРАЖА ЗОРКАЯ ЛУКАВА...
ЛЕКАРЬ
«Лекарь» («Mastickai», точнее — «Продавец мазей») является наряду с мистерией о «Гробе господнем» самым старым из дошедших до нас образцов чешской драматической поэзии. Автором пьесы был, вероятно, кто-либо из «жаков», т.е. студентов, или вообще человек ученый; это явствует хотя бы из того обстоятельства, что все ремарки к тексту написаны по-латыни и, кроме того, частично написаны по-латыни и роли трех жен-мироносиц. Поэтому можно допустить, что пьеса была создана студентами и разыгрывалась ими в большие церковные праздники. Однако особенности языка и орфографии указывают на ее принадлежность к периоду более раннему, чем 1348 г. (год основания в Праге постоянного университета), а именно — к последним десятилетиям XIII столетия. Известно, что в 90-х годах названного столетия король Вацлав II уже пытался создать в Праге университет, по-видимому, «Лекарь» и разыгрывался студентами этого «предварительного» университета.
Комедия дошла до нас в форме большого, но незаконченного отрывка. Наличие среди ее действующих лиц библейских и евангельских персонажей, затрагиваемые ею темы умащения христова тела и воскресения Исаака дают основание предположить, что «Лекарь» был чем-то вроде веселой интермедии, разыгрываемой между эпизодами главной пьесы религиозного содержания.
Ценность пьесы для современного читателя заключается главным образом в том, что в ней с вольной и безудержной веселостью получил выражение чешский народный юмор. В пьесе вышучивается очень много элементов современного ей быта: наука, представленная медициной и фармакологией, религия (жены-мироносицы и Авраам), кичливость своей родовитостью (хвастовство Пустерпалка и Рубина), супружеские отношения (ссора лекаря с женой), легковерие людей, лечащихся у шарлатанов, и т.п. Многие шутки не лишены сатирической заостренности, делающей пьесу интересной и в качестве своеобразного социального документа о быте эпохи.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАСеверин Гиппократ, лекарь.
Его жена.
Рубин из Бенатка (Венеции), шут.
Пустерпалк, слуга лекаря.
Три Марии.
Авраам.
Исаак.
(поют).
(Закончив монолог, Рубиу убегает в публику.)
(Рубин не откликается.)
(Рубин не откликается.)
(Выложив лекарства, Рубин убегает в публику.)
(Рубин не откликается.)
(женам-мироносицам).
(Рубину)
(Авраам, и Рубин вносят Исаака.)
(Северину).
Пастух. Миниатюра XV в.
(Северин натирает Исааку мазью задницу. Исаак тотчас же вскакивает.)
(женам-мироносицам).
(женам-мироносицам).
(женам-мироносицам).
СМИЛЬ ФЛЯШКА
Пан Смиль Фляшка из Пардубиц (Pan Smil Plaska z Pardubic), замечательный чешский деятель своего времени, родился в середине XIV столетия (год рождения точно неизвестен), погиб в 1403 г. в разгар междоусобных распрей между королями Вацлавом IV (он же германский император Венцель) и Зигмундом (Сигизмундом), представлявшим интересы чешских патриотов, сторонником которых и являлся Смиль Фляшка. В периоды, когда у власти находилась партия Зигмунда, Смиль Фляшка назначался этим последним «паном городов» (т. е. градоправителем) Старого и Рихенберга. В 1396 г. он был назначен на должность «высшего писца» чешского королевства (нечто вроде государственного летописца). Кроме того, был бакалавром Пражского университета.
Политическая, административная и историографическая деятельность не помешала Смилю Фляшке заниматься и поэтическим творчеством. Его литературное наследие значительно и по объему, и по содержанию. Ему принадлежит заслуга составления первого собрания старейших чешских поговорок («Sbirka nejstarsich prislowi ceskych») — сокровищницы народной мудрости и юмора.
В своих оригинальных произведениях Фляшка, преследуя дидактические цели, зачастую осуществляет их средствами веселой шутки; немало бытовых сатирических зарисовок в его сатирической поэме «Конюший и школяр» («Podkoni azak»), где эти два лица стараются доказать друг другу превосходство своей профессии и своего общественного положения, высмеивая дурные стороны профессии и положения оппонента. Таково же и самое значительное по объему его произведение — «Новый совет» («Nowa Rada») (имеется в виду совет зверей), где за масками выступающих с речами зверей ясно обозначаются черты разных сословий и классов. Элемент сатиры отсутствует лишь в поэме «Советы отца сыну» («Rada Otce Synowi»), представляющей собой пространный, в несколько сот стихов, монолог, в котором «мудрый добродетельный отец» поучает сына всем мирским и духовным добродетелям.
Характерна по своеобразному сочетанию морализации с юмором и шуточная поэма Фляшки «Спор воды с вином» («Swar Wody s Winem»), приводимая ниже с незначительными сокращениями. Спор как будто бы кончается вничью, но внимательный читатель сразу заметит, что симпатии автора все же больше склоняются на сторону веселого вина, чем добродетельной и полезной воды. Симпатиям этим автор, как средневековый христианский моралист, не может дать полного простора, но заключительные слова поэмы не оставляют на этот счет никаких сомнений: лишь тот человек не станет пить вина, «у кого пуста мошна».
Литературное наследие Смиля Фляшки ценно и еще в одном отношении: строя свои поэмы в форме живых диалогов или даже монологов («Советы отца сыну»), автор старался воспроизводить, насколько это позволяла стихотворная форма, современную ему разговорную бытовую речь; в результате его поэмы являются незаменимым подспорьем для изучения живого чешского языка той эпохи.
СПОР ВОДЫ С ВИНОМ
Сбор урожая. Миниатюра из Библии Вацлава IV, ок. 1390—1400 гг.
Польская литература
РАЗГОВОР МАГИСТРА СО СМЕРТЬЮ
«Разговор магистра со смертью» — самый значительный памятник польской средневековой поэзии. Он дошел до нас в рукописи, хранящейся в библиотеке Плоцка. Рукопись относится к началу XV в., но, как было установлено, является списком более древнего памятника, и дату создания поэмы следует отнести по меньшей мере на столетие раньше.
Разрабатывая сюжет, широко распространенный в средневековой Европе (пляски смерти; Danses macabres во французской средневековой поэзии; Totentanze — в немецкой), неизвестный польский автор проявляет значительную самобытность и оригинальность. Он порывает с общеевропейской традицией, подающей эту тему как трагическую аллегорию, и создает произведение, которое, несмотря на мрачность своей основной мысли — о всемогуществе смерти, — оказывается юмористическим, обнаруживая даже в некоторых местах тенденцию к бытовым комическим зарисовкам. Характерно, что смерть все время иронизирует, подшучивает над своим устрашенным собеседником — мудрецом, «ставшим похожим на глупца». Подчас юмор поэмы перерастает в социальную сатиру. Автор проходит по всем ступеням современного ему общества: в «школе смерти» мы видим короля, воевод, шляхту, мастеров (т. е. городских ремесленников), «крестьян, простой народ». Так же полно представлена и иерархия церковная: папа, епископы, кардиналы, прелаты, «смиренные пономари», монахи — добрый и злой. При этом особенно громко звучат сатирические мотивы, когда речь в поэме заходит о пороках католического клира. По словам смерти, многим прелатам уготовано место в аду; со злой издевкой говорит она о чванливой пышности кардиналов и епископов, о беспутной жизни недостойных монахов.
Польский рыцарь XIII—XIV вв.
Основная мысль поэмы, отразившей оппозиционные искания демократических кругов тогдашнего польского общества, это мысль о природном равенстве людей, облеченная в характерные для средних веков фантастические религиозные формы. Смерть выступает в поэме в роли великого уравнителя. Для нее не существует никаких сословных отличий. Феодалы не имеют для нее преимуществ перед смердами. Смерть представлена в поэме как одно из проявлений мудрой природы, делающей ее неразлучной спутницей жизни. В поэме очень ярко выступает местный элемент, придающий поэме своеобразный реалистический оттенок. Даже перечисляя зверей, смерть называет только тех из них, которыми кишели леса и пущи средневековой Польши, и у читателя возникает представление об охотах и ловитвах той эпохи.
То обстоятельство, что автор особенно тщательно останавливается на характеристике двух монахов, доброго и злого, дало повод некоторым современным исследователям предположить, что и сам автор был монахом. Частые реминисценции из священного писания, используемые смертью в качестве иллюстративного материала, как будто бы тоже подтверждают такое мнение. Однако не следует упускать из виду, что в ту эпоху всякая образованность неизбежно была связана с церковной тематикой, и потому наличие такой тематики в литературном произведении еще никак не доказывает, чтобы автор его обязательно был и сам церковником.
Поэма полностью до нас не дошла: она обрывается на разговоре о женах-великомученицах, но сохранился русский ее перевод, относящийся к XVI в. Из него мы узнаем конец поэмы.
Польские изразцы позднего средневековья.
Крестьяне платят чинш. Миниатюра из рукописи XIV в.
ПЕСНИ САНДОМИРЯНИНА
Три песни сандомирянина дошли до нас в рукописи, относящейся к началу XV в. В двух первых песнях автор, «смиренный капеллан из Сандомира», как он сам себя называет, говорит о божьем всемогуществе, о человеческом грехе и о загробной каре. В третьей песне автор рассказывает о событии из истории Польши: в 1259 г. татарские полчища напали на Сандомир, сожгли его, перебили множество жителей, остальных увели в плен. В этой песне автор, наверно и сам того не желая, разоблачает тех, кто должен был нести ответственность за судьбу города. Так, король Болеслав, назначив воеводой Петра Кремпу, сам при приближении врага поспешил уехать в Серадз. Малодушный наместник без боя раскрыл перед врагом ворота Сандомира. Декан и каноник отправляются в Рим к «папе милому» Бонифацию VIII, но получают от него вместо помощи отпущение грехов пострадавшему городу «на столько лет вперед, сколько дней в году», как гласила папская булла.
ОТРЫВКИ ИЗ САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
До нас, к сожалению, дошли только скудные остатки польской народной поэзии средних веков. Это объясняется прежде всего тем, что католическая церковь, усиленно насаждая в Польше латинскую письменность, с пренебрежением и неприязнью относилась к народному творчеству, тем более что в народных творениях подчас громко звучала насмешка над католическим клиром и светскими феодалами, как это явствует из приводимых ниже отрывков. Запись народной сатиры на ксендзов, сделанная в 1414 г., находится в краковской библиотеке. Любопытно отметить, что этот отрывок был обнаружен приложенным к трактату по теологии. Сатира на Стшелецкого дошла до нас в записи 1483 г. (там же). Сатира на сватовство представляет собой фрагмент, реконструированный по нескольким вариантам (один из них в прозе) Александром Брюкнером.
ИЗ НАРОДНОЙ САТИРЫ НА КСЕНДЗОВ
ИЗ САТИРЫ НА ВОЕВОДУ СТШЕЛЕЦКОГО
ИЗ НАРОДНОЙ САТИРЫ НА СВАТОВСТВО
Фольклор южных славян
ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС ЮЖНЫХ СЛАВЯН
В статье «Песни разных народов» Н. Г. Чернышевский писал: «Не у всех младенчествующих народов есть прекрасная и богатая парадная поэзия. Чем же обусловливается ее расцвет? Энергиею народной жизни. Только там является богатая народная поэзия, где масса народа (нет надобности прибавлять, что слово народ мы здесь принимаем в смысле нации, племени, говорящего одним языком) волновалась самыми сильными и благородными чувствами, где совершались силою народа великие события. Такими периодами жизни были у испанцев войны с маврами, у сербов и греков — войны с турками» (Полн. собр. соч. Т. II. М., 1949. С. 295). Слова Н. Г. Чернышевского в полной мере могут быть отнесены также к болгарам, которые на протяжении веков вели героическую борьбу против турецких завоевателей. Эта борьба оставила неизгладимый след в поэтическом творчестве южнославянских народов. Она нашла свое яркое отражение в юнацких (т. е. богатырских) песнях, посвященных злополучной для болгар и сербов битве на Косовом поле (1389 г.), результатом которой явилось падение болгарского царства (1394 г.) и присоединение большей части Сербии к Турции. Из века в век пели народные певцы о героизме, бесстрашии и любви к родине славянских богатырей (царь Лазарь, Милош Обилич и др.), отдавших свою жизнь за свободу отчизны. Их стойкость в борьбе, их пламенный патриотизм не могли не вдохновлять на борьбу с иноземными поработителями лучших людей Болгарии и Сербии. Из века в век осуждали также народные певцы предателей-феодалов, изменивших на Косовом поле славянскому делу (Вук Бранкович). Н. Г. Чернышевский высоко оценил песни Косовского цикла (две из них, отмеченные великим русским критиком, мы приводим ниже).
С песнями Косовского цикла связан другой обширный южнославянский эпический цикл, героем которого является могучий юнак Кралевич Марко. У Марко (как и у большинства героев Косовского цикла) есть свой исторический прототип. Это «князь, царь или деспот Болгарии», бывший сыном македонского владетеля краля Волкашина (по-сербски — Вукашина). Когда турки надвинулись на Македонию, Марко признал их власть и в Косовской битве принимал участие (как турецкий вассал) на стороне турок. В 1394 г. он погиб во время похода в Валахию. Трудно сказать, чем мог привлечь исторический Марко народных поэтов. Как бы то ни было, Кралевичу Марко суждено было стать наиболее популярным героем южнославянского эпоса. В народных песнях образ Марко приобрел ряд новых черт. К нему было приурочено множество самых разнообразных легенд, зачастую языческого происхождения. Он оказывается то сыном реки Вардара, то сыном какого-либо фантастического существа (вилы, самовилы, змея). Согласно одной из поэтических версий, Марко — крестьянский сын, чудесным образом приобретший богатырскую силу. Ему верно служит шестикрылый конь Шарко, Шарец или Шаркулия. Служба Марко турецкому султану оказывается роковым следствием отцовского проклятия. При этом Марко отнюдь не изображается как покорный вассал повелителя правоверных. Ему ничего не стоит в порыве гнева убить султанова визиря или нагнать страху на самого султана. Дерзкий юношеский задор — отличительная черта характера Марко. Он всегда готов вступиться за обиженного и угнетенного, честного бедняка предпочесть высокомерному феодалу, прийти на помощь людям, изнывающим от произвола иноплеменных насильников. Во всем этом проявляется глубокая народность образа Кралевича Марко, который и в сербских, и в болгарских песнях выступает в качестве борца за справедливость, непримиримого врага турецкого деспотизма и тирании власть имущих.
Наряду с многочисленными юнацкими песнями (т. е. богатырским героическим эпосом) у южных славян есть еще песни сказочного содержания, сохранившие отзвуки древнейших языческих верований, песни лирические (так называемые женские песни), обрядовые, овчарские (пастушеские), потешные и др. Особой разновидностью юнацких песен являются гайдуцкие (хайдутские) песни, воспевающие героическую борьбу народных мстителей гайдуков против невыносимого гнета турок и их приспешников. Эта борьба приняла особенно широкий размах с XVI в., когда в период упадка турецкого государства на Балканском полуострове воцарился полный произвол, когда правительственные чиновники и солдаты (янычары) превратились в банду вымогателей и разбойников, посягавших на честь, имущество и самую жизнь местного населения. В связи с этим, начиная с XVI в., гайдучество становится главным содержанием южнославянского, преимущественно болгарского, эпоса. Безыменные поэты воспевают подвиги народных мстителей и мстительниц, их ненависть к поработителям и эксплуататорам, их любовь к угнетенной отчизне.
Нет сомнения в том, что южнославянский эпос зародился во времена глубокой древности. Однако на протяжении веков он существовал только в устной форме. Лишь в начале XIX в. Вук Караджич издал сборник сербских народных песен (1814—1815), положивший начало более систематическому собиранию и изучению сербской народной поэзии. К середине XIX в. относятся первые более или менее обширные сборники болгарских народных песен. В отличие от эпоса западноевропейских народов, который угас еще в средние века, южнославянский эпос, подобно русским былинам, продолжал оставаться замечательным памятником живого народного творчества. При этом одной из его характерных особенностей является то, что он не подвергся сколько-нибудь заметным воздействиям со стороны церковной идеологии (в отличие, например, от средневекового французского эпоса, испытавшего довольно сильное влияние христианских воззрений). По словам М. Горького, «религиозных мотивов в русском — и вообще в славянском — эпосе вы найдете очень мало. Можно думать, что славянский эпос меньше засорен влиянием церкви, больше сохранил отзвуков языческой древности» (М. Горький. О религиозно-мифологическом моменте в эпосе древних).
СЕРБСКИЕ ПЕСНИ
ВУК КЛЕВЕЩЕТ НА МИЛОША
ЦАРЬ ЛАЗАРЬ И ЦАРИЦА МИЛИЦА
(Битва на Косовом поле[744])
Милош Обилич. Стенопись монастыря Хиландара.
КТО ЛУЧШИЙ ЮНАК?[746]
МАРКО ПАШЕТ
БОЛГАРСКИЕ ПЕСНИ
ЗОЛОТАЯ ЯБЛОНЯ[749]
Болгарский золотой сосуд IX в.
* * *
СМЕРТЬ МАРКО-ЮНАКА[751]
ТУРОК ШЕЛ ЛЕСОМ[752]
Болгарские воины. Миниатюра. Псалтырь Томича XIV в.
СИРОТКА ГЕНЧО[753]