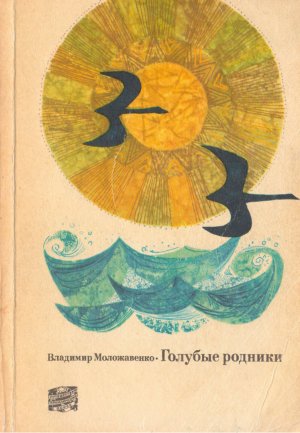
*Главная редакция географической литературы
Оформление художника
А. Е. Скородумова
М., «Мысль», 1971
Сыну моему Андрею
Как начиналась эта книга
Жить — значит путешествовать.
Восточная мудрость
Человеку трудно дается привычка вставать вместе с солнцем. Как раз в то время, когда крепче обычного сон. Как раз в то время, когда грезятся невероятные, но вполне земные сны.
И все-таки тот, чьи шаги гулко звучат на рассвете, становится свидетелем самого обыкновенного чуда: он видит, как рождается новый день, и каждый раз заново открывает для себя простой и удивительный мир, что именуется белым светом.
Есть люди, которые этого не понимают.
Когда мои товарищи узнали, что я отказался от путевки на лазурный южный берег и собираюсь с рюкзаком за плечами отправиться в неблизкое путешествие на «перекладных» да еще и по бездорожью, они не то чтобы удивились, а откровенно пожалели меня: «Какой же это отпуск по степям бродить?» Другие начали сочувствовать: «Бедный, его и комары загрызут, и на сухарях он посидит, а какие удобства в домах для приезжих?»
…Было все: и мошкара одолевала, и разносолами никто не угощал, и многое другое, к чему не привыкли избалованные горожане. Но было и другое: я заново открыл для себя Дон. Я видел, как встречает он рассвет и как гремят его голубые родники. Я никогда не подозревал прежде, сколь дивную красоту несет он на своих берегах.
Я всегда считал и считаю, что страсть к дороге — в самой природе человеческой. Зов этой природы заставлял нашего предка покидать обжитые края и, пренебрегая насмешками осторожных домоседов, отправляться на поиски незнаемого, испытать радость дороги. Сила этой природы сделала нашу землю такой, какова она есть, — обитаемой и родной.
Должен признаться: не в одночасье собрался я в это долгое путешествие. Я мечтал о нем давно, не год и не два, и, случалось, до глубокой ночи просиживал над картой, выбирая дорогу. А когда приходило осеннее ненастье, с тихой грустью думал, что вот и еще минуло одно лето, а я все еще не собрался. Давно стали пухлыми папки с газетными вырезками, и уже тесно было на книжных полках, — я собирал все, что писалось о Доне. И когда почувствовал, что должен наконец все увидеть своими глазами, ко всему прикоснуться, встретиться с людьми и пожить с ними рядом, решил: пора…
Так вот и родилась эта книга — невыдуманный рассказ о свидании с дорогой, свежим ветром, веселой молодостью, о встрече с голубыми донскими родниками.
Здравствуй, Дон!
От первых дней до самой колыбели,
Мой Тихий Дон, любимая река,
Твои мне волны часто песни пели,
Мне песен тех забыть нельзя никак.
Под звон волны здесь повстречал когда-то
Своей любви я первую весну.
Под звон волны в тревожный год солдатом
Из этих мест ушел я на войну.
В часы сражений и в походах дальних,
В чужой и незнакомой стороне
Я слышал звон твоей волны хрустальной,
И это силы придавало мне.
Михаил Карамушко
На этой реке я родился и вырос, здесь мой дом и моя работа.
Уверен, что прадеды мои недаром выбрали здешние степи для своих куреней: бежав с Хортицы после указа Екатерины Второй, упразднившей запорожскую вольницу, они нашли здесь то, что было им дороже жизни, — свободу и раздолье.
Я знаю, как трудно давалось моим прадедам счастье на обетованной земле. Полвека гнул дед Варлам спину на кулаков Белокобыльских и умер в нищете — ни кола, ни двора, а дети его, так и не открыв букваря, пошли в батраки.
Сколько же горючих слез впитала ты в себя, родная земля! Каждую весну выходил из берегов батюшка-Дон, гулял на широком просторе, а потом спадала вода, и опять на лугах проступали соляные проплешины с кустиками горькой полыни. Несладок бедняцкий хлеб и лиха бедняцкая доля!
Отец рассказывал мне, как осенью восемнадцатого года под Царицыном погиб его товарищ — тоже бывший батрак — Алексей Пастухов. Начдив Морозовско-Донецкой дивизии Мухоперец послал его с продотрядом за хлебом. Белобандиты выследили отряд и жестоко расправились с красноармейцами. Ржавыми немецкими штыками вспороли они им животы и натолкали туда пшеницы. Лютые наши враги хорошо понимали, за что воюет рабоче-крестьянская Красная Армия: за скупую эту землю, за хлеб, что нещедро родит она, за донскую вольницу, отнятую царем и богатеями.
А четверть века спустя отец мой принял смерть от немецких фугасок у станицы Вольно-Донской — даже в названии непокорной и гордой. Много позже, когда я вернулся с фронта, очевидцы его гибели рассказали мне, как отец, истекая кровью, жадно обнимал холодевшими руками землю и припадал к ней губами, будто хотел набраться сил, чтобы жить и увидеть занимавшийся над Доном рассвет нашей победы.
Милая, суровая в неприметной степной красе, донская земля… Я всегда любил тебя сыновней любовью. Сейчас, когда путешествие позади (а прошагать, проплыть и проехать довелось мне — не много и не мало — почти две тысячи километров), ты стала для меня еще ближе, еще роднее и дороже.
Под Тулой, где Дон начинается, я видел маленький ручеек, с трудом пробиравшийся через камыши. Стаду гусей было на нем тесно. А в низовьях, у Азова, теснились, тоже как гуси, громадные морские теплоходы.
На землях тульской, липецкой, воронежской, волгоградской, ростовской вбирает в себя Дон много больших и малых притоков, становясь могучей, но все такой же, как и у самых истоков, тихой и задумчивой рекой. Наверное, был он таким же и сто, и двести лет назад. Впрочем, таким ли? Если заглянуть в глубины прошлого, обнаружишь: не все реки текли, как сегодня. И не Волгу, а Дон почитали когда-то главной рекой на Руси.
Это на донских берегах выходили древние племена русов на смертный бой с недругами. На его волнах рождался в петровские времена русский флот. На его берегах вспыхивали костры Разина и Пугачева, здесь звенели буденновские клинки, а в Великую Отечественную решалась судьба Сталинграда и всей России. Да только ли России?
Знавал Дон и первопроходцев.
К лету 1389-му от рождества Христова относится «хождение» митрополита Пимена с Игнатием Смольянином от истоков до устья Дона и дальше к Царьграду. От Рязани до Иван-озера Пимен добирался посуху. Три деревянных судна и большая лодка были поставлены на колеса. Потом опустили суда на воду, плыли мимо Непрядвы и поля Куликова, мимо Дивных гор высоких и гор Красных каменных. Еще не развеяли ветры пепел сожженных Мамаем деревень, и было то путешествие «плачевно и унынливо бяше бо пустыня зело всюду, не бе бо видети тамо ничтоже, ни града, ни села». Выехал Пимен из Рязани на масленицу и только в мае добрался до Азака, нынешнего Азова.
Через триста лет после Пимена по Дону плавал Петр Первый. Плавал не ради отдыха, «токмо пользы для». В поездке Петр был также исследователем — сопровождавший его адмирал Крюйс подробно описывал в журнале судоходную обстановку от самого Воронежа до Азовского моря, измерял каждые полчаса глубины, вычислял с помощью компаса и часов географическое расположение того или иного места. Петру нужна была точная карта реки: Русь искала выхода к морю…
А еще три века спустя увидели весь Дон Валентина Терешкова и Валерий Быковский, и длилось их путешествие всего несколько минут. Приземлившись они записали: «Голубой извилистой нитью виднелась нам во время полета древняя русская река Дон. Красивы зеленеющие плавни и придонские степи, чудесны города и села замечательного края…»
Мое «хождение» от истоков до устья выглядело так: рюкзак за плечами, карты, блокноты, туристский примус да нехитрый провиант — вот и все снаряжение. То, что видел, — об этом хочу рассказать.
Здравствуй же, Дон!
Иванович ли он?
Откуда Дон берет начало,
Где скрыта вечная струя,
Что вниз по руслу величаво
Уходит в дальние края?
Анатолий Софронов
Сколько помню, Дон всегда величали в наших краях Батюшкой и обязательно добавляли: «Иваныч».
А учитель географии объяснил: именуют его Иванычем потому, что он вытекает из Иван-озера. Об этом во всех энциклопедиях и путеводителях написано.
Правда, учитель и еще рассказывал: про карту венецианца Андреа Бианко. По этой карте выходило, что истоки Дона где-то чуть не на берегах Ледовитого океана. Чего только не придумают, дав волю фантазии…
Я хорошо помню сказку про Иван-озеро, записанную Львом Толстым. Было, говорится в ней, два сына у старика Ивана: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был постарше, сильнее, а Дон Иваныч — меньшой сын — послабее. Жили одной семьей поначалу, да пришло время расстаться — сыновьям судьбу пытать. Вывел их отец за околицу, велел слушаться его во всем и дорогу каждому указал. Только не послушался Шат отца, сбился с пути да и заблудился в болотах. А Дон Иваныч шел туда, куда отец приказывал, и всю Россию прошел, стал знатен да славен.
Под Тулой, в Новомосковске, видел я Иван-озеро, бродил по его зеленым берегам, искупался в нем и не нашел того места, где будто бы Дон берет начало. Строго говоря, самого Иван-озера тоже нет. Не подумайте, что оно высохло, нет! Теперь оно — часть большого Шатского водохранилища, из которого пьет воду химический комбинат. Вот Шат, действительно, берет начало в Иван-озере.
А Дон?
Отгорожен он давно от Иван-озера железнодорожной дамбой и начинается на окраине Новомосковска, в Пионерском парке.
Откуда же возникла версия?
Дон никогда не вытекал из Иван-озера, его щедро питают лесные родники. Но триста с лишним лет назад Петр Первый, пытаясь соединить Волгу с Доном, прорыл канал от Дона к Иван-озеру. Лишь одну весну была в этом канале вода, а потом его заилило, зарос он и поныне стоит заброшенным. Я видел бывшее русло старинного канала. Теперь в нем даже лужицы нет — в иной стороне бьют из-под земли родники, питающие Дон.
В трудах по географии можно найти еще и такое предположение: истоком Дона следует считать реку Урванку. Я видел эту реку. Нельзя ее считать истоком Дона, она лишь первый его левый приток.
Уже возвратившись домой, я перелистал труды по географии, хотел докопаться до истины: что же считать истоком реки, и не нашел ясного ответа. Определенных правил нет, больше исключений, и они настолько нестабильны, что трудно на них положиться. Большинство географов считает истоком реки (если их несколько) тот, который имеет большую длину, независимо от водосбора.
Так и Дон. В Пионерском парке Новомосковска берет начало ручеек с красивым именем Березка. К слову сказать, окрестили его так юные следопыты. Целых три километра несет он свои воды по лесной впадине, прежде чем соединится с Урванкой. А длина Урванки — меньше километра. Березку питают родники, а Урванку — откачиваемые шахтные воды.
А назван ручеек Березкой недаром. Будто на смотру выстроились по донским (будем справедливы к маленькому ручейку, в конце концов, он все-таки Дон) берегам белоствольные красавицы березки, похожие на кокетливых балерин, зябко поеживаются они под утренним ветерком, а листва отливает густо-золотым и багряным цветом. Чуть поодаль — кряжистые дубки, ели, буйное цветение черемухи. Этот парк посажен в 30-х годах. Тогда еще только начинался город юности — Новомосковск.
Я шел к самому верховью ручейка — не дошел. Упрятали его истоки глубоко под землю, в стальную трубу, и выстроили над родником прекрасный кинотеатр «Восход». Рядом ни обелиска, ни памятной доски в честь Дона.
Я долго стоял у родника, потом пил и не мог напиться студеной ключевой воды.
Первое свидание с новорожденным Доном… Сколь долгий и трудный путь предстоит одолеть тебе, пока вырастешь в богатыря!
Рассказывают, в Великую Отечественную войну в этих местах вело наступление гвардейское кавалерийское соединение. Генерал, выстроив конников, обратился к ним с такими словами:
— Казаки! Перед нами берега Дона! Прославим наш родной Дон…
Конники, среди которых было много донцов, недоуменно переглянулись. О каком Доне ведет речь их генерал? Разве есть еще один Дон? Не ошибся ли командир?
Нет, генерал был прав.
Чуть ниже Пионерского парка, к деревням Большие Колодезя, Малые Колодезя, Дон уже гремит настоящей рекой. На сотню шагов — три десятка родников. И вода светлая, вкусная, казаки называют ее в низовьях еще сладкой… Узенький мост. Спешат по нему шахтеры, а может и химики, на смену. Щиток с надписью: «Река Дон». Первый щиток…
Вот так он и начинается. А в пути к южному морю примет в себя воды многих и многих сыновей и дочерей: Непрядву и Мокрую Таболу, Красивую Мечу и Быструю Сосну, Воронеж и Потудань, Тихую Сосну и Икорец, Битюг и Осередь, Черную Калитву и Богучарку, Хопер и Медведицу, Иловлю и Царицу, Чир и Цимлу, Кумшак и Кагальник, Северский Донец и Сал, Тузлов и Темерник, Чулек и Койсуг, Западный Маныч и Большой Егорлык… Но все это еще впереди.
Где живет тульский левша
Мы тебя, красавец, не напрасно
Окрестили Новою Москвой…
Степан Поздняков
К истокам Дона я добирался через Тулу — город, известный всему миру не только самоварами и пряниками, но еще и одним из старейших на Руси оружейным заводом. Издавна славились тульские мастера, которые могли делать и винтовки, и самовары, и баяны, и печь пироги, и лить колокола. Недаром ходит в народе поговорка «Туляки блоху подковали». Прислали будто бы английские мастера в подарок русскому царю стальную блоху, сделанную в натуральную величину, а тульский мастеровой подковки ей на лапки поставил гвоздиками крошечными, только в микроскоп и заметишь…
За полтора века, минувшие с той поры, никто еще не превзошел Левшу. Правда, сами туляки шутят, что он уже не живет в их городе: перебрался в Новомосковск и даже профессию переменил.
Возле проходной Новомосковского химического комбината я прочитал на мозаичном панно: «Наша страна впервые использовала атомную энергию в мирных целях». Атом подковать не то, что блоху.
Два дня провел я в царстве ее величества Большой Химии и не переставал удивляться.
Когда знакомишься с комбинатом, образно говоря, прикасаешься к чуду. В самом деле. Представьте себе громадный цех высотой в восемь этажей. Восемь секций, оснащенных сложнейшим оборудованием. Что-то варится, что-то кипит — машины работают сами: поддерживают нужную температуру, предостерегают, требуют. И один человек у пульта управления. Хрупкая девушка, влюбленная в химию, за плечами у которой десятилетка и два курса техникума, где она продолжает учиться. А еще — мир искусства, влекущий к себе не меньше, чем химия. Когда в громадном зале Дворца культуры солистку народной оперы Тамару Бутневу трижды вызывали на «бис», я не сразу узнал в ней хозяйку восьмиэтажного корпуса. А узнав, подумал, сколь беспочвенны многолетние споры о физиках и лириках. Нет таких антиподов, их придумали те, кто либо не знает жизни, либо боится труда. Таких волшебников, как Тамара Бутнева, здесь немало. Две трети из них приехали добровольцами из разных областей страны. Остальные родились и выросли у истоков Дона, и комбинат старше их совсем ненамного.
Тысячу и одно применение, говорят, находит продукция, выпускаемая новомосковскими химиками. Это не только карбамид и симазин — эликсиры плодородия. Если увидите красивую шубку из лавсанового меха, вспомните, что родилась она тоже здесь. А поливинилхлоридные смолы — исходный продукт для линолеума и обуви, лаков и эфирных масел? А гербициды и ацетилен? И еще химикаты, без которых не обходится ни одна киностудия, ни один фотолюбитель. Даже знаменитые стиральные порошки «Чайка» и «Пингвин». И делается это, как ни удивительно, из… воздуха и дешевого ставропольского газа, идущего сюда по магистральным трубопроводам.
Комбинат шагает все дальше и дальше в степь. Очень впечатляющее сооружение. Одно обидно: прежде имена таких зодчих вписывались в скрижали, а теперь их можно найти разве лишь в ведомостях на выдачу премиальных. Впрочем, одно имя осталось, и на века. В цехе аммиачной селитры на пятидесятиметровой высоте вокруг башни пояском выложены из кирпича слова: «Бригада Косторова».
В Новомосковске меня познакомили с интересным человеком Григорием Дмитриевичем Трещевым. Он приехал сюда, когда на месте нынешнего комбината и города стояли только палатки геодезистов на Бобрик-горе, и вот уже сорок лет живет здесь. Треть специалистов-химиков, работающих на комбинате, — воспитанники Трещева, он преподавал в местном техникуме. Это по настоянию депутата Трещева выстроили здесь телецентр и обсерваторию. При его участии заложены новые парки и скверы. Но о зеленом наряде города я еще скажу. Речь пока о другом.
Биография Григория Дмитриевича — это биография Новомосковска, и судьба их неразделима. Началась она в двадцать девятом году вместе с Магниткой, Кузнецкстроем, Днепрогэсом. Тысячи людей ехали сюда строить первенец отечественной химии. Комбинат называли тогда крестьянским заводом: строили его крестьяне, и будущая продукция предназначалась тоже для них. Жили в палатках, сколоченных наспех бараках, главными инструментами были лопата да тачка. В февральскую стужу долбили мерзлую землю, сутками не уходили из котлована. Тот, кто приехал за длинным рублем, покинул стройку уже через неделю. Остались самые стойкие, и в их числе был Трещев. А весной маленький ручеек (исток Дона) взбунтовался, грозил смять и унести плотину. Тогда комсомольцы, рискуя утонуть в ледяной воде, добрались по крыгам — льдинам — до стока и три дня, не отдыхая, рубили лед, пока не уничтожили пробку. Среди них тоже был Трещев. В те горячие дни никто из них не думал о себе и не жалел себя. В сквере у химического техникума я видел памятник Павлу Солодовникову — главному инженеру стройки, в тридцать втором году он умер не в больнице, а в котловане, где проводил дни и ночи, не считаясь с запретами врачей. Он был другом Трещева. В тридцать третьем на открытие комбината приехал Орджоникидзе, тогда на митинге, слушая Серго, Трещев впервые представил, каким цветущим городом-садом станет его комбинат — теперь уже навсегда его.
Война превратила все в руины. Недолго пробыли в городе фашисты, но, когда гвардейский казачий корпус генерала Белова освободил Сталиногорск, пришлось все отстраивать заново. В числе тех, кто сделал это, был и Трещев. Возрожденный из пепла, город стал называться Новомосковском. За успехи в минувшей пятилетке его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас в городе сто тридцать тысяч жителей. И Григорий Дмитриевич Трещев, отдавший городу все свое сердце, стал его первым почетным гражданином.
Мы бродили с Григорием Дмитриевичем по улицам его родного города, и он не уставал рассказывать о своих трудолюбивых земляках. В Новомосковске нет окраин, и небо над ним чистое-чистое. Весь промышленный комплекс с вредными дымами вынесен за зеленую зону, на север, пищевые предприятия — на юго-запад, административные и жилые кварталы — на юг. Здесь столько зелени, воздуха, света, цветов, что иной, даже курортный, южный город может позавидовать. Сорок пять квадратных метров зеленых насаждений на каждого жителя! Сколько ни идешь по улицам, нет конца аллеям, скверам, паркам. Уже много лет, как сложилась добрая традиция: начинается весна или наступает осень — все жители выходят на улицы и бульвары, сажают молодые деревья.
Старожил города Степан Поздняков, в прошлом землекоп, а теперь поэт, несколько лет назад решил вместе с женой и тремя детьми посадить во дворе пятиэтажного дома сад. Поначалу на него смотрели как на чудака, а когда увидели, что яблоньки прижились, сами заразились садоводством. В этом дворе сейчас до сотни яблонь, полтораста вишен. Да разве только в этом дворе! Деревья высажены на улицах и бульварах, и мальчишки не обрывают фрукты недозрелыми. Здесь все говорят «наше», а не «мое». «Наш город», «наши парки», «наши сады»… Уже несколько лет подряд Новомосковску присуждается почетный титул лучшего города Российской Федерации по благоустройству, культуре и быту.
Город требует много цветов и саженцев. Потому-то родилась в его окрестностях «фабрика красоты» — питомник на площади в сто пятьдесят гектаров: гладиолусы и пионы, флоксы и розы, астры и сирень. Громадный пестрый ковер, похожий на живую радугу. Этих цветов, этой зелени хватает не только Новой Москве, но и старой, чье имя принял юный город. Когда будете в столице, обратите внимание: красавицы-липы у памятника Пушкину и на улице Горького родились в Новомосковске.
Мало я был у тебя, городок у истоков Дона, но успел привязаться.
Города и веси с годами дряхлеют. Так принято считать. А вот Новомосковск, верю, всегда останется молодым.
Вечный огонь
Трудно, очень трудно дается уголь. Много сил он берет. Вот почему он и горит так жарко и греет миллионы.
Из дневника В. А. Молодцова, 1930 год
У истоков Дона бок о бок — два города: Новомосковск и Донской — центр Подмосковного угольного бассейна. Город Донской начинается сразу за новомосковским парком, нужно только перебраться через шаткий мостик. Там, где в березовой роще, чуть в стороне от жилых людных кварталов, горит синеватое пламя Вечного огня. На постаменте — пожилой солдат склонил знамя над могилой товарищей, с ним рядом опустился на колено молодой и плечистый офицер с перевязанной головой…
Спускались сумерки над рощей, но пламя не давало им упрятать в ночную темь могильный холмик. Казалось, оно разгоралось сильнее и ярче.
И вдруг в стороне вспыхнул еще один луч — звезда над шахтным копром. Огненные блики заиграли на мраморе постамента, выхватили одно из многих имен: «Владимир Александрович Молодцов».
По комсомольскому призыву он приехал сюда в тридцатом году, на шахте номер семь был простым рабочим. Но комсомольскому призыву стал чекистом — уже перед самой войной. В Одесском подполье капитан государственной безопасности Молодцов работал под фамилией Бадаев. Его выдал провокатор. Прежде чем расстрелять подпольщика, фашисты долго водили его по городу в кандалах из улицы в улицу, желая устрашить непокоренное население Одессы; перед смертью Молодцов бросил в лицо врагам:
— Я — русский и на своей земле просить пощады у врага не собираюсь.
Расстреляли его в июле 1942 года.
Годы становления Подмосковного угольного бассейна — это юность Владимира Молодцова.
Еще в петровские времена нашли в истоках Дона «черный камень», что горит «зело ярко», но до самого Октября угольных шахт здесь было мало. В том самом году, когда закладывался на Бобрик-горе город химиков Сталиногорск, родились в этих местах и первые крупные шахты.
Их нелегко было строить. В Донском музее на Бобрик-горе я читал строки из дневника Молодцова. Вот записи, сделанные осенью тридцатого года:
«25 октября. Четыре смены отработал в шахте, в забое. Работа физически очень тяжелая. Сильно устаю. Но это не может быть причиной тому, чтобы бежать с рудника. Наоборот, духом не падаю, сохраняю прежний подъем и твердое решение оправдать доверие ребят…»
«27 октября. Живем прилично. Только питание скверное.
Да ничего. Как-нибудь наладится…»
«29 октября. Вчера была конференция по перевыборам шахткома. Перед этим в читальне в «Рабочей газете» прочел письмо старого забойщика Донбасса, в котором он предлагает Октябрьские дни превратить в дни борьбы с прорывом на угле. Единогласно решили: в праздники работать…»
«4 ноября. Приходится, к сожалению, делать запись карандашом: чернила в нашем бараке — штука дефицитная. Все это — не беда! Хорошо чувствовать себя беззаветно преданным революции, видеть себя частичкой великой стройки…»
«23 ноября. В бараках холодно. Отопление не работает. Перенесем это. Перенесем по-большевистски. Надо же трудности преодолевать».
«28 ноября. Сегодня отгульный день. Но в согласии с постановлением общего комсомольского собрания — до ликвидации прорыва работать без выходных дней — я отработал субботник. Среди нас были беспартийные, мы вшестером погрузили Кашире 20 тонн угля подарком…»
«10 декабря. Вчера было собрание коммуны. В связи с задержкой зарплаты коммуна дошла до такого положения, когда ни одного рубля ни у кого нет. И обедать не на что… Ребята хотели ставить вопрос так, что голодные на работу не пойдут. Этого допустить нельзя было. Порешили: кто-нибудь продаст брюки или что другое, и на эти деньги пока жить всей коммуной. Сегодня коммуна вышла полностью. Прогулов ни одного…»
«7 февраля. Так хороша и интересна жизнь! Я думаю, только борясь, живешь…»
Я читал и думал вот о чем. Когда Молодцов пришел на шахту, ему было только девятнадцать лет. Но его возраст не мешал ему и всем коммунарам, которые в трудные голодные годы добывали первые эшелоны подмосковного угля, ценить то, что было для них завоевано в революционных боях.
В Донском мне рассказали еще об одном человеке, имеющем прямое отношение к Вечному огню.
На тех местах, где сейчас выросли у донских истоков новые города, когда-то стояла деревушка Калмыки. В тридцатых годах начали строить шахту, и пришел на нее коногоном сын батрака Семен Кутепов. В сорок первом году на Верхнем Дону из горняков сформировали сто семьдесят вторую стрелковую дивизию и бывший коногон принял под свое начало полк. Долог был путь до Берлина, где встретила горняцкая дивизия день Победы, и не всем солдатам довелось вернуться с войны. Зато те, кто вернулся, и те, кто идет им на смену, вот уже четверть века берегут трудовую славу шахты номер семь. Ни разу еще не гасла звезда над шахтой, принявшей имя Молодцова. А это значит, что план выполняется…
С таких же людей, как Кутепов, писатель Константин Симонов писал Серпилина в «Живых и мертвых». Историю его дивизии он использовал в романе.
На шахте имени Героя Советского Союза Молодцова в городе Донском я узнал: сегодня Подмосковный угольный бассейн по уровню оснащения новой техникой занимает ведущее место в угольной промышленности страны. Все, что прежде приходилось делать руками: отбойку и навалку угля, доставку его в штрек, крепление, управление кровлей и многие другие тяжелые работы, — приняли на свои плечи машины.
Исчезли профессии, которыми владели когда-то Молодцов и его товарищи по коммуне: забойщики, крепильщики, вагонщики.
Горняки всегда мечтали, чтобы под землей можно было ходить в полный рост, не сгибаясь, в лавах, залитых светом, и чтобы чудо-машины выдавали топливо на-гора без человека. Такие шахты уже появились в Подмосковном бассейне. Пожелай я увидеть их все — наверное, надолго задержался бы у истоков. Выручили журналисты из Ново-московского телевидения. На юрком газике мы объехали окрестные города, которых еще несколько лет назад совсем не было на карте: Узловая, Кимовск, Северо-Задонск, рабочий поселок Руднев… Фабрики угля с терриконами и без них — здесь ведь не только шахты, но и угольные разрезы: снял полуметровый слой дерна — и выгребай бурый уголь (его все больше и больше нужно стране)… Огромные дома из стекла и бетона — здесь никто не живет в бараках. Может, только вот зелени пока маловато (в Новомосковске больше). Зато свой санаторий с целебными источниками, близкими по составу к трускавецким.
Шахты уходят все дальше в обе стороны от Дона. Но жизнь поставила вопрос: чем занять людей, которых заменила техника? Не уезжать же им с насиженных мест. Да и многие месторождения, открытые три десятка лет назад, уже выработаны. Может быть, в будущем и новые шахты ждет такая же судьба? Тогда зачем капитально строить здесь современные благоустроенные города с газом, теплоцентралями и мусоропроводами?
В Узловой, Донском, Рудневе нашли выход. Почин сделали москвичи — обувная фирма «Заря», для которой кадры и производственные площади в столице были проблемой, создала в наземных помещениях выработанных шахт свои фабрики. Обувь новых предприятий «Зари» уже находит сбыт.
И все-таки самая главная профессия в донских верховьях — по-прежнему горняцкая. Уголь кормит, поит и одевает людей.
Лесное диво
Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края…
Сергей Есенин
Прежде я видел лосей только в зоопарке, а здесь они бродят на воле и совсем не боятся человека.
Еще в Новомосковске, выглянув на рассвете из окна гостиницы, я увидел у кромки ближайшей рощи, как красавец лось спокойно вышел на асфальтовое шоссе и, вытянув шею, доверчиво смотрел черными бархатными глазами на спящие городские улицы, на высокие башенные краны. Влажные ноздри вздрагивали, широкие, раструбом уши стояли настороже. Потом, услышав вдруг рокот автомашины, он легко бросился в рощу и исчез в зарослях.
Позже, уже в нижнем течении Дона, я еще не раз встречал лосей, но не в таком большом количестве, как в Гремячевских лесах.
Адам Иосифович Фихтер, обрусевший немец, проживший в этих местах без малого семьдесят лет, рассказал мне, что еще помнит, как шумели у нынешнего села Гремячьего вековые дубравы, а в лесах было полно разного зверья и боровой дичи. Ну, а лет сто назад тут и вовсе была лесная глухомань, царство медведей и леших… Купцы покупали лес у помещиков, участок за участком, и целиком сводили их. Леса отступали на север, а с юга надвигались степи да пашни. Остались только островки березовых рощиц да названия деревень — Березовка, Дубовка, Подосинки, Грибовка, Ясенок, Липки, Ольховец…
В минувшую войну топоры свалили едва ли не всех лесных великанов. И все же лес устоял. Изрядно оскудел, но выжил.
Я видел Гремячевский лес перед вечером. Уже спала жара, косые солнечные блики перебирались с одной поляны на другую, и все сильнее гомонили птицы. Вот запела славка, там завели трель дрозды, потом к ним присоединился соловей. Соловьев различают по тому, как они поют. Кроме курских — самых голосистых — и еще черниговских, были и тульские, причем считались не худшими певцами. Вернулись они сюда, как только начали возрождаться Гремячевские леса.
Почти всю жизнь проживший в городе, я плохой знаток лесных следов и запахов, не умею читать «лесную газету» (хоть и зачитывался в детстве книгами Бианки). Помогал лесник. Вот здесь хозяйничали зайцы-русаки, их уже дважды завозили в эти леса с нижнего Дона. А из Томской и Омской областей привезли глухарей и тетеревов — они совсем перевелись в донских верховьях. Из Новосибирской и Вологодской — белых куропаток. Диких кабанов отловили в уссурийской тайге и переправили сюда самолетами. Как водится, птицы и звери прошли, где нужно, карантин и уже обживают лес. Возвращаются лисицы. Запретили охоту — большое дело сделали для Гремячевских лесов. Одно беспокоит — надолго ли?
Как может, человек помогает лесным новоселам. Среди плотного мелколесья расчищена площадка — лиса не захватит врасплох куропаток. Срублены осинки — будет лосям корм.
Но что это? Какой зверь истоптал молодые сосенки, обломал молодые дубки? Оказывается, тоже лось. Я не подозревал, что возвращение в эти леса лося — удивительного реликтового животного, стойко выдержавшего натиск браконьеров и охраняемого суровым законом, — обернется бедствием для здешних лесов. Но это так. Оказывается, если на тысячу гектаров леса имеется пять — семь лосей, они уже вредители сосняка и дубрав. А в тульских лесах почти на триста тысяч гектаров лесных угодий летом 1967 года насчитывали две с половиной тысячи лосей. И приплод их продолжает расти: с двух лет лосихи ежегодно приносят по одному теленку, а с четырех — по два. Поговаривают, что это будет и с дикими кабанами. Отстрел их также запрещен, и разгулявшиеся секачи травят посевы желудей.
Как же получается? С одной стороны, мы призываем беречь лосей и кабанов, завозим их сюда, а с другой — они приносят непоправимый ущерб лесам. Массовый отстрел лосей и кабанов — не выход из положения. Можно, конечно, довести количество зверей до того, что они приобретут и промысловое значение, но не в Гремячевских лесах, которые возрождаются медленнее, чем их обитатели. Не думаю, что Гремячевские леса, как и вообще леса тульские, станут когда-нибудь зоной промысловой охоты. В соседних курских лесах уже убедились в этом. После освобождения их от гитлеровской оккупации, когда там замерла охота, расплодилось столько зайцев, что они свели на нет едва ли не все фруктовые сады. И тогда охотники (особенно демобилизованные фронтовики) объявили беспощадную войну обнаглевшему заячьему племени — и перестарались. В лесах не осталось ни одного зайца.
Все больше поговаривают сейчас на Тульщине о том, что разведение лосей и кабанов хорошо бы поставить не на «дикую», а на культурную основу, создать специальные фермы и хозяйства подобно оленеводческим. Вопросы эти очень сложны, но решать их нужно.
В верховьях Дона есть остатки вырубленных еще в войну лесов: не так просто выкорчевать пни. Может быть, новых посадок и больше, но это еще не лес. Раз пять или шесть переезжали мы вброд с одного берега Дона на другой: местами мелеют донские омуты, перегораживают русло перекаты, — и все это там, где когда-то перегоняли суда с Оки к Азову. Восстановление лесов оживит реки, украсит берега, возродит прекрасные донские ландшафты.
С пенсионером Сергеем Васильевичем Скисовым познакомился я в Северо-Задонске — молодом городке, который вырос на том месте, где во времена Ивана Грозного стоял острог.
Страстный садовод-любитель, Скисов горячо ратует за разумное использование богатств, подаренных человеку природой. Маленький клочок земли возле своего домика Сергей Васильевич сумел превратить в сказочный сад: яблони и груши, сливы и вишни, смородина и клубника, и все по нескольку сортов. Предмет особой гордости Скисова — выведенный им сорт винограда «космический».
Щедрая нива
— А ведь вот и здесь должны быть русалки…
— Нет… Здесь место чистое, вольное.
Одно — река близко…
И. С. Тургенев
Ниже Больших Колодезей, куда ни поглядишь, открывается просторная и безлесная равнина. Мелькнет за ветровым стеклом газика низкорослый кустарник, две-три ракиты у озерка или чахлый березняк — и снова степь, без конца и края. Сверкнет вдруг Дон серебром — и дорога тут же скатывается к нему по ложбинке. Потом снова взбирается наверх — и опять открываются широкие дали. Кажется, сколько бы ни ехал по этой земле, так все время и будет: поля, заплатки перелесков на них, поодаль холмы терриконов и корпуса новостроек. Бок о бок живут здесь потомственные горняки и металлисты, химики и хлебопашцы. Тульская сторона, как известно, промышленная, а еще и хлеборобская.
В давние времена была здесь вотчина графа Бобринского — его считали внебрачным сыном Екатерины Второй и Григория Орлова. Императрица-блудница позаботилась о своем отпрыске, отвалив ему поместье с тридцатью тысячами крепостных душ мужского пола, а Павел Первый дал ему титул графа.
Бобринский-младший был страстным картежником и вмиг спустил доставшееся ему наследство. Три своих деревни он проиграл в карты известному уральскому заводчику Демидову. Почти две с половиной тысячи мужиков, разлученных с семьями, были угнаны на Урал. С демидовской каторги никто не вернулся, и осиротели заколоченные избы, заросли бурьяном. За околицей, на юру гнуло к земле тонкие ветлы, да воронье кружило над покинутым жильем.
Спустя лет тридцать или двадцать Аракчеев повелел отдать эту пустошь военным поселенцам. Старожилы помнят о трагической судьбе солдата Василия Шабунина. В Озерках стояла солдатская рота, командовал ею офицеришка, боль-той охотник до вина и баб. И перечить ему никто не мог: роптали солдаты втихомолку, но побаивались. И все-таки нашелся один храбрец — Шабунин. Не испугался — все высказал самодуру. Офицер с кулаками на него бросился, а солдат в лицо измывателю плюнул. Шабунина предали полевому суду.
Весь крестьянский люд тогда в округе взбунтовался, бабы поклоны перед иконами клали, за солдатика молили. А мужики посмелее в Ясную Поляну двинулись, — это ведь рядом. Просили графа Льва Николаевича Толстого за Анику-воина вступиться. Лев Николаевич выступал на суде защитником. Но Шабунина приговорили к расстрелу.
Толстой не успокоился, послал челобитную царю. Примчали стражники царскую депешу — не казнить Шабунина, а его уже расстреляли.
Это по легенде так, но в жизни было иначе. Не помиловал царь Шабунина. Зарыли его стражники как бездомную собаку в степи. А ночью мужики тайно укатили с хозяйской мельницы жернова да и положили на солдатскую могилу. С той поры повелось: чуть стемнеет — на камне вспыхивали огоньки: шли крестьяне к вечерне, сворачивали к заветному камню, свечу мученику поставить.
Не пропал подвиг Шабунина, берегут о нем память в здешних местах. У рощи стоит высокий мраморный обелиск с высеченными словами: «Здесь покоится тело солдата Василия Шабунина, расстрелянного 9 августа 1866 года. Защитником его на суде был Л. Н. Толстой».
На землях графа Бобринского, орошенных крестьянскими слезами и кровью, после Октября 1917 года родились первые на Тульщине сельскохозяйственные коммуны — «Новая жизнь», «Новый мир», «Путь Ильича», «Шаг вперед», «Ударник», «Комбайн»… Создавали их рабочие-двадцатипятитысячники с Тульского патронного завода, с московских фабрик. Ехали сюда вопреки кулацким выстрелам, вопреки клевете и провокациям обреченных классовых врагов. Трудным был у них хлеб, почетная пришла сегодня старость. В «Объединении» — знаменитом на всю область колхозе, вобравшем в себя прежние карликовые коммуны, — я видел на многих рубленых избах красивые мраморные доски: «Здесь живет семья почетного колхозника…» Высоко полощется у правления алый стяг, поднимаемый в честь трудовых подвигов селян, на щит у флагштока вписаны фамилии самых достойных. Идет такой человек по селу, на него и люди по-особенному смотрят, и глаза у них доброй завистью светятся.
А бывает и по-другому. Возродили в колхозе старый-престарый обычай. Соберутся подводить итоги соревнования и преподносят отстающему бригадиру… раскрашенного деревянного петуха. Помнят еще, как подносили в старину нерасторопному увальню-соседу петуха, чтобы тот разбудил и взбодрил его. И помогает…
Возродили старый обычай женщины. Они тут и хозяйки, и заводилы, потому что «Объединение» — чисто «женский» колхоз. Мужики многие, как ушли на фронт в сорок первом, так и не вернулись — почти во всех избах «похоронки» берегут, все еще надеются, что ошибка… А те, что помоложе, подались на химический комбинат: заработки легче. Вот и получилось почти что «бабье царство». Женщины — бригадиры и агрономы, женщина — председатель. И какой председатель! Екатерину Иосифовну Елсукову знает вся Тульщина. Знает как толкового агронома, Героя Социалистического Труда, делегата партийных съездов, депутата Верховного Совета, члена областного исполкома.
Не таким простым делом оказалось найти ее. Елсукова с утра до ночи на ногах — сама точно белка в колесе и людям сидеть не дает. А отними у нее каждодневные заботы да хлопоты — и не будет жизни. Теперь, когда хозяйство окрепло, многих из города потянуло обратно, к земле. Что ж, Елсукова принимает. Только бригаду или ферму такому уж не доверит: хоть и мужчина, а ненадежный…
— Видели фильм «Председатель»? — сказала нам Елсукова, когда мы наконец разыскали ее. — У нас тоже всякое бывало. Тоже коров подвязывали на веревках. Идут, случалось, рабочие на гипсовый рудник, а мы им навстречу, коров поднять просим. А в войну и того хуже. Тракторы ремонтировали, станок запустить нечем. Колесо с веялки приспособили, ручку приделали. Спрашивает токарь: «Ну, бабы, кто сегодня вместо мотора?» — «Давай я покручу…» Так вот и работали. Молодежь-то сейчас и не представляет, как все добывалось…
«Объединение» — богатый колхоз. Овощи и молоко — главный «конек» Елсуковой. Это здесь в предпоследний военный год старая колхозница Евдокия Нефедовна Лебедева побила мировой рекорд по урожаю капусты — двести тонн с гектара! — и получила Государственную премию. Правда, позже чуть совсем не перевели капусту: засадили все кукурузой да горохом. Теперь уже и прежние лебедевские рекорды по капусте перекрыты, и не только по капусте. Помидоры и картошка в колхозе тоже отменные. Стадо на фермах крепкое: больше двух тысяч литров молока от каждой коровы надаивают. Шефы из Новомосковска помогли теплицы поставить. Не теплицы — настоящие фабрики овощей: зимой мороз трескучий, а под стеклом — солнце, как на юге. Теперь Елсукова задумала строить дома городского типа, с газом и водопроводом.
…Узкой лентой вьется Дон, прячется от дороги за сплошной полосой лозняка и ракит. Трава выше колен — теплая, нагретая солнцем у верхушки, прохладная и сыроватая у самой земли. Желтые брызги лютиков, плети луговой кашки разбросаны у тропинки. Гудят шмели на солнцепеке, и трясогузка провожает пешехода настороженным взглядом. Где-то неподалеку отсюда, к юго-западу, Бежин луг. Совсем такой же. Место чистое, вольное, река близко — с русалками, конечно… Где ж им еще водиться, как не в Дону, русалкам-то?
Перевелись только они давно, вот беда. И в леших никто не верит. Нива-то не сказками, а трудом кормит.
Третий залп
В потертых бушлатах
И кожанках старых,
Усталые до немоты,
Гражданской войны комиссары
Обходят ночные посты…
Леонтий Шишко
Давно я решил непременно побывать в Люторичах — придонском селе, где родился Николай Руднев.
Я знал о Рудневе еще мальчишкой. Для меня и моих сверстников, донашивавших отцовские буденовки, он не был книжным героем. Отцы наши вместе с ним воевали в гражданскую. Володьке Вышкворцеву — парню с соседней улицы — Коля Руднев даже приходился крестным отцом (Володька и родился прямо в окопах под Царицыном). II никогда мы Руднева не величали Николаем Александровичем, он был для нас просто Колей, почти сверстником. От отцов хорошо знали мы, каким стойким и мужественным красным командиром был Руднев и как геройски погиб он осенью 1918 года под Царицыном. И все мы хотели чуточку походить на Колю. У нас даже игры ребячьи были про революцию — до синяков и шишек спорили, кто будет Ворошиловым или Рудневым, а кто — белым генералом (принуждали к этому «мелюзгу» — ребят посопливей).
Отец рассказывал мне, как погиб Руднев. Когда белоказаки прорвали наш фронт у Бекетовки, Руднев сам повел в атаку красноармейцев. Не сделай он этого — наши могли бы сдать Царицын. Тяжело раненный, попросил он дать родным телеграмму, что умер за революцию. Отец Руднева — священник из Люторичей — приехал на похороны сына и проводил его в последний путь, а вернувшись домой, собрал прихожан и снял с себя крест — отрекся от церкви. Наверное, ему много было нужно иметь мужества, чтобы решиться на такой шаг.
До того как попасть в Люторичи, я разыскал в Туле, в маленьком и тихом Центральном переулке, среднюю школу имени Руднева. Здесь, в бывшей гимназии Перова, Руднев учился в 1912–1915 годах. Есть в школе парта, за которой он сидел, и скромный уголок героя, рассказывающий о его жизни и смерти. Правда, тщетно желал увидеть я в Туле памятник Коле: его еще нет, хотя многое в городе связано с его дорогой в революцию: и бывшие казармы тридцатого полка, которым командовал перед Октябрьской революцией прапорщик Руднев, и старый Кремль, где он много раз выступал на митингах, где выбран был депутатом первого городского Совета, и дом, где он жил. Кроме бывшей гимназии, ни одно из этих мест почему-то не отмечено памятными досками. А ведь его заслуги не меньше, чем у Чапаева, Щорса или Котовского.
И все-таки Руднева знают, о нем помнят. Уже в Люторичах попался мне июльский номер газеты «Молодой коммунар» с приказом областного штаба юных следопытов. В этот день «искатели» — так именуют их на Тульщине — отмечали очередную годовщину своих неутомимых походов по местам былых сражений. Это был смотр того, что сделано следопытами за четыре года. Так вот, штаб искателей назначал у кладбища Коммунаров в Туле торжественное построение своих «батальонов» и приказывал салютовать на смотре ружейными залпами: первым — в честь героев Октября, вторым — в честь героев минувшей войны, а третьим — в память о Коле Рудневе.
Тысячи красных следопытов по всей Тульщине собирали документы и материалы о своем земляке, завязывали переписку с теми, кто знал Руднева по боям и походам. Несколько отрядов отправилось в путешествие по городам и селам, где сражался Руднев. К памятнику на могиле Руднева в Харькове они возложили венок и капсулу с землей, взятой у домика в Люторичах, и еще капсулы с землей Поволжья, с донской землей — из тех мест, где воевал за революцию и погиб, не дожив до двадцати четырех лет, заместитель Наркомвоенмора Донецкой республики и начальник штаба Царицынского фронта Руднев…
И вот я в Люторичах.
У околицы высокая арка: «Колхоз имени Руднева». По обеим сторонам асфальтированной дороги — густая аллея тополей и боярышника. В воздухе — грибная сырость леса и духмяное тепло свежего хлеба, и острый пьянящий аромат поспевающих яблок. Вот бывшая церковь, в ней когда-то служил обедни и заутрени отец Руднева. Едва ли не всех люторичских старожилов венчал он в храме. А с 1928 года здесь клуб и библиотека. Девчушки с косичками привередливо роются в книгах, сетуют, что трудно достать новинки, слишком скупые посылки присылает из Тулы бибколлектор, совсем нет поэзии.
Я узнал, что дом Рудневых был очень ветхим и его пришлось разобрать. В городе Донском есть мемориальная комната Руднева в местном музее: там хранятся его вещи и шашка, подаренная отцу Руднева Ворошиловым, фотокарточка Ворошилова с дарственной надписью матери Руднева.
Сейчас колхозное правление собирается ставить на усадьбе Рудневых добротное кирпичное здание для музея.
В Люторичах у каждого колхозника — телевизор, газ, холодильник, у многих — свои автомашины и мотоциклы, всюду — электричество.
У этого села приметное прошлое. Лет сто назад, когда была еще здесь вотчина графа Бобринского, крестьяне, «освобожденные» от крепостного права, но, как и прежде, оставшиеся бесправными и голодными, подняли восстание против угнетателей. Графским имением в Люторичах управлял «выборгский гражданин» Фишер, опутавший каждого бедняка долговыми векселями. Платить крестьянам было нечем, у них умирали с голоду дети. Фишер привез судебного пристава и жандармов, хотел описать у должников имущество. Крестьяне не пустили в село пристава, избили волостного старшину и обезоружили урядников. Тогда Фишер вызвал целый батальон гренадеров Таврического полка. Войска окружили Люторичи. Дьячок ударил и набат, и женщины вынесли навстречу войску пухлых от голода детей. Пришлось Фишеру просить из города подкрепление, чтоб усмирить бунтовщиков. Тридцать четыре крестьянина из Люторичей пошли под суд. Процесс проходил в Московской судебной палате, защищал крестьян известный адвокат Плевако. Он не побоялся сказать о подлоге и обмане, на которые способны были граф Бобринский и его управляющий. Дело получило широкую огласку, совсем не на пользу властям. И все-таки вожаки восстания были отправлены на каторгу, с которой уже не вернулись.
Об этом тоже помнят в Люторичах старожилы. Хорошо знает и молодежь. Ей ведь суждено нести дальше эстафету, что завещали селянам и те, что ушли на царскую каторгу, и те, кто вместе с Рудневым добывал ценой собственной жизни сегодняшний наш день.
Чтоб знали и помнили все, чаще должны греметь залпы ружейного салюта красных следопытов.
Как во граде было, в Епифани…
История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество.
Н. М. Карамзин
Есть города тихие и незаметные. В памяти они особого следа не оставляют. Епифань к числу таких городов не отнесешь, хотя он тоже тихий и вроде бы неприметный. Здесь едва ли не каждый камень — живая история.
Я шел к Епифани по старинной придонской дороге, что вела из Москвы на Куликово поле. Где-то здесь на правом берегу Дона воевода Епифан Донок громил половецкого хана Беглюка. Поэтому и город назвали Епифанью. Есть и другие версии. Старые ракиты стерегут вековую тишину степных просторов, и Дон в этих местах оправдывает свое прозвище «тихий». Он уже не ручеек, но и богатырем еще не стал. Искупаться можно, утонуть нельзя.
А в давние времена был Дон возле Епифани куда полноводнее, чем теперь. Петр Первый даже адмиралтейство в Епифани учредил. В Туле довелось мне видеть любопытный архивный документ — список подписчиков Тульской губернии на собрание сочинений Пушкина, намеченное к выпуску после гибели поэта. Подписчиков оказалось немного — всего шесть, и один из них — флота мичман Александр Александрович Писарев, несущий службу в Епифани.
К морскому делу, впрочем, Епифань была приписана еще за полвека до Петра. Когда в Дединове строили по указу Алексея Михайловича первый русский корабль «Орел» (а это было летом 1667 года), на судоверфь призвали плотников из Епифани — на много земель вокруг были знамениты они своим мастерством. В ту пору стояли на донских берегах корабельные сосны, шумел глухой бор. За триста лет начисто свели придонские леса — такую цену пришлось заплатить за то, чтоб стать морской державой.
На старом гербе, присвоенном Епифани Екатериной Второй, изображались три конопляные былинки на серебряном поле, означавшие, что «окружности сего города между прочими произведениями изобилуют в коноплях». А кроме конопли были еще и пенька, шерсть, сало. Осенью по бездорожью тянулись крестьянские возы в Москву и Тулу сбывать эти продукты. Дороги, известно какие, много не свезешь. Потому-то Петр Первый и решил построить Ивановский канал, чтоб сделать судоходными реки Упу и Шат и соединить через них Оку с Доном. А управление каналом было в Епифани, «ибо в том городе сходилась середина будущих работ».
Тяжкой каторгой обернулась для мужиков стройка — воевода согнал всех, кто только мог кайло или лопату в руках держать: одни камень ломали и к шлюзам подвозили, другие, стоя по грудь в грязи, донские притоки чистили. К осени напал на людей мор, пришлось новых искать. Приехал Петр — и остался недоволен ходом работ: «Скорбь в рундуке разводите, а не тщитесь пользу отечеству ускорить». Как ни ожесточались власти, крестьяне укрывались от царской повинности, бежали с Дона.
После царского визита в Епифань прислали нового воеводу, лютовал он пуще прежнего, но дела не шли. С Муровлянского и Люторицкого шлюзов осенью сбежали все рабочие. Разгневанный Петр особым указом объявил в Епифанском воеводстве военное положение, все мужское население поголовно отправил в солдаты. А тут подошла весна и оказалось, что затея-то с каналом покоится на песке. Проект был составлен по данным полувековой давности (когда выпало очень влажное лето), и… водный путь обратился в сухопутную дорогу. В иных местах и лодка пройти по каналу не могла, а царь хотел десятипушечным кораблям дорогу устроить. Правда, тридцать кораблей небольших удалось-таки перетащить где волоком, а где бурлаками с Оки на Дон — к Епифани.
Тем и кончился царский замысел. Не стала Епифань великим городом, как желал того Петр. Обмелела заброшенная гавань, поселяне растащили по бревнышку добротную пристань, а сваи дубовые изошли трухой. Сейчас от былых причалов уже и следа не осталось. А там, где был подъемный мост, перегородила Дон насыпная плотина, втиснула реку в бетонную трубу. В иных краях понастроила Россия морские порты и верфи…
Без малого два века Епифань считалась не последним на Руси уездным городом, а еще совсем недавно размещался в нем районный центр. Район укрупнили полтора десятилетия назад, и теперь поселок (уже не город!) Епифань подчинили в административном отношении новому горняцкому городу Кимовску.
А туристы в Епифань все-таки едут, и много. Через этот город проходит дорога к Куликову полю — в древности татарский ход на Москву, здесь — уникальный собор XVII века, Успенская церковь, воздвигнутая в память о Куликовской битве.
Город этот, как убеждали меня в Туле, не имеет перспектив для роста. Он весь в прошлом. Это город-памятник, до которого еще не добрались руки реставраторов — тех, что уже возрождают, скажем, Ростов Великий или Суздаль.
Я не хотел, чтобы мой рассказ о Епифани превращался в очерк истории города. Но то, что увидел я здесь, снова и снова заставляет меня напомнить читателю, чем некогда славен был град Епифань, заложенный в конце XVI века как деревянный острог — одно из звеньев Тульской оборонительной засеки.
Я вижу сквозь даль веков бородачей с суровыми и обветренными лицами, в сермяжных кафтанах, с пищалями в руках на высоких крепостных стенах острога. Они не страшатся отравленных ханских стрел, не пустят врага к Москве, защитят родную землю.
…Я шагал по придонской дороге к Непрядве и думал о том, как в трудный восемнадцатый год — год голодных очередей, год беспризорников — Ленин, гуляя по Кремлю, заметил в одной из церквей разбитое окно. Он сделал суровый выговор хранителю соборов.
Епифань, я верю, не уйдет в небытие, будет жить. Я непременно еще раз приеду к тебе, милый старый город (не буду называть тебя поселком, хоть и есть на то повеление Тульского облисполкома), молодость земли Русской, Епифань…
Поле Куликово
Как трепетно и плавно
течет через века
глубокая Непрядва —
славянская река.
Здесь зародилась правда
и песня началась.
Здесь, на реке Непрядве,
Россия родилась!
Юрий Панкратов
Степные ветры здесь удивительно пахнут спелой рожью, чебрецом и мятой, перебродившей земляникой и еще чем-то родным, тебе одному понятным. Они озорно гонят широкие волны густых хлебов и пестреющих на холмах ромашек. Степь без конца и края, и посреди нее узенькая змейка Дона. Он не видел на своих плечах барж и плотов, не слышал пароходных гудков. Осторожно, словно боясь потревожить вековую тишину, пробирается по равнине все к югу и к югу.
Уже за околицей Епифани я смог разглядеть в сизоватой дымке стрельчатые очертания Красного холма и высокую чугунную колонну на нем. Она то пропадала, скрываясь за редкими перелесками, то появлялась вновь, становясь нее ближе, все зримее. Занимался новый день, и таявшие росы маревом плыли над Доном, над младшими сестрами его — Непрядвой, Смолкой, Рыхоткой, Нижним Дубяком. У села Татинка асфальт кончался, дальше — брод. Глухо урча, полз через Дон тяжелый грузовик, вода в реке едва доходила до ступиц. Примечаю тропку под водой и, разувшись, подворачиваю брюки, иду в воду. Ложе реки каменистое, течение быстрое, с шумом несет гальку. Шесть веков назад здесь, у Татинки, переправлялось войско Дмитрия Донского. А вот там, у зеленой дубравы, стояли в засаде полки волынского воеводы Боброка и серпуховского князя Владимира…
Дорога уходит вправо, к Непрядве, а впереди — высокий вал, заросший непролазными кустами сирени. В самом центре Красного холма, на том месте, где стоял когда-то шатер Мамая, поднимается на головокружительную высоту — уступ за уступом — пирамида из орудийных стволов, мечей, шлемов, щитов и копий, перевитых дубовыми ветвями, и над нею крест, попирающий опрокинутый полумесяц. В одной из ниш надпись: «Победителю татар великому князу Дмитрию Иоанновичу Донскому — признательное потомство, лета от рождества Христова 1848…»
Этот памятник построен на деньги, пожертвованные русскими людьми. Чтоб увековечить память предков, крестьяне отдавали последнюю копейку, добытую тяжким трудом на барской ниве, потому что не было у людей этих ничего дороже России.
Каждая пядь земли, каждый маленький клочок этого поля орошены кровью русских людей.
Окрестные жители связывают с Куликовым полем не только имя Дмитрия Донского, но еще и Александра Невского. В Татинке мне довелось слышать легенду о том, как еще за сто с лишним лет до Куликовской битвы татары пленили Александра Невского и тащили будто бы его, раненного, до Красного холма. Очнувшись, увидел князь ширь придонскую и сказал: «Тут надо бить басурманов». Сказал — и умер. Летописи говорят иное, но молва все-таки в народе живет…
На Красном холме, если ты русский, по-особенному чувствуешь свою приверженность родной земле. Гуляет ветер над широким полем, шумит густая сирень, и, как отзвуки дальнего грома, невольно чудятся воинственные клики, топот коней и лязг мечей. И будто следы крови на траве, спелая земляника, ею сплошь усеяно поле. Наверное, здесь вот сошлись монах Троицкой лавры Пересвет и басурманский богатырь Челубей; по этой вот балочке, в глубине которой течет крохотный ручеек, отступали сентябрьской ночью 1380 года разгромленные татары. Люди приходят на Красный холм, чтобы слушать тишину, чтобы побыть наедине со своими думами. Позади — все, что прожито, впереди и вокруг тебя — родная земля. Отсюда, с Красного холма, начинается Россия.
Могильные курганы окрест холма за шесть веков, минувших с памятной битвы, все больше оседали под ветрами, размывались дождями, но все еще по-прежнему стоят, будто часовые, стерегущие вечный покой храбрых русских воинов. Похоронив павших, ратники Дмитрия Донского вырубили зеленую дубраву возле села Куликова и построили деревянную церковь с резным иконостасом, поражавшим заморских послов своей красотой и непревзойденным мастерством. Время не пощадило эту церковь, к нам дошла лишь молва о ней.
Уже в самом начале нашего века академик Алексей Викторович Щусев построил в этих местах храм Сергия Радонежского, благословившего князя Дмитрия на битву. Храм удивительно смелый по замыслу и оригинальный по композиции: две большие башни, каждая в своем стиле, и церковь с куполами посередине. Будто воинские шлемы, башни напоминали о былинных ратниках, сражавшихся с Мамаем, и, как мне показалось, перекликались с картиной Васнецова «Три богатыря».
Щусевский храм я увидел в строительных лесах: в войну, докатившуюся в 1941 году к Непрядве, он был основательно разрушен, а восстановить такой памятник нелегко. Через год-другой храм станет музеем. Такой музей нужен на Куликовом поле: не было еще ни одного дня, чтобы не ехали и не шли сюда люди. В истрепанной книге записей у хранителя обелиска я видел не только русские слова, а еще и английские, немецкие, арабские…
Куликово поле для каждого русского человека заветное, святое место. У нас есть Бородино, есть Полтава, есть Брестская крепость и дом Павлова в Волгограде, есть скорбный Бабий яр в Киеве и Петрушина балка в Таганроге — каждому новому поколению напоминают они о том, что довелось вынести на своих плечах дедам и отцам. Но еще раньше была битва возле устья Непрядвы. И нужно ли говорить, сколь много еще должны сделать люди, чтобы отовсюду были проторены дороги на Куликово поле? Сейчас развернулось здесь большое строительство: прокладываются автомагистрали, сооружаются мосты…
Лет полтораста назад, когда в России начиналась подписка для сбора пожертвований на памятник, Академия художеств задумывала вокруг Красного холма целый ансамбль мемориальных сооружений: здание инвалидного дома, храм Сергия Радонежского, библиотеку «особенно из книг по отечественной истории». Автором памятника-обелиска стал выдающийся русский архитектор А. П. Брюллов. Но случилось так, что деньгами, которые собрал народ, самовластно распорядился Николай I. Грубо поправ волю пожертвователей, он «определил» на строительство памятника лишь шестьдесят тысяч рублей, а остальные триста двадцать тысяч повелел использовать «на образование дворянского юношества в губернских кадетских корпусах». Отливали памятник на известном петербургском заводе Берда, везли по частям на лошадях в Епифань, а оттуда на специально устроенных больших санях, запряженных тройками в два-три ряда, перетаскивали на Красный холм. Открыли монумент в сентябре 1850 года.
На Куликовом поле будет музей. Но наверное, поле славы нуждается все-таки не только в одном музее. Мне лично виделись у зарослей сирени на Красном холме не только изваянный в бронзе инок Пересвет, но и павшие в сече князь Федор Белозерский с сыном Иваном Тарусским и братом Мстиславом, и безымянные ратники, чьи души и после смерти, как гласила Ермолинская летопись, продолжали «избивать поганых». А еще — изваянные в бронзе воины 1941 года, павшие на Куликовом поле в боях с немецкими фашистами. Осевшие окопы я видел по всему правобережью Непрядвы: исход сражения за Москву и Тулу решался не только возле разъезда Дубосеково, но и здесь, и вряд ли подозревал Гитлер, что русские сломают ему шею в тех же местах, где когда-то били Мамая.
…Буераками, перелесками шагал я с Красного холма к железнодорожной станции Куликово поле и еще долго не мог проститься с благословенными местами. У Хворостянки показали мне старый дуб — ствол у него, весь искореженный, в три обхвата. По преданию, с этого дуба усмотрели дозорные русского князя скопление мамаевых войск. И военный совет перед сражением держал Дмитрий именно здесь. Когда-то в этих местах шумела лесная засека, но вырубили с годами соседние дубы и березы, а этот великан устоял. Немцы в него бронебойными снарядами били, сучья от осколков поредели, но стоит дуб, как и прежде, и долго еще стоять, наверное, будет…
Станция Куликово поле — маленькая, приземистая, в три окошка. На фасаде портреты Дмитрия Донского и Александра Невского — местный художник писал по камню. Крохотный палисадник, заросший вязом и дикой малиной. Грузовое такси из совхоза «Куликово поле» ждет местного поезда. И — гуси, прямо на перроне: они поездов не боятся. Тишина стоит вокруг густая, плотная. Шесть веков этой тишине.
России много больше лет, но жизнью своей она обязана этой вот тишине.
Данков из легенды и без легенд
Что ни город — свой норов.
Русская пословица
От станции Куликово поле до Данкова по железной дороге километров тридцать с небольшим, и все правобережьем Дона. За окном вагона та же неоглядная степь с перелесками, узкая лента реки с плакучими ивами по берегам. Я уже много прошагал и проехал от истоков Дона и не видел пока ни одной лодки, до того мелководен в этих местах Дон. Стадо забрело на середину реки — вода коровам по брюхо. Мальчишки сколотили из старых ящиков плот — на отмели он застрял. И снова земляная насыпь вместо моста, а вода пробивает себе дорогу через трубу. Ничто так грубо не уродует Дон в верховьях, как эти вот нелепые гати.
Степи вокруг безлесные. Переводить леса здесь начали давно, а уж подчистую сняли дубы и корабельную сосну при Петре Первом. Впрочем, еще за два века до Петра Данков был на Руси центром судостроения.
Поезд с грохотом пересекает плотину и останавливается у небольшой станции с крошечным перроном. Это Данков. Маленький городок на самом севере Липецкой области, очень древний, очень мужественный в смутные для Руси времена, неистребимый, трижды рождавшийся заново…
Почему-то в справочниках и энциклопедиях считают годом рождения Данкова 1571 год. Но предание сохранило трагедию жителей Данкова, поднявшихся от мала до велика на борьбу с татарами еще до Куликовской битвы. Правда, город называли в ту пору Донков (может, от названия реки, а говорят еще — от имени знаменитого воеводы Епифана Донка), и стоял он на левом берегу, километрах в двадцати от нынешнего Данкова. В 1563 году поставили здесь крепость, а через восемь лет перенесли ее на правый берег, сделав сторожевым пунктом на южной границе Руси.
Данков очень непохож на другие придонские города. Он маленький, почти весь одноэтажный, но размашисто шагнул по обе стороны Дона. Здесь нет тесных улочек, площади просторные, светлые. Может, лишь зелени пока еще маловато. Город весь на холмах, и, когда глядишь на него со стороны, чудится в нем этакая чисто русская удаль, но в то же время и сознание своего достоинства.
До революции Данков на всю Россию славился свечным заводом и винокурнями. В наше время иная марка. Химический завод по кремнийорганическим полимерам построен в Данкове. Доломитовый комбинат, работающий на всю металлургию центральных областей, также сооружен в Данкове. И оба этих предприятия выросли в последние десять лет.
Шагнуть от стеариновых свечей к полимерам было не так просто. Построить химический завод было примерно такой же задачей, как возвести новый Данков: почти вдвое увеличилось население города.
В нынешней технике нужны все большие скорости. Там, где скорость, там и перегрев металла, и быстрый износ его, и большие потери энергии. Увеличить прочность металла помогают полимеры. Кремнийорганические лаки более устойчивы к высоким и низким температурам, чем кварц, и эластичнее смол. Продукцию сорока восьми наименований дают стране данковские химики. Здесь и покровные электроизоляционные эмали, и электроизоляционный лак, и «вечные» краски для отделки зданий, и многое-многое другое, подчас самое неожиданное. Узнали, например, в Данкове, что рыбакам доставляют много хлопот капроновые сети: они прочны, но ячейки при нагрузке растягиваются, и рыба уходит. Создали такой лак, который закрепил узелки ячеек. А гидрофобизирующая жидкость, тоже созданная в Данкове? Стоит ею обработать искусственный мех, и он не будет мяться, не потеряет блеска. Пропитать ею одежду — она не будет промокать. Теперь это уже не новинка на любой фабрике химчистки.
На доломитовом комбинате все проще: машины вгрызаются в древние залежи камня, дробят его и выдают на-гора, прямо в вагоны-думпкары. На каждом вагоне один и тот же адрес: Новолипецкий завод.
Варить металл на липецкой земле начали в незапамятные времена. Целые караваны телег везли металл на корабельные верфи и оружейные заводы. Ковали из липецкого железа лемеха и бороны, крутые серпы и звонкие косы. Но в наше время Липецкая Магнитка выдает металл уже не на серпы и косы: сталь ее особой крепости. Вот и понадобилось металлургам столько доломита, что пришлось строить в Данкове специальный завод-рудник.
Еще недавно Данков считали провинцией, бывшим «медвежьим углом». А это очень интеллигентный город, причастный и к литературе, и к искусству. В городском народном музее, основанном учителем Василием Лукичом Лукиным, есть старая газета «Елецкий край» за 1906 год с такой заметкой:
«В Данкове гораздо легче распространить сотню колод игральных карт, чем десяток книг…»
Это было не так. Хозяева старого Данкова как огня боялись образованного и просвещенного народа.
В голодный 1891 год Лев Николаевич Толстой устраивал в Данковском уезде столовые для голодающих крестьян, бесплатно раздавал книги. В том же году бывал в Данкове и Илья Ефимович Репин, написавший этюд «Толстой на голоде».
Не думал, наверное, Репин, что в Данкове будет когда-нибудь своя «Третьяковка». Город уже отпраздновал торжественное открытие «Малой Третьяковской галереи».
Началось с затеи юных краеведов. Написали они письмо своему земляку — уроженцу Данкова — известному художнику Андрею Ивановичу Плотнову и рассказали, что хотят создать школьную картинную галерею, просили помочь. Плотнов сообщил об этом друзьям. Узнало об этом и правление Союза художников. И в Данков ушло около сотни посылок с произведениями живописи, графики, скульптуры. Семья художника С. В. Герасимова подарила Данкову этюд «Солнечный день», семья баталиста П. П. Соколова-Скаля — «Красногвардейца» и «Женский портрет». Свои работы послали в Данков Кукрыниксы, В. А. Серов, Е. А. Кибрик, Л. Е. Кербель, Н. В. Томский, А. И. Лактионов и другие художники. Плотнов передал землякам картину «Зимний взят». Пришлось размещать экспозицию уже не в школе, а в Доме культуры.
Народный музей в Данкове является филиалом Липецкого областного краеведческого музея. В нем две с половиной тысячи экспонатов — от уникальных предметов неолита до интереснейших свидетельств о сегодняшнем дне города. За сто двадцать лет до Октября из этих мест вышло только четыре специалиста, да и те из дворян. А за полвека Советской власти сотни детей крестьян и рабочих стали врачами, инженерами, агрономами, конструкторами, академиками. Да на одном лишь химическом комбинате трудится около тысячи дипломированных специалистов.
Химия определяет лицо сегодняшнего Данкова, она его завтрашний день. В этом убеждены все данковцы, с которыми довелось мне познакомиться.
Вотчина русских лебедей
Есть города — они стоят веками,
Но ведь в любом из них когда-то жил
Тот человек, который первый камень
На безымянном месте положил.
Владимир Туркин
Из далекого детства память донесла ко мне красочный лубок неведомого художника: узкая серебристая змейка живописной реки, а по бокам, будто желая обхватить ее, высятся крутые лесистые берега. На одном из берегов — старая колокольня. И семья белых лебедей под обрывом. Река уходит далеко вдаль — туда, где нет уже крутых обрывов. Там — утлый челнок с рыбаком, и еще лебеди… Помню, мне очень хотелось дознаться, какую реку изобразил художник. Уж, конечно, не Дон: я не видел его таким в наших станицах.
Приехав в Лебедянь, я почти наяву увидел запавшую в памяти картину: те же крутые обрывистые берега со старой колокольней наверху, и сплошь заросшая лесом долина, и узкая серебристая змея реки, что торопится вдаль, и еще — рыбацкие лодки подле красивых лебедей с изогнутыми шеями. Лебедей было двое — пара, свившая себе гнездо на маленьком островке, упорно не замечающая шумной автотрассы, пересекающей мост, привыкшая к соседству назойливого племени рыболовов, которые безуспешно, как мне показалось, решили посоперничать с благородной птицей в истреблении мальков.
Здешние донские берега, густо заросшие диким кустарником, камышом и осокой, изрезанные бесчисленными лиманами, давали в старину приют не одной паре лебедей-кликунов. Потому и назвали посад Лебедянью. Город предстал передо мной таким, каким рисовал я его в своем воображении, — тихим и задумчивым, с рублеными избами, с узкими крутыми улочками, сплошь заросшими вишнями и крыжовником, с пьянящим ароматом бесчисленных палисадников с цветами. Время не пощадило лебедей, но сохранило Лебедянь, и, знакомясь с городом, я много раз с благодарностью думал о современных архитекторах, поиски которых очень бережны и осторожны. Город строится, растет, но новое в нем удивительно гармонично сочетается со всем ценным и неповторимым, что осталось от старины.
И дело, наверное, не только в архитекторах — я не видел в Лебедяни неухоженных улиц. «Над этим участком шефствует машиностроительный завод»; «Над кварталом шефствует консервный завод…» Другие таблички на перекрестках называют литейно-механический завод, пуговичную фабрику, педагогическое училище, зооветеринарный техникум, базу райпотребсоюза, над одним из переулков — даже райсобес и нотариальную контору… Не сегодня и не вдруг появилась эта похвальная традиция.
Знаменитые торговые ряды в центре города — примечательный памятник, и относится он к той поре, когда начиналась история древней Лебедяни. В миниатюре они напоминают московский ГУМ, чем-то походят на средневековые русские торжища, какими представляем мы их по книгам о древней Руси. В прошлом веке (да еще и в двадцатых годах нашего столетия) здесь шумели конские ярмарки, а в трактирах лилось вино на кутежах удачливых ремонтеров[1] и старых уланов — все было так, как рассказывали о Лебедяни Лев Толстой в «Двух гусарах», а еще раньше Тургенев в «Записках охотника».
И сейчас здесь торговый центр, только уже без ремонтеров и барышников, он скромно именуется районным колхозным рынком. Впрочем, осенью, когда кончаются в поле работы, рынок превращается, как некогда, в шумливую ярмарку — сюда приезжают даже из соседних областей.
Я видел не ярмарку, а воскресный рынок в июле и, сказать откровенно, нигде на Верхнем Дону не встречал таких душистых яблок, как в Лебедяни, такой сочной редиски, алых помидоров и пухлых баклажан, а еще — сдобных лепешек в густой сметане и особой, в одной Лебедяни приготовляемой, пряной икры из лука.
В старину посад Лебедянь окружали слободки мастеровых и служивых людей самого разного толка. Была Стрелецкая слобода, Кузнецкая, Покрово-Казацкая. Названия их сохранились и сейчас. Дети и внуки кустарей теперь мастеровые на немногочисленных в городе заводах далеко не союзного значения: Лебедянь не стала индустриальным центром. Лицо города — это крупный консервный завод, это богатые плодово-ягодные совхозы в окрестностях, большие овощеводческие хозяйства. Пойма Дона с лиманами и разбросанными вокруг некогда лебедиными озерами поистине золотое дно.
Я и раньше знал, что Лебедянь называют яблочным центром России, был наслышан о совхозе «Агроном» и поэтому, устроившись в гостинице, забросил в пустой номер рюкзак и, отложив осмотр города на вечер, отправился искать попутную машину в совхоз.
Он мало отличался от города, знаменитый «Агроном», — мощенные камнем улицы, водопровод, газ, благоустроенные коттеджи со всеми другими удобствами, большой Дворец культуры, стадион, музыкальная школа. А еще три десятка лет назад была здесь пустошь. Пустошь была и на месте совхозных садов, а протянулись они на девять километром в длину и на четыре — в ширину. Совхозный бухгалтер подсчитал как-то, что яблоками, выращенными в «Агрономе», можно обеспечить по научным нормам питания сто тридцать тысяч человек на протяжении всего года! И какими сортами — антоновкой, пепином шафранным, славянкой, бельфлер-китайкой, бессемянкой…
С «Агрономом» знакомил меня старый садовод (и добавлю — цветовод, потому что в совхозе одних только георгинов насчитывают сто пятнадцать сортов!) Василий Гаврилович Титов. Я слушал его и вспоминал, что в древней Персии садоводство считалось занятием, достойным царей, и что еще Вергилий обучал своих учеников не только стихам, но и садоводству, а Август Саксонский даже издал закон, по которому каждая новобрачная чета должна посадить по плодовому дереву.
Красивая Меча
Не затем ли Меча кружит
Нашим лугом и селом,
Что прощается и тужит
О девичестве своем?..
Отражая луг и поле,
Плоскодонку, взмах весла,
Синий цвет девичьей воли
Меча Дону принесла.
И во всем ему переча,
Несогласная с судьбой,
И в Дону осталась Меча
Ледяной и голубой.
Маргарита Алигер
Не так уж много у нас маленьких рек, о которых знают в большом мире. Красивая Меча тоже неприметная речушка, и, хотя она только приток Дона, наверное, нет ни одной школьной хрестоматии, где она не упоминалась бы. Возле самого устья Мечи я перешел ее вброд — холодную в знойный полдень, чистую, будто слеза, голубую, точно морская лагуна, прозрачную — с желтым песком и светлыми камешками на дне. И еще добавлю — Красивую, потому что берега ее, в самом деле, очень нежны и задумчиво-прекрасны. Пологими волнами стекаются к воде невысокие, распаханные холмы с крохотными березовыми рощами и неглубокими лощинами, и шумит, переливается под ветром бескрайняя хлебная нива, через которую кружит узким вьюном и пробирается к Дону река.
Давно-давно слышал я легенду о том, как после поражения на Куликовом поле Мамай, спасая свою голову, переправлялся с телохранителями у Гусиного брода через безымянную речку и обронил в воду меч. Не простой был меч — изукрашенный драгоценными камнями, чеканным серебром. В другой раз не оставил бы хан меча на дне реки, повелел бы слугам достать его. Но было не до меча. Так и остался он на дне, сколько искали потом — не нашли. А реку нарекли с той поры Красивой Мечей.
В Троекурове — деревеньке на берегах Красивой Мечи — я услышал и другую легенду. Нарекли будто бы реку Красивой Мечей задолго до прихода на Русь Мамая — в память о стычке богатыря с медведицей. По-древнерусски медведица — значит «мечька». И наверное, эта легенда ближе к истине.
Что касается медведей, то на Мече не слышали о них по крайней мере уже лет двести. Зато зайцев и перепелов видел я по дороге от Лебедяни к Троекурову несметное число, и почти все они непуганые, с любопытством поглядывают на редких путников. Хоть и много развелось в наше время охотников, до Мечи они еще не добрались.
Говорят, что Меча сильно обмелела. За полвека до Петра стряпчий Федор Лодыженский взял у казны подряд — построить за два года сто морских стругов в Воронской слободе на Мече. И построил. Да еще каких! По двадцать пять — тридцать аршин длиною. Правда, свел на это дело вековые липы и сделал Мечу не только степной речкой, но еще и мелководной.
Берега Мечи по-прежнему чаруют своей красотой — не бором, от которого остались чахлые рощицы, а зелеными-зелеными лугами, ледяными омутами (окунешься возле родников — будто «ошпарит» тебя ледяными иголками), цветочным разливом на песчаных отмелях. Помните, как говаривал о местах этих тургеневский Касьян: «Там у нас, на Красивой-то Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далеко видно, далече. Вот как далеко видно… Смотришь, смотришь, ах ты право!..»
И цветов таких, как на Мече, не видел я в других местах — больших, во всю ладонь, белых кувшинок. Поглядишь на реку со стороны — будто звезды рассыпаны, рука сама потянется к ним. А сорвешь — сразу увянут. Не живет кувшинка без воды, очень уж она нужная, похожа на листочек накрахмаленной папиросной бумаги. А там, где кувшинки кончаются, уже ничто не растет — омут.
Кувшинку называют северным лотосом. На Мече ее именуют проще: нимфой. Устав от пыльной дороги, я прилег на луговине и долго разглядывал, как пили из цветочных чашечек водяные курочки, как барахтались выскочившие из воды щурята. На ночь цветы закрываются, а утром по ним можно сверять время. Закрываются они и в ненастье: в чашечке воздух теплее, чем вокруг.
Меча — река недлинная, но с характером, то и дело кружит и, пока минет деревушку, раза три обернется. И повсюду на берегах — анютины глазки. Самый известный в здешних краях цветок. Про него расскажут вам легенду, она тоже восходит к Куликовской битве. Проводила будто бы в грозный год девушка Анютка милого в поход, долго ждала его и не знала, что злая стрела мамаева подстерегла храброго витязя, насмерть сразила его вдали от родных мест. Ветры буйные шумели над могилой ратника, цветы вырастали вокруг, и светились они взором ласковым сквозь тьму непроглядную, будто глазки Анютины.
Чудная легенда… Впрочем, вся долина Мечи — это край, где легенды переплетаются с былью. Горемыке Касьяну красота здешняя не принесла счастья, лихая доля согнала его с родных мест, пошел бродить он по белу свету, хотел до теплых морей добраться, где птица Гамаюн сладкогласная живет, где лист с деревьев ни зимой, ни осенью не осыпается, где яблоки золотые растут на серебряных ветках и всяк человек живет в довольстве и справедливости.
Меня уверяли в Троекурове, что это именно их село описал Пушкин в повести о Дубровском. Очень может быть и так.
В 1918 году солдаты-фронтовики основали возле Троекурова первую в уезде коммуну, назвали ее Красной Мечей. Наверное, стоило и село тогда переименовать — не успели: подступал Мамонтов. В долине Красивой Мечи воздвигнут обелиск из дикого камня — похоронены здесь двадцать восемь бойцов частей особого назначения (ЧОН), и среди них пятнадцатилетний Витя Наварский из Лебедяни. К Лебедяни чоновцы бандитов Не пустили, но паренька с другими храбрецами оставили в сырой земле на берегу Мечи.
Здесь есть и еще один обелиск — на нем сто восемьдесят фамилий тех, кто в 1941 году ушли из колхоза «Красная Меча» на фронт и с войны не вернулись.
А Меча, как и тридцать лет, как и сто лет назад, все так же катит свои воды к Дону, размывая в половодье овраги, унося отжившие свое пни и пожухлые травы, озорно поблескивает крутыми излучинами. Сады знаменитого «Агронома» все ближе подступают к реке, давая новые силы подводным родникам. Касьян мечтал о золотых яблоках — их уже много на Мече. Да что яблоки, к ним давно привыкли. Вот в совхозе «15 лет Октября», тоже на Мече, заложили два года назад первую в средней полосе России промышленную плантацию винограда. Пока, правда, только восемь гектаров, но сорта — столовые, выведенные селекционерами из Мичуринска.
Я был на Красивой Мече как раз в те дни, когда последнее хозяйство Лебедянского района подключалось к государственной энергосистеме. На усадьбу совхоза имени Мичурина был подведен ток от высоковольтной линии. «Закольцована» теперь в эту линию и совхозная электростанция на Мече. Та самая, что была одной из первых в стране, — Курапская. На ее открытие коммунары приглашали Ленина, но он был уже тяжело болен. Маленькой, неказистой была станция — перестроили ее из водяной мельницы. А позже, когда колхоз окреп, построили уже настоящую ГЭС, освещавшую даже город Лебедянь. И вот энергия ее слилась теперь с могучим электрическим потоком, что идет с Волги.
Идет ток и в верховья Мечи, там вырос в наше время Ефремовский завод синтетического каучука. Это ударная комсомольская стройка, куда съехались парни и девчата со всех концов страны. Я не добрался до Ефремова: Дон звал на юг, а интересных городов на его притоках много, всюду не побываешь, даже пожелай этого.
Будь здорова, Меча! Богатеть тебе да сил набираться!
Город на Сосне
Не одну в старину ты видал войну.
У тебя, поди, расспроси…
Ты Москве служил, ты тревожно жил,
Ты берег границы Руси.
Маргарита Алигер
…Травы росные стелются под ногами, купается зорька в донской волне, облака плывут низко-низко над самой водой. И села на берегу с милыми сердцу названиями, не спутать с другими — Куликовка Вторая, Рождество, Гагарине (имя не в честь космонавта, ему веков шесть), Яблоново, Красное, Тростяное, Черкассы (слободская Украина-то уже близко), Талица… Еще одну сестру принимает здесь Дон в свое лоно — Быструю Сосну.
От устья Сосны до Ельца километров двадцать с небольшим. Добирался я на попутном грузовике: река, увы, уже много десятков лет назад перестала быть судоходной. Когда-то поднимались по ней суда верст на двести, а теперь даже устье заросло, катерку не зайти.
Неспроста окрестили реку Сосной. Прежде по берегам стояли могучие сосны и ели. По ним и городу дали имя — Елец. На городском гербе олень изображен на фоне ели.
Я ходил по узким и крутым улочкам, сплошь вымощенным камнем, старательно ухоженным и выметенным площадям, мимо старых рубленых домов с резными крылечками, инкрустированными ставнями и расшитыми занавесками на окнах, мимо обезглавленных соборов (тут они понастроены чуть не на каждом углу), взбирался даже на каланчу старого пожарного депо, заглянул на шумливый рынок с купеческими лабазами, перестроенными по современному образцу, в ресторане «Олень» слушал цыганские мелодии в исполнении… духового оркестра, отведал настоящих русских блинов и уже поздно вечером, вернувшись в гостиницу (она, как и сто лет назад, называется «Сосной»), заключил: чтобы почувствовать бунинскую Русь, нужно приехать в Елец.
Елец старше Москвы, но это не Суздаль и не Ростов Великий с их неповторимыми соборами. В Ельце тоже много соборов, но, говорят, не такие уж они древние, чтобы охранять их и беречь; все они, как и сам город, отстроены лет сто или полтораста назад на руинах и пепелищах старого посада, не раз и не два сносившегося до тла захватчиками и снова возрождавшегося к жизни.
Город на Сосне не сможет, конечно, поразить туристов древними архитектурными ансамблями по той причине, что стоял он всегда как часовой на самой окраине Руси и в каждую тяжкую для государства годину первым принимал на себя удары врага, жертвуя невозвратно ради Отечества всем, что у него было. Сначала Елец сжег Батый, потом Ахмат-Темир, за ним побывали здесь Узбеде и Тагай, Тохтамыш и Тамерлан, Барок и Магомет-Гирей и еще многие другие захватчики.
И уже совсем не древняя история. В гражданскую у Ельца был наголову разбит Мамонтов, он тоже рвался в Москву. Лишь четыре дня провел он в городе (в котором рабочие провозгласили в 1917 году Советскую республику со своим собственным Совнаркомом). Фатальными оказались четыре дня, проведенные в Ельце, и для гитлеровских оккупантов. В 1941 году фашисты разбрасывали с самолетов листовки с глуповатой шуткой: «Возьмем Елец — Москве конец». А в 1945-м всю мировую прессу обошла фотография: советский воин-победитель расписывается на рейхстаге: «Мы из Ельца»…
Елец богат памятниками истории, местами, связанными с интереснейшими историческими событиями. На тихой улице Горького, сплошь заросшей садами, я пришел к маленькому и уже обветшавшему бревенчатому домику, где жил Бунин, когда учился в елецкой гимназии. Всю жизнь он мучительно искал правду, заблуждался, ошибался и умер на чужбине русским человеком. На улице Советской я разыскал первую среднюю школу, когда-то здесь была гимназия, и в ней учились в разное время Бунин, Пришвин и Семашко. Есть здесь еще один дом, в нем останавливался проездом на Кавказ Пушкин.
Это щедрая на таланты область. В селе Знаменском родился Дмитрий Иванович Писарев, а в Екатериновке — Марко Вовчок. В этих краях Грибоедов писал «Горе от ума».
Неистребимый, вечно обновляющийся Елец не похож на города, которым давит на плечи груз столетий.
Наверное, нигде в мире не плетут такие волшебные кружева, как здесь. Уже два века, как ходит по многим странам слава про мастериц тончайшего нитяного рисунка из маленького городка на Сосне. Кружева нельзя просто сплести: за такое-то время такое-то количество метров. Их можно создать, сложив воедино тепло души и сердца, тонкую чувствительность гибких пальцев, дерзкую мечту и еще… обыкновенные нитки. Я говорю, конечно, о ручных кружевах, потому что на комбинате делают еще и машинные — тоже затейливые, но холодные и безжизненные, пусть даже безупречные во всех отношениях.
Меня познакомили с Аней Колчевой — одной из искуснейших кружевниц. Цветная трехметровая скатерть «Русские женщины» удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Монреале. Это не просто скатерть, это — волшебное семицветье, схваченное острым глазом мастера в какое-то неповторимое мгновение и перенесенное на кружево. А другая скатерть — «Снежинка» — получила медаль на выставке в Брюсселе. Сняла девушка при мне золотое колечко с пальца, и скатерть легко прошла сквозь него. Не прошла — пролилась, будто чистая родниковая струя. Все в Анином роду — прабабка и бабушка, и мать, и тетка — тоже были кружевницами. Но по мастерству, пожалуй, девушка превзошла всех, неспроста наградили ее орденом Ленина — признали первой в стране кружевницей.
Помните заключительную сцену чеховской «Чайки»? Там Нина Заречная говорит: «Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе… с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями… Груба жизнь!»
В ту пору Елец считался процветающим городом: были здесь кроме кружев четыре махорочные, две иконостасные и две экипажные фабрики, салотопка, четыре крупорушки, завод чугунного литья (он выпускал надгробные плиты — пять тонн в неделю, и насчитывалось на нем семеро рабочих).
Нет в Ельце и сейчас индустриальных гигантов, например, вроде «Ростсельмаша». Зато есть уникальный элементный завод, который отправляет свои изделия — элементы и батареи — более чем в пятьдесят стран мира. Знакомы эти изделия каждому, кто имел дело с карманным фонариком или транзисторным приемником, или слуховыми аппаратами для инвалидов. Это в Ельце выпускают знаменитые миниатюрные батарейки «Крона-ВЦ», работающие лучше и дольше зарубежных образцов. А есть еще завод «Прожекторные угли», завод медицинского оборудования, большой сахарный завод. Не тот сегодня Елец, что был при Бунине и Чехове, но сберегли ельчане и тишину, и уют, и все другие своеобразные черты, столь присущие стародавнему русскому городку.
Говорят, ельчане всегда выдумывали что-то необычное, что-то непременно свое. Неспроста старые дома у них похожи на расписные терема. У других балконы украшены чугунным узорным литьем. А в самом центре даже собственная биржа с прошлого века сохранилась, и близ нее церковь — малиново-красная, залихватски веселая. В Ельце и свой Афанасий Никитин был: триста лет назад боярский сын, рейтар (кавалерист) Федор Дорохин попал в плен к татарскому хану, продали его рабом в Турцию, потом он спужил в султанском войске, в азиатских странах и в Египте побывал, в Болгарии и Румынии, тайно вел записи и, когда вернулся домой, написал книгу «О тайном и сокровенном сокрытии мной, пленником, в неволе описания».
С Ельцом связано еще одно имя — Александра Вермишева. На вокзале мемориальная доска: «Здесь, защищая вокзал, 31 августа 1919 года сражался отряд красноармейцев под командованием комиссара — писателя Александра Вермишева. В этом бою Вермишев был тяжело ранен, схвачен и замучен белогвардейцами».
Я знал, что в гражданскую войну пьеса Вермишева «Красная правда» обошла красноармейские театры на всех фронтах, ею заинтересовались Ленин и Максим Горький. В последние часы жизни Вермишев собирался поставить пьесу в своем полку, руководил репетициями. И вдруг — сигнал тревоги. До последнего стоял батальон, и до последнего оборонялся тяжело раненный комиссар… Мамонтовцы отрезали ему пальцы, уши, терзали, рвали живое тело, но вырвать слова предательства не смогли. «Да здравствует Ленин!» — воскликнул он перед смертью. Ельчане тайком похоронили Вермишева в предместье, и только двадцать лет назад была найдена его могила. Вместе с жертвами мамонтовцев там захоронены теперь летчики, погибшие в боях за Елец в Великую Отечественную войну. Волею обстоятельств слилась воедино память о тех, кто воевал на той далекой гражданской, и их наследниках…
Солнце золотило багряные кроны лип у вокзала, играло бликами на мраморной доске. Я медленно шел по улице Вермишева, и казалось, он где-то здесь, совсем рядом, встретится сейчас — в кожаной куртке с медными пуговицами, в фуражке, тоже кожаной, со звездой, перетянутый ремнями, с тяжелым маузером…
Но чудес на свете не бывает.
На автобусной остановке я купил в киоске областную газету «Ленинское знамя». В ней писали, что липецкий театр ставит пьесу о Вермишеве «Когда цветет вереск». Автор пьесы — местный драматург Андрей Баюканский. Местный союз журналистов, прочитал еще я, учредил премию имени Вермишева.
Была еще в газете заметка, что старинный город на берегу неглубокой и тихой речки Сосны — Елец ожидает своего стотысячного жителя.
Журавлиная песня
Сказать, какой запах у черемухи сам по себе, невозможно: этим пахнет только черемуха, и нюхали этот аромат еще и те русские, кто слушал Бояна, певшего свою былину о полку Игореве, и много раньше того, в те времена, о которых мы и не догадываемся…
М. М. Пришвин
Узкая тропинка круто вьется над Доном, ведет к горе. У одинокого лобастого утеса, круто спадающего к берегу, тропинка кончается. Можно обойти утес вброд: река все еще мелководна в этих местах. Можно взобраться на утес кружным путем — с полкилометра по густому травостою. На отвесных кручах мелового утеса высотой в пятьдесят метров, словно исполинской рукой, высечены причудливые башни, карнизы, навесы, к ним лепятся ласточкины гнезда, лишайники.
Это — Галичья гора. Та самая…
Я говорю: «Та самая…» — и вспоминаю «Затерянный мир» Конан-Дойля. В его романе люди отыскали посреди тропических лесов и болот Южной Америки большое скалистое плато, заселенное ихтиозаврами, динозаврами и другими чудовищными существами, обитавшими на земле много миллионов лет назад. Доисторические животные ожили на страницах фантастического романа.
Впрочем, фантазия Конан-Дойля не такая уж выдумка, как может казаться. До наших дней сохранились на земле уголки природы, где растения, обитавшие миллионы лет назад, живут и растут сегодня. Один из таких уголков — Галичья гора.
Что касается динозавров, то они, конечно, перевелись на Дону в незапамятные времена.
Известно, было время, двигался в наших краях огромный ледник, сметая на своем пути все живое. Один из языков ледника спускался по долине Дона и Сосны, но миновал Галичью гору — высокий утес в безбрежных степях. На десятки тысяч километров вокруг бушевало ледяное море, а одинокий утес оставался нетронутым. Погибли неведомые нам могучие кроны древнего бора, что шумел когда-то в этих местах, а травы, цветы и папоротник сохранились с доледникового времени.
В библейской легенде о всемирном потопе Ной нашел якобы себе убежище на горе Арарат. Те, кто выдумал эту сказку, не знали про Галичью гору. Ученые насчитали здесь более шестисот видов растений. Здесь встречаются редкие растения, не свойственные Русской равнине.
Стоял уже полдень, солнце горячо накалило камни утеса, гора дышала зноем: здесь ведь почва представлена глыбами плотного известняка, и все-таки вся она покрыта зеленью. Я присоединился к экскурсии школьников и уже не отставал от них, слушая объяснения экскурсовода.
Вот причудливое растение, сплошь усыпанное ярко-золотыми цветами. Это лапчатка донская. Такие фантастические цветы увидишь только на картине художника-модерниста. В расщелине камня рядом прячется папоротник, подле него — эфедра, по-народному Кузьмичева трава (это из нее делают лекарство эфедрин). А рядом — низкие кустики, с метр высотой, узкие продолговатые листья на них и белые цветы. Это волчеягодник Софьи…
В 1925 году, когда гора была объявлена декретом Совнаркома заповедной, здесь начинал интересные опыты Борис Михайлович Козо-Полянский. Смелая фантазия касалась в сущности одной проблемы: «одомашнить» уцелевшие чудом реликты, перенести их с крохотных расщелин Галичьей горы на крестьянские поля. В трудном поиске было, пожалуй, больше неудач, но Борис Михайлович и его коллега Сергей Владимирович Голицын не опускали руки.
Рос, например, на меловых обнажениях Галичьей горы ничем не приметный мочковатый пырей. И оказалось, это растение настоящий мелиоратор. У него такая могучая корневая система, что он может вытягивать влагу с очень большой глубины, ни один насос не сравнится с ним. Корни пырея способны надежно закрепить пески, образовать дерн там, где его нет. Голицын поехал в станицу Вешенскую, где на Дон издавна наступали пески, посеял пырей на береговых откосах, и теперь эти места не узнать. А в довершение ко всему прибрежные хозяйства собирают на бесплодных прежде землях превосходный корм для скота — так называемое меловое сено. Ушли с Галичьей горы посылки с семенами пырея в далекую Туву, и оттуда пишут, что стал пырей настоящим «чемпионом» среди всех других трав.
Неутомимый Голицын ставил все новые и новые опыты. Теперь уже не с пыреем, его заинтересовал земляной миндаль — чуфа. Это растение он пытался акклиматизировать на Галичьей горе, хотя ученым оно известно давно. В древних гробницах египетских фараонов находили больше семян чуфы, чем пшеничных зерен. Наверное, неспроста, ведь плоды чуфы — целый склад питательных веществ, в них тридцать процентов сахара, столько же масла, свыше двадцати процентов чистого белка. Почему бы не сделать ее промысловой?
Про Галичью гору до недавнего времени знали немногие. А сейчас сотрудникам агробиостанции с весны и до осени приходится терпеть не просто паломничество, а буквально нашествие туристов. Едут из Ельца и Липецка, из Воронежа и Задонска.
…Экскурсия, к которой я пристал, оказалась непростой. Уже потом, когда ребята, осмотрев заповедник, спустились в урочище Плющани и разбили палаточный городок, я ближе познакомился с их наставником Борисом Григорьевичем Лесюком. Директор средней школы и учитель литературы в недавнем прошлом, он оставил любимую работу из-за тяжелого недуга, но не оставил ребят. Стал в Ельце директором детского парка, когда такого парка вообще еще не существовало, — был в центре города пустырь на месте разрушенных зданий. Минуло несколько лет, и вырос чудесный сад, посаженный Лесюком вместе с ребятами. А саженцы для парка попросили у Голицына на Галичьей горе и добирались сюда… на шлюпках. Это было давно. Но с той поры каждый год Борис Григорьевич отправляется со своими питомцами к урочищу Плющани, и чтобы познакомить с Галичьей горой все новых и новых ребят, вступающих в клуб старшеклассников при детском парке в Ельце.
Речка Плющань тоже донской приток. Появляется она из-под земли будто нечаянно, потом так же внезапно исчезает под землю и опять выходит на поверхность. Карстовые воронки, подземные пещеры, таинственные столбы болотного газа по ночам, которые в народе называют «привидениями», — есть чем занять ребят на урочище. Это не просто туристский поход, это — познание жизни.
Я слушал, как Лесюк рассказывал зачарованным ребятам про глубокие пещеры и подземные ходы, которые растянулись в этих краях на многие километры. Где-то в подземных лабиринтах будто бы скрыты несметные сокровища, спрятанные татарским ханом после поражения у Ельца. Лет сорок назад в одной из пещер нашли железный русский шлем.
И еще рассказывал Лесюк ребятам о журавлях. Красивых птиц этих все меньше становится в наших местах: мало еще охотников сменило ружье на фотоаппарат. Журавль — птица видная, в народе к ней относятся с уважением, любят слушать, как весело она трубит. И гнездятся журавли только на Галичьей горе да еще на Воргольских скалах, к северу от Ельца. На птиц этих строго-настрого запрещена охота. Однажды, говорил Лесюк, браконьер сгубил самку. Помыкался осиротевший журавль, недоумевая, как же могло такое приключиться, покружил три дня с жалобным криком над журкой, а потом взмахнул крыльями и бросился с размаху на острые скалы. Не мог жить без подруги. Сразу будто опустел и поскучнел утес…
Я вспомнил про журавлей с Галичьей горы в Воронеже, и вот при каких обстоятельствах.
Попрощавшись с Лесюком и ребятами, я спустился к перевозу возле села Донского — бывшей вотчины патриарха Филарета (оно называлось прежде Патриаршим), чтобы успеть к катеру. У Донского, собственно, начинается сейчас судоходство на Дону, если называть таковым рейсы крохотных катеров на пятнадцать — двадцать пассажиров (судно посолиднее сядет на мель). Ветер доносил в предвечерней тишине песню оттуда, с Плющани, где остались ночевать лагерем следопыты из Ельца. Мелодия напоминала «Каховку», но слова были другими:
Пели ребята нестройно, но увлеченно, наверное, у костра, в котором пеклась румяная картошка, в ожидании туристского ужина.
Как узнал я позже в Воронежском музее, это была песня о партизанке Ане Гайтеровой — дочери елецкого кузнеца и кружевницы. В сорок первом погибла она, семнадцатилетней, у Русского брода, западнее Ельца, и посмертно была награждена самым почетным боевым орденом — Красного Знамени. Наверное, и о ней рассказывал ребятам Лесюк, научил их песне про Анку. Но что заставило меня вспомнить рассказ о журавлиной верности, так это письма Ани Гайтеровой. Была в них такая строчка: «Не затмить фашисту неба над Доном, не заглушить песни журавлиной…»
С той поры, когда слышу я что-нибудь о журавлях, вспоминаю я Галичью гору и песню про девушку-ельчанку…
Тешевские были
Изо всех уездных городов понравился мне наиболее Задонск: он выстроен правильно и похож более на большую мызу богатого помещика Он лежит на косогоре, с полверсты от реки Дона…
Н. Н. Муравьев
Три долгих часа пробирался по мелководью рейсовый катер, который раз в сутки перевозит немногочисленных пассажиров из Донского в Задонск. Тут и расстояние-то всего километров тридцать с небольшим, но у каждого причала утлое суденышко стоит по четверти и более часа, ждет, пока втащат на палубу корзины и мешки с овощами, ящики с цыплятами и утками, молочные бутылки, — завтра в Задонске воскресная ярмарка.
Уже стемнело, когда показались наконец разбросанные по крутым склонам левобережья городские огни, а посреди них чернеющая громада бывшей монастырской колокольни. Я читал в старом справочнике, что Задонск «славен первоклассным монастырем, придающим красоту, значение и известность городу». Это сюда со всех концов Руси стекались калеки и страждущие, желая вымолить у нетленных мощей «святого» Тихона Задонского избавление.
Сколь припеваючи жилось церковникам, можно видеть на полотне знаменитого русского художника Алексея Корзухина «В монастырской гостинице». Она написана почти с натуры в Задонске. Помните эту картину? Самодовольные, лоснящиеся лица пастырей, бросающих недвусмысленные взгляды на хорошенькую прихожанку из крестьян, наверное, добиравшуюся за сотни верст вымолить себе прощение…
Разбрелись монахи, прекратились подаяния, и сам монастырь запустел. А золото и бриллианты, накопленные за многие десятилетия, исправно послужили тем, кого обманывали пастыри: на них были куплены за границей сотни вагонов хлеба для голодавших крестьян Поволжья.
…Катерок ткнулся носом в песчаный берег, матросы ловко втащили на палубу трап. Пристани здесь нет, нет и причала — стоит маленькая сторожка с двумя спасательными кругами на стене. И все-таки это порт. Причаливает сюда раз в сутки катерок. Заглядывают сюда еще баржи с песком. А прошлым летом появились и земснаряды, очищающие донское русло. Тем более что неподалеку, в Хмелинце, открыты богатейшие запасы камня-известняка. Не каждому известно, что обыкновенному сахару придает белизну и очищает его от примесей специальный камень, разработки которого велись в основном только у Липецка. Теперь появился новый карьер — у Хмелинца, где, по подсчетам геологов, его сотни миллионов тонн. Значит, порт еще послужит, тем более что железная дорога обходит Задонск стороной — в прошлом веке «отцы города» отказали железнодорожной компании выделить участок, чтоб подвести сюда «чугунку»…
В конце прошлого века в этом городе бывал Горький. Вот так же, наверное, как мне теперь сестра-хозяйка, указал тогда Алексею Максимовичу монах стоявшую впритык с другими койку, и странник, сунув под подушку вещевой мешок, отправился осматривать незнакомый городок. Наверное, это тот же самый дом, ведь и монастырская громада рядом, да и не только гостиница, а многое другое осталось в этом тихом и задумчивом городке на том же месте, что и пол века, а может быть, и целый век назад. Темной и жаркой ночью сидел Горький на монастырском дворе, окруженный послушниками и богомольцами, слушал их незатейливые речи, рассказывал сам, и, как потом вспоминал в своих очерках, была у него такая минута, «когда всех людей чувствуешь, как свое тело, а себя — сердцем всех людей».
Время было уже позднее, все-таки, определившись в гостинице, я снова вернулся к Дону. Потянуло искупаться в нагретой за день реке и просто посидеть на крутом обрыве. Немного я видел таких маленьких городков с первозданными красотами природы, с необычайной, будто звенящей, тишиной и благоуханьем старых дуплистых лип.
Может, и хорошо, что обошла Задонск железнодорожная магистраль. Если устанете от городской суеты и шума, поезжайте в Задонск. Наверное, совсем не случайно проводили в нем недели и месяцы и Бунин, и Пришвин, и Паустовский — разжигали на этих вот склонах с друзьями костры, ночи напролет слушали неугомонное птичье щебетанье, встречали на этих лугах росные утра. И воздух здесь удивительный — в старину вроде бы звон колоколов слышали за сорок верст, и запах у трав непохож на другие — свой, медвяный…
Осматривать монастырские здания я отправился уже утром. Самого монастыря, конечно, не существует уже полвека, но здания крепкой каменной кладки простоят еще долго. В одном из приделов сейчас городская больница, в другом — консервно-сушильный завод.
Во времена Дмитрия Донского здесь была крепость, которой наказано «стеречи за татарами и под орду ехати языка добывать и истину уведать Мамаева хотения». Задонска еще не существовало, была слобода Тешевка. Много позже, в 1610 году, беглые московские монахи Кирилл и Герасим построили здесь деревянную церковь, взяли в свои руки перевоз через Дон, рыбные промыслы и пойменные сенокосы, возвели мельницу. В году 1779-м слобода Тешевка царским указом была переименована в город Задонск, стала уездным центром.
Задонск — тихий, уютный городок. Промышленными гигантами он похвастать не может: сушильный завод, ну еще сахарный и спиртовой, райпромкомбинат, хлебозавод, сельскохозяйственный техникум, школа пчеловодов. Улицы в городе немощеные, густо поросшие зеленью. Кусты черемухи прямо на выложенных кирпичом тротуарах. Рубленые избы в зарослях сирени. В городском парке мирно пасутся козы. Кажется, ничто не нарушает размеренный, неторопливый ритм жизни. Но так только кажется.
Были иные времена. Когда решалась судьба революции, провинциальный Задонск, оказавшийся в плотном кольце врагов, твердо и прочно поддерживал Ленина. Это сюда пришла в августе 1918 года телеграмма: «Действуйте самым решительным образом против кулаков и снюхавшейся с ними левоэсеровской сволочи. Обратитесь с воззваниями к бедноте. Организуйте ее. Запросите помощи от Ельца. Необходимо беспощадное подавление кулаков-кровопийцев. Телеграфируйте. Предсовнаркома Ленин».
В Великую Отечественную войну Задонск послал на фронт всех, кто был способен носить оружие. В городке было десять тысяч жителей, да в районе тысяч пятнадцать. В центре города монумент: «Современники и потомки, — гласит надпись на мраморе, — склоните головы. Здесь замурована урна с именным списком шести тысяч девятисот сорока двух воинов-задонцев, павших в боях за нашу Советскую Родину».
Нет, совсем он не тихий, как кажется. В городской сутолоке, в повседневных заботах, случается, теряешь чувство своего общения с родной землей. Приехав в такой город, как Задонск, обретаешь его снова и зримее видишь, где начало всех начал, откуда ты сам.
И еще думал я: наверное, у каждого должен быть свой Задонск. Непременно должен.
По старой Задонской дороге
Под Воронежем у нас — хороша земля,
Под Воронежем у нас — широки поля.
Под Воронежем у нас — удалой народ.
Под Воронежем у нас — все кругом поет…
Из народной песни
От Задонска до Воронежа — восемьдесят шесть километров по шоссе, и все вдоль левого берега Дона.
Ей нелегко, этой старой Задонской дороге. Днем ли, вечером ли, в ранний ли рассветный час или в глухую полночь — всегда она в работе. Вахта у дороги круглосуточная. Трудная вахта. И лишь порой, когда становится дороге совсем уж невмоготу, начинает она подбрасывать на своих ухабах грузовики и «Волги», будто хочет хотя бы на миг освободиться от их тяжести. Правда, такой грех случается с Задонской дорогой редко. Быстро справившись с ним, дорога продолжает нести на серой своей спине все тот же поток машин, подвод, велосипедов — нет ему конца и края. Мимо рощиц и лесополос, мимо километровых столбов. И все спешат, спешат…
Причудливо петляет Дон, а дорога бежит все дальше на юг, и все прямо и прямо. Когда-то ехал здесь Пушкин в Арзрум. Видела дорога и Грибоедова, сосланного в Персию, и еще Лермонтова, Дениса Давыдова, направлявшихся на Кавказ. Воронежский мещанин Алексей Кольцов перегонял вдоль этих обочин гурты скота, закупленные отцом, и слагал в пути песни, которым уготована была долгая жизнь.
Еще одного человека видела Задонская дорога. Вьюжной ночью 1902 года жандармы схватили здесь соратника Ленина — Николая Баумана. Он ехал из Киева в Воронеж и, заметив в пути, что за ним следят шпики, спрыгнул на ходу поезда под откос. Обмороженный, в легком пальто, с трудом добрался до Хлевного, обратился здесь за помощью к врачу Вележеву, а тот выдал его полиции. Лишь три десятилетия спустя настигло возмездие предателя, перебравшегося из Хлевного в Задонск.
Хлевное — то самое село, где в стародавние времена располагались «государевы хлевы» и в них откармливался скот к царскому столу. Сегодня в селе новые добротные каменные дома с водопроводом, газом, электричеством. В Хлевном — крупный маслозавод, хлебозавод. Дом культуры с широкоэкранным кинотеатром. Здесь центр самого южного района Липецкой области. Дальше уже начинается Воронежская земля…
Стоит у дороги потемневший обелиск. На верхушке не крест, а железный шар, из него торчит стерженек, и на нем фигурка коня о трех ногах (четвертая сломана). И надпись славянской вязью: «От Москвы 432» (наверное, версты).
За Конь-Колодезем начинаются леса. Когда пробивали здесь дорогу, тяжким потом и кровью доставалась согнанным отовсюду крепостным каждая верста. Мор и болезни косили людей, а отбывать дорожную повинность приходилось и старикам, и женщинам. Неспроста так и назвали здешнее село — Карачун (смерть). И сколько крестьян бежало от верной гибели в леса! Было время, когда воронежский воевода не мог отправить в Москву собранный налог, опасаясь, что государеву казну перехватят по дороге разбойники.
Где-то в этих местах, слева от дороги, Рамонь. Там сахарный завод — теперь он один из самых крупных и высокомеханизированных на воронежской земле. Из Рамони, между прочим, вышел изобретатель русской трехлинейной винтовки Мосин. Но сахар все-таки главная слава Рамони. Я познакомился в автобусе с молодыми ребятами из Всесоюзного научно-исследовательского института сахара — они возвращались в Рамонь из командировки. Не без гордости шутили: «Каждый второй житель в нашей стране пьет чай с рамонским сахаром». Выведенные институтом в Рамони сорта свеклы прижились и на Украине, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере.
…Но вот и село Ново-Животинное. Название произошло от слова «живот», «жизнь», а в действительности было символом нужды, горя и смерти. Двести лет хозяйничали в нем помещики Веневитиновы — лютые крепостники. «Вымирающей деревней» назвал это село земский врач Шин-гарев, написавший о Ново-Животинном книгу. Он не сгущал красок, лишь рассказывал о том, что видел…
Учительница Людмила Николаевна Чопорова — одна из организаторов и бессменных руководителей сельского народного музея — в этот день как раз принимала гостей — следопытов из воронежских школ. Сам музей тоже размещен в школе. И удивительный контраст. Помещик Веневитинов, в чьем доме находится теперь школа, был палачом для обездоленных крестьян, но мнил себя образованным «негоциантом». В московском доме Анны Николаевны Веневитиновой собирались литераторы, Пушкин впервые читал там «Бориса Годунова». Сын помещицы — Дмитрий Веневитинов, не доживший до 22 лет, — был известным поэтом, Пушкин и Белинский предсказывали ему большую будущность. Но то в Москве… А в Ново-Животинном царило дикое и беспросветное рабство.
Свидетельницей трагедии новоживотинновских крестьян была известная английская писательница Этель Лилиан Войнич. Летом 1887 года она служила в селе гувернанткой у Веневитиновых. И та ненависть к бесправию, которой наделила Войнич своего Овода, очевидно, истоками уходит к Ново-Животинному.
Все познается в сравнении. Достаточно побродить по сельским улицам, чтобы увидеть, чем стала некогда вымиравшая деревня. Новая больница — она не хуже городской, в сельмаге даже такие товары, что иной раз в областных центрах назовут дефицитными. В музыкальной школе директором заслуженный артист республики Гурген Карапетян. В книжном магазине нарасхват самые последние новинки…
Здешний старожил — почетный колхозник Иван Александрович Гребенщиков. Он уже давно на пенсии, в селе этом родился и вырос, всю жизнь был конюхом. Отец и дед его тоже ходили за лошадьми, холили барских вороных.
Мы долго сидели с Иваном Александровичем у плеса. Он думал о чем-то своем, пережитом. Нагнулся, зачерпнул ладонью воду — заструилась меж пальцев и ушла. Вода есть вода. А вот жизнь…
— Где сейчас Веневитиновы, не скажу, — проговорил он. — Может, за океан в лакеи подались, а может, от буденновской сабли сгинули. Кончилась их фамилия. Теперь фамилия Гребенщиковых пошла…
Семеро детей у Ивана Александровича. Кто металл плавит, кто хлеб сеет или службу военную несет. Только младший, Петр, остался в родном селе, тракторист, уже сам отец семейства. Собрались как-то дети вместе, праздник был. Вспомнили «пророчество» Шингарева насчет вымирающей деревни. Не сбылось оно, Советская власть помешала. А Петр и подлил в огонь масла: вот у тебя, батя, действительно профессия вымирающая, конюхи нам уже не нужны. Крепко обидел старика… А того не ведает, паршивец, что этого старого конюха сам Буденный за службу для революции благодарил…
День клонился к вечеру. Автобусы идут отсюда в Воронеж через каждые полчаса. Все по той же старой дороге.
Возле самого города стоит высокий курган с обелиском. На гребне — старая рана: нетронутая людьми траншея, заросшие травой окопы. Осколки в стволе обезглавленного дуба. И воронка от бомбы, искореженный металл. А на мраморе — девяносто восемь фамилий тех, кто осенью 1942 года принял неравный бой на Задонском шоссе и сделал все, что мог, чтобы задержать фашистов. Стройные молодые деревца вокруг кургана, зеленые поляны. И высокое чистое небо над ними. Здесь не прошел враг. Не он, а наши советские парни в красноармейских гимнастерках шли по шоссе на помощь осажденному Воронежу. Шла пехота, шли танки, шла артиллерия, и старая Задонская дорога, как всегда это бывало, верой и правдой служила в тот грозный год родной земле…
Воронежские зори
Все было: беды и победы,
Но, высшей славой знаменит,
Из всех царей, забвенью не дан,
Один в Воронеже стоит.
Ему за труд его пристало
Ожить и в нашем далеке,
Смотреть на город с пьедестала
С тяжелым якорем в руке
Владимир Гордейчев
В Воронеже я часто приходил вечерами в Петровский сквер к бронзовому памятнику Петру Первому. Почти три века назад приплыл он на струге в эти места, поднялся на крутой берег Великой Вороны (так именовали тогда реку Воронеж), по-хозяйски оглядел заросшие лесом Чижовские горы и сказал: «Русскому флоту — быть!» На остров, который напротив Успенской церкви, перекинули деревянный мост: там разместился главный парусный двор. Со всей Руси свозили сюда плотников. Между работных людей сновали иноземные мастера, курилась смола в больших чанах, на подводах везли железо с липецких заводов, снасти из подмосковного села Преображенского, с барок выгружали пеньку. Косматые богомазы выписывали затейливой славянской вязью названия первых кораблей: «Принципиум», «Святой Марк», «Святой Матвей», «Апостол Павел»… А далеко от Воронежа, на царском монетном дворе, уже чеканились в память о первых русских судах медали с гордой надписью: «Бывает небываемое…»
В Туле я видел бронзового Петра в кузнечных доспехах — там он ковал для России оружие. Здесь, в Воронеже, Петр стоит в мундире Преображенского полка, опираясь на якорь. Позже, уже в Таганроге, я видел еще одного Петра — вставшего на морском берегу с чувством исполненного перед Отечеством долга.
Я бродил по узким переулкам, круто сбегающим к реке Воронеж. Названия у переулков древние — Морской, Флотский, Корабельный… Поросли мхом и плесенью камни Успенского собора, он, пожалуй, остался единственным очевидцем петровских деяний.
С Воронежем связана судьба русского поэта Никитина. Ради куска хлеба он был вынужден долгие годы торговать свечами в лавке отца-пьяницы, а потом, когда отец купил постоялый двор, прислуживать заезжему люду. Поздней ночью Иван Никитин брался за перо, а с рассветом сжигал строки, над которыми плакал во время бессонной ночи. Лишь за два года до смерти Иван Саввич смог наконец расстаться с постоялым двором и заняться книжной торговлей.
В своей лавке он открыл читальню и библиотеку с умеренной платой за пользование книгами (бедным книги выдавались бесплатно). На улице Шевченко сохранился полуподвал, где отец Никитина держал свечную мастерскую. Это все, что осталось от дома Никитиных, разрушенного гитлеровцами. Теперь здесь выстроен новый дом, на нем — мемориальная доска. А другой дом, где Никитин провел последние пятнадцать лет жизни, восстановлен и превращен в музей. Неподалеку от него, в Кольцовском сквере, — бронзовый памятник Никитину. В горестном раздумье сидит поэт на мраморном цоколе, будто жалея о том, что не привелось увидеть ему лучшие времена. И памятник другому певцу воронежской земли — Алексею Кольцову — тоже в этом сквере. Тому самому Кольцову, со стихами которого, как говорил Белинский, в литературу «…смело вошли и лапти, и рваные кафтаны, и всклокоченные бороды, и старые онучи, — и вся эта грязь превратилась у него в чистое золото поэзии».
На улицах Воронежа еще можно заметить следы минувшей войны — надписи на стенах: «Проверено, мин нет», остатки дзотов на берегу, столетние дубы, иссеченные снарядами… Город обороняли части прославленного генерала Черняховского. Солдаты мужественно отражали фашистский натиск, который можно было сравнить по силе с наступлением гитлеровцев на Сталинград. «Под Воронежем немцы расшибли свой лоб», — писала в декабре 1942 года «Правда».
Тогда, вьюжной военной зимой, на месте освобожденного города лежали развалины. Девять зданий из каждых десяти были разрушены или сожжены. В местном музее есть письмо, которое не успел отправить домой недобитый фриц: «Город не представляет собой никакой ценности. Понадобятся многие десятки лет, чтобы его вновь отстроить и начать новую жизнь». Так считал тот, кто с мечом пришел на воронежскую землю.
Память героев, отстоявших город, напоминает о себе едва ли не на каждой улице: табличкой с именем павшего, мемориальной доской, сквером с могилами воинов в детском парке, Вечным огнем в окружении почетного караула — белых березок. Я долго не мог проститься с величественным монументом у Вечного огня. Еще и еще раз вглядывался в каменного солдата, сраженного пулей, в руки его, сжимающие автомат, в лицо юной матери, склонившейся над младенцем. Никакая пуля не может остановить жизнь… Каждый час у памятника звучат мелодия «Священной войны» и голос Левитана, читающего строки из «Реквиема» Роберта Рождественского…
В Воронеже есть тихая улочка имени космонавта Феоктистова. Здесь дом, где он родился, и школа, в которой учился. Сюда, на родную свою улицу, захваченную летом 1942 года фашистами, он, тогда шестнадцатилетний паренек, трижды добирался через линию фронта как разведчик. В третий свой приход он был схвачен оккупантами и расстрелян, но чудом уцелел. Сутки пролежал в траншее с трупами, потом выбрался из ямы и, обессиленный, окровавленный, дополз к своим. Думал ли он тогда, что спустя много лет станет покорителем космоса?
И Гайдару тоже, как Феоктистову, было шестнадцать, когда в марте 1921 года он вступил в командование двадцать третьим полком Красной Армии. Этот полк тогда стоял в Воронеже, на теперешней улице Гайдара находился его штаб.
У самой реки, на улице Дурова, сохранился дом, где жил основатель знаменитой цирковой династии Анатолий Леонидович Дуров. В Воронеже жили писатель Андрей Платонов и знаменитая сказительница Анна Николаевна Королькова. Та, которую слушал у солдатского костра генерал Черняховский, а выслушав, обнял, расцеловал и сказал: «Спасибо тебе, мать, русская у тебя душа, и сказки твои дух поднимают…»
Воронеж был разрушен в минувшую войну дотла. Не было электростанции, водопровода, топлива… Но минуло немногим больше десятилетия, и город был отстроен заново. Рассказывают, что, когда Сергей Бондарчук приехал сюда снимать «Судьбу человека», он с трудом нашел в районе сельскохозяйственного института подходящие по сюжету развалины. А сейчас их уже и вовсе не сыскать.
За два последних десятилетия на левобережье Воронежа выросли новые кварталы. Не верилось, что еще недавно здесь была степь и гуляли по ней ветры. Всюду обжитые благоустроенные дома и стройки, стройки…
В Воронеже знаменитые заводы синтетического каучука и шинный. Экскаваторный завод имени Коминтерна — его «полпредов» можно встретить едва ли не во всех странах мира. Американская фирма «Рустон Бьюсайрус», стараясь завоевать покупателей, навязала однажды нам спор: чьи экскаваторы лучше? Было это в окрестностях Парижа. И вот два экскаватора — наш и американский — начали по сигналу работать в одном карьере. Через три часа сконфуженный представитель американской фирмы поднял руки кверху: «Ваша взяла…»
А продукция другого завода — «Электросигнал» — в рекламе не нуждается: ее знают едва ли не в каждой семье, где есть телевизор. Устойчивее и надежнее, чем воронежский «Рекорд», отмеченный золотыми медалями на многих выставках, пожалуй, телевизора не найти. И транзисторы, изготовляемые в Воронеже, давно зарекомендовали себя. Здесь, кстати, начинал свои опыты Николай Геннадьевич Басов — лауреат Нобелевской премии, создатель оптических генераторов — лазеров.
О сегодняшнем дне Воронежа можно рассказывать бесконечно долго. Как не упомянуть, например, известный университет, в котором учатся двенадцать тысяч юношей и девушек? Он основан в 1918 году. Во время Отечественной войны фашисты взорвали и сожгли его, но уже в 1945 году работало шесть факультетов. А медицинский институт с его единственной в стране клиникой реанимации (восстановление жизненных функций человека)? Восемь вузов, девять техникумов, десять научно-исследовательских институтов, картинная галерея, один из старейших в стране драматический театр (он основан в 1802 году), музыкальный театр, знаменитый народный хор… Вот какой он, старинный город Воронеж!
И еще — о клубе любителей природы, душой которого стал пенсионер Сергей Васильевич Кольцов (он не родственник знаменитому поэту). Это здесь задумали создать «Парк памятных мест». Например, родился у вас ребенок, или свадьба, или другое важное в жизни событие — приходите в этот парк, посадите на память яблоньку или дубок. Настанет время — придет в парк ваш сын. Кто бы не хотел, чтобы к его дереву пришел сын?
А вот сувениров я из Воронежа так и не увез. Не нашел. Их попросту нет в городе. Предложат вам, как и в Туле, и в Ельце, тех же рязанских матрешек да цветные открытки с портретами киноактеров. Ни живописных видов города, ни изделий местных умельцев. Остались на память только записи в истрепанном дорожном блокноте…
Уезжая, я снова пришел в корабельный сквер. Бронзовый Петр указывал рукой к Дону. Там Азов. Мой путь тоже туда.
Краса заповедная
Невелика река Воронеж,
Скорее речка — не река;
Чуть весла на воду уронишь —
Вот-вот зацепишь берега.
Станислав Сериков
Наверное, я все-таки поспешил проститься с Воронежем: в порту меня ожидало сообщение о том, что рейс на Георгиу-Деж в этот день отменяется: теплоход нуждался в ремонте. Не было и попутной баржи. Зато через четверть часа уходил теплоход «Москвич» в верховья реки Воронеж — это туда, где заповедник с бобрами. Недолго поразмыслив, я взял билет.
Воронеж — очень маленькая, очень уютная речушка. Повернись «Москвич» боком — чуть не все русло перегородит. А случается, идет встречный катер — оба прижимаются к самому берегу. И глубины невелики, матросу приходится с багром дежурить, а ну как ненароком рулевой на мель суденышко посадит. Тогда приходится раздеваться до трусов, лезть в воду, подталкивать. Метра четыре уже самая большая глубина, это на плесах и в омутах, а в остальных местах в межень до полуметра бывает.
Правобережье на Воронеже крутое, сплошь заросшее дубравами. Когда-то, рассказывают, росли здесь дубы-великаны в три-четыре обхвата. Бывает, неспокойные вешние воды вымывают из берегов огромные, почерневшие от времени стволы, пролежавшие в песке сто, двести, а может, и больше лет. Такое дерево не берет топор. Для краснодеревщиков мореный дуб — ценное сырье.
На опушках, где много света и солнца, встречаются хороводы березок. В пойме — густые осиновые рощи, а у самой воды — нарядные пушистые ивы. Я впервые на этой реке, и словоохотливые спутники наперебой хвалят свои родные места.
Неугомонному племени рыболовов на Воронеже — настоящий рай. А омуты здесь такие, что сомы и щуки жируют на удивление. Лет пять назад у села Троицкого поймали щуку в двадцать восемь килограммов. Сазаны пудовые тоже попадают на крючок.
— Это не рыбацкая байка, — добавляет мужчина. — Могу засвидетельствовать как общественный инспектор рыбоохраны…
Тихо, спокойно несет свои воды речка-серебрянка Воронеж. Топоры пощадили ее зеленый наряд. По указу Петра запрещалось рубить лес на тридцать верст по обе стороны реки, и те, кто нарушал этот запрет, карались смертной казнью. Был запрещен даже обычай хоронить в дубовых гробах. Дубы — только на корабли! И сейчас этой красой люди дорожат: на Воронеже создан заповедник.
Названия сел в здешних местах все звучные, зеленому ожерелью подстать: Красивка, Хорошовка, Лебяжье, Жемчужье. И еще связаны со строительством кораблей: Гвоздовка, Клеповка, Парусное, Пузево (это где пуза — днища стругали), Углянец (уголь жгли для верфей), Усмань (что в переводе с татарского значит «красавица»). А Чертовицкое село носит свое имя еще с тех времен, когда проходила по Великой Вороне (теперешней реке Воронеж) граница с татарами — засечная черта. Раскинулось Чертовицкое по буграм да буеракам, все утонуло в садах.
Только и видно с берега старый кряжистый дуб возле церковной маковки.
— Здешние, чертовицкие, большие мастера по части лодок, — вступает в разговор другой мой спутник. — Никто так не может плоскодонки строгать, как они. Здесь издавна плотники отменные…
Но вот уже и устье Усманки, конец пути. Дальше добираться в заповедник газиком.
Мне не приходилось прежде бывать в заповедниках. Думалось, это что-то вроде большого зоопарка, только звери без клеток, глушь и дичь. Поначалу я даже разочаровался: обыкновенный лес, и дороги в нем проторены, и даже людей встретишь. И все-таки лес этот необычен. Лес-заповедник, в нем никогда не услышишь выстрелов, не стучат топоры, и люди в нем не живут, сторожки их — только на кордонах.
В одной из таких сторожек — четырехкомнатная гостиница, где мне предложили заночевать. Заботливая сестра-хозяйка тетя Настя прочитала мне первую «лекцию» о диковинках заповедника — их предстояло мне увидеть лишь утром: плакучий дуб, кипарисовидные сосны, ну и бобров живых, разумеется.
Лесные дива в заповеднике чуть не на каждом шагу. Притаись под развесистой кроной — усмотришь озорную белку. А подле нее выводят трели довольно смелые поползни — маленькие птички. Предложи им хлеба — будут шмыгать за тобой будто мыши: «Чи-у-теф! Чи-у-теф!» А вот и кабаньи следы. Возле них лисьи. Начнет кабан рыть землю, вспугнет мышь из норки, а лиса уж тут как тут… Так и уходят в чащобу два звериных следа. Куда же ведут следы? Не к оленям ли? Их много расплодилось в заповеднике, ходят целыми стадами.
Оленей завезла сюда лет шестьдесят назад из германских лесов принцесса Ольденбургская — та, что жила в Рамони. Было их пять или шесть, держали в вольерах на усадьбе. Когда в революцию принцесса, бросив замок, сбежала за границу, местные лесники стали думать, что же делать с диковинными зверями. Отворили ворота и выпустили оленей в лес. И они не только выжили, но заметно умножились — начали губить молодой лес. Приходится время от времени отстреливать их на мясо или отлавливать и отправлять в другие заповедники. Это трудная работа. Если ловить их, например, сетью, нужно потратить неделю, а результат — два-три пойманных зверя и столько же погибших от разрыва сердца и ушибов. В заповеднике применяют иной способ — маленькие пули с небольшими дозами снотворного. И рана легкая — две капельки крови. Оленя укладывают на ворох сена, промывают и смазывают йодом рану. В вольере зверь оживает, начинает чавкать. Значит, будет жить. Теперь уже не в усманских, а в брянских или вологодских лесах.
Но главное сокровище заповедника — бобры. Хлопот с ними больше, чем мне думалось. Случается, в жаркое засушливое лето мелководная Усманка вдруг выходит из берегов и на много километров затопляет пойму. Плывут по воде стога сена, дрова. В чем же дело? Оказывается, бобры соорудили плотину и перегородили реку. Нужно принимать меры: отлавливать зверьков, которых расплодилось слишком много.
В прошлом веке считалось, что почти все бобры истреблены. К началу 20-х годов нашего века их насчитывалось в стране меньше сотни. Тогда-то и был запрещен бобровый промысел и созданы специальные фермы, одна из них — в Воронежском заповеднике. Тревога была не напрасной, ведь бобровый мех издавна ценился очень высоко — дороже соболиного. Еще при Иване Грозном Россия платила вместо золота на мировом рынке бобровыми шкурками. Сейчас на Усманке самая главная в стране бобровая ферма.
Возле пойменного болотца, заросшего ивняком, было навалено много очищенных от коры молодых осин. Это — работа бобров. А из леса к берегу вели узкие стежки и неглубокие каналы — бобровые тропы. Основное же их «хозяйство» — под водой. Готовясь к зиме, зверьки ведут настоящие «лесозаготовки». В илистый берег, недалеко от подводного хода в лежбище, втаскивают ствол дерева, а под него складывают запасы древесины (чтобы не всплыли на поверхность) — это их пища до весны. Ничего не скажешь — инженерная работа!
Днем бобры спят в своих хатках и норах, но мне повезло: я попал на ферму как раз в день отлова. Один из охотников гулким ударом о землю пугал зверьков и выгонял из норок, другой держал наготове сачок. Зверек чуть больше сурка, передние лапы короче задних, а позади — веслообразный хвост с роговыми чешуйками. Рассказывают, полвека назад в этих местах был монастырь и обитатели его ловили бобров к ели их в пост, втирая очки господу богу: они были убеждены, что бобр — это рыба, поскольку у него такой хвост. Так вот, если вытащить бобра из воды, он становится неповоротливым. Зато в воде бобры — настоящие акробаты.
Живут бобры парными семьями, каждая семья — в своей «квартире», растят по три — пять детенышей. Вырастают дети — и отделяются от родителей. Они очень трудолюбивы: всегда что-нибудь строят, благоустраивают норы, воздвигают плотины. Зубы у бобров острые, первобытный человек делал из них ножи. Свалят бобры дерево, обточат зубами, пригонят одно дерево к другому да еще и щели заложат щепочками, илом замажут, законопатят не хуже плотников. И что любопытно — когда приближается зима, бобры ремонтируют свои плотины. На Ивнице — есть такой ручеек в Воронежском заповеднике — плотина, сооруженная лесными «инженерами», достигает пятидесяти метров в длину.
У бобров много врагов, и самый главный враг — волки. Правда, в заповеднике научились охранять бобровые фермы. Есть такие химические вещества — репелленты. Они не убивают волков, а отпугивают их. И от самих бобров научились охранять лес, не причиняя зверькам вреда. Через бобровые плотины пропускают дренажные трубы. Часть воды уходит, уровень запруды понижается. Сколько ни пытаются бобры восстановить уровень воды, сколько ни надстраивают свои плотины, — все бесполезно.
Я так увлекся бобрами, что позабыл о времени. А оно близилось к полудню. Нужно было возвращаться в Воронеж. Как раз и оказия выпала: в город уходила машина с сеянцами кедрососны. Есть такое дерево, выведенное в заповеднике: кедр, привитый на сосну, — и он уже начал давать семена. На Усманке очень много любопытного.
Наверное, хорошо, что отменили накануне рейсовый теплоход. Могло случиться, проехал бы мимо красы заповедной, так и не поглядев на нее…
Астры для Мамаева кургана
Дай мне яблоню в садике на окраине города, и с меня достаточно. Я нисколько не нуждаюсь в Ниагарском водопаде…
Огюст Ренуар
— Как же вы уедете из Воронежа, не заглянув в Семилуки? Не увидев помидоров с иностранным именем «де барао»? И в совхозе «Астра» нужно вам побывать. Другого такого хозяйства в России не найдете, нет пока…
Игорь Васильевич Жарков — егерь — так искренне сокрушался, что я решил съездить в Семилуки.
Я не заметил, как быстро промелькнули в окне вагона окраины Воронежа. Вот уже мост через Дон. Первый большой мост через большую реку — здесь уже можно и так о Доне сказать.
А сам Дон в этих местах и величав, и спокоен, течет ровно, прямо. Говорят, что название «Семилуки» пошло от седьмой излучины (митрополит Пимен, путешествуя вниз от истоков, столько насчитал). Но от Новомосковска до Семилук значительно больше излучин. А в самих Семилуках никакой излучины нет. Могло, правда, случиться, что река спрямила русло, — не за год-два, а за две-три сотни лет, а имя осталось.
Что же касается помидоров «де барао», то это действительно интересно.
Могли бы вы представить на миг, что на дереве растут арбузы или дыни? Нечто подобное и есть знаменитый сорт помидоров «де барао», выращенный Пантелеймоном Александровичем Масленниковым. Каждое помидорное дерево (если можно его так назвать) вымахало на четыре метра в высоту. Стеблей осталось по два, самых первых и самых сильных, остальные (их было шесть или восемь) хозяин убрал весной. В прошлом году одно такое «дерево» дало сорок килограммов ароматных и сочных помидоров. В мае ударили заморозки — куст стойко их перенес.
Мы с Пантелеймоном Александровичем пили чай в уютном садике — под помидорными кущами. Это даже не садик, а крохотный палисадник, и все в нем ухожено, все радует глаз. Годы у садовода-энтузиаста уже преклонные, но он еще бодр и очень подвижен. Каждый день почтальон доставляет в этот маленький домик около железнодорожной станции сотню-полторы писем. Все просят прислать семян «де барао». Поначалу отвечали всей семьей, а потом пришлось заказать в местной типографии специальную листовку. Ну, и каждому в конверт — по пять-шесть семян…
Этот город не на всякой карте-то обозначен, он родился полтора десятка лет назад в придонской степи. Пришли сюда в 30-х годах геологи, нашли богатейшие залежи редкостных глин: кирпич из них можно калить до двух тысяч градусов. Сколотили на скорую руку бараки, в них жили первые строители завода огнеупоров. А теперь здесь гигант, имеющий мировую славу. Без его продукции не обходится ни одна крупная металлургическая новостройка. Едут в Семилуки заказчики из многих стран Европы и Азии, Африки и Латинской Америки.
Очень прав местный поэт рабочий Павел Мелехин, сказав про Семилуки:
В облике нового города есть что-то сродни подвигу простой русской крестьянки Прасковьи Щеголевой, известной сейчас всей России. Это ей поставлен памятник на крутом берегу Дона. Ей, ее матери и пятерым ее детям, растерзанным фашистами. Самой младшей — Нине — было два года. Осенью 1942 года они приютили у себя советского летчика, выбросившегося с парашютом из горящего самолета, накормили, обмыли раны и указали дорогу к партизанам. Десять разъяренных фашистских солдат и два офицера кулаками, сапогами, рукоятками пистолетов, прикладами автоматов, зубами и когтями озверевших собак пытались выбить из Прасковьи Ивановны, ее матери и малолетних детей показания, куда исчез летчик с советского самолета, но так ничего и не добились. Летчик остался жив и после победы приехал к обелиску поклониться праху русской крестьянки; теперь он — почетный член колхоза «Семилукский». А неистребимый род Щеголевых — ведь у Прасковьи было восемнадцать родных братьев и сестер — в память о подвиге сестры своими руками распахал придонскую целину, заложив совхоз-питомник «Астра». Сказать точнее и вернее — не совхоз, а настоящую «фабрику» цветов.
Я видел буйное разноцветье в питомнике у Иван-озера, любовался георгиновыми плантациями на Красивой Мече, но такого редкостного великолепия, как в «Астре», не встречал нигде. До самого горизонта уходят цветочные поля, переливаясь под солнечными лучами всеми цветами радуги. Вряд ли можно сосчитать все цветы и букеты, что ушли отсюда на праздничные столы и во дворцы бракосочетаний, а еще — и прежде всего — легли к подножию памятников вечной славы, разбросанных по большим и малым городам Европейской России. Астры на Мамаевом кургане в Волгограде отсюда. Флоксы в Ульяновске тоже выращены здесь. А еще — пионы на Марсовом поле в Ленинграде и у памятника генералу Ватутину в Киеве, у обелисков в Соколово и Ленино. Крупнейшая цветочная «фабрика» страны каждый год отправляет во все концы сотни тысяч корней и семян.
Одних только астр в совхозе пятьдесят сортов — белые, розовые, сиреневые, фиолетовые цветы, и урожай их снимают круглый год. Самый новый и самый красивый сорт, выведенный в совхозе, — астры «Сентябрина». Его нет еще нигде, первый букет, собранный в прошлом году, подарили гостившим в совхозе женщинам из борющегося Вьетнама. В сентябре, как известно, у вьетнамских братьев праздник Освобождения.
Атом в рабочем комбинезоне
Разве степь ожидала,
Ямщицкая, прежде глухая,
Что когда-нибудь солнцем вторым
На Дону загорится уран?
Павел Касаткин
Теплоход ПТ-1 уходил из Воронежа под вечер. Пассажиров было немного, все больше до ближних пристаней, а, пока добрались до Нововоронежского, осталось пять-шесть: два инженера-атомщика да студенты-практиканты. Наверное, все оттого, что автобус и электричка становятся более удобным средством передвижения, а «Ракета» здесь еще не ходит. Меня же тихоходный «Москвич» с двумя палубами вполне устраивал…
Сразу за мостом открылась широкая пойма. Скоро разольется здесь Воронежское море. Давно обмелела река, и город на голодном водном пайке. Когда теплоход с трудом пробирался через перекаты, а иной раз, зацепив днищем мель, буквально крутился на месте, взметывая ил, казалось невероятным, что в свое время река эта качала на волне грозные сорокапушечные корабли, бригантины, галеры. И все-таки это было. Здесь под стук топора поднимался российский военно-морской флот.
Сколько воды в реке Воронеж? Весной паводковые воды разливаются на десятки километров, затопляя пойму. Удержать бы все это вешнее раздолье, но… В июле — августе река настолько мелеет, что любой через нее камешек перебросит. Семьдесят процентов всего годового стока падает на полтора-два весенних месяца. А город каждую секунду берет из реки до пятнадцати кубометров воды. Да столько же выпивает выше по течению Липецк. Вот почему понадобилось строить море.
Плотина сдержит паводковые воды. Двести миллионов кубометров воды — вот каким намечают сделать объем будущего Воронежского моря! В черте города уровень реки поднимется на пять метров, а разольется море километров на сорок — до самого заповедника. Вот тогда-то придут сюда с моря могучие корабли и баржи, которых давно не видели в здешних местах. И в Воронеже появится настоящая набережная, одетая в бетон и камень.
Минуем Гремячье… Большое село на правом берегу. Зимой 1943 года на его месте было пепелище, вырублены все сады (а они славились далеко за пределами Донщины). Отстроилось село заново, залечило раны и, как прежде, все в садах…
Еще пристань — село Костенки… В районе села при раскопках найдены древние захоронения первобытных людей, часто попадаются кости мамонтов, слонов, зубров, оленей, тигров и даже носорогов.
Все, что найдено в Костенках, хранится в музеях Москвы, Ленинграда, Воронежа. Известный антрополог Михаил Михайлович Герасимов, заинтересовавшись древними погребениями в Костенках, сумел восстановить по черепу скульптурный облик человека, который жил в Костенках, на Маркиной горе много тысяч лет назад. Я видел эту скульптуру — человек смотрит пристальным взглядом охотника, будто желая узнать, с добром или злом приближаемся к нему мы, живущие на земле четыреста веков спустя. У него стремительный разлет бровей, широкие скулы, чуткие ноздри, резко очерченный рот, он готов выйти на поединок с опасным зверем и постоять за себя…
Опускается ночь на реку, вспыхивают голубоватые звезды. Они будут висеть над водой до самого рассвета и только на заре, бесконечно устав, сорвутся в Дон. Упадут и лягут на дно. Но звезды горят не только на небосводе. Сверкает огнями в ночи громадное здание из стекла и бетона на левобережном крутоярье, причудливо ажурное переплетение линий высокого напряжения, уходящих во все стороны. Это — Нововоронежская атомная электростанция.
Я приехал в город Атома глубокой ночью. Спал в гостинице плохо: ждал рассвета. Утром, наспех позавтракав, торопился оформить пропуск на атомную станцию. Ждать пришлось с полчаса, успел обойти поселок эксплуатационников — чистый, опрятный, застроенный благоустроенными домами, весь в зелени. Стройка здесь тоже начиналась с палаток в голой степи, а сейчас вырос современный город. И тополя вплотную окружили корпуса атомной станции, их не погубят клубы черного дыма: в городе не требуются ни уголь, ни нефть, ни дрова.
У проходной мне любезно предложили белый шелковый халат, докторскую шапочку и… обыкновенные галоши. Гость не должен вынести со станции даже случайную «пылинку». Меры безопасности здесь продуманы до мелочей, предусмотрена любая случайность. Если вдруг понадобится, автоматические устройства мгновенно остановят реактор. Впрочем, случайности исключены: с 30 сентября 1964 года, когда первый блок станции дал ток, их ни разу не было. Служба дозиметрии надежно стоит на страже здоровья энергетиков, непрерывно производит замеры воды в Дону и почвы в окрестностях станции. Земельные угодья вокруг станции вполне безопасны для посевов и для выпаса скота.
Это для меня было «вводной лекцией». А потом я увидел сердце станции — реактор. Правда, с «птичьего полета», через огромные свинцовые стекла. Там, под бронированным бетонным колпаком, как сказали мне, собраны в шестигранную кассету около девяноста трубок, расположенных на строго заданном расстоянии одна от другой. Между трубками пропускают теплоноситель — воду. Если правильно соблюсти пропорции, уран начнет самопроизвольно нагреваться. Кассет таких в котле двести семьдесят. Я не физик и не собираюсь вдаваться в тонкости реакций. Скажу только, что урановые стержни пронизывают кромешный рой мятущихся нейтронов. Под их ударами вдребезги разлетаются ядра атомов урана-235. Микровзрывы в недрах вещества рождают не только тепло, но и новые нейтроны. Так возникает цепная реакция. Вода, омывающая реактор, нагревается до такой степени, что в ней может расплавиться олово, но она не кипит: не позволяет высокое давление. А потом эстафету принимает старый век энергетики: в теплообменниках вода превращается в пар, пар идет к турбогенераторам. Все, как видите, совсем просто.
Нет, не так просто. Нужно еще защитить человека от смертоносных излучений. Поэтому стены из бетона, и толщина их во много крат больше, чем самая неприступная крепость на земле. Умные приборы контролируют все процессы, сообщают о малейших неполадках. Чуть что — вспыхнет сигнальная лампочка, предупредит кого нужно об опасности.
Но если радиацию гасят слои воды, стали и бетона, если на станции не сжигают ни одного килограмма угля, зачем же взметнулась на сто двадцать метров бетонная труба? Оказывается, силой тяги труба очищает воздух в помещениях. Значит, он уйдет в атмосферу? Нет, на пути в трубу воздух пройдет через специальные «ловушки».
Три турбины первого блока станции имеют мощность двести десять тысяч киловатт.
На станции работает также второй блок. Его мощность — триста шестьдесят пять тысяч киловатт, а размеры — те же. Началось строительство третьего и четвертого блоков станции, тогда общая мощность станции достигнет полутора миллионов киловатт. На стройке есть плакат: «Пусть будет атом рабочим, а не солдатом!»
У проходной еще раз контроль. Чуткая стрелка даже не дрогнула. Все в порядке…
Захотелось узнать о станции больше. Листаю в редакции местной газеты «Энергостроитель» подшивку. Редактор Михаил Абузов приехал сюда, когда еще не было ни станции, ни поселка, строители забивали первые колышки. Приехал и остался. Вопреки предостережениям друзей: «Все-таки атомная…» Уже давно выяснилось, что тепловые электростанции, как ни странно, загрязняют атмосферу больше чем атомные, так как при сгорании топлива в атмосферу выделяется большое количество сернистых газов и золы.
И такая деталь. В сутки атомная станция сжигает несколько сот граммов урана, а выдает такое количество энергии, для которого на тепловой станции потребовался бы целый эшелон угля!
И днем, и ночью суетятся над поселком длиннорукие башенные краны. Стройка продолжается. Дворец культуры имени Ленинского комсомола с эмблемой мирного атома на фронтоне, кинотеатр «Уран», Дом быта, школа, больница, музыкальное училище, филиал Воронежского инженерно-строительного института, большой стадион… Через два дня должны были встретиться на футбольном поле команды Нововоронежского и Обнинска, они оспаривают кубок «Мирный атом». Есть еще в поселке клуб мототуристов, спортсмены его отправились в большой пробег по Заполярью. Накануне к ним пришла приятная телеграмма: Михаил Шолохов согласился стать почетным председателем их клуба…
Вот какой он, город мирного атома. Правда, пока еще не город, поселок. Но городом будет, и, может быть, назовут его Комсомольском-на-Дону, потому что атомная станция — дело рук молодежи, приехавшей сюда со всех концов страны.
Дивные горы
Что вниз по Дону,
По набережью,
Хороши стоят
Там слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылой-травой
Расстилается!.
Алексей Кольцов
Была пятница, предвыходной день. Перед вечером атомщики на катерах собрались с семьями на прогулку вниз по Дону. Напросился с ними и я: во-первых, по пути, а во-вторых, скарб мой дорожный невелик. Ехали в Первое Сторожевое — на родину космонавта Быковского.
В Сторожевое приехали засветло. Село как село, таких много в Центральной России. Глинобитные дома под шифером, телевизионные антенны, потрепанный флаг над сельсоветом, сельмаг, где можно купить и отрез сукна, и велосипед, и банку джема — все за одним прилавком.
Опускается ночь на реку, вспыхивают огоньки на воде. Глухо рокочут судовые двигатели, плещет вода за кормой. Минуем Хворостань — маленький правый приток, не речка— ручеек. За ней встают высокие песчаные обрывы. Это Урыв. Береговые откосы здесь, говорят, до сих пор сплошь усеяны осколками мин и снарядов. Летом 1942 года по Дону проходил фронт, и на Урывско-Сторожевом плацдарме решался исход сражения за Воронеж. Целых полгода удерживали наши солдаты крохотный участок длиной в десять и шириной до четырех километров, не пропустив немцев на восток. А потом отсюда, с Малой земли началось наступление войск Воронежского фронта.
Высоко над обрывом — обелиск. Киргиз Чолпонбай Тулебердиев повторил здесь подвиг Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру вражеского дзота, и обеспечил успех своего подразделения. Наши части подошли вовремя.
— Если бы не Чолпонбай, — рассказывают мои спутники, — погибли бы все урывские жители. Немцы уже заперли их в церкви и хотели подорвать…
А почему Урыв? Оказывается, названо так село неспроста. Был тут когда-то у Дона могучий приток Змайла. Теперь пересох, осталась одна балка. Поселились на Змайле лет триста назад вольные черкасы (как называли в здешних местах украинских казаков), сторожили Русь от пришлых кочевников, что «урывались» в Задонье. С тех пор и назвали село Урывом. Теперь здесь богатый колхоз, назван «Тихим Доном». Да тут в каждом районе есть свой «Тихий Дон» — такая уж традиция, дань уважения певцу родной земли Шолохову.
…За Урывом мы сели на мель, и довольно прочно. Почти час ныряли матросы с баграми, пока не помогли рулевому сняться с песчаного переката. Этой мели три дня назад еще не было на лоцманской карте. Жара, сушь… Уже на рассвете тронулись дальше.
Над водой вставал горячий пар, вся река кипела и липкий туман заволакивал берега, когда миновали устье Девицы, а за ней — Потудани. Бойкие звезды не унимались, садились на бакены и мерцали до самого восхода солнца над зеленоватой водой. Низкая мазанка на берегу. Из нее выходит человек с рыбацким ведром и донками. Наверное, в такую пору здесь отменный клев. А Дон что-то тихо шепчет перед тем, как проснуться. Скрипят уключины — бакенщик отправляется гасить фонари…
Перед Коротояком на берегах поднялись меловые горы. Огромные, лысые, с седыми проплешинами. Меловые откосы на правобережье сплошь заросли сосняком. Это необычная сосна — меловая. Кажется, будто каждая иголочка в хвойном лесу обсыпана белой мукой. Только в здешних местах и встретишь ее. Туман пеленой укрывает меловые скаты, лес кажется призрачным, волшебным. У самого берега — большой щит со словами: «Граждане! Здесь растет сосна на мелу, которая является историческим памятником природы. Охраняйте ее!»
Пристанью в Коротояке служит дебаркадер. Три века назад и здесь были судостроительные верфи, но от них не осталось даже следа. Город Коротояк во время Отечественной войны был стерт с лица земли фашистами, сейчас это село. У берега лениво плещутся гуси, ветерок доносит на палубу приятный запах парного молока и еще — чебреца, полыни… Кружат пчелы над медовым клевером, одна, заплутав, попала на палубу, гудит возле буфетной стойки.
На дебаркадере бьют склянки, и снова вьется голубой лентой речная дорога. А Дон разливается все шире, и вместе с солнцем встают на его берегу высокие меловые столбы причудливой формы. Здесь Дон принимает в свое лоно еще одну реку — Тихую Сосну, а название у меловых гор — Дивы. Здесь много пещер. Куда уходят они, как глубоки, толком никто не знает, спелеологи еще не одолели полузаваленных ходов и траншей. Вроде бы жили в пещерах в XVII веке монахи-отшельники и бунтари-разбойники. Но сами пещеры существовали задолго и до них. Изрыты Дивы — уже в наши времена — окопами: в Великую Отечественную стоял по Дону фронт.
Теплоход идет очень медленно мимо Дивных гор — на такую красоту смотреть бы, смотреть, не отрываясь. И впечатление, которое вызывает Дивногорье, передать трудно, столь непривычен для глаза этот неземной пейзаж. Кажется, что такие же столбы-исполины увидят где-то на другой планете космонавты-земляне. А обернешься — обыкновенный донской пейзаж, глинистые кручи, рыбаки с удочками…
Двести лет назад русский академик Гмелин высказал предположение, что они произошли под воздействием воды и ветров. Иного мнения придерживался в прошлом веке воронежский историк Вейнберг. Он полагал, что Дивы построены руками человека и служили когда-то стенами могучей крепости. А другой воронежский историк — Марков — считал их гигантскими идолами, которым поклонялись языческие племена, обитавшие некогда на берегах Танаиса, как называли некогда Дон. Но скорее всего их образование связано с наличием в толще древнего мела системы вертикальных и горизонтальных трещин. На поверхности же в результате процессов размыва водами и переноса образуются эти столбы.
Много лет назад на Дивных горах стоял монастырь. Монастыря давно нет, сейчас в этих местах санаторий. Воздух здесь целебный, пахнет хвоей и дикими травами, и ветры человеку на пользу, ведь Дивы открыты штормам и бурям. И Дон красив — чист, широк, любо поглядеть, как круто бьет он волной об исполинские скалы, вылизывает пенными брызгами песчаные откосы…
За Дивами снова густой лес, холмы, и все в зелени, а там уже открывается мост через реку и городок, разбросанный на взгорье. Это Георгиу-Деж, бывший город Лиски. Узел железных дорог и порт — первый большой порт на верхнем Дону.
На развилке больших дорог
Мчатся вперед составы,
Во тьме растворив дымки,
Где-то вдали растаяли
Протяжные их гудки.
Вечер огни развесил,
И воздух и чист и свеж.
Живет и работает весело
Мой Георгиу-Деж…
Алексей Евсеев,машинист депо Георгиу-Деж
Если посмотреть на карту, во все стороны от города Георгиу-Деж расходятся дороги. Железные — на Воронеж и Москву, Поворино и Балашов, Россошь и Ростов, Валуйки и Купянск. Водные — вверх и вниз по Дону. Автомобильные — во все концы Воронежского края. А еще и туристские тропинки — к Дивам и в низовья, к Белогорью и Мелогорью.
В городе Георгиу-Деж нет заводов, о которых знала бы вся страна, нет новостроек-гигантов. Считают, что в нем около пятидесяти тысяч жителей, и едва ли не каждая семья так или иначе связана с теми дорогами, что расходятся во все стороны от города. Люди, что живут здесь, всегда в пути— это их жизнь, их работа.
Это очень важная развилка очень важных дорог. Когда решалась судьба революции, именно здесь остановили рабочие отряды Николая Руднева калединцев, которые пытались прорваться с нижнего Дона на помощь Корнилову в Петроград, — дорога шла только через Лиски. Первые тракторы пришли в Центральное Черноземье через узел и порт Лиски. А в Великую Отечественную…
Летом 1942 года из Лисок к Сталинграду шел воинский эшелон. Машинист внимательно вглядывался вдаль, изредка переводя взгляд на хмурое небо. И вдруг из-за туч вынырнул фашистский самолет, он шел на бреющем полете к эшелону. Машинист рванул на себя кран — эшелон остановился. Солдаты рассеялись по степи и открыли огонь по стервятнику. А машинист и его бригада не покинули паровоза. Самолет облетел состав и начал бить по паровозу. Один снаряд угодил в тендер, другой — в контрбудку. Три осколка попали машинисту в голову, один — в живот. Помощник и кочегар подхватили его, перенесли в ближайшую лощинку. Бомбардировщик покружился над эшелоном и, бессильный еще что-нибудь сделать, улетел на запад. Теперь следовало ждать массированного налета. Кто же выведет эшелон в укрытие?
— Я поведу поезд, — сказал машинист, — помогите мне подняться…
Товарищи донесли его до паровоза, устроили, полуживого, в кресле. Военный врач перебинтовал голову, наложил повязку на живот и встал позади кресла. Стиснув зубы, машинист взялся за реверс. Тяжело груженный состав вздрогнул и тронулся с места. Поезд шел на фронт…
В Волгограде, в Музее обороны Царицына-Сталинграда, можно видеть пожелтевшую листовку с рассказом об этом подвиге. «Паровозник! Будь таким, как лискинский машинист Иван Шурупов!» — призывала она. А в городе Георгиу-Деж, на улице Декабристов, 19,— дом кавалера боевых орденов и Почетного железнодорожника Ивана Ивановича Шурупова. Тяжелое ранение заставило Шурупова уйти на пенсию, но жизнь продолжается: еще не было, пожалуй, дня, чтобы в доме не принимали гостей. А письма… Они приходят из самых дальних уголков страны. Человека помнят, у него учатся мужеству. Помощник Шурупова по огненным рейсам Иван Завилохин и сейчас водит поезда, теперь он уже машинист тепловоза…
Начальник отделения железной дороги Александр Карпович Лысенко рассказал, как зимой, в метель и пургу, буквально весь город поднимается на борьбу со снежными заносами, чтобы расчистить путь поездам. Жива шуруповская косточка! За организацию военных перевозок через Лискинский узел Лысенко удостоен звания Героя Социалистического Труда, он депутат Верховного Совета республики, уважаемый в городе человек, командир большого коллектива.
Георгиу-Деж не только крупный железнодорожный узел. Это — средоточие новой, самой передовой техники. Когда приехали в нашу страну специалисты-транспортники из США, Англии и Франции, они прежде всего попросили познакомить их с городом Георгиу-Деж.
Железнодорожный узел и порт здесь в сущности одно целое. Самому порту уже четыре века. Но еще лет сорок назад было так: привозили баржами зерно в мешках, сваливали на берегу, а потом на подводах перетаскивали к станции. Сейчас в порту сложные механизмы и краны, будто играючи, перебрасывают десятки тысяч пудов самых различных грузов — зерна, угля, нефти, леса.
Город стоит на песках. Еще недавно шальные ветры гоняли по улицам тучи пыли. Теперь здесь улицы, одетые в асфальт и камень, зеленые скверы и пестрые цветники на недавних пустырях, Парк имени советско-румынской дружбы с монументом тому, чье имя принял бывший город Лиски в 1965 году. Новые кварталы жилых домов уверенно продолжают наступать на пески.
…Мне еще раз захотелось посмотреть на Дивные горы — и уже не с палубы, а поближе (а заодно и добраться до Острогожска).
Там, где речка Острогоща…
Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились;
Где дубов тенистых рощи
Над потоком разрослись;
. . . . . . . . . .
Где в лугах необозримых,
При журчании волны,
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где, в стране благословенной,
Потонул в глуши садов
Городок уединенной
Острогожских казаков…
К. Ф. Рылеев
В вечерних сумерках Дивные горы представлялись неземными, почти лунными столбами. Багровый солнечный диск бросал последние лучи на меловые столбы, и чудилось, что вот-вот блеснут за скалами иллюминаторы космического корабля. Но… за крутоярьем вмиг обрывается волшебная мечта: открывается донская излучина — и на водной глади обыкновенная баржа с буксиром, каких много в здешних местах.
Возле устья Тихой Сосны — узкая цепочка бакенов: мелководье. Обмелела река, наступают на нее камыш и осока. Даже не верится, что не так уж давно, в конце XVII века, строили и здесь корабли: был некогда Острогожск знаменитым на Руси центром частного судостроения. И леса отменные стояли кругом. Когда заказывали казаки струги для себя, просили изготовить из тех деревьев, что росли в Ольшанских лесах, потому что на Воронеже и других реках такой корабельной сосны не было.
Сейчас и лодкой до Острогожска не добраться: свели леса, а пойма Тихой Сосны так заболочена, что теряется течение и превращается река местами в цепочку мелководных прудов. Когда она текла среди сосен, ее назвали Сосной. А теперь леса не стало, название объясняют иначе: Тихая со сна — тихая после сна. Поэтично, но грустно…
По дороге к Острогожску — белые мазанки с соломенными крышами, с аккуратными садочками. Совсем как на Полтавщине. Вот только плетни еще не украинские, а русс кие — три жерди, вертикально переплетенные хворостом (украинский «тын», как известно, — это вертикальные колья < горизонтальной оплеткой). Украина совсем рядом. Даже речь в автобусе слышишь не русскую, а украинскую — так будет вплоть до верховых казачьих станиц.
Но вот и сам Острогожск. С тихими улочками, заросшими травой, с тротуарами, источенными дождем и ветрами, сплошь одноэтажный, с полуразрушенной крепостной стеной, пересекающей его от северной окраины до южной. Это старинный русский город, основанный в 1652 году на южной окраине Московского государства для создания защитной полосы.
В жизни Рылеева уездный город Острогожск занимал большое место. Это здесь и еще в Белогорье завязал молодой офицер знакомства с будущими декабристами. В селе Подгорном он женился на Наталье Михайловне Тевяшовой. Своеобразный быт острогожского казачества, предания о былой вольности и боевой славе будили его фантазию и мысль, заставили взяться за перо. Первую свою думу — «Курбский» — Рылеев написал в Острогожске. А другая дума — о приезде в Острогожск Петра — восхитила и обрадовала самого строгого критика Рылеева и его старшего друга — Пушкина. И в Острогожске же, размышляя о судьбах Отечества, принял Рылеев решение уйти в отставку. «Для нынешней службы, — написал он матери, — нужны подлецы, а я, к счастью, не могу им быть».
Я не нашел в Острогожске дома, где жил Рылеев, — он не сохранился. Зато в этом маленьком городке много улиц, названных именами писателей и художников. Это не просто дань русской культуре. Среди наших культурных центров неприметный городок Острогожск занимает не последнее место. Литература пришла сюда не с книгами русских первопечатников, а с «прелестными» письмами Стеньки Разина. Сочинял их в Острогожске поп-расстрига из Верхне-Чирской станицы Никанор Иванов. Это было задолго до Рылеева. На улице Орджоникидзе в двухэтажном доме почти век назад поселилась семья механика мыловаренного завода Якова Мироновича Маршака. Три видных советских писателя вышли из этой семьи: Самуил Маршак, его брат Илья, который известен нам под псевдонимом Михаил Ильин, и сестра Лия, писавшая под псевдонимом Елены Ильиной. Все трое родились в Острогожске. С этим городом тесно связано творчество Гавриила Троепольского и Тихона Журавлева. И еще одно имя — Василий Кубанев. Здесь он родился, школьником приносил первые свои стихи в литературный кружок при районной газете «Новая жизнь», самоучкой овладел французским языком и даже пробовал писать стихи по-французски. До обидного мало прожил Кубанев и совсем немного успел написать, но то, что успел, осталось в нашей литературе крупинками золота. Он ушел добровольцем на фронт и уже не вернулся, а дом его в Острогожске был разрушен фашистской бомбой. Все рукописи Кубанева погибли. То, что удалось спасти, было издано уже посмертно в сборнике «Идут в наступление строки». В городе есть парк имени Кубанева. Наверное, здесь, в густой зеленой тишине, ходил он, думал, мечтал, слагал стихи. Кубанев любил Острогожск, дорожил его прошлым и настоящим, хотел видеть родные места самыми красивыми на земле. Он ведь был не только поэтом, но и философом, а это очень много для двадцати лет.
А еще Острогожск — родина Крамского.
В городе есть скромная картинная галерея, основанная еще в начале века собирателем древностей и краеведом Глебом Николаевичем Яковлевым. В маленьком домике на углу улиц Крамского и Прохоренко собраны сокровища, которым может позавидовать любой музей.
Острогожск весь в садах, он всегда славился яблоками. Знаменитый русский путешественник Семенов-Тян-Шанский, как-то приехав сюда, назвал острогожские места самыми живописными на русской равнине. Наверное, он видел и Дивные горы, и Тихую Сосну, и Острогощу, прежде чем так написать.
Над судьбами острогожцев задумывался Ленин, когда писал свой труд «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Ленин приводит в книге бюджеты двадцати четырех крестьянских семей, живших в Острогожском уезде, и перед читателем встает потрясающая картина нужды и горя.
Потомки крестьян, о которых упоминал Ленин, сейчас живут в пригороде Острогожска — Лушниковке, трудятся в богатом колхозе «Красная звезда». Местные ученые и журналисты написали о них интересную книгу «Прошлое и настоящее Лушниковки». Это удивительно человечные документы. Мы привыкли к тем благам, что дала нам Советская власть, и не замечаем порой, как далеко шагнула нынешняя деревня всего за полвека. Все познается в сравнении, и, ни верное, почаще нужно это делать.
Сегодняшний Острогожск — это телевизоры и радиоприемники в каждом доме, это вузовские дипломы почти в каждой семье. Это книжные новинки, что раскупаются нарасхват. Это пятьдесят пять школ и восемьдесят детских садов. Это первоклассные магазины с богатым выбором товаров (а покупатель теперь стал привередлив: то, что не модно, не купит). А еще это и облик самих острогожцев — земляки Крамского и Кубанева любят красоту, умеют просто и элегантно одеваться (говорят, здешние портные одержали верх над воронежскими в областном смотре), умеют украсить фасады своих домов, а улицы и площади превратить в уютные аллеи.
Что касается славы литературной, то как не сказать еще об одном. Неподалеку от Острогожска родились предки Литона Павловича Чехова. Самый первый Чехов, поселившийся в этих местах, был пришельцем с севера. Иван, Артем, Семен Чеховы и все их потомки в пяти поколениях числом более ста шестидесяти были землепашцами. Дед Чехова, Егор Михайлович, был крепостным. В этих местах родились и дядя Чехова Митрофан Егорович, и отец Павел Егорович.
В глубине России, в неприметных русских селениях, тех, что и на карте-то не всегда отыскать, родились люди, которым суждено было прославить родную землю.
Острогожская девушка Клава Волкова семнадцатилетней ушла на фронт, разведчицей пробиралась в глубокий тыл к немцам. Во время одного из поисков она попала под минометный обстрел, ей раздробило обе ноги. Тяжело раненная, двенадцать суток ползла к своим, перебралась полуживой, обмороженной через Дон. В госпитале принесли на операционный стол умиравшего человека. Врачи спасли Клаву, но пришлось ампутировать ноги. Выписываясь из госпиталя, девушка заказала себе туфли-протезы на высоких тонких каблуках. Врачи переглянулись: «Зачем тебе это, Клава?» — «А чтоб легко было танцевать…» Когда вернулась в Острогожск, никто не догадывался, что у нее нет ног, и многочисленные партнеры, считавшие за честь танцевать в клубе с девушкой в гимнастерке с медалями, даже не подозревали, как нелегко было Клаве вернуться в строй. А она кружилась в вальсе, не отставая от своих подруг. Нужно было много мужества, чтобы найти себе в жизни место, пережить обиды, трудную любовь и равнодушие тех, кто не нюхал пороху. У нее хватило мужества. Клава живет в родной Лушниковке, работает счетоводом, не сидит в президиумах, ее портреты не красуются на щитах у райисполкома, не требует она почестей — разве что вспомнят о ней школьники в День Победы — и не жалуется на судьбу простая русская женщина, у которой есть семья и нелегкие домашние заботы.
Поклонитесь этой женщине!
…Наверное., чтобы рассказать об Острогожске так, как он того заслуживает, следовало пробыть в нем и увидеть больше, чем успел я. Возвратившись из путешествия, всегда жалеешь, что не заметил чего-то очень важного, очень большого. Пусть простят меня за это острогожцы.
Серебряные берега
Живая летопись земли —
Журчит степной родник.
Над ним шумели времена
Несметной стаей птиц,
Над ним седая старина
В жару склонялась ниц.
И четко отражались в нем —
Чиста, светла вода —
И древних ратников шелом,
И красная звезда.
Арсений Кузнецов
От Георгиу-Дежа до Павловска можно добраться «Ракетой» за полтора часа. Я решил ехать обычным рейсовым теплоходом — причалы через каждый десяток километров, а главное — пассажиры; едет каждый из них на близкое расстояние и непременно про места свои расскажет…
Километрах в пятнадцати от Георгиу-Дежа Дон принимает живописную речушку Нижний Икорец. Высокие скалы из песчаника на берегу, густые леса и полноводье — рыбацкие лодки, играючи, будто щепки, бросает волна. Густо заросший островок Волчий Кут. Сразу за протокой — село Щучье. Это здесь полтора десятка лет назад вымыло в половодье древний деревянный челн, ученые считают, что ему четыре тысячи лет, теперь он хранится в Историческом музее. Необычный челн — из целого дуба толщиной больше метра, длиной восемь метров выдолблен. Дубы такие очень давно перевелись в Придонье.
Ниже Щучьего Дон разливается еще шире, а над поймой возвышаются меловые горы. Посмотреть со стороны — похоже на колыбель. Село так и зовется — Колыбелька. А напротив — Прияр, и точно: селение под крутым глинистым яром. Не в этих ли глинах искали лет триста назад серебряную РУДУ?
Берега эти и впрямь похожи на серебряные — потемневшие меловые скалы, круто нависшие над водой. За поворотом откос вдруг обрывается — и вновь расстилается пойменная долина. Издалека слышится песня — не хор, два или три голоса выводят приятную незнакомую мелодию. На верхней палубе ее вдруг подхватывают, наверное, знают слова. Пока взбираюсь по трапу наверх, уже можно разобрать:
Я думал — молодежь, а пели пожилые, и среди них старик с окладистой бородой подтягивал фальцетом. Сели в Колыбельке, едут в Белогорье на рынок.
— В Колыбельке все бабы — певуньи, — поясняет матрос. — Я сам из этого села, хор у нас знаменитый, еще до войны в Москву приглашали. И песни сами сочиняют, Виктор Васильевич Козинцев, учитель наш, музыку пишет.
А на палубе уже слышалась другая:
С 1919 года существует в Колыбельке народный хор. Основал его отец Виктора Козинцева — тоже учитель. Многие из песен, сложенных здесь, вошли в репертуар Воронежского народного хора, хора имени Пятницкого. А колыбельские певцы слагают новые, и вся жизнь их неотделима от песни.
Я заметил на палубе коренастого человека с Золотой. Звездой на потрепанном лацкане, он тоже пел вместе со всеми. Когда теплоход уже причаливал к Костомарову, матрос из Колыбельки шепнул мне: «Наш председатель сельсовета, Шевцов Василий Никитович…»
Не в каждом селе председатель сельсовета — Герой Советского Союза. Потом жалел я, что не мог сойти на берег в этом серебряном песенном селе, не познакомился ближе с такими интересными людьми…
А теплоход шлепал лопастями дальше. Открывается слева могучий, метров до восьмидесяти в ширину, Битюг. Даром, что название лениво-тяжеловесное, а река бурливая и быстрая. Но принимает ее в свое лоно Дон и будто сразу укрощает.
Бурлив Битюг, да мелководен, и хоть рос на берегах его вековой лес, но кораблей здесь не строили. Весь был он на плотинах с мельницами. Подошло другое время — отжили свое водяные мельницы, отпала в них нужда, но вот ломать плотины, наверное, не следовало.
— У нас все больше поговаривают, что пора плотины восстановить, — рассказывает на палубе агроном из Лосева. — Сваи и сейчас еще сохранились, дубы росли в этих местах крепкие. А не стало плотин — и пойма высохла, сена не та, что прежде.
Меловые откосы все ближе подступают к берегу, приходится высоко задирать голову, чтоб разглядеть вершины. Блеснуло солнце в ущелье — навалом лежат у самой воды кирпичи, тоже из мела. Специалисты считают, что мел здешний не хуже ракушечника. В окрестных селах дома и изгороди сложены из мелового камня.
Пещеры здесь такие же, как и у Дивных гор. Даже более дикие. Случается, уйдет ватага мальчишек, заблудится один и блуждает дня три, пока не отыщут его в лабиринте. Приезжали как-то сюда чехи, удивлялись: «Русская Мацоха…»[2]
В пути люди знакомятся быстро. Всю дорогу от самого Георгиу-Дежа рассказывал мне о здешних местах пожилой человек очень интеллигентного вида. В Белогорье, сходя на берег и прощаясь, подал руку: «Будем знакомы, Калашников Тихон Васильевич, учитель и вроде бы летописец. Историю родного Белогорья пишу…»
Здесь часто гостил Рылеев у героя Бородинской битвы полковника Михаила Григорьевича Бедряги, человека редкого ума. В Белогорской церкви Рылеев и венчался с Тевяшовой. Он был очень привязан к этим местам. После казни мужа Наталья Михайловна Рылеева поселилась в Белогорье, сохранив для России рукописи и книги поэта. Дома Тевяшовых давно уже нет в Белогорье: фашистские оккупанты не щадили ни одного дома в селе.
В летописи села осталось имя Степана Ендовицкого, он служил на «Авроре». Белогорцы первыми на воронежской земле установили у себя Советскую власть, многие из них служили у Буденного. А сам Калашников был секретарем первого сельского Совета…
Теплоход задерживается у причала недолго. Прощальный гудок — и снова в путь. Еще раз окидываю взглядом живописный беспорядок белых хат, разметавшихся вокруг старенькой церквушки, вижу прощальный взмах руки «местного Нестора» — Тихона Васильевича, и вот уже Белогорье скрывается за лесными дубравами.
Это не просто дубравы. Отсюда начинается Шипов лес. По-тюркски «шип» — значит «высокое место». Холмы здесь крутые, сплошь укрытые густыми кронами дубов. Это тот самый лес, который Петр Первый называл «золотым кустом государства Российского». В Шиповом лесу, между прочим, создан был по указу Петра «Государев зверинец», и в нем на поле содержались редкие птицы и дикие быки. Шипов лес заповедный, сюда заказана дорога охотникам. Он начинается сразу у берега — густой, загадочный, с холодным полумраком. Тень от дубрав ложится на волны, будто холодит прогретую солнцем реку. Еще полвека назад этот лес был столь дремуч, что когда проложили через него железную дорогу, то лет десять подряд отапливали паровозы не углем, а дровами. Продавали еще древесину на золото за границу. На Всемирной выставке в Париже шиповская древесина получила золотую медаль. Рубили вплоть до двадцатых годов, пока не объявили лес заповедным и остановили топор, угрожавший красавцам великанам. Вовремя остановили. Сохранили донское полноводье, сберегли своеобразный ландшафт здешних мест.
Стоит этот лес, взметнув свои могучие кроны высоко над холмом возле устья Осереди.
…Все ближе огоньки на левобережье. И много теплоходов, барж, танкеров в затоне. Круто изгибается донская излучина. Это Павловск.
Долина потухших вулканов
Покрываются травы алмазом росы
И над вербой заря разгорается ало,
Бьют на Павловской башне звонко-звонко часы,
Это значит, что доброе утро настало…
Иван Сероштанов
На взгорье — старые, заросшие колючим татарником окопы. Павловск отсюда будто на ладони, можно разглядеть каждый дом, каждую улицу. На этой круче в 1942 году стояли фашисты. Дальше они не прошли. Отсюда они били из артиллерийских орудий по Павловску. Особенно упорно били по высокой башне с часами, хотели остановить время. Снаряды и мины изгрызли башню, но стрелки часов по-прежнему совершали привычный свой круг, и каждое утро под огнем поднимался на башню человек, чтобы завести большим ключом часы.
Часы не остановились. Но человек, который сберег для Павловска точное время, погиб от смертоносного осколка. Как солдата, похоронили старого часовщика в братской могиле вместе с героями армии, оборонявшей Павловск.
Двести пятьдесят лет стоит этот маленький, весь одетый в камень городок на песчаных дюнах возле устья Осереди. Строили его капитально, копируя в чем-то Павловск в устье Невы — с тюрьмой и хлебной биржей, с церковью на балтийский манер, с башней для часов, где время отстукивают колокола, с фонтанами в парке, где деревья размещены не только по строго вычерченной схеме, но еще и по ранжиру. Время не пощадило старый парк, а каменные постройки покрылись морщинами трещин, но колокола, замшелые, почерневшие, как и прежде, отстукивают час за часом, день за днем. В XVIII веке спускали здесь на воду барки и фелюги, отливали колокола и пушки, готовили порох, флотские канаты. Говорят, Репин искал типажи для своей картины не только на Волге, но еще и здесь, возле Павловска.
До революции в заштатном Павловске было семь тысяч жителей. Сейчас — около пятнадцати. Над тротуарами ломятся от тяжести поспевающих плодов яблоневые ветки. Только что прошумел ливень, и городок лежал умытый, будто помолодевший, — песок в один миг выпил дождевые и лужи. На стапелях верфи маляры красили огромную коробку новой баржи, еще безымянной. У мебельного комбината грузили в контейнеры полированные серванты и стулья: прежде Шипов лес давал древесину на корабли, а сейчас снабжает сырьем краснодеревщиков. Вереница машин с овощами выстроилась в очередь у ворот консервного завода, крупнейшего в области. Светились огни в окнах педучилища — там готовились к выпускному вечеру. У клуба водников видел я красочную афишу, приглашавшую на творческий вечер литературной группы при редакции газеты «Маяк Придонья», а еще — на премьеру народного театра, спектакль «Власть тьмы». Видел детский санаторий. И Дом учителя — его встретишь далеко не в каждом районном центре. И конечно, свои «Черемушки», где один новый дом не отличишь от другого. Наверное, эти самые «Черемушки» сплошь близнецы — не только по названию — ив Москве, и в Ростове, и даже в неприметном Павловске.
Все-таки, назвав Павловск неприметным, я поторопился. Вовсе уж не такой это провинциальный город, как может показаться. И убедился я в этом, побывав на литературном вечере. Здесь любят поэзию: за четверть часа до начала весь зал был заполнен до отказа. Сюрпризом было для меня то, что начался вечер лекцией о советской поэзии, читал которую первый секретарь райкома партии Олег Кириллович Застрожный. И читал без шпаргалок, с душой, цитировал на память целые строфы и лишь изредка заглядывал в блокнот. Чувствовалось, что он влюблен в литературу, — культурный, эрудированный, уважаемый в народе человек, уже много лет возглавляющий крупнейшую в области партийную организацию. А потом читали свои стихи и рассказы начинающие авторы — учительница, конюх, инструментальщик… Это не были шедевры, но все, что читалось, шло от чистого сердца.
И еще одним сюрпризом было выступление местного хора. Руководитель и главный дирижер, как объявил ведущий, — заслуженный работник культуры Российской Федерации Иван Сероштанов. Начинался концерт знаменитой песней «Лада». Да, да, той «Ладой», что знакома едва не каждому парню и дивчине, а написана, оказывается, в Павловске тем же Иваном Сероштановым. На Всероссийском смотре в Москве Павловский хор получил за «Ладу» звание лауреата.
Закончился вечер поздно, но, когда я вернулся в гостиницу (название у нее, конечно, «Дон», как в каждом уважающем себя придонском городке), соседи мои еще не спали. Оказались они геологами. Не попади я с ними в один номер, может, и не узнал бы, что окрестности Павловска не более и не менее как долина древних, давно угасших вулканов. Нелегко было доказать это ученому миру. Когда выступил в Москве воронежский профессор Дубянский с сообщением о том, что нашел возле Павловска вулканический пепел, у него даже спросили иронически; «А давно ли были вы на Кавказе? Может, оттуда завезли вулканический пепел в Павловск?» Но факт оставался фактом: нашли не только пепел, но и остатки потухших кратеров. Один из них — в Шиповом лесу, другой — возле Верхнего Мамона.
Спать, словом, уже не пришлось, потому что до самых петухов слушал я гипотезы геологов — одну другой фантастичнее. И не просто гипотезы — я держал в руках серебристые куски породы с блестящими крапинками и желтыми прожилками на изломе. Это — медно-никелевая руда, найденная возле Павловска. То, во что не верили оппоненты Дубянского.
Началось с того, что, открыв Курскую магнитную аномалию, геологи обратили взор на Придонье. А что, если через Павловск тоже проходит продолжение магнитной аномалии? Может, и в Придонье есть залежи железных руд? Начали разведку, бурили днем и ночью гранитные породы. Стрелка магнитометра упорно показывала вниз. Но… вытаскивали керн, и каждый раз оказывалось, что железной руды нет. Был магнезит — минерал, который входит в состав базальтов и указывает на связь с вулканическими извержениями в далеком прошлом.
Открытие позволило представить, каким было Придонье в этих местах несколько сот миллионов лет назад. Не существовало тогда еще ни Шипова леса и никакой другой растительности, ни птиц, ни зверей — одни раскаленные камни и слой, в полсотни метров толщиной, лавы, извергаемой вулканами. Остывала понемногу лава, превращалась в крепкий базальт, а в нем — кремний и алюминий, кальций и железо, магний и титан, золото и платина…
Может быть, через несколько лет вырастут вдоль Дона — там, где выстроились пока буровые вышки геологов, — промышленные гиганты? Я думал об этом чуточку с грустью: уйдет тишина из маленького придонского городка Павловска с древними часами на иссеченной снарядами каменной башне, с задумчивыми плесами и глубокими омутами, где еще не перевелась рыба (села-то неспроста называются Щучьим, Осетровкой, Криничным, Красным) и где люди умеют беречь и ценить красоту. Впрочем, зачем я так? Все — в руках человека-творца.
А за окном занималось утро — тихое, росное утро в городке, где нет пока ни трамваев, ни троллейбусов, и где-то в затоне слышался первый пароходный гудок. Над Доном вставал новый день.
Каленые тропы
И в Богучаре, и окрест
Легендами воспеты,
Гремели, как один оркестр,
Войны гражданской ветры…
Людмила Бахарева
Пылит степная дорога. Катит свои волны Дон, но нет н степи прохлады. Дурманящие запахи полыни, чебреца… И высоко в небе орлы, увидев серый комочек суслика, складывают метровые крылья. Ровная степь без конца и края. Одиноко вспыхнет порой зеленый факел тополька, рядом с ним тропки, по которым бредут далеко-далеко крутолобые стада. Они ступают тяжело, взметывая кучерявую пыль, оставляя жирные, четкие следы на степной дороге. А ближе к воде неожиданно встречает путника черешня, низкорослая, густая, листьев не видно…
В войну здесь стоял фронт, перепахал все Придонье окопами, воронками. То и дело попадается на обочине изъеденный ржавчиной металл. У берега стоит камыш густо, непроходимо. До самой весны убирают его в колхозах, камышовые плиты научились делать едва ли не в каждом хозяйстве: лесов-то в степном краю мало. И плетни — из камыша. Обелиск деревянный с маленькой звездочкой, оградка тоже из камыша…
Возле Буйловки подбирает меня попутная машина. Здесь две Буйловки: Украинская — на правом берегу, Русская — на левом. Сельсовет один. Когда стоял по Дону фронт, в Украинской хозяйничали партизаны, ночами от них пробирался в Русскую разведчик с новостями.
…Лениво, нехотя вливается в Дон с правой стороны река Черная Калитва. Почему Черная, непонятно — вода в ней светлая, прозрачная, а в Дону — зеленая, почти плавни. И тоже два села рядом, оба на правобережье — Старая Калитва и Новая Калитва. В Старой родился Андрей Евгеньевич Снесарев — человек удивительной судьбы и многогранных дарований: ученый-математик, партнер Собинова по Большому театру, талантливый лингвист, свободно владевший четырнадцатью языками, неутомимый путешественник, генерал русской армии, добровольно перешедший на сторону революции, участник обороны Красного Царицына, первый ректор Института востоковедения и один из первых в нашей стране Героев Труда. Будучи уже глубоким стариком, он все еще поддерживал переписку со своими земляками-калитвенцами.
Здешние села давно залечили раны войны. Везде поднимаются добротные дома. И первая дума у селян — о тех, кто отстоял для них жизнь. В Новой Калитве есть школьный музей, в нем заботливо собраны фронтовые листовки, письма полевой почты, фотографии. На одном из снимков — Гарри Айзман. В боях за Новую Калитву он был помощником командира взвода. А я помню его еще американским пионером, мальчишкой, своим ровесником: в 30-х годах он был освобожден из заокеанской тюрьмы по протесту юных пионеров многих стран и приехал в нашу страну. И еще память сердца: подлинные политдонесения о наступлении одного из танковых батальонов под Новой Калитвой. Листки, исписанные торопливым почерком, может быть, в разгар боя. Они необычны еще потому, что донесение составлялось на обороте неиспользованных гербовых бланков итальянского горнострелкового полка, наголову разбитого под Новой Калитвой.
Мне рассказали, что несколько лет назад в Калитву приехал итальянский киносценарист Эннио до Кончини, снимавший фильм «Они шли на восток». Ему показали эти листки, и он, даже не прочитав русского текста, впился глазами в гербовые кресты. «Только теперь чувствую я, — сказал Кончини, — какая жуткая трагедия постигла моих соотечественников, брошенных неразумной волей в пекло войны. И поверьте, — добавил он, — итальянцы никогда не окажутся в окопах против русских…»
По всему донскому правобережью — обелиски на курганах с именами павших и просто безымянных. В честь богучарцев, похороненных в девятнадцатом году и замученных бандитами в двадцатом, в честь зеленых мальчишек, что погибли вместе с отцами в сорок втором… У Дерезовки я надел дзот, амбразуру которого закрыл своим телом русский паренек Василий Прокатов. На родине его, в Вологде, каждый год проводят соревнования юных лыжников на приз имени Героя Советского Союза Прокатова. Тогда, в декабре горок второго, он подбирался к фашистскому дзоту, опираясь на сломанные лыжи…
В Верхнем Мамоне — переправа через Дон. Добротный мост соединил берега там, где еще несколько лет назад была понтонная переправа. Сразу за мостом, у меловой горы большой щит со словами: «Здесь, на Осетровском плацдарме, пыли остановлены и разгромлены немецко-итальянские фашисты. Они не прошли на Восток!» Отсюда начался знаменитый рейд гвардейского Тацинского корпуса генерала Баданова — несколько суток изнурительного, без сна и отдыха, марша-броска, который сомкнул кольцо окружения фашистских войск под Сталинградом.
Тишина кругом, высокое голубое небо, черное распаханное поле…
От Верхнего Мамона рукой подать до Богучара, и этот участок дороги, пожалуй, самый оживленный: здесь проходит трасса Москва — Ростов. Машины идут сплошным потоком, больше половины из них — с туристами. «Москвичи» и «запорожцы», «волги» и «газики» с дорожным скарбом, притороченным к кузовам, и все на юг, к благодатному морю. Наивные люди, море затмило для них белый свет. Не подозревают, что есть иные места — и куда красивее, и живописнее, стоит лишь свернуть с асфальта на придонское бездорожье…
Но вот и Богучар. Город, которому уже два с половиной века. Стоит он не на самом Дону, а километрах в шести-семи, в устье Богучарки.
Немало гроз прошумело над этим степным городком с красивыми улочками, где за плетнями прячутся густые вишневые сады. Всегда стоял он на перекрестке больших дорог, и ни одна лихая година не обходила Богучарский юрт[3] стороной. Выдюжил, выстоял. На городской площади застыли в каменном безмолвии фигуры двух красных партизан — братская могила героев Богучарской дивизии. Каждую весну приходят сюда боевые товарищи погибших, чтобы возложить к подножию памятника первые тюльпаны и постоять молча у ограды, подумать о своем…
Приходит с ними и пожилой генерал с георгиевскими крестами на груди, с советскими и иностранными орденами. Это Валентин Александрович Малаховский, бывший их начдив, тогда, в революцию, просто ефрейтор. Иногда он приезжает из Риги, где сейчас живет, в Богучар — встретиться с боевыми друзьями и просто отдохнуть в этих полюбившихся ему местах.
Уже далеко не молоды сейчас генерал и его солдаты, и не все уже отзываются во время переклички. Те, кто не может приехать, непременно пришлет слова привета телеграммой, письмом.
Все богучарцы были активными поборниками Советской власти на Дону — строили первые колхозы, боролись с неграмотностью, создавали в родных местах промышленность. В 30-х годах, когда началась реконструкция липецких железоделательных заводов, Малаховский обратился к своим соратникам с призывом «встать в ряды штурмовых дивизий хозяйственного фронта». Из бывших воинов-богучарцев был организован полк, а в областной газете появился приказ № 9 по Богучарской дивизии (приказ № 8 объявлял дивизию расформированной). Богучарцы помогли горнякам выйти из прорыва, а потом строили Новолипецкий металлургический завод…
В Богучаре есть скульптурный портрет Ленина из грубого черного чугуна. У него необычная история. Лет сорок назад местный учитель Осипенко нарисовал портрет Ильича. Богучарцам рисунок понравился, и они решили отлить по нему монумент. Много дней трудились рабочие крохотного в ту пору чугунолитейного завода над памятником. В 1931 году, в день рождения Ленина, памятник был торжественно открыт. Когда пришли оккупанты, они взорвали памятник. Но горожане тайком собрали чугунные детали и сберегли их, а уже на вторую неделю после освобождения памятник стоял на прежнем месте.
Фашисты разрушили не только памятник, но и сам город: они разобрали едва ли не все кирпичные постройки на дзоты. Весь город пришлось отстраивать заново. Невосполнимы утраты. Погиб дом Александра Николаевича Афанасьева — знаменитого собирателя русских сказок, крупного ученого (отец его служил в Богучаре стряпчим). Чудом уцелело здание бывшей классической гимназии, где в 1916–1917 годах учился Михаил Шолохов. Здесь сейчас школа-интернат.
Не без помощи Шолохова воронежские архитекторы разработали проект планировки и застройки города на ближайшие пятнадцать — двадцать лет. Если сейчас в облике многих улиц, может, и мало чисто городского, то в недалеком будущем вырастут трехэтажные дома, гостиница, широкоэкранный кинотеатр, музыкальная школа, музей (ох, как нужен он городу!), Дом быта и еще многое-многое, без чего немыслима жизнь богучарцев.
Богучар стоит на песках. Оккупанты вырубили лес, и это, конечно, принесло много непоправимого вреда водоемам. Но лес все увереннее поднимается на берегах Дона и Богучарки, и пески уже остановлены. В колхозе «Красный партизан» есть свой лесной питомник, и лишь за последние два года десятки миллионов сеянцев перекочевали на песчаные склоны балок и оврагов; на землях, считавшихся неудобными, теперь растет лес.
Он не может не расти на земле, политой кровью. Я думал об этом, покидая Богучар. За околицей, там, где высоко взметнулся ствол дальнобойного орудия, замурованный на братской могиле героев минувшей войны, высечены на мраморе слова: «Павшим от живых». Живые все помнят. Помнят и долг свой — сделать все, чтобы вечно жила и цвела земля, обожженная войной. Помнят и делают все, что им под силу.
В краю казака Чигуши
Знаю, разные есть края,
Есть красивей тебя —
И пусть!
Ты — любовь
И песня моя,
Ты и радость моя
И грусть.
Михаил Карамушко
…Золотой россыпью ложились предзакатные солнечные лучи на тихую гладь Дона. Плавно, словно боясь нарушить молчание реки, движется паром. Стукнувшись о причал, он останавливается. Люди, а за ними и автомашины, устремляются на берег. Еще раз взглянув на крутые с залысинами меловые горы, я взваливаю на плечи изрядно потрепанный рюкзак и направляюсь к Петропавловке. Все лесом и лесом идет дорога, через заливные луга и высохшие болотца, мимо кряжистых пней, источенных ржавчиной танковых гусениц — не всё еще успели убрать с пойменных земель. В крохотных озерцах уйма мальков. По весне целых две недели Дон прибывает, а потом еще две спадает. Уходит полая вода, и в лесистой пойме надолго остаются эти вот озерца (их зовут по-местному сагами), голубеют под солнцем до самой середины июля, и промышляют в них голенастые цапли. А саги с каждым днем все меньше да мельче. Когда останутся озерца шириной метра в два-три, сердце щемит от жалости: бурлит вода от мальков. Сколько их? Десятки, сотни тысяч? Они могли бы, но никогда уже не станут большими рыбами. Где может, приходит малькам на помощь человек: переносит ведрами, кастрюлями, банками в Дон. Целыми неделями пропадают в Замостье здешние ребятишки.
Возле Подколодного лес расступился, открылось озеро Песчаное с палатками на берегу. «Здравствуй, лагерь пионерский!» — выложено сосновыми шишками на песчаном валу. Трудно найти более уютное место для отдыха ребят. Называется лагерь «Орленком», съезжаются сюда школьники из всей Воронежской области. И наверное, никто не уезжает отсюда разочарованным: в городе такой красы не сыщешь.
До Петропавловки подвезла меня лагерная машина. Лесов здесь уже меньше — только небольшие островки высоченных тополей, и хаты под ними кажутся от этого совсем низкими.
Переезжаем Толучеевку. На обоих ее берегах — одна новостройка за другой. Возводят из камня дома и мастерские, фермы и склады. Чуть поодаль над новыми срубами работают плотники. И — новенькие журавли возле колодцев, глубоких, с ключевой водой, от которой ломит зубы.
Но вот и Петропавловка. Большое районное село, неловко разбросанное на песчаных холмах, на глинистых оврагах. И здесь сплошь новостройки. Во все стороны от торгово-административного центра — площади, обсаженной молодыми дубками, — идут ровные, зеленые улицы.
Неподалеку огромный парк, еще молодой, — топольки, не успевшие перегнать ростом сирень, лохматые ивы. И — бронзовый бюст Ивана Туркенича, командира «Молодой гвардии», ведь Туркенич родился и провел детство в хуторе Новый Лиман. Памятник этот построен на деньги, заработанные молодежью Петропавловского района на воскресниках.
Хутор этот как хутор — таких много на верхнем Допу. Полтора десятка глинобитных хат под черепицей, школа, поодаль бригадный ток с амбарами. Туркеничи уехали отсюда в Краснодон, когда Ваня не научился еще читать и писать. Помнил ли он свою родину — песчаные отмели на Дону, густые акации над дорогой, поспевающие нивы, которым не видно ни конца, ни края? Не мог, наверное, не помнить…
За Лиманом еще хутор. Даже два. И оба называются одинаково — Рубеж. Один Рубеж — воронежский, другой Рубеж — ростовский. Здесь граница двух областей. Но незаметно, где кончается один и начинается другой, хотя в каждом хуторе — свой сельсовет. Переженились, породнились донцы и воронежцы, вместе праздники справляют, свадьбы, крестины.
С Рубежа начинаются места, где родился, по казачьей «байке», казак Чигуша. Тот самый Чигуша, с которым людям живется легче. Что песню сыграть, что шутку выкинуть, — лучше Чигуши еще никто не мог. Случись, горе или нужда придут — хоть в петлю лезь. А тут тебе Чигуша навстречу, скажет словцо-другое, чепуху какую-нибудь, и на душе легче, горе сразу будто отойдет. Душевный он был, уважительный. Знаменитый дед Щукарь, говорят, из его родни — племянником или внуком доводится.
Шутка-шуткой, а верховых казаков с давних пор прозывают чигоманами, наверное, от свойственной им привычки часто употреблять в разговоре присловье «чи»: «бывало-чи», «чи тут, чи там…» Под Казанкой есть даже хутор такой — Чиганаки. Впрочем, есть еще и хутор под названием Париж. Над «чигоманами» подшучивали, а они с Кутузовым в Париж вступили и, домой возвратясь, в честь своего подвига хутор основали.
…В Казанскую добрался я, уже когда в станичном парке оркестр играл на танцплощадке прощальный марш. Гостиница, а лучше сказать дом приезжих, у самого парка. Две большие комнаты — человек на тридцать. Окна настежь, и Дон совсем рядом, а духота не спадает. Пока сходил к берегу, окунулся, огни в парке и вовсе погасли. А спится на новом месте плохо. Ворочаюсь с боку на бок и наконец, не вытерпев, перебираюсь во двор на скамью под кудлатым кленом. Уже и заря вот-вот брызнет. Гомонит птичий хор: свистят, щебечут, чирикают, каркают, визжат и пищат, спрятавшись в густых кронах парка, пернатые, а им «аккомпанируют» на все лады, как умеют, полевые сверчки, кузнечики, шмели и прочая стрекочущая рать насекомых. И запахи густые, тяжелые, степной аромат властно наполняют улицы…
Утром я отправился бродить по станице. Во всем облике ее — наше, донское, по чему соскучился я на тульских, липецких и воронежских землях. Дымки, пахнущие подовым хлебом (его здесь на капустных листах пекут); янтарный крыжовник за плетнями; молодайки с подойниками в руках (они уже успели побывать в полевом таборе); бородатые старики в выцветших казачьих картузах, в синих галифе с лампасами, заправленных в шерстяные носки… Шесть утра, а уже открыты все станичные магазины, и в раймаге «Юбилейном» — весь он из стекла и бетона — прицениваются к модным сапожкам первые покупательницы.
Я знал Казанскую как самую «глубинку», а здесь теперь и водозаборные колонки на улицах, и телевизионные антенны над крышами, и даже машина по домам газовые баллоны развозит. Каток асфальтовый стоит — начали улицы прихорашивать. На афише кинотеатра название фильма, который в Воронеже только еще рекламировался. И такси встретил, совсем как в городе. Казачьему укладу и здесь отдали дань: выкрасили кузова легковых такси голубой краской с красными лампасами.
Перед полуднем я попал на заседание совета молодой интеллигенции — есть такой при Доме культуры. Я слушал, о чем говорилось на заседании, и вот что думал. Так же вот собирались в станице лет сорок назад избачи и учителя, спорили о всеобуче и кружках ликбеза, о диспутах с церковниками. Забота, в сущности, у этих людей и сейчас такая же — нести культуру в народ; только и самой интеллигенции в станице во много раз больше, и церкви давно нет, поэтому и разговор иной.
Перестала уходить молодежь в город, все больше в колхозе остается. Не устроить ли встречу выпускников со старейшей трактористкой Матреной Абрамовной Мещеряковой, Героем Социалистического Труда? Может, и девчат из Шумилинской станицы пригласить — тех, что после школы на трактор сели? Сочинил станичник Чиков, учитель, пьесу, «Как наливалась рожь» называется, а поставили ее не в Казанской, а в городе Каменске. И пьеса ведь стоящая — о том, как молодые люди на трудностях проверяются. А мы репертуар для Дома культуры ищем. Еще вот послать в область письмо о типовых проектах для пригадных клубов нужно: нет ведь таких проектов, архитекторы все больше дворцы спорта возводят. Может, стоит им о о таких хуторах, как Рубеж, подумать?
Казанская — станица с большими запросами. Дело не только в проектах хуторских клубов. Станица строилась исками, отвернувшись лицом от Дона, к воде спускаются ярами огороды да левады[4]. Не так просто это все перекроить, а давно уже нужна станичникам и набережная. Сейчас, чтоб добраться к пристани, приходится и с колючим терновником побороться, и через канавы попрыгать.
Здесь все больше строится новых домов — двух- и трехэтажных, и они, как близнецы, похожи один на другой. Я не могу сказать, что такие дома украшают станицу, — громады из красного кирпича с безликими фасадами. Меня больше радовали на соседних улицах казачьи куреня с резными наличниками, с искусными фигурками из жести на крышах. Так ли уж обязательно строить многоэтажные дома, не очень удобные для сельского жителя? Ведь привык он — этот житель — и к фруктовому садику с огородом, и к леваде, на которой зимует плоскодонка, к сарайчику, где зимой и летом провяливаются рыбацкие сети. Наверное, все-таки нужно искать «золотую середину» в застройке таких станиц, как, например, Казанская.
После полудня уходил на Мигулинскую буксирный катер «Гром». Этакая измятая, громыхающая посудина, которой в субботу должно исполниться сто лет. Что ж, и такой транспорт годится.
Заветный камень
Родные мои, как хочется жить! Как хочется еще раз встретить рассвет над родным Доном, припасть губами к росистой траве…
Сделайте это за меня. Когда меня поведут на казнь, я не буду жалеть о том, что не успела…
Предсмертная записка Кати Мирошниковой.
Возле устья Песковатки высится у Дона камень — огромный, серый, покрытый пылью, весь потрескавшийся. Мимо едут машины, проходят пешеходы. Приглядевшись внимательнее к каменному излому, увидишь двух богат в смертной схватке.
Здесь взяли фашисты Катю Мирошникову. Здесь расстреляли ее сентябрьским утром 1942 года.
Много лет уже, как в степи придонской ковыля не осталось, а здесь, у камня заветного, он живет. В зной и жару когда пересохнет, потрескается вся земля, ковыль еще пуще цветет. Зимой, в метель, степь укроется снегом, а ковыль кудлатый опять ветрам кланяется. Сеча случится, костьми землю укроет, он и сквозь кость пробьется, не остановишь..
Летом 1942 года возле расщелин камня была партизанская явка. На окрестных дорогах грохотали гусеницы вражеских танков, слышались окрики немецких часовых, но глухими тропками пробирались к заветному камню люди И наутро в станице, где, казалось, притихла и замерла жизнь, где не слышно стало девичьих голосов и не перекликались, как прежде, через плетни казачки, из одного куреня в другой ходили по рукам серенькие листки с подслеповатыми печатными буквами — подпольная газета «КоммунистДона». Еще передавали из уст в уста новость: где-то под боком, на той стороне Дона, действует партизанский отряд — свой, мигулинский, называется он «Донской казак». А потом начали взлетать на воздух немецкие склады с боеприпасами, падать в ночи под пулями и тесаками патрульные и часовые. Немцы организовали повальные обыски по казачьим куреням и базам, назначили большие деньги за выдачу партизан, но поймать никого не удалось: в станице остались старики, женщины да дети.
Была в этом партизанском отряде девушка, звали ее Катей. До войны она была учительницей, секретарем райкома комсомола. Когда немцы подошли к Дону, стала партизанкой. Надевала простенькую выцветшую кофточку и заплатанную юбку, шла по станицам и хуторам, куда посылало ее командование. Человеком она была известным, неровен час — предатель сразу мог опознать (а они тоже попадались, из выползших на свет белобандитов да кулацких сынков) И все-таки шла. Притворяясь блаженненькой либо «насильно угнанной советскими властями рыть окопы», плелась с тощей котомкой по степным большакам, блуждала, вроде бы не зная дороги, возле немецких аэродромов. Все видела, все запоминала, и потом командование гвардейской дивизии державшей фронт за Доном, наносило на карту собранные Катей данные: где находится враг, какова его сила, куда послать бомбардировщики.
Однажды она нарвалась на засаду, и два дюжих фрица преградили ей дорогу. Она выхватила спрятанный под кофточкой пистолет, выстрелила в упор, уложила одного, а потом и другого немца и скрылась в камышах. Раненная в плечо, добралась до партизанской базы возле заветного камня. Ее хотели переправить в госпиталь — отказалась наотрез. Отлежалась с неделю, снова ушла в разведку.
…Было это за два дня до партийного собрания в партизанском отряде, на нем должны были рассматривать Катино заявление о приеме в партию. Но дело не ждало — ночью она вплавь переправилась на другой берег Дона, пошла в Мигулинскую. И не вернулась… На рассвете 30 сентября привели ее гитлеровцы к этому камню и расстреляли…
В Мигулинской станице в школе имени Кати Мирошниковой я читал текст партизанской клятвы, подписанный ею. Листал ее любимые книги. Видел орден Отечественной войны II степени, которым посмертно награждена она в двадцатилетие Победы. И еще — решение о том, что Екатерина Александровна Мирошникова навечно зачислена в списки областной комсомольской организации. Я долго всматривался в фотографию этой маленькой и худенькой девушки, прозванной за подвиг «донской Зоей». Не написано о ней пока ни книг, ни песен, а люди знают ее, и не только в станице — по всему среднему и нижнему Дону.
Я так много рассказываю о Кате Мирошниковой потому, что и в Мигулинскую заехал, чтобы поглядеть, откуда была опа родом. По этим вот кривым немощеным улочкам ходила она в школу, здесь вот сажала с подругами топольки пескам наперекор, у этих плетней пела под гармошку на вечеринках и первую любовь здесь узнала, хоть и безответную… Девятнадцать лет прожила на свете и столько успела принести и дар людям!
В отряде Подтелкова, расстрелянном белобандитами за пять лет до того, как родилась Катя, был двадцать один казак из станицы Мигулинской. Один из них — ее дядя Василий Мирошников. Наверное, не только у былинного Егорушки, что сразился у заветного камня с Мигулой-ханом, училась Катя мужеству.
…Совхозный «газик» подвез меня к устью речки Тихой — здесь была главная база отряда «Донской казак». Среди густых зарослей камыша еще и сейчас можно разглядеть остатки партизанских землянок и завалов на просеках. У реки Тихой дремотное течение, спокойный нрав, даже вешние разливы проходят здесь без буйств. Казачьи лодки, невесть когда и кем выдолбленные из тополиных стволов в два обхвата, водяные лилии в омутах… И рядом плавают мелкие листочки чилима — водяного ореха, реликтового растения, которое каким-то чудом уцелело лишь в дельте Волги да в таких вот озерах, затерянных в придонской долине. Спит под июльским солнцем Тихая река, и не верится, что давала она в трудную пору силы партизанам, защищавшим родной край.
А чуть в стороне от устья Тихой сразу обдаст тебя горячий аромат сена. Июль на Дону — светозарник, страдник, месяц-косарь. Все дороги в июле притрушены духмяным свежескошенным сеном.
Говорят, что только тот, кто сам косил, сушил и складывал сено в стога, знает, как оно пахнет. Когда сено побываетхоть раз под дождем, оно уже не будет так пахнуть. А среди мигулинских стариков есть такие, что, закрыв глаза, по запаху одного клочка сена могут безошибочно определить, с каких лугов оно взято: с пойменных или суходольных! задонских или песковатских — это возле заветного камня Они, деды мигулинские, — страшно дотошный народ: про каждую травинку вам расскажут, на что она годится, куда употребить ее можно…
За речкой Тихой по левому берегу Дона — сплошные разливы желтых песков, тяжелые, густые, поросшие редколесьем. А ближе к Вешенской начинается сосновый бор. Будто живая преграда встала у воды, заслонив дорогу пескам. Сосна труднее других деревьев приживается на чужой почве. А здесь — на сыпучих берегах — чувствует себя хозяйкой. Оранжевые стволы светятся в зеленом полумраке, будто насквозь пробиваемые лучами солнца. И уходит бор далеко-далеко за бугристый горизонт — на двадцати тысяч гектаров раскинулся. Только с самолета и можно окинуть его взором.
Взметывает газик песчаную пыль на дороге. Не очень хороши еще дороги на донском правобережье. Но вот уж и серая лента асфальта впереди, видно паром. На крутоярье за ним знаменитая Вешенская станица. Можно разглядеть маковку старой церкви, а возле нее монумент — исполинскую фигуру человека, устремленного к звездам, в космос, Памятник прошлого и наша действительность. Та, за которую шли на подвиг подтелковцы и их наследница — партизанка Катя Мирошникова…
Вешенское крутоярье
Пойдешь в станицу, — на горе она…
Спешат в сельпо казачки в полушалках.
Все незнакомые, и это жалко…
Узнать бы мне прохожих имена!
Хотелось бы немедля угадать:
В бордовой кофте или в кофте синей
Мелькнула за левадою Аксинья,
И сколько лет ей можно нынче дать?
Шумит листва под ветерком степным
И прячет в тень щербатые пороги…
За тридевять земель ведут дороги
Из дома с мезонином голубым.
Анатолий Софронов
На юго-восточной окраине станицы Вешенской стоят старые, изломанные и израненные тополя-осокори. Возле них пролегла дорога, уходя в лес по левой стороне Дона. В смутном 1919 году проскакал мимо этих тополей Григорий Мелехов, направляясь в Громковскую повстанческую сотню, которая стояла за озером Рассоховым. За станицей он вброд переехал узкий усынок[5] озера, рукавом отходившего от Дона и тянувшегося до конца станицы, и поскакал лесом… А потом видели тополя и самих повстанцев, бежавших в панике от красных войск, вплавь перебиравшихся через Дон, бросая одежду и обувь…
Проходят годы, но не зарастают старые окопы: плохо приживается на песке трава. Перемешан желтый песок с ржавым металлом, потому что ни одна лихая година не обходила его стороной, — дождями исхлестан, кровью, слезами и потом казачьим орошен.
Всегда называли Тихим большую равнинную реку Дон. Тихая вода с отраженным небом, домами, крытыми камышом и чаканом, разрывами снарядов и распростертыми крыльями птиц… Большие человеческие страсти бушевали на этих берегах. И сейчас еще можно увидеть свидетелей жизни и трагедии Григория Мелехова — людей, знавших его, и места, до боли знакомые нам по шолоховским книгам, и эту неоглядную степь под низким донским небом, казакуют по которой с утра до ночи горячие шальные ветры.
О чем шумят на ветру израненные тополя? Может, о том, что не помогли найти верную дорогу Гришке Мелехову? Или печалятся про то, что не укрыли от бандитской пули Васю Дубинина? Жил такой мальчишка-непоседа в станице. Гонялся за бандой изменника Фомина, бывшего начальника Вешенской милиции, в награду заслужил браунинг, в школу красных командиров уже собирался и не успел: под хутором Каргиным попал к бандитам в плен. Фомин чин ему сулил, к себе приглашал, а Вася плюнул ему в лицо. Повели на расстрел мальчишку — скинул шинель и бежать от пьяных конвоиров. Догнали, зарубили… Это было уже летом 1922 года, бушевал еще Тихий Дон.
Бывало ли с вами такое: приедете впервые в незнакомый город или село, ходите по улицам, беседуете с людьми и начинаете вдруг чувствовать, что вам знакомы и улицы эти, и сами люди, и что вы не раз уже встречались с ними. Начинаете вспоминать, когда, где… Ну, конечно же, на страницах «Тихого Дона», и в «Поднятой целине», и в «Судьбе человека», и в главах нового романа о тех, кто сражался за Родину, и во всех донских рассказах, написанных человеком, живущим в этой станице, на крутоярье возле самого Дона.
В Вешенской, еще не успев устроиться в гостинице, я начал спрашивать, дома ли Шолохов. Нет, Шолохов уехал накануне в Москву, повез в «Правду» новые главы своего романа о войне. Главы неожиданные и смелые — о трудных предвоенных годах, правду о которых под силу сказать, наверное, только Шолохову — человеку, который всегда находился в самой гуще событий, происходивших в стране, и не прятался от них. Федор Матвеевич Демин, редактор вешенской газеты «Советский Дон», раньше других познакомился с этими главами, и можно лишь позавидовать тому, кто испытал чувство первозданного восприятия шолоховского текста. Новые главы нельзя просто пересказать, — это правда, ничего не утаивающая, неприкрытая, как само распахнутое настежь людям сердце большого художника…
Улица Шолохова, 62. Здесь, в зеленом особняке со скрипучими порожками, окруженном густым фруктовым садом, живет писатель. Рыбацкие лодки у берега — он любит удить сазана. Видавший виды газик — Шолохов объездил на нем не одну тысячу километров по Дону, Хопру, Медведице и дальше по казачьей реке Урал с ружьем и патронташем, а еще — к прежде всего — с карандашом и пачкой бумаги в полевой сумке. Он все пишет карандашом — мелко, быстро, и только Мария Петровна — жена его и добрый ангел-хранитель — может потом расшифровать текст. Днем, если писатель не пи охоте или рыбалке, ему не дают писать: люди знают, что Шолохов каждого выслушает, посоветует, поможет, и не берегут дорогого для него времени — идут со своими заборами. Приходится писать ночью; об огоньке в мезонине, что горит до самого утра, столько написано журналистами и писателями.
Вешенская — очень старая станица. Говорят, название се пошло от вешек, вех на большой дороге, что вела из Москвы на Кавказ. При всей своей мировой славе, связанной с именем Шолохова, станица не стала городом. И хорошо, что не стала, потому что, случись это, она потеряла бы тот неповторимый облик, что известен нам по страницам «Тихого Дона». Правда, покрылись асфальтом центральные улицы, шеренгой выстроились столбы электрического освещения, оделся в камень некогда обрывистый спуск к Дону, украсилась оградой набережная. И все-таки утром меня будили в гостинице разноголосые петухи в соседних дворах и лениво мычавшие коровы, которых прогоняли в стадо, и еще — рокотали где-то совсем рядом самоходные комбайны: ячмень уже можно было косить, а с другой стороны шлепали по воде уключины, у рыбаков тоже начинался рабочий день.
С трех сторон подступили к Вешенской пески. И все-таки станица, которой сулили прежде, что она вся будет засыпана песком, не только преградила им путь, но еще и сама стала зеленым оазисом. За широкими кронами тополей, дубов и вязов на улицах не видно домов. На окраине станицы стоит дуб; куда ни посмотри от него: на север ли, на юг, на правую или левую руку — везде шумит хвоей бор, отливает золотом стройных стволов. Сосна и дуб тянутся к небу, притоптав ногами бугры, по которым испокон века перекатывались черные бури, к самому Дону, бывало, подступали. В лесах этих — заказник, охота на птиц и зверей строго-настрого запрещена. Здесь уже и лоси появились. И степные речки, оскудевшие так, что в устьях уже не было у них воды, ожили. Донская пойма у Вешек — это живописные по красоте места с остроумными названиями. Например, озеро Клешня — по очертанию берегов оно похоже на клешню рака. Берега Черного озера так заросли камышом, что вода в нем кажется темной. А урочищам народ присвоил такие имена: Черная поляна, Девичья поляна, Горелый лес, Золотая яма, Алешкин перелесок, Костыль, Тюремка… Наверняка, с каждым из этих названий связана романтичная легенда.
В станице много новостроек. Но пожалуй, самая главная — будущий санаторий. Издавна считалось, что в этих местах самая вкусная на Дону ключевая вода. А сейчас геологи нашли еще и минеральную, близкую по своему со ставу к лечебным водам Старой Руссы и Паланги. Московские архитекторы создали проект санатория. На левобережье — в зеленом урочище как раз напротив станицы — вырастет скоро в сосновом лесу шестиэтажное здание стекла, алюминия и бетона.
Станичному театру казачьей молодежи пошел уже третий десяток. Еще Качалов называл этот театр собратом по искусству. Первым спектаклем была в нем, конечно, «Поднятая целина», и Шолохов не только помогал писать инсценировку, но и подбирал костюмы, декорации. В войну театр сгорел от фашистской бомбы, пришлось строить заново. Я попал на премьеру комедии «Чужой ребенок» — пьесы старой, не потерявшей, однако, остроты в наше время. И хотя актерам-любителям подчас не хватало мастерства, надо было видеть, как тепло принимали их зрители, радовались искренней, непосредственной игре, — не так уж часто заглядывают ведь сюда ростовские (не говоря уже о столичных) гастрольные труппы.
На репетиции казачьего хора бородатые и безусые хористы разучивали новую мелодию, написанную директором Дома культуры Петром Прокофьевичем Крамсковым. Здесь многие пишут песни, например учитель Петр Михайлович Косоножкин, недавно уехавший из Вешек на партийную работу в Морозовский район, сложил знаменитые песни «Сторона, сторонушка», «Колхозная величальная», «Донская моя сторона». И конечно, в репертуаре хора — старинные казачьи песни. Задорно взлетала одна из них: «Ой, да взвеселитесь, донцы, храбрые казаки, честью, славою своей». Мне это напомнило покойного Ремарка, писавшего в «Трех товарищах»: «Мы услышали хор донских казаков. Это была очень тихая песня. Над хором, звучавшим приглушенно, как далекий орган, витал одинокий ясный голос. Мне показалось, будто отворилась дверь, вошел старый усталый человек, молча присел к столику и стал слушать песню своей молодости… Пение, постепенно затихая, растаяло, наконец, как вздох…» И было жалко, что песня так вмиг оборвалась.
А потом хор сыграл еще «Пчелушку» — ту самую, что напел для него Шолохов. Маршировали на месте, будто осиливая воинский путь с озорным, радостным напевом. И плескалась в этом напеве, брызгала солнцем река, кружилась лукаво пчелушка, шутила с бесстыжей купальщицей, вспоминая которую уходили казаки воевать, и наступала па радость печаль, делая радость пронзительной, невозможной… Ни на какой другой не может быть похожим казачий хор — он неповторим и единственный в своем роде.
…Но пора, наверное, уже и честь знать. Можно ехать отсюда к Серафимовичу по воде, — говорят, это любимые шолоховские места. Кто из-за границы к нему приезжает или просто друзья гостят — обязательно на уху к Хопру везет. Меня потянули другие дороги — по правобережью. Пыльные, немощеные, разбитые… и тоже шолоховские. Нужно ведь и на хутор Татарский, и на Гремячий Лог поглядеть, как же обойтись без этого!..
Я ищу мелеховский курень
Все, что я добуду в пути,
я добуду для себя и для вас,
Я развею себя между всеми,
кого повстречаю в пути…
Уолт Уитмен
В тихий полуденный час доносятся с плеса голоса двух невидимых певцов, тягуче и протяжно выводят они: «Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?»
Я присел передохнуть под раскидистыми ветлами на самой окраине Базков и заслушался. Песня была старинная, и пели, судя по хриплым, вроде бы надтреснутым голосам, люди немолодые. Певцов не было видно: все заслоняла левада, и казалось, будто это поют сами тополя и вербы, много повидавшие на веку, и чудилось, что войдешь сейчас вот в станицу и увидишь мелеховский курень, обнесенный плетнем; но там мощеная улица с кирпичными домами под черепицей, с телевизионными антеннами, и лошадей-то почти нет — только «Волги» да «Зилы»…
— А курень мелеховский ищите не в Базках, а в хуторе Калининском, — напутствовал меня старый казак и красный партизан Лосев.
Но прежде чем отыскать мелеховский двор, я услышал от Лосева историю одного из живых героев «Тихого Дона», имя которого Шолохов назвал в романе, не изменив. Речь шла о хорунжем Павле Кудинове.
Кудинов бежал за границу — вместе с другими — и прислал из Болгарии в 1922 году письмо станичникам. Его еще вешенская газета тогда напечатала. Писал он, что обманулись казаки-эмигранты и что поняли они наконец, где настоящая правда, да поздно: нет у них теперь уже родины, живут на беженском положении.
Я видел письмо Кудинова ростовскому журналисту Константину Прийме, присланное из Болгарии лет пять назад. Старый хорунжий вспоминал, как казаки-эмигранты читали на чужбине «Тихий Дон»: собирались они, батраки-поденщики, по вечерам в сарае и плакали над его страницами. «А многие рядовые и офицеры допытывались, — вспоминал Кудинов, — кем он у меня служил в штабе, этот Шолохов, что так досконально все изобразил. Скажу, как на духу, «Тихий Дон» потряс наши души и заставил все передумать заново, и тоска наша по России стала еще острее, а в головах посветлело…»
В Базках две тысячи дворов, шесть тысяч жителей. Раскинулся хутор прямо против Вешек — там, где выгибается Дон «дугой татарского лука». Наверное, отсюда и название в романе появилось — хутор Татарский. Правда, здешние колхозники называют Базки не хутором, а станицей. Как-то был у них Шолохов на колхозном собрании и пошутил: «Вот тут ваш председатель Максаев говорил о станице Базковской. А с каких это пор Базки стали называться станицей? Ведь Базки всегда были хутором станицы Вешенской…» Писатель знал, конечно, что называть его стали станицей, когда был здесь некоторое время районный центр. Район потом укрупнили, присоединили к Вешенскому, осталось здесь лишь правление колхоза «Тихий Дон» — хозяйства очень крепкого и богатого. Когда создавали лет сорок назад в Базках коммуну, приходилось и семенное зерно за полтораста километров на быках из Миллерова возить, скот по бездорожью калечить и на этих же быках потом пахать и сеять. А теперь и Дворец культуры свой, и особняки на подбор, и элеватор, и даже аэропорт.
Но Базки все-таки не хутор Татарский. Хутора с названием Татарский вообще нет ни на левом, ни на правом берегу Дона. Почему же так уверенно посоветовал мне Лосев искать мелеховский курень в хуторе Калининском? Наверное, как и у других старожилов, с которыми я встречался, было у старого казака основание так считать.
Знатоки творчества Шолохова не дают ответа на вопрос, какой хутор в окрестностях Базков, реально существующий, описал автор и назвал его Татарским. Да и сам Шолохов однажды сказал, что нельзя ставить знак равенства между реальностью и художественным вымыслом писателя. Согласимся с тем, что хутор создан воображением Шолохова. Но ведь было же такое место, куда стремилась мысль писателя, создавшего «Тихий Дон», и куда провожал и где встречал он своих мятежных героев!
В Вешенской и окрестных хуторах знают книги Шолохова не хуже литературоведов и досконально скажут вам, где какое место описано или в чем писатель проявил неточность (не потому, что он места эти плохо знает, а чтоб иной раз книгой своей казаку не навредить, — найдутся такие, что контрой до конца дней считать будут). Так вот, по всем приметам, которые можно отыскать в романе, Калининский хутор — это и есть Татарский. Прежде он назывался Семеновским, а уже при Советской власти получил новое название в честь «всесоюзного старосты».
Я шел из Базков к Калининскому стежкой над самым Доном. Места здесь скупые на зелень — пески, меловые проплешины. Степь уже начинала выгорать, становилась бурой — давно не было дождей — и понемногу теряла свою красу. Только поемные луга по-прежнему отливали зеленой синью. И вдруг сразу открылся весь в садах, спускающихся к реке, Калининский. А у самого края, возле меловой горы, — саманный курень под взлохмаченной камышовой крышей. Тот самый… Сразу вспомнилось:
«Мелеховский двор — на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше — перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона».
Все так, хотя и не совсем. Скособочился плетень, и калитка обвисла. Давно и ставен голубых нет, и амбара с железными петухами на крыше… Подхожу ближе — и вот он, неоглядный простор с крутоярья. Круто сбегает вниз тропинка, и хмурится за зеленой каймой топольков, поднявшихся на россыпи ракушек, сам Дон в широком и вольном разливе. А за красноталом плетней уходит вдаль Гетманский шлях, истоптанный некогда конскими копытами, теперь укатанный тракторами и автомашинами. Не взойдет ли сейчас по этой тропке, покачивая коромыслом, Аксинья, обдаст ненароком взглядом черных глаз, вспыхивающих балованным, отчаянным огоньком?.. А может, выйдет из куреня скорбная и мудрая Ильинична и, приглашая в хату, махнет загрубелой от работы рукой?
Нет, давно осиротел курень, и тропка к Дону все больше зарастает, не ходят по ней казачки с коромыслами: незачем, есть водопровод. И лошадей не видно. Промчался на мотоцикле рослый парень в испачканной маслом спецовке — идет уборка. Такой же горбоносый, с лохматым чубом, как у Гришки Мелехова. А может, и фамилия у него Мелехов — нередкая она в здешних местах. И поговорить недосуг — июльский день год кормит. До утра не будут гаснуть огни в поле: нужно сберечь весь хлеб, что полит нелегким потом. И до утра будет тревожить хуторян рокот моторов. А помните, как писал о Татарском Шолохов? «Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями. С вечера… зачековывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком колотушка ночного сторожа».
Не слышал я колотушек, заночевав в Татарском (оговорился, надо было сказать в Калининском). И замков не видел: нет их на бригадном дворе, отказались от них колхозники еще несколько лет назад. Незачем и некому воровать, пусть входит путник в каждый дом, ему всюду будут рады и примут как гостя…
Из Калининского я ехал на попутных машинах от одного хутора к другому по следам шолоховских героев.
В Рубежном без труда отыскал дом Якова Фомина — пятистенный, с антресолями, — хозяин он был крепкий. В 1919 году Шолохов прожил в этом хуторе почти три месяца, и, как вспоминает, они с Фоминым часто вели «горячие споры на политические темы». Замечу: шел тогда Шолохову пятнадцатый год — молодость вовсе не синоним незрелости, — а писатель уже тогда начал искать свой путь.
В хуторе Плешакове сохранились остатки паровой мельницы купца Симонова, — по роману мы помним, что находилась она в Татарском. Торчат из фундамента изогнутые железные прутья, ржавая вода в зацементированных углублениях… Отец Шолохова работал на этой мельнице управляющим, а будущий писатель мальчишкой пас здесь индюшат. Это здесь схватились в кровавой драке хохлы с казаками.
Уважает Шолохов стариков, встретит знакомых — долгими часами беседует с ними. А спросили как-то на встрече с ним читатели, как он собирал материал для «Тихого Дона», ответил, лукаво улыбаясь:
— Ходил с корзинкой по хуторам и станицам…
Это шутка, но она очень близка к истине.
Из Плешакова я направился в Кружилин. Там Шолохов родился. За деревянной перекладиной — вросший с годами в землю старенький курень, сложенный из самана и крытый соломой. Нынешняя его хозяйка — старушка преклонных лет — охотно приглашает в комнаты. Их две — крохотных, аккуратно выбеленных, с низким потолком. В углу — иконы старинного письма, на окне — вышитый рушник, сухие цветы бессмертника. Пучки трав по углам, душистых, пряных. Из этого маленького домика вышел в мир большой писатель. Хуторяне хотели было создать в курене музей — паломников-то ведь хоть отбавляй, едут и едут, — да Шолохов воспротивился: зачем, говорит, из меня мумию делать, я еще пожить хочу…
И остался этот курень как память в хуторе. Понастроили кирпичные дома, клуб большой вырос, школа-интернат, детский сад, больница, бытовой комбинат, своя теплотрасса появилась, водопровод, пекарня, даже хуторской «дворец счастья» — зал бракосочетаний.
Хутор Кружилин стоит уже не на самом Дону, а на пересохшей речке Черной — русло можно перейти посуху. Солончаки кругом, песок, но все улицы в зеленом наряде. Много сил и труда положили хуторяне, чтобы выходить саженцы, от сурового степного климата уберечь. Всех людей в совхозе подняли на большое дело, а как только осенью запахнет, все новые и новые сады закладывают.
Красивые здесь места — в пестром разнотравье, где один лог старается перещеголять другой праздничным нарядом. Тянется к солнцу в избытке сил шиповник с гирляндами алых гроздьев, раскинулась по балке грузная, с тяжелыми кистями бузина. И еще — желтый лох с непередаваемым маслянистым запахом, густые заросли шалфея, пурпурные маки — вся долина Черной сплошь травяные джунгли…
А там, где речка Черная впадает в Чир, — станица Каргинская. Здесь Шолохов учился еще до Богучарской гимназии. Школа эта маленькая, плохонькая. Рассказали как-то писателю про это станичники, и он не остался в долгу: отдал присужденную ему Ленинскую премию за «Поднятую целину» на строительство новой школы. И ребята справили новоселье в просторном и светлом здании. Есть у них и учебные классы, и химический, физический кабинеты, спортивный и актовый залы, свои мастерские. Пятьсот двадцать казачат учатся в одну смену. А в краеведческом уголке стоит маленькая парта, источенная временем и, конечно, «изукрашенная» ее многими владельцами. За нею овладевал грамотой школьник Миша Шолохов. После уроков он ловил в Чиру рыбу, водил лошадей в ночное. И первые донские рассказы были написаны им здесь. В декабре 1925 года он похоронил на станичном кладбище отца. Мать писатель потерял позже: она погибла от фашистской бомбы летом 1942-го, когда фронт приближался к Вешенской станице.
…И снова вьется дорога. Я уже порядком оторвался от Дона к югу, а надо еще заглянуть в станицу Боковскую.
Я видел эту станицу в декабре 1942 года. Не с рюкзаком, а с солдатским вещевым мешком за плечами обошел я морозным вечером сожженные и разбитые дома и лишь на самой окраине нашел землянку, где можно было согреться. Пришлось еще, помню, долбить промерзший насквозь настил дзота, чтобы отломать кусок шпалы для «буржуйки»: жаль было разбирать на дрова поврежденный бомбой дом по соседству.
Я не мог узнать Боковскую, и не потому, что она отстроилась заново на пепелище. До войны не было в станице столько садов, столько зелени. Как и в Вешках, здесь наступали пески. Не вдруг и не сразу прижилась здесь питомица севера — сосна. В иные весны раскаленные пески чуть не с верхом заносили молодые деревца. Выжили самые выносливые деревья, приобретали они новые качества, приспосабливаясь к зною и ветрам. Все меньше и меньше в этих местах становится песчаный разлив.
В самом центре Боковской — памятник Кривошлыкову. В «Тихом Доне» и в истории его имя стоит рядом с Подтелковым. Чем прославили себя эти два человека? Сердцем приняв революцию, они в числе первых встали под ее знамена, увлекая за собой трудовое казачество. А оказавшись в руках жестокого врага, не склонив головы, приняли смерть.
Кривошлыков родом с хутора Ушакова близ Боковской, на речке Кривой. Еще цел дом, где он родился и рос. Ветшают старые постройки. Поговаривают, что скоро вообще хутор снесут: совхоз строит благоустроенные дома на центральной усадьбе. Поэтому и памятник поставили не в Ушакове, а в Боковской.
За хутором Ушаковой опять пошли места, знакомые по «Тихому Дону». Ягодное — бывшее имение Листницких… Теперь в бывшем барском доме школа. Знаменитая роща, где Григорий огрел кнутом паныча. Покосившийся крест под двускатной крышей на развилке… На том, левом, берегу — станица Еланская. «Елань» значит чистое место посреди леса, пашня в бору, где все светло, зелено и весело. На этом, правом, берегу — хутор Крутовской, родина Подтелкова, председателя Совнаркома Донской республики, принявшего смерть в хуторе Пономареве вместе с Кривошлыковым, — в «Тихом Доне» это, пожалуй, самые сильные, самые волнующие страницы. Шолохов ничего не выдумал в потрясающих своей скорбной выразительностью картинах казни подтелковцев.
Крутовской — хутор побольше Ушакова, и новостроек в нем много. По сути дела, рядом со старым вырос новый хутор. А старый курень, где родился и провел молодые годы Подтелков, тоже сохранился.
На Дону едва ли не в каждом городе, каждой станице есть площади и улицы, названные именами Подтелкова, Кривошлыкова и их товарищей по отряду. Есть колхозы и совхозы их имени.
В переездах из одного хутора в другой я и не заметил, как осталась позади Ростовская область и началась Волгоградская. Запомнил только, как оборвалась асфальтированная дорога у речки Кривой и пришлось прошагать пешком километра три-четыре до новой асфальтированной дороги — уже на том, волгоградском, берегу. Удивительное дело — внутри области автобусы ходят до самого отдаленного хуторка и дороги сносные, но за пределы области вы не уедете ничем: перебирайтесь через «пограничную полосу» пешком. Маленький дождь — и связи вообще никакой, разве только через областной центр. Хорошо еще, что лето. И не только у дорожников это местничество. В Вешенской я хотел было позвонить в Усть-Хоперскую — это пятьдесят километров с небольшим. Оказывается, нужно вызвать по телефону Ростов, оттуда — Волгоград, а уже потом дадут Усть-Хоперскую.
Дорога по шолоховским хуторам была трудной. Я не хочу писать, как устал в этот день: боюсь отпугнуть тех, кто захочет проехать вслед за мной по этим хуторам. Одно скажу: я был доволен тем, что перечитал «Тихий Дон» по «первоисточникам». Не перечитал — бегло перелистал, потому что одного дня, одного месяца и даже одного года не хватит, чтобы узнать эти места и людей, живущих здесь.
На Хопре
Ты хочешь знать, как пахнет лето?
Чем нас томит его краса?
Ступай, проснувшись до рассвета,
Туда, где луг знобит роса.
Туда, — где свет небес бездонных
Вбирают нивы и сады,
Откуда я принес в ладонях
Лишь капельку живой воды.
Николай Рыленков
От истоков и до самого устья Дона везло мне на дорожные знакомства, наверное потому, что интересные люди всегда в разъездах и «привалами» для них служат дома приезжих и гостиницы. В Усть-Хоперской таким интересным для меня человеком оказался егерь Семен Игнатьевич Бычков, приехавший в станицу по запутанным, как он сказал, фуражным делам. Судя по доброму его настроению, распутать дела удалось ему быстро, он оказался не только хорошим рассказчиком, но еще и пригласил меня, оставив рюкзак в доме приезжих, прокатиться на моторке в устье Хопра. Я давно слышал про красоты здешних мест и, конечно, отказаться не мог.
Лодчонка у Семена Игнатьевича утлая, но бойкая. Пока я поудобнее устраивался на корме, перескочили мы Дон, и вот уже остались позади Усть-Хоперская и хутор Зимовской, начался медленный, извилистый, весь в зеленой просини Хопер. Бесчисленные затоны с золотисто-желтыми цветами кубышек, с водяными лилиями, будто выточенными из фарфора, с разноголосым щебетанием юрких птичек в земляных гнездах-норках, которыми сплошь усеяны крутые откосы правого берега. Склоны настолько круты, что могут показаться отвесными скалами, и все-таки на них ухитрились примоститься деревца осины и ракитника, боярышника, бересклета. А на самом верху — могучие дубы и клены. Густой белый туман лежит на воде, и вся река кажется от этого молочной. Там, где утреннее солнце уже прикоснулось лучами к берегу, вода клубится, сквозь легкую сизую дымку проглядывается, будто умытый, заповедный лес.
По обе стороны — непривычные бакены: кол, вбитый в дно отмели, с туго привязанным веником наверху. Глубины здесь невелики, в межень, как сказал мне егерь, доходят лишь до полуметра. Часто встречаются песчаные острова — закосы, заросшие кустами ежевики и дикой малины, рыбацкие шалаши на берегу. И челнов, выдолбленных из целой ракиты, я не встречал нигде так много, как на Хопре. Все это придает реке, и без того живописной, своеобразную прелесть и, я сказал бы еще, нетронутую первозданность. Здешние жители умеют ею дорожить, а пришлых мало, ведь Хопер далеко от всех дорог, добираться сюда неудобно’.
Хопер извилист, берега у него столь круты, что мы, плывя по течению, то видели солнце перед собой, то поворачивались к нему спиной. Говорят, прежде Хопер впадал не в Дон, а в Медведицу и несколько раз менял свое русло, пока наконец не стал притоком Дона. На тысячу с лишним километров протянулся он — после Северского Донца это самый большой приток Дона. Правый берег крут и лесист, а левый — пойменные луга, озера, старицы и болота, густо заросшие осокой, чаканом и камышом. Край непуганых уток, гусей и другой дичи. У Даля само название «Хопер» объясняется как «притон диких гусей». Это здесь проходят маршруты весеннего и осеннего перелетов водоплавающей птицы. Их стаи, возвращаясь в родные места или направляясь в теплую Африку, подолгу задерживаются на обильных кормами затонах и плесах Хопра.
С самой весны наезжает сюда Шолохов, неделями живет в рыбацком шалаше и, когда не пишет, бродит с охотничьим ружьем по займищу, по степи, и, хоть он неутомимый охотник и метко стреляет, иногда весь день молчит его ружье. Просто ходит и ходит солдатским шагом мимо старых, обвалившихся окопов, оставшихся еще с войны, мимо пеньков деревьев, обглоданных артиллерийским огнем, обмотанных телефонным проводом кустов. Там, где растут свинцового цвета бессмертники с неувядающими, жесткими лепестками…
Семен Игнатьевич дымит самокруткой, обжигающей пальцы, и говорит, говорит без устали:
— В сорок третьем Шолохов приезжал на побывку с фронта, разыскал дядьку моего, тоже егеря, я тогда мальцом был, ходили мы два дня по этим местам… Мины кругом, все поразворочено было. Смотрю, а у него слезы на глазах…
В утренние часы Хопер выглядит безлюдным. Где-то в лесных урочищах прячутся на берегах хутора, челны на отмелях — оттуда. А вот приворачивает к берегу небольшой баркас со стожком сена: с давних пор косят на левобережье травы и переправляют на правый берег. Катеров и барж почти не видно. Рейсовый катер в низовьях Хопра ходит лишь один раз в двое суток. А вообще-то река судоходна километров на триста — вплоть до Новохоперска. Прежде корабли поднимались и еще выше — до Борисоглебска, где были судоверфи. Там и суда морские строились, и корабельная казна для всей Азовской флотилии хранилась. Правда, спускать большие военные суда вниз по Дону можно было только в половодье. С прошлого века, когда построили Грязе-Царицынскую железную дорогу, судоходство на Хопре начало приходить в упадок и вскоре почти прекратилось. Только после того как появилось на донской карте Цимлянское море, снова пошли по Хопру суда.
— А знаете, — говорит вдруг егерь, — в хоперской пойме можно встретить много интересных животных. Видите, хоботок из воды торчит, вон возле камышей… Теперь исчез. Другой поднялся… Семейство выхухолей там живет.
На пиджаке у егеря значок с маленьким зверьком. Это и была знаменитая выхухоль. Неспроста зверек попал на герб Хоперского заповедника. Мы вошли в лиман, егерь приглушил мотор, стали ждать… Здесь обитала семья выхухолей. Маленький зверек с лапами, как у утки, с чешуйчатым хвостом, с красивой шелковистой шкурой темно-пепельного цвета, осторожно выпрыгнул из воды и, почуяв, что за ним наблюдают, стремглав исчез под водой. Разглядеть все-таки я его успел: крохотный пушистый комочек сантиметров в двадцать длиной. На мировом пушном рынке он ценится втрое и вчетверо дороже бобра — выше золота. Прежде выхухоль встречалась чаще, истребляли ее хищнически, потому что ловить ее — дело нехитрое. В 1913 году на Нижегородскую ярмарку вывезено было шестьдесят тысяч шкурок этого редкостного зверька — разбойным оказался промысел.
Сорок лет уже, как на Хопре создан выхухолевый заповедник, зверек расплодился, его начинают отлавливать и перевозить самолетами на другие реки.
Для редкого зверька здесь условия хорошие. Только меняется с годами режим Хопра — среда, к которой привыкла выхухоль, — и потому так медленно растет уникальное поголовье.
Егерь причаливает к самому берегу, расстилает брезент у плеса, приглашает завтракать. Рядом ковер алой земляники, попробуй — не оторвешься. Чьи-то следы на песке. Большие крупные отпечатки могучих копыт. Лось? Нет, зверь будет покрупнее. Егерь ухмыляется: «Зубры это, их много теперь в заповеднике, сюда тоже заглядывают».
Удивительная эта река Хопер. Сохранила она крошечных выхухолей и исполинских зубров такими же, какими видел и знал их первобытный человек. Завезли сюда зубров из Беловежской пущи уже после войны. Спокойные и неторопливые животные эти только на вид безобидны, встреча с ними опасна.
Рассказал Семен Игнатьевич, как года два назад молодой зубр по кличке Мостик одержал в драке победу над вожаком стада Молчуном. И тогда гордый вожак ночью сломал изгородь и ушел к Хопру. Его пытались поймать и вернуть — не удалось. Пришлось просить лицензию на отстрел.
Сейчас на Хопре уже больше сорока зубров. Медленно, но верно возрождается их стадо. Когда Петр Первый приказал воронежскому губернатору поймать на Хопре и прислать в Петербургский зверинец пять-шесть зубров, ему ответили, что видели последний раз зубров на Хопре в 1709 году, а после того они уже не встречались. А теперь зубры на Хопре уже не редкость. Как и лоси, как и пятнистые олени, белки, куницы…
А солнце взбирается все выше, наверное, пора и в станицу возвращаться. Как раз показалась встречная баржонка. Я прощаюсь с беспокойным егерем, взбираюсь на борт (моторист-то оказался знакомым Бычкова), еще раз окидываю взором берендеево хоперское царство. Неведомо оно ретивым курортникам, рвущимся на Южный берег Крыма либо в Пицунду… Хорошо, что пока неведомо. Как иначе уберечь для детей и внуков этот зеленый островок с трубными песнями серых журавлей, с маслянистой гладью глухих затонов и зелеными коврами ландышей, с разливом земляники, с полянами, пропахшими гречишным медом.
В Усть-Хоперскую я возвратился все-таки рано: до прихода катера на Серафимович было еще добрых полтора часа. Чтобы как-то убить время, пошел бродить по пыльным улицам. С трех сторон подступили к станице пески, надвигаются уже на левады. И ветры пескам помогают: станица-то на взгорье всем штормам открыта. Трудно здесь справиться с песками.
Характерная деталь, присущая почти всем донским станицам: вышли из Усть-Хоперской два человека, олицетворявшие саму непримиримость, — Каледин и Подтелков. Один судорожно хватался за Дон старый, обреченный. Другой пошел на смерть ради торжества революции на Дону. И жили-то чуть не на одной улице, почти соседями были.
Классовая межа, впрочем, в станице была очень заметной: казаки из верховых куреней служили верой и правдой Каледину и после победы Советской власти бежали за границу. Но были в Усть-Хоперской станице еще и низовые куреня — здесь жила голытьба. На нее рассчитывал Подтелков, направляясь со своей экспедицией в Усть-Хоперский округ и намереваясь сформировать новые отряды Красной Армии. Не удалось ему дойти, но, как только докатилось в Усть-Хоперскую известие о казни подтелковцев, станичники сами собрали два партизанских эскадрона и ушли в Царицын к Ворошилову…
Каким же будет завтрашний день Усть-Хоперской станицы? Это не праздный вопрос. Песчаный разлив все ближе подбирается к Дону, но еще не поздно его остановить. Ведь сделали же это под Вешенской, закрепили пески. Здесь тоже нелегко, но надо.
Надо ради того, чтобы жил Дон, а значит, и заповедное царство на Хопре.
На семи ветрах
Недаром и станица-то называлась Усть-Медведица: медведей много водилось в свое время, медвежий угол, непроходимая глушь, — ни железной дороги, ни парохода.
А. С. Серафимович
Зимой от Усть-Медведицкой, хоть тысячу верст ска чи, ни до какого государства не доскачешь.
Ф. Д. Крюков
Круто вздымается правый берег Дона, и кружится голова от этой высоты, а пароходики внизу кажутся маленькими, игрушечными. Чуть не полчаса пришлось мне взбираться по старенькой и шаткой, с изгибами и поворотами, деревянной лестнице, что ведет от пристани сразу к самому центру города. Отсюда, с высоченного обрыва, можно разглядеть и синеющие луговые дали левобережья, изрезанные оврагами, и темные густые леса за Медведицей, и седой от песчаных проплешин Дон, чистый, будто зеркало, а в нем — опрокинутую меловую гору с маковками-куполами старого монастыря. Тишина и покой царствуют над всей этой огромной голубой долиной, и, кажется, будто сама природа подарила ее человеку для отдохновения от трудов. Гуляют теплые ветры над крутоярьем, принося невзначай дожди и грозы, суховеи и песчаные бури, а, бывает, еще и жестокий град. Прошумит над обрывом стихия, опрокинет темную тучу на город и опять властвует привычная голубая синь…
На этом вот самом месте еще двадцать лет назад стоял, опершись на трость, седой коренастый человек в плаще и кепке и добрыми, чуть прищуренными, но зоркими глазами оглядывал родные места: реку, с которой связана вся его жизнь, степь, пропахшую чебрецом и полынью, раскинувшийся широко город, что принял его имя, и виделся ему отсюда весь большой и огромный мир, которому он, Александр Серафимович, без остатка отдал свой большой талант художника и борца.
Серафимович уехал из станицы Усть-Медведицкой в 1883 году в Петербургский университет, подружился там с Александром Ульяновым — старшим братом Ильича. Вернулся на родину он через семь лет под гласный надзор полиции. Вернулся, побывав уже в ссылке на далеком Севере и став профессиональным революционером, известным писателем.
Я бродил по улицам города и едва не на каждом шагу встречал отголоски великой бури, бушевавшей здесь полвека назад. Одна из главных улиц называется именем Михаила Федосеевича Блинова — старшего урядника казачьего имени Ермака Тимофеевича полка. Он провозглашал Советскую власть в Усть-Медведицкой, формировал здесь красную конницу, командовал под Царицыном полком красных казаков, о нем еще и поныне можно услышать песни и предания в станицах на Медведице. Вот улица, которая носит имя Виктора Семеновича Ковалева, первого председателя Донской советской республики. Он тоже родом из этих мест.
На семи ветрах стоит город Серафимович, и ни одна буря не обходила его стороной, переворачивая казачьи души. Мучительными, трагичными бывали порой дороги к правде.
В устье Медведицы когда-то была старая мельница, место конспиративных встреч станичных вольнодумцев. Шумит дубовая роща, она не раз упоминалась Серафимовичем в рассказах о родных местах. Полукольцом окружает город глубокий и узкий яр, там проходили до революции митинги и маевки и не однажды свистели нагайки есаулов, разгонявших «противозаконные сборища»…
Я провел несколько часов в маленьком доме, где Серафимович прожил свои последние годы. В домике сейчас музей. Заботливо охраняется сад, посаженный писателем, сарайчик со столярным верстаком, где любил он мастерить в свободное время. В его рабочем кабинете скромный письменный стол, простенькие книжные шкафы (кстати, мебель сделал он сам). Личные вещи писателя — черный шерстяной костюм, известный нам по фотографиям последних лет, белая сорочка с отложным воротником, черная суконная кепка. Гитара, на которой писатель иногда играл. Коньки, на которых любил зимой кататься на Дону, мелкокалиберная винтовка. Когда писателю нездоровилось, подолгу сидел у окна своего кабинета, откуда видно все Задонье. Видна и дорога, что уходит вправо; по ней уезжал он в Петербургский университет, по ней возвращался в родную Усть-Медведицкую. Еще дальше, к югу, — этого уже не увидишь простым глазом — горы, море, Кубань и та самая дорога «между морем и горами», о которой рассказывал Серафимович в «Железном потоке».
Своим рождением и становлением город обязан Серафимовичу. Случилось это так. В 1933 году Советское правительство решило отметить заслуги писателя перед народом и дать его имя одному из городов на юге. Так рядовая станица Усть-Медведицкая превратилась в город Серафимович. А писатель стал первым гражданином новорожденного города, депутатом городского Совета, и, следовательно, на него легли и ответственные обязанности. Так он считал и так действовал.
Серафимович мечтал о создании в новом городе межрайонного культурного центра с техникумами, театром, Домом культуры, большой библиотекой и т. д. Он добивался дополнительных ассигнований, по его настоянию в план строительства вводился ряд объектов — водопровод, Дом культуры, Дом санитарной культуры. Он отдал в городскую библиотеку свою личную, состоявшую из нескольких тысяч томов. Он покупал подарки для детей в детдомах, помогал студентам техникумов. К нему шли и ехали жители окрестных хуторов с жалобами и просьбами.
Война принесла городу много бед, разорила его дотла. Писателю было уже за восемьдесят, когда он военным корреспондентом «Правды» приехал сюда после освобождения. И он снова обращается в разные учреждения, потому что нужно было налаживать мирную жизнь. Одним из первых был восстановлен детдом для детей погибших воинов…
Промышленность в городе невелика: кирпичный завод, деревообделочный цех (выпускает он лодки, каркасные домики, диваны, зеркала), галантерейная фабрика, делающая из обыкновенных речных ракушек чудесные перламутровые пуговицы, маслозавод, пищекомбинат.
Серафимович мечтал превратить Усть-Медведицкую в город-сад. Он знал, сколь трудна эта задача. На песчаных почвах, на глине нелегко вырастить дерево, и ветры здесь очень жестоки. Борьба с эрозией почвы в Серафимовичском районе пока все еще мало эффективна. И все-таки зеленые заслоны все увереннее начинают противостоять песчаным бурям. Есть неподалеку от города урочище, которое стало недавно именоваться Комсомольским. Восемь тысяч саженцев тополя посадила там весной 1968 года молодежь города Серафимовича в подарок к столетию со дня рождения Ильича.
Не так уж много у нас городов, носящих имена писателей: Горький, Ивано-Франковск, Джамбул, Серафимович. Каждый из них обязан своей судьбой большому писателю, прославившему родную землю. Каждый так или иначе воплощает в своих буднях то, чему посвятил писатель свою жизнь и свои книги.
Господствующая высота
За Родину, за Клетскую,
За власть Советскую!
Из стихотворениялейтенанта К. Воронова,напечатанного в газете Н-ской дивизиилетом 1942 года
В излучине Дона, от Серафимовича до Калача, я видел много старых, затравевших, осыпавшихся окопов. И всюду — обелиски, иногда безымянные, но всегда ухоженные, нет им счета. В минувшую войну здесь решались судьба Сталинграда и судьба России.
Шесть долгих месяцев не утихали бои в излучине Дона, и вряд ли можно найти на земле такой небольшой по военным понятиям плацдарм, как Клетский, — весь он был десятки раз вспахан и перепахан снарядами и минами.
В 1943 году здесь не оставалось ни кустика, ни деревца, лежала мертвая, безжизненная земля, и не хватало снега, чтобы прикрыть ржавый металл, сеявший смерть; не было дорог и пашни, потому что их отняли минные поля, опоясанные колючей проволокой; не было ни одного дома, потому что все жилые и нежилые постройки пошли на дзоты и блиндажи. После войны казаки долго еще хоронили на станичном погосте детей, подрывавшихся на этих минах.
И еще мне рассказывали о том, как в августе 1942 года выручил наших солдат крохотный, неприметный родничок возле самого Дона. Силы у немцев было много — танки, самолеты… Улицу за улицей приходилось оставлять врагу. Три дня держались красноармейцы, без хлеба, без воды, не было уже таких, кого миновали бы осколок или пуля, из сил выбились, а все-таки не сдавались. Под вечер третьего дня замешкались немцы, а наши этим воспользовались. Обмыли возле криницы раны, перебинтовали кого нужно, собрались с силами да и двинули ночью в атаку. Сбросили с высотки немцев и уже не отдавали ее, пока не ушел отсюда последний фриц.
Этот родник возле Клетского почему-то зовут Сестринским. Наверное, в память о безвестных медсестрах, спасавших воинам жизнь. Холодная хрустальная вода ломит зубы. Поднялся я на скромную высотку — ту, что задержала наступление немцев. Тогда, в 1942 году, она звалась просто высотой 115,2, а теперь носит имя Одиннадцати павших героев. Одиннадцать имен высечено на обелиске, их установили юные следопыты из местной средней школы. И новые улицы в станице носят имена тех, кто до последнего патрона сражался на этой господствующей над окрестными местами высоте. Еще и сейчас встретишь здесь следы памятного боя — источенные ржавчиной обрывки пулеметной ленты, позеленевшие гильзы… Одиннадцать человек держали в руках высоту — десять солдат и двадцатилетний лейтенант из Баку Михаил Карибов, — а немцев было триста…
Карибов чудом оказался жив, он приезжал недавно в Клетскую.
Когда кончилась битва за Сталинград, в Клетской не оставалось ни одного уцелевшего дома. Нелегко поверить в это, увидев нынешнюю станицу, вернее, рабочий поселок Клетский. Все отстроилось заново и добротно, в том же отличном порядке, как прежде. Говорили, что станица с самого своего рождения строилась на сваях, своеобразными «клетками», а потом такими же клетками переселялась на незатопляемые места. Улицы в станице строгие, прямые, как на шахматной доске, не найдешь здесь закоулков и закутков. Сберегли казаки облик старых своих куреней в два этажа, с зимней и летней половиной, с крылечками, с резными ставнями-наличниками, с погребами-выходами на левадах, с плетнями вместо заборов.
После освобождения станицы кого только могли, даже женщин, посылали в Кировскую и Архангельскую области на лесозаготовки, везли вагонами лес до Арчеды, а потом на коровах в Клетскую. Тогда на коровах и пахали, и грузы возили да еще и кормились от них. Казалось, война смела все живое, а люди вернулись на родные пепелища, чтобы жить, и даже кресты на родительских могилах поставили новые…
Клетский много строит и сегодня, сохраняя в облике особый донской колорит. Здесь много зелени, света и еще той будничной неповторимости, которая характерна для любого районного центра.
Под Клетским, у хуторов Верховского и Саушинского, крупные месторождения природного газа. Уже больше десяти лет газ идет отсюда по трубопроводам в Волгоград. Здешний совхоз по технической оснащенности стал одним из самых мощных хозяйств в области.
…У прораба «Межколхозстроя» Степана Банду ренко, с которым я познакомился, мальчишка-шестиклассник. Когда приезжал в поселок Карибов, хвалился дружкам: а мой отец тоже воевал за Клетскую, только в другом полку. И еще дедом похваляется — Иваном Зотовым, он с Подтелковым вместе казнен. Мечтают ребята Вечный огонь на сопке Одиннадцати героев зажечь. Самим не под силу такое, взрослые обещают помочь. Ох, как пылал бы этот факел на господствующей высоте!
Он будет пылать, обязательно будет!
На пристани в Перекопской станице провожали солдата-отпускника, приезжавшего на побывку. Захмелевший парнишка в ладной гимнастерке неловко обнимал старушку-мать, дружок растягивал меха трехрядки. Подле матери была еще девушка с красными от слез глазами, в вышитой кофточке — кто она, невеста или сестра? И родичи, все больше пожилые, деды непременно в фуражках с малиновым околышем. Заунывно, тягуче заводили песню про казака, скакавшего через долину, и никак не могли дотянуть до припева. Потом начинали новую, и опять срывались голоса: непросто сыграть песню в расставанье…
Сколько их, величаво-задумчивых, тревожащих душу песен, довелось слышать мне в дороге. Словно буйное разнотравье, заполнили песни, не похожие одна на другую, всю жизнь казака — от рождения и до самой смерти. О горе ли, о счастье, о трудной дороге или о заветной мечте по суженому — каждая из этих песен напоминает неповторимый и хрупкий цветок, который вырос не в привольной степи и не в левадном затишье у Донца, Чира или Каялы-Быстрой, а в большом человеческом сердце.
Одну из этих песен приходилось мне слышать чаще других — про Ермака Тимофеевича. Сказов, бывалыцин, легенд про него я тоже слышал немало. И поэтому, покидая станицу Перекопскую, мне захотелось заглянуть в Качалинскую, где служил когда-то Ермак, еще до похода в Сибирь, старшиной.
Дон в здешних местах, как нигде, безлюден — склонились вековые дубы над тихими омутами, и редко-редко потревожит тишину рыбацкий баркас или катерок со случайными пассажирами: неблизка водная дорога по излучине, предпочтительнее ехать по прямому шоссе автобусом. Торопятся люди жить, и некогда им в будничной спешке любоваться красотами природы…
Правобережье изрезано оврагами, балками, а на левом берегу — густые, тяжелые пески. Теснят они Дон дюнами, а по весне, когда гуляет полая вода в долине, отступают, чтобы снова летом, будто исподтишка, вплотную подобраться к реке. Многими годами, десятилетиями продолжается это единоборство, а Дон все же сильнее.
Но вот уже и Иловля — не река, а целое озеро. Знаменитая «переволока», на которую возлагал надежды Петр Первый, мечтавший соединить Волгу с Доном. Озеро-то озеро, только глубины для судоходства не годятся: мелко. Считают, что прежде была Иловля притоком Волги. Есть у Волги приток Камышинка, и отстоят его истоки от Иловли на каких-то пять верст. Это и подкупило Петра. Весной 1697 года собрал он на земляные работы по устройству канала тридцать пять тысяч человек. Проект Волго-Донского соединения был одобрен даже Парижской академией наук. Это был беспримерный по жестокости и безнадежности труд: расчеты оказались неверными, и канал построить не удалось. Остались на берегах Иловли с той поры земляные валы, да и только…
Но «переволока» все-таки пригодилась. Поднимались с Волги по речке Дубовке корабли, вытаскивали их потом на берег, ставили на колеса и быками тащили по степи до Качалинской пристани. Суда покрупнее даже разбирали. Существовала «переволока» вплоть до середины прошлого столетия.
…В Качалинскую я добрался уже перед вечером: немало перекатов пришлось одолеть катеру, наступают повсюду пески на излучину Дона. Станица маленькая, куреня все ветхие, но стоят наперекор времени. Старенькая школа, где был когда-то учителем Павел Николаевич Бахтуров, впоследствии комиссар в Первой конной армии и поэт; песня его «Из-за леса, из-за гор» обошла все фронты гражданской войны.
Майдан, где когда-то вручили Ермаку старшинскую насеку… Наивно было бы искать что-нибудь сохранившееся с тех времен.
Но не подвластен забвению человек, который вышел из этой вот вроде бы неприметной станицы. Века прошумели над старым майданом, а память о нем живет и долго еще жить будет.
На Сталинградском направлении
Пал храбрый командир полка
На высоте у Сталинграда.
Мемориальная доска
Вросла в кирпичную ограду.
Четыре строчки из металла —
Суровый боевой рассказ.
Как это много и как мало
Для тех, кто зелены сейчас…
Эдуард Пашнев
Степь, без края и без начала, вся на балках и оврагах, вплотную подступает к Дону. Озорует по ней горячий ветер, шелестит в береговых зарослях темно-бурыми шишками рогоза. Удивительное это растение — рогоз. Встретишь его и в тропиках, и на студеном севере. Помнится, мальчишками по весне мы выискивали молодые побеги рогоза, чтобы полакомиться сладким корнем. Став постарше, плели из него коврики и корзинки. В станице у нас крыли рогозом крыши, вили налыгачи[6] для быков. А колосья его всегда украшали букеты цветов. Если же набить рогозовым пухом подкладку пиджака, в воде не утонешь, будет лучше любого спасательного пояса. В такой «одежке» можно учиться плавать.
Блеснула впереди озерная гладь — это устье Паньшинки, или Сакарки, как еще зовут ее. Река сплошь из глубоких омутов, соединенных протоками. И дно песчаное, чистое, видно, как мальки резвятся. Настоящий рай для рыбаков-сомятников. Тоже знаменитая речушка — в старину по большой воде поднимались казаки в верховья Паныпинки, потом волоком тащили струги к Пичуге — волжскому притоку. А уже оттуда — на Каспий и в Персию.
Сам городок Паньшин в ту пору был маленьким, его окружал бревенчатый тын с косыми башенками, и похож он был на игрушку, всеми заброшенную. А стал столицей Степана Разина — сюда стекались тысячи казаков и работных людей.
Ничего не осталось от крепостных стен и бревенчатых башенок в Паньшине, и самому старому куреню в хуторе не насчитаешь сейчас больше пятидесяти лет. Так уж выходило, что в самые ответственные моменты истории оказывался древний казачий городок на перепутье ратных дорог и полыхал, точно костер, а на курганах окрестных оседал горючий пепел, с кровью перемешанный. Мстили Паньшину царские воеводы за Разина, а потом за Булавина. В революцию белый атаман Краснов сжег хутор за то, что ушли казаки к Ворошилову. А в Великую Отечественную у хутора держали фронт защитники Сталинграда.
В стороне от хутора — крохотный зеленый оазис: семейство диких яблонь; стройные, точно солдаты, деревца высоко всматриваются в небо. Под кронами мраморный памятник с золотыми буквами — это тем, кто погиб осенью сорок второго. А рядом еще одна могила — ромб из речного песчаника, на нем фотография девушки. Здесь похоронена Гуля Королева. Та Гуля, что известна всем мальчишкам и девчонкам, ровесникам военных лет. Все они зачитывались книгой про Гулю (Марионеллу) Королеву — «Четвертая высота».
Девятого сентября, в день рождения Гули, каждый год приходят на эту высоту паныпинские ребята повязать галстуки тем, кто вступает в пионеры. По традиции вожатый рассказывает им о жизни и смерти Гули, читает последние ее письма (они хранятся в хуторской библиотеке, эти письма-треугольнички без марок). Библиотека называется именем Гули и была основана в тот год, когда паныпинцы праздновали Победу и Гулин отец — Владимир Данилович Королев — подарил хуторским ребятам книги.
…Невысокий курган у хутора — можно проехать или пройти мимо и не заметить его, а как много значил он в суровое для страны время! Смерть и кровь, общая беда и единая дума, один сухарь на всех и последний окурок — все это было на Сталинградском направлении, на этой иссушенной зноем земле, на этих низких холмах по всему левобережью, где сторожат теперь вечный сон погибших большие и малые обелиски с венками на звездочках. Имена на табличках русские и украинские, армянские и узбекские… А вот испанское имя: Ибаррури Рубен Руис, гвардии капитан. Нет, его прах покоится не здесь, а в Волгограде, на площади Павших борцов. Здесь под Паныпином, у хутора Власовка, он погиб той же тревожной осенью. Командовал пулеметной ротой, отбил пять атак, а когда убили комбата, повел за собой в атаку батальон.
Еще один рубеж обороны Сталинграда — хутор Вертя-чий. Узкие, вертлявые улочки петляют вкривь и вкось, кружат по песчано-суглинистым увалам и холмам. Наверное, неспроста хутор и называется так: пойдешь бродить, «вертячиться», непременно заплутаешь. «Мышеловка», которую наши войска устроили Паулюсу с трехсоттысячным войском, захлопнулась именно в этих местах.
В этом хуторе была у меня встреча с донской стариной, давней-предавней. Попутчиком моим в автобусе оказался кряжистый старик-казак с окладистой, аккуратно причесанной на пробор и чуточку подстриженной бородой, в плисовом пиджаке-тройке и картузе. На священника вроде бы не похож, размышлял я. Кожаный баул, какие давно вышли из моды, расшитая славянским крестом рубашка, из кармана выглядывал цветастый носовой платок и часы с цепочкой…
— Санищев Игнат Савельевич, — подал он широкую ладонь. — Прадед мой из этих мест.
Прадед его был из Голубинской — станицы, которая на противоположном берегу. А правнук ехал туда через Калач-на-Дону с Кубани. Всего только два года, как вернулся из Турции. Живет в Левокумском совхозе, который на Кубани, дом ему построили, один сын на тракториста учится, другой — чабан. Сам плотником работает. Вот получил отпуск, собрался посмотреть те станицы, откуда Игнат Некрасов уводил их после поражения булавинского восстания с Дона в Турцию — от царской расправы. Сохранили казаки на чужбине и родной язык, и обычаи, а внуки вернулись недавно на родину. Хотел Санищев и в Волгограде побывать.
За разговором не заметили мы, что начался уже за окном автобуса город Калач-на-Дону. Санищев легко поднялся с кресла, застегнул пиджак.
— Будете в Черкасске, домику булавинскому кланяйтесь. Слышали мы, доныне стоит…
— Как же, стоит…
…В гостинице я долго еще думал о встречах, выпавших мне в этот день. Санищев родился и вырос в Турции, а родиной считает Россию, Дон. А Рубен — сын Пасионарии — не пожалел жизни за русскую, донскую землю, потому что дорога на его родину начиналась здесь. У Гули Королевой было проще — русская, она не могла примириться с мыслью, что родную землю топчет враг.
Вот какое оно, чувство родины!
Голубой лампас Волго-Дона…
…А городок вокруг горы свернулся
По летнему и пылен и горяч,
Молочный, хлебный, яблочный, медовый,
И зноем подрумяненный, подовый,
Лежит от солнца золотой Калач!
Геннадий Лутков
До самого утра не гасли на рейде прожекторы, громыхали лебедки и краны, ни на одну минуту не утихала беспокойная, натруженная жизнь порта. Калач-на-Дону — не маленький порт: с пяти морей (а если считать морем еще и Цимлянское водохранилище, то с шести) приходят сюда корабли, баржи, танкеры, сейнеры и иные плавучие великаны и малютки, включая доки и плоты. Калач — узел водных путей, перевалка.
Собираясь в путешествие, я листал старые справочники, искал толкование необычного имени, которое носит город. Само слово «кала» («кале») нерусское, пришло к нам из тюркского языка и означает «укрепленное место», «крепость». Но по Далю, «калач» — пшеничный сгибень с дужкой. На такой сгибень как раз похожа излучина Дона, круто огибающая место, где стоит город.
На Дону три Калача, но только один из них — порт. Первый — совершенно сухопутный — в Воронежской области, на пересохшей речке Толучеевке. Другой — в Ростовской, тоже стоит на некорабельной речушке Куртлак (приток Чира). С третьим мне предстояло сейчас познакомиться. Я знал, как писал об этом городе почти восемьдесят лет назад Короленко. Города, впрочем, тогда еще не было, как не было и порта. А «тихий Дон, краса полей», показался Короленко настоящей лужей. Вот что писал он домой из Калача: «Стоим на мели вот уже часа полтора… Как утром я удивлялся искусству, с каким наш капитан проползал по узкому ручейку, стиснутому со всех сторон мелями… Воды мало в Дону. Ходи хоть пешком!»
Городом Калач стал два десятилетия назад. А прежде числился хутором Пятиизбянской станицы. Была в хуторе маленькая пристань, ходили (больше в половодье) суденышки да баржи-плоскодонки. До революции торговали купцы лесом (везли его сюда с Волги), хлебом, арбузами и арбузным медом (его даже за границу вывозили). После революции облик хутора мало изменился. Наверное, так и остался бы он хутором, если бы не Волго-Донской канал и Цимлянское море.
Соединить Волгу с Доном люди мечтали давно. Возле Новомосковска есть остатки шлюзов, понастроенных еще Петром Первым, — он хотел пустить корабли на Дон с Оки. Строил еще Петр каналы и на Паньшинке, и на Иловле, и возле Камышина, но ни один из задуманных проектов себя не оправдал.
Не по плечу были старой России такие грандиозные сооружения, а человек все-таки не опускал рук. Одна за другой шли в сухие степи между Доном и Волгой экспедиции одержимых мечтателей. Бушевала гражданская война, Царицын был в белом кольце, а они продолжали изыскания. В Музее обороны Царицына — Сталинграда есть любопытная записка. Инженер из Сарепты уведомлял штаб Десятой Красной Армии, что ввиду мобилизации рабочих изыскательской партии в отряды обороны он вынужден прекратить проектные работы по Волго-Дону. На записке — резолюция: «Канал пророем после утопления кадетов в Волге и Дону. Сталин, Ворошилов».
Человек создал Цимлянское море и прорыл канал между Волгой и Доном за три-четыре года. И какое море! Не мельче Азовского, площадью две тысячи шестьсот квадратных километров, глубиной до двадцати метров. Гуляют на море настоящие волны, и в непогоду даже большие суда торопятся укрыться в защищенных от ветра убежищах.
Родилось в степи море, и неузнаваемо изменились окрестные места. Бывало, прежде уже в июле здесь дочерна выгорала степь, трескалась от зноя земля, мелел, обнажая песчаные лысины, Дон. А теперь любо посмотреть: бархатным ковром укрылась степь, тут и там появились озера и заливы, мягким, почти морским, стал климат. Басовито разносятся по степи гудки пароходов, и чайки, никогда прежде не залетавшие сюда, гомонят на рейде.
…Всю ночь не утихала в порту жизнь. На рассвете уже снимались с якорей баржи с углем, рудой, комбайнами, котлами — они направлялись на Волгу. Уступая им дорогу, готовились швартоваться танкер с каспийской нефтью и целая флотилия плотов с Камы. Чуть поодаль перегружалась из баржи прямо в вагоны пшеница — пошел хлеб нового урожая. Сорок вагонов хлеба в сутки! Да еще столько же отправляется водой по каналу на Волгу без перегрузки в вагоны. А всего за уборочную страду успевают здесь переработать почти шестьдесят тысяч тонн зерна. Купцам-воротилам, что хозяйничали здесь шесть десятков лет назад, такие масштабы и не снились.
В последнее десятилетие Калач-на-Дону стал еще городом кораблестроителей. Порт и завод рядом. В этот ранний час улицы были еще безлюдны: до гудка на смену оставалось больше получаса. Сквозь ажурные переплеты металлических конструкций, укрытых стеклом и бетоном, видно было, как тянулись к солнцу пальмы и еще какие-то огромные цветы в кадках. Завод-сад, в котором выстроились в шеренгу вычищенные до блеска станки. Не для парада — для работы. Зелени столько, что трудно поверить: еще недавно на месте завода гоняли сухие ветры по песчаным бурунам перекати-поле да пересвистывались суслики…
Волга на сорок с лишним метров ниже уровня Дона. Если бы Петру Первому удалось прорыть самотечный канал в этих местах — это было бы катастрофой: Дон стал бы впадать не в Азовское море, а в Волгу. Волго-Дон — это сложная система шлюзовых лестниц и водохранилищ. Мощные насосные станции подают донскую воду на высоту почти в сто метров, а затем она опускается вниз. Все гидросооружения здесь добротны, просты, изящны, выстроены на века. И поселки на берегу канала уютные, зеленые, воздух в них чистый, прозрачный, как на курорте. Я доехал автобусом до Ильевки и, честное слово, позавидовал тем, кто живет и работает здесь. Увитые плющом коттеджи у берега, сады, сады и снова сады, асфальтированные дорожки среди зелени, клуб, школа, детский сад, больница…
«Улица Приморская», — читаю табличку на перекрестке. Дворы выходят к самому Дону, почти в каждом лодка-моторка, у иных даже яхты. И морские дали отсюда видны. Живут в поселке не только эксплуатационники Волго-Донского канала. Сразу за каналом начинаются земли колхоза «Россия». А по другую сторону — поля ордена Ленина совхоза «Волго-Дон». Того самого, что на всю страну славится богатыми урожаями на поливных землях.
Земли здесь неважные, прежде росла на них одна полынь. Когда закладывали Волго-Донскую оросительную систему, остряки шутили, что вода вообще-то в этой степи может, конечно, пригодиться — кирпичи делать. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, говорит пословица. Так вот, в 1968 году поливные гектары дали по двадцать центнеров зерна, по четыреста — помидоров, по триста — огурцов, по пятьсот центнеров капусты. Два куста помидоров — и ведро плодов, мясистых, тугих, разломишь — мякоть серебристая. Лучше этого сорта — «Волгоградский», — говорят, во всем Поволжье не найти. Может быть, год был особенным? Нет, не очень засушливый, но и не дождливый. Просто орошение обновило землю.
…Три магистрали идут рядом — водная, железнодорожная и автомобильная. Ажурные арки мостов, увенчанные скульптурами ворота шлюзов, линии электропередач и — поля, зеленый пышный ковер, поднятая целина. Говорят, если смотреть на канал с самолета, он похож на казачью саблю, разрубившую пополам эти степи, а еще на казачий лампас, только не малиновый, а голубой.
Иное время — иные краски.
Спасенная криница
Если ты бывал хоть раз за Доном
Если поднимался выше к солнцу,
Если лазил по сыпучим склонам,
Или воду пил не из колодца,
А горстями черпал ты из Дона,
Пил ее, как животворный сок,
С жаждой уходил неутоленной
И никак насытиться не мог, —
Ты полюбишь навсегда, конечно,
Эти балки с сонными ветрами,
Перелески в птичьих перезвонах
И терновник, спелыми глазами
Голубеющий на рыжих склонах.
Лариса Любимова
У хутора Ляпичева — там, где изливается в степное море задумчивая речушка с красивым и звучным именем Царица, — есть на крутоярье обелиск из красного кирпича. В дожди и ветры, зной и стужу этому немому стражу никогда не суждено покинуть скорбный свой пост. Забредет сюда случайный путник, увидит безымянную могилу, еще и еще раз перечтет высеченные на камне два слова: «Русский солдат» — и долго будет стоять, обнажив голову.
С самой весны, едва сбросят окрестные курганы белоснежное покрывало, сбираются сюда несметные косяки чаек. Порыжевшие от прошлогодней травы, изрезанные балками берега, еще не успев нарядиться зеленью, уже щедро дарят людям лазоревые цветы — бледно-голубые, словно морские дали, желтые, как чистейший песок на морском берегу, и ярко-красные, будто горячая кровь, пролитая здесь безымянным солдатом.
Его зовут безымянным, и матери солдат, которые не вернулись с войны, чьи могилы затерялись на ратных дорогах от Сталинграда до Берлина, думают, что здесь похоронен именно их сын.
Его зовут безымянным, а мне не хочется считать его таким. Я знаю: в этих местах погиб Володька Вышкворцев, парень из нашей Морозовской станицы, крестник Коли Руднева. Володька и родился здесь, в окопах у хутора Ляпичева, осенью восемнадцатого, и погиб в этих местах спустя двадцать четыре года — осенью сорок второго. В своем путешествии я был на родине Коли Руднева — в Люторичах. А теперь пришел на твою родину, дорогой мой сверстник и товарищ юности, и на твою могилу… Здравствуй, друг! Горька наша встреча, я намного старше тебя сейчас. Слышишь, я в долгу перед тобой. За все-все, ради чего пролилась твоя кровь. Все мы в неоплатном долгу перед вами, не вернувшимися с войны…
Молчат камни, молчит река — тихая, мелкая, хрустальная Царица, давшая некогда имя большому городу — нынешнему Волгограду.
Легендарна земля в этих краях — скупая, суровая, с горячими ветрами, не стихающими с весны до осени, с метельными вьюгами от ноября до самого марта. И каждая пядь этой земли — живая история.
За Ляпичевым — разъезд Ложки. Два кирпичных домика, садовая куща посреди полынной степи. Здесь мост через Дон. Точнее, мост через море, оно еще узковато в этих местах, не то, что ниже, около Цимлянска. Мост новый. А рядом остатки каменных быков прежнего моста, того самого, что взорвали белоказаки в 1918 году, когда пытались задержать армию Ворошилова, пробивавшуюся из Луганска на помощь красному Царицыну. Специалисты утверждали тогда, что для восстановления моста требуется полгода, а ждать было нельзя. И мост был восстановлен через две недели. Строили его простые плотники — днем, ночью при кострах, разбирали вагоны для настила. Не спали женщины и дети: они тоже помогали красноармейцам…
Когда разливалось Цимлянское море, нужно было навести новый мост. А опоры старого, что восстанавливал когда-то Ворошилов, оставили как памятник народному подвигу.
Но вот и Чир. Я видел его в верховьях — у Боковской. Там он ручеек, а здесь, возле Суровикино, — настоящий морской залив с катерами и пароходами. Крутые берега, извилистое русло и пески, пески по всему левобережью. Отмели тоже песчаные, жирует на них рыба. Берега зеленые, здесь даже сосны растут. Откуда они?
…Еще не было моря в степи, и Чир был просто пересыхавшим в летнюю жару притоком Дона. На него наступали пески. В хуторах Паршине и Караичеве с весны по самые окна засыпало песком казачьи куреня. Исчез старый пруд, который с давних пор славился карпами. Бесплодными становились некогда плодородные земли. А пески все ближе надвигались к реке, и, казалось, уже нельзя было их остановить. И тогда обессиленные люди отступили, переселились на правый, более высокий берег Чира. Перевезли куреня со скарбом, амбары, скотные дворы. Только надолго ли? Через год и сюда уже заносило целые тучи песку…
Не случайно избрал это место для своего опорного пункта Всесоюзный научно-исследовательский институт агролесомелиорации. Приехал в эти места и агроном Григорий Федорович Жуланов.
Еще до Жуланова здешний колхоз «Вперед к коммунизму» пытался приостановить гибель своих полей. Расходы были немалыми, результат — ничтожным. Из года в год обрабатывали плодородные супеси по системе черного пара, культивировали их весной и осенью, но почва от этого еще больше приходила в движение. Выдувало посевы ветрами, заносило пыльными бурями.
Жуланов решил вырастить на них лес. Но как? Чтобы саженцы пошли в рост, нужно было сохранить при обработке песка влагу, не позволить ветрам выдувать все живое вплоть до колючек и перекати-поля. Если можно сделать это, скажем, в Подмосковье или в средней полосе России, где почва влагой в общем не обижена, то откуда взять ее на открытых злым каспийским ветрам, ровных, как стол, степных просторах Придонья?
Хитрого вроде не было ничего: песчаные почвы обрабатывались полосами шириной от пяти до десяти метров, а соседние полосы в двадцать — двадцать пять метров шириной не обрабатывались вовсе. На полосах, вспаханных плантажным плугом, высаживалась сосна. Гектар за гектаром отвоевывал агроном у песков. Терпеливо искал наиболее выгодные породы сосны, акации, ясеня, фруктовых деревьев, кустарников. И пески остановились. Зеленый заслон преградил им наступление на реку. Целых две тысячи гектаров занимает теперь Обливский лес…
В Калаче-на-Дону говорят, что будто бы исчезает донской арбуз. Не исчезает он — просто меняет свою «географию». Я видел, как грузили в пульмановские вагоны на разъезде Паршине арбузы, выращенные на участках опорного пункта. Отборные, тяжелые — каждый едва не в полпуда весом, такой в «авоську» не уместится. Это сорт «обливский» — он светлее обычных, с голубоватым блеском, а мякоть у него красная и будто посыпанная сахарной пудрой…
Там, где прежде гуляли черные бури, где само понятие «почва» считалось весьма условным (ведь толщина песчаного слоя у Чира достигает тридцати метров), человек вышел победителем из единоборства со стихией.
Опорный пункт Жуланова будто оазис в степи. За ним снова пески. Надрывается мотор у газика, мелкой пылью покрыты придорожные лесные полосы, въедливый песок пробирается за ворот рубашки, набивается в складки одежды…
Но вот уже в знойном мареве выросли очертания нового высокого элеватора, а за ним показался город Суровикино. Я не был здесь четверть века, с войны: вместо полуразрушенных сожженных домиков большие строения из белого кирпича, сосновый парк на окраине, асфальт на главной улице, уютная гостиница с рестораном «Колос»… В минувшую войну Суровикино — тогда еще поселок — стоял на пути танковых полчищ Манштейна, рвавшихся на выручку гитлеровцам, окруженным под Сталинградом. Остовы труб да обугленные стены — вот что оставалось от поселка. А теперь — утопающий в зелени город.
Суровикино — город и одновременно большой совхоз. Он так и зовется: совхоз «Суровикинский». Есть свой молочноконсервный комбинат, овощеконсервный завод. Так что продукцию не приходится возить за тридевять земель, ее тут же, на месте, перерабатывают. Каждый день цепляют к поезду два-три вагона с банками сгущенного и сухого молока, знаменитого «донского салата» и других деликатесов.
…В устье реки Чир — один из крупнейших на Цимлянском море порт Нижний Чир. От Суровикино это километров сорок. Во время путешествия, впрочем, приходилось видеть мне и короткие и долгие километры. Не километрами я мерил дорогу, а тем, что было в пути интересного. И конечно, всю дорогу казалось, что мимо чего-то очень интересного проехал, не заметив и даже не разглядев…
Нижний Чир был когда-то гремевшей по всему Дону станицей, районным центром. В летописях, относящихся к 1672 году, упоминается Чирской городок в урочище Остров. Делился этот городок на две станицы — Верхнюю и Нижнюю. Нижняя сейчас наполовину затоплена морем и перебралась на взгорье. А Верхняя вообще стоит на новом месте. Станичный собор, который когда-то был в центре, сейчас на морском берегу. Рядом затон, убежище для кораблей: в ненастную погоду волны на море случаются до трех метров в высоту.
В путеводителях сказано, что перебралась Нижне-Чирская станица на живописное взгорье. Это действительно так. На каждой улице растут у обочины абрикосы, яблони, вишни; смело подходи, прохожий, угощайся, только веток не ломай.
Когда переселяли станицу, то куреня перетаскивали наверх целиком. Больших, капитальных зданий здесь не увидишь, разве только почта, школа, клуб. Даже амбары купца Парамонова сохранились, их, правда, перестроили в магазины.
Но в Нижнем Чиру жил не только Парамонов, а еще и Парамон Куркин. Не купец, а казак-горемыка. Он организовал в окрестных хуторах Красную Армию Нижне-Чирской советской республики. Два дня продержалась республика, пришлось под натиском белых покинуть родные куреня и уйти в Царицын. В 1919 году Куркин одним из первых в стране заслужил орден Красного Знамени, а К. Е. Ворошилов подарил ему свой бинокль. После гражданской войны Куркин организовал в станице коммуну, а потом в колхозе «Красный Дон» был председателем сельсовета. В Отечественную ему было уже под семьдесят, а все-таки пришел к военкому проситься на фронт. Отказали, конечно. Но подошли к Дону немцы — организовал ополчение, ушел с ним в кавалерийский полк. Шесть орденов и медалей заслужил гвардии майор Куркин.
В ограде у памятника борцам революции я видел свежую могилу, в ней похоронен Парамон Куркин. Наверное, в каждом городе, каждой станице, каждом маленьком хуторе есть такой человек, который делал здесь революцию, отстаивал Советскую власть. В сущности все, что было, есть и будет в этом городе, станице, хуторе, связано с именем такого человека. Для Нижнего Чира это Парамон Куркин.
Казачья Атлантида
Лежат под водою станицы,
Блестит молодая волна,
И мне, пролетевшему, снится
Волны стиховой крутизна.
В станицах тех жили неплохо,
И все же на ту старину
Летящая наша эпоха
Глядит через дней глубину.
Но в новых станицах богаче
Высокие окна горят,
И песни поются иначе,
И волны морские шумят.
Николай Тихонов
Когда еще строилось степное море и станицы переселялись на новые места, слышал я легенду о том, почему не хватало воды в здешних местах. Можно не верить в эту легенду, принимать ее за волшебную сказку, но она очень романтична.
…Было это в совсем давние времена, никто не помнит, когда именно. Дед рассказывал историю внуку, а внук — своим внукам, так и передавали из одного поколения в другое. В ту пору матушка-Волга пробивала себе путь к морю. Через тихие плесы и леса дремучие, через луга и нивы, все к югу да к югу, набиралась сил, красоты, отваги. Только остановилась как-то передохнуть у переката и задумалась:
— Что это я живу горькой вдовицей? Бегут малые речки — милые мои детки, текут Кама с Окой — сестры мои любимые, а вот у меня нет ни братца родимого, ни друга сердечного. Скучно так жить, без своей-то судьбы…
Услышала жалобу Волги Кама-река и ничего в ответ не сказала. А Ока пожалела сестру Волгу и говорит ей:
— Шла я степной дорогою, видела молодца. Всем тебе подстать: и красив, и могуч. Зовут его Дон Иванович. Ты пошли-ка младших детей, пусть разведают, как живет этот Дон в дальних своих краях, как хозяйствует…
Послушалась Волга совета и послала Суру да Свиягу донской стороной пройти, поглядеть, разузнать и доложить обо всем. Только Сура-то недалеко ушла. Увидела: Хопер в чистом поле бежит, подумала, что это сам Дон и есть. Вернулась, говорит:
— Так себе речка, невидная. Совсем не пара тебе, матушка.
А Свияга, та совсем заплуталась: навстречу Волге текла, а Волги за пригорком не видела. Едва с ней навек не разминулась.
А Волгу любопытство одолевает: правду ли про Дон сказывала Ока-сестрица? Нет, думает, нужно самой поглядеть. Повернула к степям. А они-то сухие, безводные, солнце в небе жаром пылает, тучкой никогда не закроется, дождичком не умоется. Только ветер над степями гуляет, да стервятники в небе парят. Донского же племени там три речки текут: Хопер и Медведица с Иловлей.
Хопер первым Волгу увидел. Побежал скорее к старшему брату предупредить: «Готовься, Дон Иванович, гостью дорогую встречать». Заволновался Дон, повернул Волге навстречу да так заспешил, что речку Богучарку второпях задавил: не дал ей ни росту, ни ходу. По сей день живет Богучарка малышкой-невеличкой.
А у Волги кроме родных дочерей была еще и племянница — Ахтубой звали. Уж такая своевольница, рядом с Волгой течет, а с нею никак не сливается. Задумала она тетку смущать:
— Ну чего тебе Дон этот дался? Куда ты идешь, с торной дороги сбиваешься? Неужто одну меня в песках покинешь? Не чужая ведь я кровь тебе, все-таки племянница…
Призадумалась Волга, бег свой замедлила. А Ахтуба, знай, одно и то же твердит:
— Где ж Дон твой могучий? Была б ты мила ему, давно б тебя встретил…
Слово за слово — и разговорила Волгу Ахтуба, полегоньку за собой повела. И потекла Волга в море Хвалынское.
А Дон, как узнал про это, разбушевался, обиделся, разом прочь повернул и ушел в свое море, в Азовское.
Так и разошлись с той поры на долгие годы Волга с Доном, и пролегли меж ними сухая земля да степь ковыльная. Никто не селился в этих безводных местах, пока не пришли сюда кочевники с несметными табунами. Им-то пришлась, видно, по нраву горько-соленая степь…
А дальше уже не легенда.
Если журналистские дороги забрасывают меня в цимлянские края, я обязательно разыскиваю на широких зеленых улицах двухэтажные казачьи дома, переехавшие сюда с того места, где сейчас хозяйничают чайки над водной гладью. Они ничем будто бы неприметны на первый взгляд, эти старые куреня, если бы не большие мраморные обломки в высоких фундаментах. Это все, что осталось от Белой Вежи, от Саркела[7] — хазарской Атлантиды.
Давно обжились на новых местах станицы. Теперь они не просто донские, а еще и приморские. И у каждой свое, непохожее на других, лицо. Новые куреня не чета старым: все под шифером или жестью, затейливо украшены деревянной резьбой, а вместо железного петуха на крыше непременно телевизионная антенна. Много солнца, света, и степь уже не безлесная, как прежде, а с перелесками, густыми рощами.
…Минуем Ильмень-Суворовскую. Капитан — он плавает по Дону третий десяток лет — вспоминает, каким мелководным был прежде Суворовский затон. Если и заходили в него суда, то по какой-нибудь беде. Станичники потешались потом над «моряками», неделями, а то и по месяцу ждавшими, бывало, большой воды, чтобы продолжить плавание.
…Слева по борту станица Пугачевская — некогда Зимовейская. Многострадальная, трижды переселявшаяся с места на место, мятежная станица, из которой вышел Емельян Пугачев.
Столетие спустя после Пугачева из станицы Зимовейской (тогда уже Потемкинской) вышел Василий Денисович Генералов, друг старшего брата Ленина — Александра Ильича Ульянова, революционер-народник. Вместе с Ульяновым он участвовал в покушении на царя и был приговорен к смертной казни. Когда поднимался он на эшафот, рассказывают, крикнул: «Да здравствует народная воля!»
Уже в советское время Потемкинскую по просьбе станичников переименовали в Пугачевскую. И снова — уже в третий раз — перебралась станица на высокий левый берег, теперь уже моря. А чуть поодаль хутор Генераловский, названный так в честь знаменитого их станичника…
А «Метеор» мчится дальше по морскому простору. Где-то здесь, под толщей воды, стояла некогда гордая и воинственная станица Верхне-Курмоярская. В каких только походах не участвовали отважные сыны Дона! Штурмовали под командованием Суворова Измаил и Очаков, били с Кутузовым и Платовым Наполеона. Между прочим, Наполеон, едва не попавший в плен к казакам, сказал: «Дайте мне одних лишь казаков, и я пройду с ними всю Европу».
Я вспоминал об этом, плывя мимо Нагавской станицы. Это отсюда казак Александр Земленухин. Когда армия Наполеона была изгнана из России и русские овладели Гамбургом, с известием об этой победе послали в Англию шестидесятилетнего героя войны Земленухина.
…Станица Баклановская — в честь знаменитого казачьего полководца, освобождавшего братскую Болгарию от турецкого ига, того Бакланова, что был отцом для солдат, но и строго взыскивал с них. В Новочеркасске есть памятник Бакланову из глыбы розового гранита.
…Кривская станица. У самого моря высится обелиск в честь вахмистра Петра Чеснокова — командира казачьей Красной Гвардии, зарубленного бандитами Гнилорыбова в июне 1918 года. Да разве перечесть их, обелиски в память борцов за казачью вольницу, за эту вот крутую волну, что подстать гордому и свободному казачьему сердцу?
За станицей Нагавской снова началась Ростовская область…
Без малого полторы тысячи километров осталось уже позади. А сколько еще предстоит повидать до устья Дона! Вот уже и Цимлянская плотина издали показалась. Вправо от нее, на желтой крутой горе, — город Цимлянск…
Поэма о солнце в бокале
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.
А. С. Пушкин
Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него вносить солнечную силу в души людей!
А. М. Горький
Мне приходилось и прежде бывать в Цимлянске, наездами, но со стороны моря я увидел город впервые. Крутая гора с залысинами желтого песка высоко вздымается над водной гладью, над плотиной, и на самом верху — густо увитые виноградной лозой чистые, аккуратные улицы, домики из белого камня вперемежку с деревянными куренями, а в знойном мареве — убегающие во все стороны балки, вдоль и поперек перепахавшие косогор.
Еще в дороге я перезнакомился с цимлянцами, и каждый из них считал непременным долгом, будто между прочим, заметить, что у них отменные виноградники и что про цимлянские вина сказали доброе слово и Пушкин, и Лермонтов. Помните, их — вина — подавали на балу у Лариных «между жарким и бланманже»? И у тамбовской казначейши тоже… Приезжему этой гордости не понять. Приезжего интересует Волго-Донской канал, его поражают огромное водохранилище и красавица плотина. О вине он спросит мимоходом, не станет допытываться о деталях, потому что, как утверждают лекторы и врачи, а еще и пишется на плакатах, вино — это алкоголь, а алкоголь — зло, с которым нужно бороться.
И все-таки, если вам доведется когда-нибудь побывать в Цимлянске, обязательно загляните к виноделам.
Впрочем, в этом степном городе, наверное, нельзя найти человека, который не был бы причастен к винограду и виноделию. Больше того — вы сможете убедиться, что здесь совсем не в почете водка или самогон. Из безалкогольного сусла цимлянцы делают богатый напиток, веселящий сердце, врачующий недомогания и оставляющий о себе долгое воспоминание неповторимой прелестью подобно степному цветку. Лет сто назад немецкие дегустаторы, знатоки мозельских и рейнских вин, утверждали, будто казаки добавляют в цимлянское вино розовое масло. Ну не чудаки ли? Зачем розовое масло, если сама степь напоила его ароматами чебреца, донника и голубого полынка, дыханием горячего ветра и увядших под солнцем душистых трав.
Словом, знакомство с Цимлянском начал я в этот свой приезд с хозяйства виноделов.
Георгий Корнеевич Калустов — главный инженер нового винзавода, только вступившего в строй, — рассказал столько любопытных вещей, что перевернул все прежние мои представления о вине как источнике бед и семейных разладов. И как ни парадоксально, но после знакомства с этим большим хозяйством почувствовал я себя приверженцем и пропагандистом вин, разумеется, сухих, натуральных.
Я помню, как лет десять назад в Ростове выступал на собрании партийного актива секретарь обкома партии и сетовал, что на Дону мало еще производится овощных и фруктовых соков, а ведь соки — это не что иное как законсервированные, дескать, лучи солнца. И тогда попросил слова Шолохов. «Какие это, к чертям, лучи солнца, товарищ секретарь? — сказал он. — Это скорее отражение луны, а не солнца. Не соки нужно производить, а донские вина, — вот что такое законсервированное солнце!»
Виноградники на Дону известны давно. Еще Страбон видел у греческих колонистов на Дону виноградники — две с половиной тысячи лет назад! И позже, в XIII–XV веках, было на Дону виноделие — им занимались генуэзские колонисты, — это подтверждают раскопки археологов.
В одном из курганов возле Цимлянска как-то нашли античный золотой фиал (кубок). Древний художник точно воспроизвел на нем агрономию своего времени. Виноградные лозы сажали рядом с высокими деревьями, служившими им естественной опорой. Когда дерево умирало, вокруг него подставляли колья, лозы располагались по кругу и принимали форму чаши. На кремнистых землях Эллады и на юге скифской степи — всюду виноградари поступали одинаково.
А потом секрет знаменитой «донской чаши» был утрачен.
Когда строилось море, станицу перенесли из зоны затопления, с левого берега, на восемнадцать километров юго-западнее прежнего места — на крутое правобережье. Здесь-то и возродилась знаменитая «донская чаша». Открыл ее заново цимлянский агроном Яков Иванович Потапенко — признанный в здешних краях ученый, заслуживший теперь уже мировую известность.
Я видел эту «чашу» на цимлянских виноградниках. Если смотреть на плантации сверху, каждый куст образует конус, стоящий острием к земле. Края конусов плотно сомкнуты. Войдет человек под их своды и попадет в тенистые галереи. Жаркий полдень, а здесь прохладно, и в зеленоватом полусвете искрятся тяжелые гроздья. С рассвета и до заката впитывают они в себя солнечные лучи — много солнца. И ухаживать за плантациями нетрудно — по «галереям» свободно пройдет трактор. Ну, а высокое дерево и колья, служившие древним виноградарям, заменили сейчас бетонные опоры и стальная проволока. Зной не иссушит землю: виноград сам прикрывает почву, на которой растет. И очень уж осмысленной представляется, когда осматриваешь «чашу», виноградная лоза: знает верхний усик, где ему ухватиться за опору. Недаром, наверное, Авиценна считал виноград полу-растением-полуживотным.
Но что же такое виноградное вино — врачующий бальзам или зло?
Человек, привыкший к хорошему вину, говорили мне в Цимлянске, человек, знающий ему цену и меру, никогда не пристрастится к водке. Нельзя было не согласиться с этим. Когда поступает на винзавод новичок, его напутствуют не флиртовать с вином. Практически он может пить с утра до вечера, но это и есть испытание его призвания, его характера.
Вино требует к себе очень трезвого отношения, ведь даже лекарство при неумеренном потреблении становится ядом.
Цимлянский завод игристых вин — один из самых уникальных в мире — вырос на берегу моря недавно. Рассчитан он на производство трех миллионов бутылок вина в год. В окрестных хозяйствах сейчас сооружаются специальные подземные туннели, где будет храниться заводское сырье. Виноделие — это целая наука. «Заточение», например, идет вину только на пользу. Юность сменяется зрелостью, грубые, «зеленые» оттенки смягчаются, формируясь в тонкие, благородные тона. Старость для вин — время полной гармонии вкуса и аромата.
Тонкий аромат донских столовых вин не спутаешь с другим. «Пухляковское», «Раздорское», «Сибирьковое», «Красностоп», «Сильванер», «Кумшатское», «Цимлянское»… — у каждого свой аромат, своя прелесть. А сейчас появились еще и новые вина, только что созданные и еще не поступившие в продажу: «Тихий Дон» — сладкое вино темно-красного цвета с бархатистым вкусом, вобравшим в себя сложный букет степного разнотравья; «Изюминка» — золотисто-ян-тарной окраски, наверное, станет настоящей изюминкой среди всех других наших вин; мускаты «Степная роза» и «Букет Аксиньи» поражают своей свежестью. И еще новые вина: «Сармат», «Станичное», «Стременное», «Казачье»… Один и тот же сорт винограда нигде не дает вину того букета и вкуса, какие набирает оно на плантациях донской поймы от Цимлянска до Константиновска. Пробовали эти же сорта разводить в других местах — урожай дают, а вино уже иное-. Нет того аромата, и игра не та. Оставь в бокале глоток цимлянского — целые сутки со дна будут подниматься мелкие пузырьки.
Но многое еще зависит и от искусства винодела. Слово «искусство» имеет здесь смысл, близкий к тому, как мы применяем его, когда говорим о мастерстве художника. Винодел, как и художник, создает новые сочетания запаха, вкуса, аромата. Мне говорили еще на заводе, что не в любом бокале заиграет то или иное вино. Не напрасно, например, изобретатель французского шампанского Дон Периньян вместе с божественным напитком создал и особый бокал для него — фужер, похожий на лилию.
Тридцать две медали присуждено донским винам на международных выставках, в том числе семь золотых, двадцать одна серебряная, четыре бронзовые и самая высшая в мире награда — «Гран при».
В опорном пункте под Цимлянском вырастили несколько лет назад тяжелые, сочные гроздья нового сорта «цимладар», дает он по сто — сто двадцать центнеров ягод с гектара!
Вот как складывается поэма о солнце в бокале…
А не слишком ли я увлекся рассказом о виноградниках? Все-таки Цимлянская давно уже не станица, а большой город, в котором можно увидеть много интересного. Правда, городом она стала лишь в 1961 году, когда обжилась на новом месте. И славится теперь не только вином. Есть здесь не только уникальный винный завод, но еще рыбозавод, обсерватория. Старая Цимла была одноэтажная, и все куреня опоясывались балконами, назывались они балясами (выходили по вечерам на них станичники и от скуки лясы точили). А на новом месте рядом с куренями, перевезенными с прежних мест, выросли уже многоэтажные дома с газом, канализацией, водопроводом. Не на «балясах» коротают цимлянцы вечера, а у телевизоров, в широкоэкранном кинотеатре, во Дворце культуры, в народном театре. Делают в городе еще и ковры, полыхающие вешними зорями, морскими всполохами, добротные, не уступающие знаменитым «паласам». Мастерицы на прядильно-ткацкой фабрике, где делают ковры, подстать в уменье и выдумке елецким кружевницам. Еще недавно фабрика эта выпускала одеяла — простые, грубые, пылились они месяцами на прилавках. Ковры — дело новое, но уже в 1970 году их изготовлено столько, что хватит сплошь укрыть полы всех квартир в большом городе тысяч на тридцать — сорок жителей.
В Цимлянске прекрасный дом отдыха. Есть своя минеральная вода — не хуже угличской, на ее родниках выросла грязелечебница, построенная местными колхозами. Есть туристическая база «Чайка» — для тех, кто хочет посвятить свой отпуск рыбной ловле и отдыху на воде.
И еще в Цимлянске знаменитая ГЭС. Но об этом — особый рассказ.
Рыба просится в море
Ныне многие жалуются на рыбу, глаголя: «Плох-де лов стал быть рыбе». А отчего плох стал, того не выразумеют: ни от чего иного плох стал быть лов, токмо от того, что молодую рыбу выловят, то не ис чего и большой быть…
И. Т. Посошков
Несколько лет назад в Ростове гостил прогрессивный немецкий писатель Стефан Хейм, автор хорошо известного у нас романа «Крестоносцы». Говорят, он провел целых две смены на диспетчерском пункте «Ростовэнерго»: его удивляло, как это ростовский диспетчер, расположившись в удобном кресле и нажимая кнопки, управляет агрегатами Цимлянской ГЭС — за триста километров от самой ГЭС.
Никакого волшебства, конечно, в этом нет. Цимлянская ГЭС действительно уникальное творение человеческого разума и рук. В большом белостенном зале, сияющем светом, чистотой, почти бесшумно рокочут машины, преобразующие энергию моря в энергию электрическую. И один лишь человек несет вахту — дежурный инженер. Он следит за показаниями сложнейших приборов, контролирует работу автоматических устройств. На одном из щитов читаю надпись: «Автооператор». Это тот самый «электронный мозг», что позволяет управлять всеми процессами на ГЭС диспетчеру, находящемуся на большом расстоянии. Прибор сам запустит стоящую на очереди турбину, наберет необходимую нагрузку, сам остановит, когда нужно, агрегат — все это, минуя дежурного инженера. Стальные мачты высоковольтных передач уходят от Цимлянской ГЭС к шахтам Донбасса, в колхозы Дона и Кубани, к новостройкам, насосным станциям, оросительным каналам. Весь юг Европейской части нашей страны опоясан колоссальным энергокольцом, и Цимлянская ГЭС — составная его часть.
Первый ток ГЭС дала 6 июня 1952 года. По проекту станция должна была вырабатывать четыреста шестьдесят три миллиона киловатт-часов энергии в год. «Можно давать больше», — сказали эксплуатационники. Они довели мощность всех четырех агрегатов до двухсот тысяч киловатт. Ни одной аварии за полтора с лишним десятилетия, ни одного ЧП… Сказывается, конечно, и отличное качество отечественного оборудования, но, главное, все-таки люди. Даже самая совершенная машина не заменит человека.
А люди, работающие здесь, не только любят свое дело, но и не могут представить себя без ГЭС. Иван Титович Плутенко, директор ГЭС, познакомил меня с ветеранами, приехавшими сюда, когда не было еще ни плотины, ни даже первого камня в фундаменте станции. Юрий Пастушенко, Николай Кожанов… Были чернорабочими в котловане, заочно учились, защитили дипломы. Уже и семьями обзавелись…
С полным правом можно сказать, что Цимлянская плотина и ГЭС не имеют себе равных в мире. Земля — на земле, бетон — на скале — неписанный закон гидротехники. Проектировщики бесцеремонно отказались от него и впервые в мировой практике возвели на песчаном грунте столь массивное высоконапорное бетонное сооружение, рассчитанное на пропуск двадцати тысяч кубометров воды в секунду. В считанные месяцы были выполнены поистине фантастические объемы работ: земляных свыше ста пятидесяти миллионов, железобетонных и бетонных — свыше двух миллионов кубометров. Чтобы подготовить для затопления водой дно будущего моря, нужно было вырубить свыше миллиона кубометров леса, переселить на новые места больше семидесяти тысяч человек. На тринадцать километров протянулась поперек Дона плотина, выросли новые поселки, крупные промышленные предприятия, проложены автомагистрали и железные дороги.
А служба на ГЭС все-таки беспокойная. Нужно обеспечить необходимое количество энергии и уровень моря поддерживать — какой положено. Это не так просто, как может показаться. Подсчитано, например, что летом в море испаряется двадцать миллионов кубометров воды. Это столько, сколько приносят ее в течение суток Дон, Чир, Курмоярский Аксай, Цимла, Есауловский Аксай и другие реки, питающие море. Много это или мало? Двадцать миллионов кубометров как раз требуется, чтобы провести, скажем, весной влагозарядковый полив на площади почти в семь тысяч гектаров орошаемых земель. Не может ли море в конце концов обмелеть? Нет, такая опасность ему не угрожает. Во-первых, потому, что во время весенних паводков уровень моря резко повышается. А во-вторых, двадцать миллионов кубометров лишь маленькая частичка общего водного баланса. При таком испарении уровень моря понижается всего на один сантиметр. И все-таки следи да следи, гляди в оба…
А другая, не менее важная, задача энергетиков — помочь рыбе пройти через плотину в море.
Каждую весну белуга, осетр, судак, лещ, донская сельдь и другие породы донских рыб поднимаются в верховья на нерест. Это трудный и долгий путь. А теперь и еще одно препятствие появилось — плотина. Как помочь рыбе? Пришлось строить рыбоподъемник.
Возле ГЭС громадная бетонная чаша. В период паводка здесь собирается столько рыбы, что поставь весло в воду — не упадет. Заходит рыба в коридор, попадает в особый лифт, машина поднимает шлюз с ней на двадцать семь метров, а потом открываются створки и рыба оказывается в море. Задумано интересно, но… проблемы рыбного хозяйства это не решило.
При мне на ГЭС начиналась реконструкция рыбоподъемника. Решили удлинить решетку в лотке. Ведь с будущей весны снова рыба будет проситься в море…
Приходится строить заводы для осетровой молоди, приучать ее к новым нерестилищам. И еще думать о новых породах рыб, которые сумеют «обжить» голубую целину.
Новые водоемы быстро зарастают водорослями, требуют время от времени расчистки. Но море не пруд, его так просто не очистишь. Поэтому появилась в Цимлянском водохранилище рыба-санитар — белый амур. Внешне похож он на жереха, но питается растительной пищей: за день съедает столько же, сколько весит сам. И размножается быстро. И еще одна порода — толстолобик. За четыре-пять лет белый амур может набрать в весе до двадцати килограммов, а толстолобик — до восьми. И кормов в море сейчас для этой рыбы достаточно.
Второе рождение пережил в море и синец. Есть мнение, что это некий гибрид рыбца и леща. Ничего подобного: синец всегда водился в здешних краях. Только когда не было моря, считали его бросовой рыбой, «сорняком» вроде ерша. Мелкий, костистый, он не возбуждал интереса даже у неудачливого рыбака-любителя. А в обширном, богатом кислородом и кормами водоеме синец вдруг стал крупным, с доброго леща, жирным и необычайно вкусным. Словом, превратился в промысловую рыбу. Сейчас он котируется на рынке так же высоко, как и знаменитый азовский рыбец.
Пока не было плотины, рыба веками совершала тернистый путь из Азовского моря к каменистым грядам и галечным россыпям Верхнего Дона. Там, на стремительном течении, она нерестилась, гуляла некоторое время, а потом снова спускалась к морю, к соленой воде. Как же быть теперь?
Решили отловить несколько белуг и перевезти в водаках[8] через плотину в море — Поймали, перевезли. И… рыба исчезла. Неужели вся погибла? А через пять лет у станицы Красноярской поймали маленького белужонка — граммов на четыреста. Как оказался он в море? Из икры, конечно. Решили пересадить еще несколько белуг. Тут уже дело пошло лучше, в невода начали попадать белужата и севрюжата в двадцать, тридцать, сорок сантиметров длины. Цимлянские рыбоводы считают, что осетровые приживутся на новом месте.
Там, где делают кокосовое масло
Чайки кружат
Над палубой скользкой,
Красной песней
Закаты вдали.
Волгодонск —
Ты значок комсомольский
На рабочей
Донской груди…
Аршак Тер-Маркарьян
Все новое необычно. Необычное непременно ново. Волгодонск — новый город, ему чуть больше десяти лет, и потому в нем нет старожилов, нет окраин, никогда не было бараков, именовавшихся на больших довоенных стройках «шанхаями». Город строился вместе с Цимлянской плотиной и ГЭС на голом месте, посреди степи, как главный порт еще не родившегося моря, как крупный узел тогда еще не существовавшей железной дороги из Морозовска на Куберле, как город-сад, где должны жить в домах со всеми современными удобствами речники и энергетики. И еще он строился вместе с химическим комбинатом, тоже рождавшимся на пустыре, в той же бурой солончаковой степи.
Не только в этом своеобразие Волгодонска.
Когда вы ближе познакомитесь с городом и с его людьми, вы станете называть их добрыми волшебниками. Разве можно назвать обычной такую продукцию химического комбината, как… кокосовое-масло? Любой школьник знает, что кокосовые орехи можно найти только в тропиках. Волгодонск даже не субтропики, и пальм кокосовых в нем не встретить (орехи, правда, можно купить в магазине, но не кокосовые), но вот кокосовое масло здесь производят. И оно ни в чем не уступает натуральному — то самое масло, без которого не обходится ни одно предприятие точного приборостроения и в котором нуждаются физики и медики. Еще недавно это масло мы вынуждены были покупать на мировом рынке за золото.
В Волгодонске я был десять лет назад, и мне говорили тогда: «будет», «построим», «сделаем». Не было еще ни этих фундаментов, ни домов — траншеи, горы строительных материалов, башенные краны… Дожди хлестали по корявым буквам на фанерном щите: «Комсомольско-молодежная стройка: комбинат синтетических жирозаменителей». Ветры рвали мокрую парусину палаток, в них жили строители комбината. В непогоду вода заливала траншеи, и насосы не успевали ее откачивать. Потом слякоть сменялась зноем, и не было сладу с песком.
Десять лет — очень маленький срок, но комбинат встал наперекор стихиям, и пески, солонцы, ковыль отступили перед этим гигантом с огромными корпусами из стекла и бетона, с ажурными переплетениями конструкций из металла, с зеленым нарядом, превратившим город и завод в один большой сад.
Я смотрю на цех жирных кислот, и всплывают в памяти кадры из фантастического фильма. Опоясанный трубопроводом из нержавеющей стали, с высоченной трубой, с площадками-палубами, он похож на гигантский корабль, причаливший к городу после перехода через Цимлянское море. То и дело тепловоз подкатывает к этому лайнеру-гиганту вагоны, цистерны, платформы. Каждые сутки один только этот цех выдает продукции на десятки тысяч рублей.
И не одним кокосовым маслом знаменит комбинат.
Представьте себе громадное поле подсолнечника в полтора миллиона гектаров. Его нужно вспахать, засеять, ухаживать за ним, для этого потребуется сто тысяч рабочих. В лучшем случае будет получено триста тысяч тонн растительного масла. Но уйдет оно не на ваш стол, а на производство… мыла. Не могли обойтись до недавнего времени мыловаренные заводы без натурального подсолнечного масла. А теперь комбинат поставляет мыловарам жирозаменители, не уступающие натуральным продуктам, и вдвое-втрое больше лишь за каких-то полгода. Сырья для этого в достатке — отходы нефти.
Еще цехи стиральных порошков для шерстяных и шелковых тканей, жидких шампуней…
Химия в Волгодонске удивительно крепко дружит с морем. Люди берегут море, держат его в чистоте. В прудах, куда комбинат выпускает свои воды, с успехом разводят зеркальных карпов на радость рыболовам-любителям. Решена здесь и другая проблема — сточные воды очищаются от ядовитых солей меди.
Бой за большую химию продолжается — сейчас строится вторая очередь комбината. Бой напряженный, иногда с горькими утратами, без которых, наверное, не обойтись в таком деле. Я видел у комбината обелиск с красной звездой, как на могиле солдата. Вадим Якуба… Нет в городе человека, который не знал бы о его подвиге.
Он приехал в Волгодонск прямо со студенческой скамьи. Уже шел монтаж оборудования, а строители не успевали укладывать бетон, и Вадим сутками пропадал на стройке. И без того нетерпеливые, ребята подгоняли время, чтобы быстрее пустить комбинат. Они поставили раскладушки прямо в цехе, был какой-то запас консервов. И это не было позерством: время торопило. Над Вадимом добродушно шутили: спит без отрыва от производства. 18 декабря 1958 года комбинат дал первую продукцию. И тогда Вадим показал, чего стоит он как инженер. Вместе с Николаем Ржевским и Владимиром Тягуном упростил разработанную в ФРГ технологию дистилляции жирных кислот, сэкономил комбинату большие деньги. У него было семь авторских свидетельств на изобретения. Пиджак, застегнутый через пуговицу, перекошенный ворот рубашки — таким запомнили его, с лирическим беспорядком во внешности, красивым, неуемным парнем. В двадцать семь лет главный инженер комплекса жирных кислот — это что-нибудь значит. Впрочем, у волгодонцев вообще средний возраст — тридцать лет.
Подвиг Вадима стал почти легендой. Когда комбинат набрал высокие темпы, вдруг вышла из строя одна из ректификационных колонн, нужно было останавливать весь цех. А что, если ремонтировать на ходу, как иногда металлурги исправляют свои печи? На это никто не мог точно ответить, потому что не было еще опыта. И тогда Вадим принял смелое решение: под личную ответственность отослал рабочих подальше от опасной зоны и остался с ремонтниками. А у них, как нарочно, не ладилось: заклинилась крышка. Взялся помочь, попробовал сам закрыть, и вдруг огненная стрела, вырвавшись сквозь щель, пронзила его. Нейлоновая рубашка тут же свернулась в обугленные капли. Вадим сам пошел к медпункту, показывая ребятам, что ничего особенного не случилось. А потом… Потом чуть ли не весь город переживал у больницы, знакомые и незнакомые ребята и девушки наперебой предлагали кровь и кожу для пересадки. Друзья дежурили в больнице. Врачи пытались сделать все, чтобы спасти его, и сам он мужественно боролся за жизнь.
Хоронил Вадима весь Волгодонск. Он навечно остался в списках работников комбината. И еще три фамилии Якубов появилось в этих списках. Они не однофамильцы Вадима — три его родных брата приехали в Волгодонск, чтобы заменить погибшего на посту. Валентин Якуба начинал простым рабочим, сейчас — сотрудник Научно-исследовательского института синтетических жирозаменителей (есть уже такой филиал института в городе). Вячеслав Якуба приехал в Волгодонск с дипломом того же Харьковского политехнического института, который оканчивал и Вадим. Сейчас он начальник смены. Николай Якуба окончил школу и тоже приехал в Волгодонск, работает слесарем. Четыре жизни слились в одну судьбу, сделали фамильным ведущий цех комбината.
Волгодонск — город особенный, весь он живет завтрашним днем, и само слово «строитель» произносят здесь с уважением. Строится не только вторая очередь химического комбината, но еще и заводы газовой аппаратуры, трансформаторный, средств автоматизации и дорожного машиностроения, железобетонный комбинат. А кроме того, и мясокомбинат, консервный завод, рыбный холодильник. Проектируется камвольный комбинат. В 1951 году, когда закладывался поселок для портовиков, было здесь две тысячи жителей, а сейчас — двадцать пять. С уважением смотрят люди вслед парням и девчатам в рабочих комбинезонах, припорошенных мелом и алебастром. Это — хозяева юного города.
Те, кто живут в этом городе, подстать морю. «Море для смелых», — назвал свою книгу о молодых строителях города писатель Борис Изюмский, поселившийся в Волгодонске. Наверное, не случайно Юрий Гагарин называл Изюмского одним из любимых своих писателей.
А не много ли похвал расточаю я Волгодонску? Нет, город этого заслуживает. Трудом и делами своих жителей — людей по-настоящему творческих, ищущих, мыслящих. За полтора десятилетия он далеко шагнул в степь и сейчас еще продолжает свой широкий шаг.
Орлиная степь
Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красноглинистых яров, ковыльный простор с затравевшим, гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром молчании берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по-сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей, нержавеющей кровью, политая, степь…
Михаил Шолохов
Орлиная степь… Так называли ее и до Волго-Дона, и в далекую старину. Широкая, спокойная, бесконечная. Бугрятся рыжими шапками скифские и половецкие курганы, шумят желтой кугой пересыхающие озера, глядят бельмами солончаки, и вдруг, посреди степи, прямо под солнцем, в стороне от человеческого жилья, — скрюченная ветрами, изломанная яблонька-дичок… Может, орел занес в клюве сюда семечко? Или путник, спешивший по бездорожью? Вот проросло же, встало над степью и не пугается ни каленого солнца, ни пыльных бурь. Выросло, выстояло, неприкаянное, наперекор стихии…
Все дальше уходит в степь накатанная дорога. Остался позади пятнадцатый шлюз с исполинскими скульптурами донских казаков на вздыбленных конях — память о романтике огневых лет гражданской войны и Великой Отечественной. Минуем и станицу Романовскую — древний казачий городок, основанный три с половиной века назад как пограничный рубеж на юге Руси. Здесь еще один памятник на донском берегу — Ивану Смолякову, секретарю подпольного райкома комсомола в годы фашистского нашествия. Его утопили в проруби…
По обе стороны — куда ни взглянешь — поля и поля. Хороша нынче пшеница в Задонье! Столбы по обе стороны шоссе — энергия Цимлянской ГЭС идет в хутора и на фермы. Ровные и строгие оросительные каналы прорезали степь. А вот остался в стороне поселок из уютных, красивых коттеджей, крытых черепицей. Что это — столько новых домов в хуторе? Нет, это совсем новый хутор, он не нанесен еще на карту. А дома выстроены для колхозников-переселенцев, Приехавших на задонскую целину из Ровенской области. Приехали они лет пять-шесть назад и уже прочно обжились на новом месте. Хозяйства здешние только начинали осваивать орошаемые земли, так что помощь новоселов была очень кстати: самим было бы трудно распахать и засеять залежи. А главное — посеять столько риса, получившего постоянную и твердую «прописку» в донской пойме.
Эта пойма — настоящее золотое дно. Еще накануне войны на XVIII партийном съезде тогдашний секретарь обкома партии Двинский говорил, что здешние земли богаче, чем долина Нила, но обработать их не хватает рук. Рядом Дон, а степь губили суховеи, пока не пролегли от Цимлянского моря оросительные каналы. Степь, щедрая на травы, но сенокос прежде старались закончить к середине мая: после этого срока она выгорала и превращалась в пустыню. А зимой — бураны, «шурганы» по-местному, да такие, что и на севере не случаются…
На двести километров уходит от моря в задонскую степь магистральный канал, а от него в обе стороны — распределительные каналы. Рис пришел на эти поля не сразу. Сначала знали одну пшеницу. В 1963 году во время вешнего паводка посевы озимых были уничтожены. Пришлось думать: что и как сеять в пойме, какие участки оставить за пшеницей, а какие пустить под рис. На землях Суховского совхоза собрали по семьдесят пять центнеров риса с каждого орошаемого гектара. Вот это урожай! И никакие пыльные бури не страшны, когда вода на полях… Сейчас уже двести тысяч гектаров покрыты оросительной сетью. Орошаемые земли на Дону занимают всего три процента пашни, а дают восемь процентов всей сельскохозяйственной продукции: весь рис, восемьдесят семь процентов овощей, восемьдесят процентов всего картофеля, тридцать процентов винограда. Вот, оказывается, какая сила у поливного гектара!
В Задонье веками не заботились о сохранении малых рек и водоемов — нещадно рубили леса, срезали начисто камыш. Слишком уж много стало суходолов, и слишком много балок и ериков начинается в этих краях с жестокого слова «сухая»: Сухая Юла, Сухая Долина, Сухой Егорлык, Сухо-Соленый… Названия эти и сейчас остались, когда пришла в степь живая вода. Зато в колхозах появились неизвестные прежде должности поливальщика, гидротехника, электротехника, диспетчера оросительной системы, инженера-мелиоратора…
На гребнях оросительных каналов много рыбаков. Оказывается, в рисовых чеках есть и рыба. Заполняют по весне чеки водой и мальков сразу запускают (конечно, не белого амура: он всходы мигом уничтожит). А осенью, когда отводят воду, можно вместе с рисом собирать и рыбный «урожай». В совхозе «Цимлянский» как-то даже забрел из магистрального канала в поливную борозду сом на полпуда. Что же касается сазанов и карпов, то были бы только у вас удочки, а в улове не сомневайтесь.
Когда в степь пришла вода, пришлось потеснить кое-где знаменитые конезаводы. Я не знаю, чье сердце не замирало при виде стройных, тонконогих, будто отлитых из бронзы, золотисто-рыжих донских скакунов буденновской породы! Увидишь в степи табун окруженных жеребятами элитных кобыл, и кажется, что все они светятся и словно плывут в белесом степном мареве. Немало трудов и подвигов свершили донские кони и на мирных полях, и на полях сражений, немало завоевали призов и наград за резвость и красоту бега на разных, самых знаменитых состязаниях… Да ни один праздник в станице или хуторе не обходился без верховых состязаний. И стар, и млад — все, кто умел держаться в седле, — выезжали за околицу соревноваться в джигитовке, рубке, упражнениях с пикой. Лихости и удали не надо было занимать никому. Но понемногу, с годами все это стало забываться: техника вытеснила лошадей, перепахали луговую целину в конезаводах. Да и самих-то заводов осталось два-три — там, куда еще не добрался плуг, километрах в трехстах от Дона.
Долго не гаснет заря на западе. Темнеет небо, наливаясь шелковистым блеском. Чуть выше бордовой полоски заката дрожащей капелькой вспыхивает голубоватая звезда… Придется заночевать в дороге. Спадает зной. Пахнет клевер, и в его густых зарослях бьет вечернюю зарю перепелка. Где-то далеко-далеко синеет край горизонта, густая молочная пелена медленно надвигается на поля. В стороне от полевого вагончика собираются, прижимаясь плотнее друг к другу, кони. Торопятся табунщики, сбивая их вместе. Рекой, туманом пахнут росы, мягко топчут их кони нековаными копытами. Тишина… Только плеснет вдруг рыба в Дону, и эхо разносится по реке. Табунщики уже у костра, ароматно пахнет ухой, заправленной укропом, чебрецом и пшеном.
Встаем до рассвета, чтобы пораньше приехать в Константиновск. Испуганно шарахаются с дороги сайгаки. Их тоже потеснили орошаемые земли, а они не хотят сдаваться и местами даже вытаптывают посевы. Больших табунов я не видел, но они иногда забредают сюда. Сайгаки много веков подряд были объектом охотничьего промысла, но добывали их не столько ради мяса, сколько из-за рогов, ценившихся очень дорого: их продавали как лекарственное сырье в страны Востока. Пара рогов сайгака приравнивалась по стоимости к хорошей лошади. Истребляли хищнически, зимой и летом. И поэтому к 20-м годам нашего столетия сайгак стал везде редок. В 1919 году Ленин подписал постановление о запрещении всякой охоты на сайгаков, и результаты сказались через каких-то пятнадцать — двадцать лет: численность сайгаков превысила два миллиона. Вопреки мнению авторитетных ученых, считавших сайгака живым ископаемым, в задонских степях было восстановлено стадо этих северных антилоп. «Русское чудо» — так писали по этому поводу в зарубежной прессе.
Человек всемогущ в этой степи, но он оказывается порой и беззащитным, когда степь показывает неожиданно свой крутой нрав. Случается, зимой по самые крыши заносит сугробами дома, остаются отрезанными от всего мира чабанские кошары и фермы.
В совхозе «Морозовский» я видел могилу Гали Кузнецовой. Не совершила вроде бы она никакого особенного подвига, просто была фельдшером. Лютовал февраль, нельзя было ни пройти, ни проехать по дорогам. В это время и обратился к Гале за помощью рабочий совхоза Омельчук: у его жены начались роды, проходили они тяжело. Галя сама ждала ребенка, но не колебалась ни минуты и поспешила через сугробы, через заметенные снегом виноградники к роженице. Знала, что от нее зависит, будут ли жить мать и ребенок. Она успела сделать все возможное: роды прошли благополучно. Но муж Гали уже больше не увидел ее в живых: возвращаясь домой, она сбилась с дороги и замерзла в степи.
Не только у военных бывает: «…навечно в списки подразделения». А тут сугубо штатская девчонка послевоенных лет. И все же честь ей по воинской традиции: зачислена навечно в списки областной комсомольской организации. Медицинское училище в городе Шахты, где училась Галя, теперь носит ее имя…
Вот какие-люди живут в Задонье!
В станице Дубенцовской есть и свой Маресьев. Работал он на строительстве Волго-Дона, в архивах можно даже листовки о его трудовых делах отыскать. Но однажды случилась беда: попал под бульдозер, лишился ступней обеих ног. Уйти на пенсию не захотел — научился ходить на протезах и снова сел за трактор. Вот уже пятнадцать лет водит машину, и как водит — по две сезонные нормы (говоря языком селян, в пересчете на мягкую пахоту) выполняет. И учеников у этого человека много, и обязанностей: он член партийного бюро, агитатор, добрый семьянин. И так прикипел Яков Неупокоев к этим местам, что не променяет их на другие, пусть даже очень благодатные, края.
Впрочем, разве Задонье не благодатный край? Всем оно богато, если человек чувствует себя хозяином. Что здешнему человеку здорово — недоброму пришельцу на погибель. Когда пришли сюда немцы, они растерялись, так обескуражили их бескрайние степи. В больших хуторах еще кое-как поддерживали свой «новый порядок», а тут же, рядом, жили на отшибе по советским законам затерявшиеся партизанские фермы и бригады, и немцы даже не подозревали о них. Партизанский отряд, воевавший здесь, назывался «Степной орел» — подстать и здешней степи, и людям, выросшим в ней.
…Вставало солнце, когда на той, правобережной, стороне показался город Константиновск. Город и пристань. Переправляться пришлось на рыбацком баркасе. Ветерок приятно обдувает лицо, солнце лениво расцвечивает волны. Дон в этих местах, наверное, будет пошире Волги, берег уходит за горизонт. И острова, острова…
Еще недавно этот город был станицей. Но дело не в том, как назвать, — городские приметы, случается, встретишь сейчас даже в самом отдаленном хуторе. Правда, на нижнем Дону Константиновой, пожалуй, самый колоритный город, в котором удачно сочетается самобытность казачьей культуры с приметами современного города.
Если плыть вниз по Дону, силуэт города будто внезапно возникает за излучиной реки. Красиво расположенный на крутом холме, город подтверждает мудрость наших предков, заложивших его в этом месте три с половиной века назад.
Главная примета Константиновска — новостройки. Я бродил по улицам в рассветный час и всюду видел строительные леса, краны. Новый Дворец культуры, новый широкоэкранный кинотеатр «Мир», новое здание сельхозтехникума, кафе, магазины, гостиница, сквер с фонтанами…
На Дону Константиновская всегда считалась одной из видных станиц, была окружным центром. В 1919 году в ней насчитывалось восемь тысяч жителей, сейчас — около тридцати. Уже в советские годы появилась промышленность: рыбный завод, маслосыроваренный, комбинат стройматериалов. Есть здесь два техникума и педучилище. Ростовские архитекторы разработали проект генерального плана нового города. Создается свой музей изобразительных искусств — художники Москвы, Ленинграда, Ростова горячо поддержали инициативу местной интеллигенции. А музей боевой славы в городе уже есть, пусть пока маленький, в один зал, каких-то три-четыре десятка квадратных метров, но, как говорят, мал золотник, да дорог. Дорог потому, что создавался руками самих горожан. Ведь многие дороги истории прошли через Константиновск…
Цвет лазоревый
Жизнь — чертовка,
Собой хороша.
Глядит Кочетовка
Из-за камыша…
Всеми колокольцами
Звенят названья сел,
Семикаракорская
Зовет меня за стол…
Виктор Боков
С самой весны, когда донское солнце щедро прогреет покатые склоны курганов, начинает зеленеть степь. Еще и снег не сойдет с крутых откосов балок, а уже тянутся к свету типчак и мятлик, голубовато-серая полынь и перистый ковыль. И вдруг сразу оживет неприметная степь — красные, белые, желтые, голубые тюльпаны, будто радугой, спустившейся с небес, украсят донские берега.
Это не те садовые тюльпаны, над которыми колдуют, выхаживая каждый лепесток, любители-цветоводы. Это дикие тюльпаны, прозванные на Дону лазориками, они крепче, выносливее, и краски у них ярче, хоть и скромные…
Уходит весна, блекнут лепестки, желтеет в степи зелень, а цвет — лазоревый — остается. Самих цветов давно нет, а краски их будто вбирают в себя и кущи деревьев, и сердитая донская волна, и плакучие вербы в заводях, и бесчисленные песчаные острова, и островки с птичьими гнездами, с трухлявыми корягами, перегородившими старый проток, с рыбацкими лодками среди кувшинок и рогоза.
Все это Дон.
…От Константиновска я рискнул поехать вниз по реке на моторке. У механика рыбзавода Артема Ивановича Коноплева было какое-то дело на тоне.
Места здешние Коноплев знает отлично. Каждый ерик излазил. Не хуже любого лоцмана про глубины и перекаты расскажет. Он еще на «Створе» плавал — лежит скелет этого корабля у Константиновской пристани, источенный моллюсками, у берегов, обнятых плетнем.
На левом берегу станица Новозолотовская. На правом — Старозолотовская. Новая появилась вместе с Волго-Доном, когда пришла вода в степь. Старая тоже имеет большое будущее: нашли богатые залежи антрацита. Вот куда доберутся скоро шахты Донбасса… А еще в Старозолотовской, рассказывает Коноплев, редкий в этих краях сорт винограда, «красностоп» называется. Раздавишь ягоду — брызнет алая капелька, будто изумрудом отсвечивает. Вина из этого сорта отменные, с цимлянским конкурируют.
Пойма Дона в этих местах широкая, дно каменистое. Когда перегородили Дон плотиной, осетры и севрюги начали здесь метать икру. Приспособилась понемногу рыба, а браконьеры — тоже, горько шутит Коноплев. Не столько ловят, сколько портят острогами да крючьями. И управы на них нет: пустынны места здешние, лес кругом, отыщи злодея…
В местах здешних еще до революции поставили шлюз: не сегодня начал мелеть Дон. Ну, а коль шлюз — значит рыбе преграда. Сейчас тут спланировали умнее, чем в Цимлянске, — рыбоподъемник делают подвижной, такой, что и скорость течения можно регулировать. И еще ставят электрозаградители: в обход рыба не пойдет, обязательно попадет в контейнер. Делают этот подъемник сейчас по заказу донских рыбоводов в Херсоне.
Разговорились. Оказалось, Коноплев и родился в здешних местах. Был помоложе — в знаменитом Новозолотовском народном хоре пел, в 1964 году даже в Москву ездил, в Кремлевском театре выступал. Перебрался жить в Константиновск — пришлось оставить спевки: семья, да и неблизко.
— А казак без песни — он не казак. Праздник там какой или горе — песню заводит. Очень душевные у нас песни, небось слыхали? Молодежь их меньше знает, все больше транзисторами увлекается…
Пока Коноплев рассказывал, миновали мы узкую протоку Спорного Донца, выглянула из-за густых вербовых зарослей и кустов чакана пристань Кочетовская. О ней еще Петр Первый в своем дневнике писал, здесь стоял его флот. И ватага булавинская отсюда вышла. Плавучая станица… Это ее, осевшую на острове в устье Северского Донца, описал в своем романе Виталий Закруткин — житель Кочетовки.
Спорный Донец попросту рукав Северского Донца, узкий, мелкий, на лодке не переехать, вброд перейти. А увидишь сам Донец — забудешь, что находишься в степном краю. Крутые, каменистые осыпи самых настоящих гор, дикие скалы, густой лес на склонах, каменистые пороги — впрямь Кавказ…
Пока Артем Иванович возился с мотором, я бродил по улочкам станицы Кочетовской. В гостях у Виталия Закруткина, конечно, не побывал, не везло мне в дороге на знаменитых земляков. Так уж повелось, что приходится писателю откладывать в сторону начатый роман и ехать с наказом избирателей в Ростов, а то и в Москву, к министру. Писатель всегда с людьми. Еще в первый послевоенный год оставил Закруткин уютную квартиру в Ростове и поселился в этой станице. И сразу прижился, стал для всех тут своим, этот высокий худощавый человек в гимнастерке и солдатских сапогах. Человек нелегкой судьбы, кандидат наук, талантливый писатель, Закруткин сумел быстро расположить к себе кочетовцев, органично вошел в их жизнь, как человек, живущий их нуждами. «Хорошая школа, новая дорога, дом для престарелых не меньше значат, чем собственное произведение», — любит говорить Виталий Александрович.
Десять лет назад областное начальство собиралось создать в этой станице отделение зернового совхоза, но Закруткин доказал, что создание виноградарского совхоза в этих местах будет более целесообразно. Так родился в Кочетов-ской виноградарский совхоз. Рабочие этого совхоза в шутку называют Виталия Александровича нештатным агрономом.
В станице добротные, на казачий лад сколоченные дома, зеленые улицы с фруктовыми деревьями, с цветниками, мичуринским садом (за саженцами ездил тоже Закруткин на Тамбовщину).
Станица и впрямь плавучая, какой описал ее и Закруткин: вереница лодок у берега, и все вокруг прозрачно голубое, подстать лазоревому цвету — такому, у которого нет ни начала, ни конца. По весне, когда гуляют буйные разливы, нелегко попасть на остров кругом вода, кричат чибисы, никнут вербы плакучие, рыба плещет, загуляв на нересте. А потом спадет теплая «русская» вода (так называют здесь полые воды с верховьев в отличие от студеной «казачьей» воды) и вспыхнет остров лазоревым цветом, украсит зарницами старые куреня.
…Вот уже и Северский Донец щедро вливает свои воды в Дон. Из всех донских притоков, с которыми встречался я за свою неблизкую дорогу, это самый большой, самый значительный. Корабли и баржи с Дона свободно поднимаются по Донцу к его верховьям. Волна быстрая, пенистая, совсем, как у горной реки. Моторку нашу изрядно покачало, пока одолели мы широкое донецкое устье.
Отсюда рукой подать до порта Усть-Донецкого — едва ли не самого крупного (после Ростова и Азова, конечно) порта в бассейне Нижнего Дона. Уголь, руда, лес, щебень идут через Усть-Донецкий порт в Москву и Ленинград, Горький и Астрахань. Порт еще не достроен, но поселок возле него уже стал районным центром, еще, правда, неблагоустроенным, весь он в завтрашнем дне…
Я люблю Дон, а родина моя все-таки Северский Донец. Не Северный, как безбожно коверкают его имя несведущие люди, а именно Северский, потому что берет он начало в Северских землях — тех самых, где стояли некогда стольные города Ольговичей и шумели стяги Игоря Святославича и где, ожидая Игоря, плакала Ярославна, где места «пре-дивные зело», покорявшие красотой всякого, кто побывал здесь хоть однажды. Наверное, прав был Экзюпери, когда сказал: «Самое важное, чтобы где-то существовало то, чем ты жил». Для меня это Северский Донец с неприметным притоком рекой Быстрой.
Устье Северского Донца встречает нас пенистыми брызгами, мокрой галькой на песчаном берегу, прозрачной, как хрусталь, водой…
Через час мы были уже в Семикаракорском. Здесь и встретился я с Зиновием Сельским. Уже пожилой человек, директор крупного совхоза, он приехал в районный центр не только потому, что были у него неотложные дела, но еще и затем, чтоб побывать на вечере в клубе любителей поэзии.
Есть такой клуб в Семикаракорах. А начинался он, как рассказывали, с того, что пришел местный журналист и начинающий поэт Борис Куликов на танцы во Дворец культуры, увидел, как под песенки заморского джаза танцевали девчата и парни с каменными лицами, будто делали какую-то нудную опостылевшую работу, и вышел вдруг на сцену, выключил радиолу, остановился у рампы. «Что там еще?» — нетерпеливо спрашивали танцоры. А Борис, дождавшись тишины, взял микрофон в руки и сказал спокойным ровным голосом:
— Ребята! Сто двадцать пять лет назад был убит Пушкин…
И, шагнув вперед, начал читать Багрицкого — стихи о Пушкине. И так убедительна была правда этих стихов, что посуровели лица в зале. А на сцену вслед за Борисом вышли другие местные поэты — Володя Тэн, Толя Тихонов, Людмила Билевич… Читали Пушкина и Есенина, Маяковского и Твардовского, читали свои собственные стихи. Никто прежде и не подозревал, что в Семикаракорах так много талантов.
Тот вечер закончился большим разговором о поэзии. Их потом много было, таких вечеров в Доме культуры, но первый запомнился особо. Говорят, на одном из вечеров подошел к ребятам старик и сказал им: я думал, поэзия — это так, в литературе между прочим. А теперь понял. Стихи иной раз сильнее романов бывают…
После того как образовался такой клуб в поселке, в библиотеках и книжных магазинах появились очереди за сборниками стихов. Едет кто в Москву или Ростов — ему непременно наказ: новые стихи там купить. И в Ростове знают: окажется проездом на Дону маститый литератор — нужно посоветовать ему побывать в Семикаракорах, не пожалеет.
— Хочу пригласить поэтов в свой совхоз. За тем и пришел сюда, — сказал Сельский. — Свой вечер поэзии думаем организовать, прямо на виноградных плантациях. Виталий Александрович вернется — тоже обещал прийти, о новостях в литературе расскажет…
В клубе есть альбом почетных гостей, в нем оставили добрые напутствия молодым уважаемые гости: Виктор Боков и Николай Грибачев, Алим Кешоков и Кайсын Кулиев, Джемс Паттерсон и Егор Исаев… Принимали в клубе и Германа Титова — это когда позвали его к себе провести у них отпуск рабочие совхоза «Титовский» (название хозяйства не имеет ничего общего с фамилией космонавта), он приехал, и не один — с женой и дочкой. Так что ничего удивительного нет в том, что на клубные вечера приходят директора совхозов и бригадиры, — здесь любят настоящую поэзию и интересуются ею не меньше, чем в больших городах.
…Речушка Сусат впадает не в Дон, а в Сал, а уже Сал — в Дон. Сусат местами вовсе пересох, а Сал приносит в свое устье слишком мало воды — всю ее выпивают в пути сухие задонские степи, — и к Дону добирается он немощным, одряхлевшим: болото не болото, ряска в лиманах цветет, воды не напьешься — тухлятиной отдает. И степи Сальские куда неприветливее романовских или цимлянских… Ровны, будто стол, ни холмика, ни кургана.
Уже поздним вечером переправился я напротив Сусата в Раздорскую — стольный городок донских казаков в седую старину, еще и поныне нет-нет да и изумляющий краеведов дивными находками.
Есть две станицы Раздорские одна — на Дону, где сделал я свой привал, другая — на Медведице.
Раздорский городок упоминался впервые в летописях в 1571 году. Но еще за три десятка лет до этого ногайский мирза Кельмагмет жаловался Ивану Грозному, что понастроили казаки несколько городков на его земле, и Грозный ответил ему: «Казанцы, азовцы, крымцы и иные — баловни казаки, а и наших украин казаки, с ними смешавшись, ходят, и те люди — как вам тати, так и нам тати и разбойники». Дипломатом он, Иван Грозный, был неплохим — хан ничего возразить ему не мог…
Располагался Раздорский городок сначала на песчаном острове посреди Дона, а уже потом перебрался на крутое правобережье — место надежное на случай паводка — и стал казакам стольным городком. С тех пор и доныне спускаются крутыми террасами с высокого живописного холма прямо к самой воде узенькие улочки и переулки древней станицы.
Ничего особенного вроде бы и не увидишь на этих неприметных пыльных улочках. Приземистые куреня, обветшавшие плетни, колоколенка без куполов, затравевший майдан… Раздорская даже и не районный центр — разжаловали ее из этого ранга и район перенесли в Усть-Донецк. Но побродишь по кривым улочкам, порасспросишь да поразузнаешь, что, где и как тут в старину бывало, иной станица предстанет: гордой, своенравной…
За околицей Ермакова роща. Когда-то тут дубы вековые росли. Сейчас балки да озера заилевшие, а все ж рощей зовут в честь Ермака. Рядом лиман, назван Петровским, когда-то русский флот спешил к Азову, и здесь была стоянка…
Когда Ермак Тимофеевич отправлялся в Сибирь отвоевывать у татарского хана Кучума «страны полунощные», богатые «мягким золотом», был у него в войске есаул по фамилии Суриков. Может быть его потомок — Василий Суриков — стал великим художником. И наверное, не случайно мечтой его жизни стала картина о Ермаке. В мае 1893 года художник приехал в станицу Раздорскую. Здесь нашел он то, что искал: натуру для Ермака и его сподвижников. Прототипами героев суриковской картины стали раздорские казаки Макар Агарков, Кузьма Запорожцев, Дмитрий Сокол, Арсений Ковалев. Этюды эти хранятся, как известно, в фондах Третьяковской галереи.
Копию своей картины художник подарил раздорским казакам. Старожилы помнят, как долгие годы в станичном правлении висела эта картина, и все, кто приходил сюда, отыскивали на полотне своих соседей и знакомых.
С Раздорской станицей связано еще одно имя — знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова начинала свою ратную биографию именно здесь.
В станичной школе богатый музей. Наверное, очень счастливы ребята, имеющие такого наставника, как Леонид Тимофеевич Агарков. Сам неутомимый искатель и ребят такими же сделал. Нашли, например, краеведы дом, в котором Серафимович заканчивал свой роман «Город в степи». Узнали подробности подвига безымянного солдата-калмыка под Раздорской в 1942 году: очевидцы рассказали им, как этот кавалерист подбил четыре танка и уничтожил пятнадцать гитлеровцев. Не должен остаться безымянным такой человек! Ребята сделали все, что смогли, и теперь не только в Раздорской, вся Калмыкия знает — это Герой Советского Союза Эрдни Деликов…
В Раздорской крепкий колхоз «Советский Дон», рыбколхоз имени Третьего Коминтерна. Станичные овощеводы — неизменные участники Выставки достижений народного хозяйства. И знаменитая «донская чаша» родом отсюда, из станицы Раздорской.
И еще в станице чудесный пляж. Летом сюда приезжают отдыхать даже из Москвы и Ленинграда, все левобережье уставлено палатками, катерами.
Солнечное ожерелье
На зорьке у нашей станицы
Волна голубая поет:
В родную Москву-столицу
По Дону плывет пароход.
И где ты далеко не будешь,
Хоть всю ты объезди страну,
Нигде никогда не забудешь
Станицу на Тихом Дону…
Из песни,сложенной народным хоромв станице Багаевской
Каждое утро, разворачивая истрепанную карту, я обдумываю очередной отрезок пути: за день побывать там-то и там, к ночлегу успеть вот сюда… Намерения мои сбываются не всегда. Дело в том, что жизнь оказывается во сто крат интереснее, чем наметки, что сделал я, когда собирался в путешествие. А Дон уже не тот ручеек, каким я запомнил его в Новомосковске, хоть и неблизко еще до взморья…
В этих местах река могучая, богатырская. От станицы Раздорской и до самого хутора Пухляковского добирался я на буксировщике «Грозный».
Капитан «Грозного» родился в хуторе Пухляковском. Правда, раньше звали хутор иначе — Собачий. Вроде бы шло это название еще с тех пор, как была здесь переправа на дороге между Ногайской ордой и Крымским ханством. А потом назвали Пухляковским в честь казака, который вывел новый сорт винограда — знаменитый теперь «пухляковский». Виноградников и сейчас немало, и урожай собирают хороший.
Низовья Дона называют еще солнечным ожерельем: Цимлянск — Пухляковский — Ейск. Здесь благодатные почвы, много солнечных дней в году, места эти могут соперничать с лазурным крымским берегом и с Черноморским побережьем Кавказа. Могут, но пока еще не соперничают. Оттого, наверное, на столе нашем избыток грузинских вин и меньше донских.
Когда увидел я Пухляковский, невольно подумал: помилуйте, какой же это хутор? Кирпичные дома в четыре и пять этажей, башенные краны повсюду: стройка не прекращается, клуб, больница, студенческое общежитие, опорный пункт Института виноделия, улицы в камне… И все в густой зелени садов. Говорят, когда приехала сюда киноэкспедиция — искала она «типичный» казачий пейзаж, режиссер, снимавший после войны в Пухляковском по рассказу Шолохова фильм «Жеребенок» и не видевший мест этих лет десять, так и ахнул: «Испортили хутор». Вот как быстро меняется облик придонских станиц и хуторов. Вчера станица, а сегодня уже город.
Хуторяне — народ приветливый. Стоило начать мне расспросы, как сразу вызвались добровольцы показать и дом, где жил цыган — прототип Будулая, чью печальную судьбу изобразил Анатолий Калинин в романе «Цыган», и хату, где совсем недавно умерла разбитая параличом «волчица» из рассказа «Эхо войны», и могилу советских разведчиков, которых выдала «волчица», ну и, конечно, дом Калинина — старый, обшитый темно-серыми досками, с высокими подпорками, с мезонином, где у писателя «святая святых» — рабочий кабинет. И вид на Дон открывается такой же неоглядный, как в Вешках…
Я не задумывался прежде, сколь благодатно такое повседневное общение с жизнью, с народом, что установилось у многих писателей Дона: Шолохов живет в Вешенской, Закруткин — в Кочетовской, Калинин — в Пухляковском, Изюмский — в Волгодонске, Скрипов — в Азове, Колесников — в Сальске, Авилов — в степном совхозе на реке Чир…
Калинин — хлебосольный хозяин, но не в одном гостеприимстве дело. Он еще и радушный собеседник, очень любознателен, ищет новые знакомства. У него взрослая дочь, такая же неугомонная, как и отец, — Наташа. Я видел ее мельком, но как-то сразу почувствовал: это о ней, о ее судьбе и, конечно, о судьбе всех взрослых дочерей думал писатель-отец, когда работал над романом «Гремите, колокола!». Пишется ему трудно, и, бывает, долгие месяцы вылеживаются в ящике письменного стола рукописи новых книг, прежде чем узнает о них читатель. Пишется ему трудно еще и потому, что не бывает такого дня, когда не приходилось бы отрываться от письменного стола ради неотложных депутатских дел. Зато все, что создано им: «Красное знамя», «Лунные ночи», «Суровое поле», «Запретная зона», «Цыган», «Вешенское лето», «Гремите, колокола!», «Эхо войны» и превосходные стихи, о которых читатель почти не знает, — написано рукой большого мастера. Он не любит выдавать «авансов» (как иные литераторы), всегда недоволен собой и хочет написать книгу, которую вынашивает всю жизнь. «Святую книгу» — как он говорит. Когда Михаил Александрович Шолохов закончил рукопись романа «Они сражались за Родину» (еще неизвестную никому из нас), то послал Калинину телеграмму в Пухляковский: «Приезжай». Значит, не просто любит, верит, захотелось почитать Калинину новые главы, посоветоваться, как мудрый учитель с талантливым учеником.
…У крутого спуска к Дону я еще раз оглядываюсь на старый курень с мезонином, на взбирающийся уступами зеленый хутор. Глухо рокочет внизу катер «ачуровцев»[9], он довезет меня до Мелиховской. Тут километров шесть, не больше. На нижнем Дону едва минуешь один хутор — уже другой начинается, случается, что куреня разбросаны один от другого на два-три, а то и больше километров; простора много, хоть по нынешним временам и неудобно.
Мелиховская станица ничего общего с Гришкой Мелеховым не имеет, она намного старше «Тихого Дона». Правда, многие поэты, особенно из молодых, любят обыгрывать название станицы, непременно вытаскивая на здешнее крутоярье Гришку с Аксиньей. А берега-то здесь не такие, как в Вешках, и песков нет — тучный чернозем с виноградными лозами, с домами из камня-ракушечника (Донецкий кряж рядом).
В станице прекрасный дом отдыха, пионерские лагеря для детей шахтеров, турбаза. Солнце палит нещадно, совсем как в Сочи: все «ожерелье» от Ейска до Цимлянска характерно тем, что здесь свой, отличный от степного, «микроклимат» — с теплыми зимами без снега, с горячим солнцем и напоенным ароматами трав воздухом в летнюю пору. Отдыхают в Мелиховской не только ростовчане, но и уральцы, сибиряки.
В Мелиховской я вновь (уже в который раз) переправляюсь через Дон. Спутники мои по парому оказались специалистами по пушнине (не думал, что на Дону окажется для них работа) и, узнав, зачем я здесь, пригласили побывать на речке Подпольной. Есть такая недалеко от Багаевского — из Дона вытекает, в Маныч впадает, не речка, ручеек с запрудами.
Я впервые увидел несметное множество серебристо-черных лисиц, коричневых норок, ослепительно белых нутрий, бурых ондатр… Вольеры у берега, клетки прямо на улицах, бесконечные мостики через запруды и — камыш. Его здесь не косят, а разводят — это ведь любимое лакомство пушистых зверьков.
В конторе зверопромхоза на стенах развешаны дипломы Выставки достижений народного хозяйства, Международного пушного аукциона, похвальные листы, грамоты. Донской мех, оказывается, уже получил признание на мировом рынке: одних только шкурок ондатры зверопромхоз отправил туда в прошлом году около двадцати пяти тысяч.
Когда закладывалось на речке Подпольной это необычное хозяйство, рассказывала мне зверовод Галина Федоровна Коранко, сколько было дебатов: звери и рыбу начисто сведут, и вонь от них будет страшная, дом отдыха закрывать придется… А теперь все убедились: нужное дело, выгодное. Питается ондатра прибрежными водорослями, реже моллюсками, лягушками и мальками рыб.
Но вот и Багаевский. Уже вечереет, пора о ночлеге думать. Я успею искупаться возле острова Буяна. Заросло все камышом, осокой, ольхой да орешником, но песок на пляже белый, серебрится под закатным солнцем.
«Багай» — по-тюркски сады. Садов в рабочем поселке действительно много, недаром здесь выстроен большой консервный завод. Сохранился здесь старый дом, где размещался штаб Первой конной армии. Это отсюда в феврале 1920 года Буденный послал письмо Ленину, просил вступиться за конную армию, когда Троцкий задумал ее ликвидировать. Буденный тогда писал, что Первая конная переживает тяжелое время. И Ленин поддержал Буденного, не дал Троцкому расформировать Первую конную: предстояли еще тяжелые бои с Врангелем и белополяками…
Багаевский именуется рабочим поселком, но по виду остался он и ныне станицей — высокие тополя на пыльных улицах, только в центре вымощенных камнем, привычные глазу куреня с зимней и летней половинами, густой тенистый парк с нехитрыми аттракционами для детей, козы, что мирно пасутся возле исполкома, крутые тропки, по которым можно спуститься к Дону, дебаркадер…
…Медленно гаснут вечерние зори, и тишина — густая, плотная — окутывает урочище. Огоньки бакенов цепочкой указывают пароходам тропку, музыка доносится из далекого парка, сегодня там непременные танцы, а потом кино.
Я бреду по темной улице к дебаркадеру, перебираю в памяти события минувшего дня и всех дней, что остались позади. Наверное, трудно, очень трудно будет рассказать мне обо всем Доне — до самого устья. А надо, обязательно надо, потому что я хочу, чтобы стало на земле больше людей, полюбивших бы эту землю, эту степь…
Огнев курган
Ах ты, Маныч, наша Маныч, — речка быстрая.
Протекала ты, речка Маныч, сверху донизу,
Из соляных озер до речки Дона тихого…
Казачья народная песня
Там, где петляет по степи узкий и вертлявый Маныч, неся в Дон свои воды, стоит каменная скифская баба. Торопятся годы и столетия, а каменная баба так и осталась, зачарованная, встречать за Доном зори и провожать на покой солнце, когда оно устало клонится за курганы.
Их много, курганов, в долине Маныча. Я пришел к одному, куда чаще добираются из ближних и дальних хуторов люди и где подножие усыпано маками. Над седым курганом стоит обелиск с высеченными в мраморе золочеными буквами:
«Комендору крейсера «Аврора» Е. П. Огневу и его однополчанам, погибшим от руки белобандитов 20.IV. 1918 года, — от жителей хут. Казачий Хомутец и следопытов Октября 6 класса «Б» школы № 90 Ростова-на-Дону 20. IV. 1966 года».
Это Огнев курган. В честь комендора Евдокима Огнева, который и родился, и сложил голову за революцию в этих местах.
Хутор Казачий Хомутец — в низине, у самого шляха. Старый ветряк с потемневшими крыльями, их уже совсем почти не осталось на Дону. Буйные заросли садов, пышный ковер хлебов за ними. Оттуда хорошо виден обелиск на кургане.
…Восемнадцатый год, весна. В огне Дон, в огне Маныч. Гудит толпа на хуторской площади, доносится издалека канонада. А он — в казачьей бурке поверх бушлата, в бескозырке с лентой «Аврора», — широко, по-морскому расставив ноги, стоит на крыльце хуторского правления. Много не скажешь, потому что время торопит: отряд понес большие потери, кто за Советскую власть, пусть седлают коней.
Вокруг хутора белогвардейские заслоны. Нужно пробиться через них, чтобы помочь красному Царицыну. День за днем разведка боем, лихие налеты на беляков, короткие митинги — и опять бой. До поры минуют матроса пули, щадят шашки, а беда уже притаилась за курганом. Неравны силы, и лишь трое остались в живых раненый Огнев, его ординарец и молодой хуторянин Крысин, только накануне вступивший в отряд. Нужно уходить, они подняли лошадей, поскакали в степь. И вдруг тот, третий, сорвал с плеча карабин и выстрелил в спину Огневу. Оглянулся ординарец — увидел, как падал командир. Ничего понять не успел — пуля предателя настигла и его. Крысин соскочил с коня, подошел, хромая, к Огневу, с опаской перевернул его и сосредоточенно стал снимать с убитого сапоги…
Лишь через несколько дней нашли хуторяне тела брошенных белыми в манычские камыши Огнева с ординарцем и зарубленных красногвардейцев из его отряда. Там и похоронили их. А обелиск поставлен здесь уже недавно. В хуторе не знали, что Огнев служил на «Авроре» комендором. Об этом стало известно в 1966 году, когда красные следопыты из Ростова побывали на легендарном крейсере в Ленинграде.
На «Авроре» есть корабельный музей, а в нем — заявление матросов с просьбой отправить их на фронт против Каледина. Тринадцать подписей под заявлением, и первая — комендора 1910 года службы Евдокима Павловича Огнева. Семь лет плавал Огнев на крейсере, на восьмой год сел на коня: нужно было отстаивать Советскую власть на родном Дону.
В Казачьем Хомутце мне рассказали об Огневе соратники комендора. Годы посеребрили их головы, легли глубокими морщинами на их лица, но нужно видеть, как задорно вспыхивают у них в глазах огоньки, когда вспоминают ветераны свою боевую молодость. Начни расспрашивать — не будет конца рассказам, только слушай, и каждый из стариков убежден, что без него-то и революция не победила бы.
Да, если вдуматься, оно и в самом деле так. Недаром поныне держат старики в красном углу, там, где прежде бывала «божница», потертые буденовки да старые сабли в исцарапанных ножнах. Иные и через последнюю войну их пронесли. Думаешь, вытащит сейчас хозяин шашку, попробует о ноготь, не затупилась ли, выйдет за дверь — и загрохочут копыта, запоет боевая труба… Только молчит степь, и хозяин не снимает со стены шашку: давно отслужили, каждый свое. Зато расскажет он вам про Огнева.
А еще расскажут вам в Казачьем Хомутце про то, как погиб в их местах уже в феврале 1920 года легендарный начдив Азин. Тяжело раненный, он попал к деникинцам в плен, его пытали, а он только и успел сказать: «Перед вами Азин. Расстреливайте немедленно». Его тело бросили в полынью, и вроде бы с той поры гудит в своих истоках река Маныч, не утихая ни днем, ни ночью.
Местные жители рассказывают об озере Маныч-Гудило много легенд. Из озера берет свое начало река. В очень давние времена вся долина Маныча была дном морского пролива, соединявшего Азовское и Каспийское моря. Когда море отступило, в земных пластах осталось много соли. Воду из озера Маныч-Гудило пить нельзя: она горько-соленая. Осенью и весной, когда гуляют над степью штормовые ветры, поднимаются на озере высокие волны, с шумом разбиваются о берег, и тогда гудит, воет Маныч…
Некоторые ученые объясняли «загадочный» гул тем, что якобы на дне озера существуют бездонные пучины, соединяющие подземным путем Гудило с Каспием. Но большинство исследователей доказало, что во время устойчивых и сильных ветров уровень воды в озере резко меняется. А гудит оно потому, что северный берег озера крутой и высокий (до двадцати метров). Когда волны ударяются о него, они создают шум прибоя, который многократно отражается от изломов берега.
Название «Маныч» — от тюркского «манач», что означает «горький». В устье Маныча есть еще хутор Арпачин. «Арпа» — значит «ячменный», «чай» — «поток», но он же и… «сухое русло». Горька в соленых проплешинах степь вокруг, а зимой в самую лютую стужу не сковывает реку лед.
Лет двадцать назад озеро Маныч-Гудило приняло кубанскую воду, она пришла через Невинномысский канал. Это опреснило Маныч, сделало его воды пригодными для орошения. И скот эту воду пьет. Человек не пьет; если перекипятить, слить осторожно, еще можно утолить жажду. Но последние годы все меньше и меньше кубанской воды приходит в Маныч (краснодарцы задумали свое степное море построить, а воды не так уж в Кубани много) и соленость реки начала снова возрастать.
Будто сама природа сделала манычскую долину заповедной. Люди не селились в горькой степи, и охотники не жаловали: неприветливы эти места. На Маныче можно встретить журавля-красавку, дрофу, стрепета, фазанов, гнездятся здесь лебеди и пеликаны (их зовут «бабы-птицы»), бродят лоси. И зайцев несметное множество: их даже отлавливают, чтобы самолетом отправить в Читу или Владивосток, на Урал или в Подмосковье.
Отправляют с Маныча не только зайцев, но еще и раков. И куда бы вы думали? Не в Ростов, где их считают чуть ли не «фамильной» гордостью (только попробуй — захочется снова), и даже не в Москву, а… в Париж. Даже там, оказывается, в почете донские раки. Есть возле Манычской станицы неприметный домик на берегу степной речки, живут в нем пятеро рыбаков, промышляют по песчаным омутам в непромокаемых сапогах, добывая такое редкое лакомство. «Ни рыба и ни мясо, но вкусней того и другого», — отозвался когда-то о пищевых качествах рака Аксаков. Но раки не всегда вкусны: есть поверье, что самыми вкусными они бывают, если в названии месяца, когда их поймаешь, есть буква «р». Даже зимой. Егерь прочитал мне целую оду в честь рака. Я не знал, что в пору первой Всемирной выставки звание «кушанье королей» присвоено было, оказывается, блюду «русский рак». А в Монте-Карло на приеме для участников международных автогонок подавали как-то среди особо изысканных блюд «пику донского казака». «Древком» этого кушанья были раковые шейки.
Азоврыбвод широко оповестил, что любительский лов раков без права продажи разрешен всем гражданам, причем каждый должен иметь не более трех раколовок и поймать пятьдесят раков. Выловишь больше — выпусти в реку. Попадется «недомерок» — меньше девяти сантиметров — тоже выпусти. Мечут раки икру — вообще не лови. А стоило это, строго говоря, вообще разрешать? Не лучше было бы запретить лов раков хотя бы на два-три года и сурово карать тех, кто нарушит запрет? Ведь нужно думать не только о том, что есть сегодня у нас на столе, но и о том, что будет завтра.
Не раками, конечно, славен Хомутец. Раки — это к слову, его из песни не выкинешь. Славен Хомутец крепким колхозом, председатель его — Сергей Ефимович Захаров, Герой Социалистического Труда.
На Маныче неважные земли. Здесь мало воды, много солнца, много соли. Когда поднимали хуторяне разрушенное войной хозяйство, жили призрачной, как многим казалось, мечтой о стопудовых урожаях (без ста пудов ни одна частушка в клубе не пелась). Мечта-то оказалась вовсе не призрачной. Кубанская вода омолодила Маныч. В прошлом году даже пыльные бури не помешали собрать по двадцать пять центнеров пшеницы с гектара. Пришлось, правда, трудиться, забывая и об отдыхе, и о времени. А по труду и сегодняшний быт хуторян: появились кирпичные дома, колхозная пекарня, водопровод на шесть километров, хорошая школа-интернат, клуб. Сейчас больница строится, Дом культуры. Так что недаром пролил Евдоким Огнев кровь свою возле древнего кургана.
…Строгая тишина стоит возле обелиска, и горячее солнце не может согреть холодный мрамор. Колышется в знойном мареве степь, плывут низко над Манычем перистые облака, и будто сама вечность приходит на седую шапку кургана — властно, неотразимо.
Это ей, вечности, принадлежит Огнев курган.
Донская Венеция
Сей разжалованный город в станицу… останется вечно монументом как для русских, так и иностранных путешественников.
Н. Н. Раевский
От Манычской до Старочеркасской — не успеешь оглядеться — «Ракета» домчит за несколько минут. В уютном салоне попискивают транзисторы, какой-то парень в очках читает без словаря «Neues Leben», спорят о чем-то девушки в «болоньях». Когда показались за излучиной купола древнего собора, кто-то из них сказал:
— Вот красотища!
— Это церковь-то?
— Да нет, посмотрите, как ЛЭП через Дон шагает… Гигантские мачты электропередач и в самом деле беззаботно перешагнули через всю реку, будто не заметив старых куполов. Поют на жарком ветру могучие провода…
А начиналась станица так:
В казаки принимали всякого, лишь бы верил беглец в Христа (старой ли верой или новой — безразлично). Принимали и татар, и турок, и греков, и даже немцев. Фамилии пошли такие: Грековы, Татариновы, Турченковы, Турчаниновы, Шведовы, Грузиновы, Себряковы (от сербов), Миллеровы (от немцев), Калмыковы, Поляковы… Все это истинно казачьи фамилии.
Год рождения станицы — 1570-й. Заложили ее Черкассы— так называли в ту пору украинцев. Они имели право жить на Дону легально (а с ними жили на воле и беглые со всех концов Руси). «С Дону выдачи нет», — говорил сам царь. Стояла маленькая часовенка на майдане, а кругом лепились землянки да деревянные куреня. Весной и летом выходил Дон из берегов, и приходилось добираться от одного куреня к другому либо по бревнам, перекинутым через улицу, либо на лодках. Поэтому прозвали городок донской Венецией.
В станице и сейчас все дома на сваях. Весной 1963 года вода в Дону поднялась на двенадцать метров. Вертолеты кружили над станицей, готовые в любую минуту прийти на помощь. Тракторами вывозили из затопленных мест скот. А жизнь шла своим чередом: по многочисленным мосткам, переброшенным через улицы, мамы вели своих малышей в детский сад, школьники после уроков отправлялись по домам на моторных лодках и в шутку называли рулевых дедушками Мазаями. На домах, деревьях висели тогда необычные «дорожные» знаки: скажем, восклицательный знак и надпись «Тихий ход!» — значит, под водой забор или другое препятствие. И домохозяйки на лодках в магазин ездили. В станице ведь у каждого своя лодка, а то и две-три.
В Старочеркасской едва ли не каждый камень — живая история донского казачества. Вот турецкие пушки, отбитые под Азовом, массивные ворота Азовской крепости в шестьдесят семь с половиной пудов весом, а толщиною в два вершка, коромысло азовских городских весов в пятьдесят пудов: когда казаки сдавали Азов туркам, не пожелали оставить им крепостные ворота и весы, дотащили сюда волоком.
На печати Войска Донского изображен голый казак с ружьем и при сабле, верхом на бочке. Рассказывают, когда приехал в Черкасск Петр Первый, шел мимо кабака и видит: уселся на пустую бочку казак Григорий Банник, нет на нем ни лоскута драного, только шапка запорожская, лихо набекрень взбитая, да кушак с саблей и пистолетом — полное боевое снаряжение. Смотрел-смотрел царь и вдруг захохотал:
— Бахус! Ей-ей, Бахус!.. А почему сидишь голый?
— Потому и голый, — отвечает ему казак, — что водки твоей, царь, на похмелье не хватило. Пришлось рубаху и портки кабатчику заложить.
— А ты бы ружье заложил.
— Э, нет! В портках или без порток — я все равно казак, а без ружья — кобель дохлый…
Посмеялся Петр, приказал выкупить казаку рубаху и портки. И тут же повелел выбить новую войсковую печать (на прежней изображен был «елень», пронзенный стрелой): голый казак при оружии на бочке. Без той печати с Дона в Москву ни одной грамоты не отправляли.
Почти два века был Черкасск столицей казачьей вольницы, и, как ни странно, именно здесь, в стольном городке Войска Донского, начинались народные восстания, потрясшие всю Россию.
Своим указом Александр Первый разжаловал город Черкасск в станицу, «дабы не было разбойного гнезда», и повелел заложить на Черкасских горах у Бирючьего Кута новую казачью столицу — Новочеркасск. Место для нового города было неудобным: в стороне от Дона, без воды, но выбирал его сам атаман Платов — поближе к своим поместьям. Казаки неохотно покидали обжитые места, но пришлось все-таки подчиниться. Платов пытался было и Дон приблизить к Новочеркасску, заставил казаков копать в пойме Дона канал, но задача оказалась непосильной. Место, где начали рыть канал, и сейчас зовется «Платов прокоп»…
Старочеркасская станица недавно объявлена историко-архитектурным заповедником.
Она известна не только заповедником, — здесь богатый овощеводческий совхоз, тучный чернозем, влаги много. Здешние овощеводы даже в Москву отправляют капусту, лук, помидоры…
А километрах в шести от Старочеркасской вниз по течению Дона есть еще одно заповедное место, к сожалению почти недоступное туристам, если нет у них своего катера или лодчонки. Я говорю об урочище Кампличка (его называют еще Монастырским урочищем), которое расположено на песчаном острове посреди реки. На остров я сам попал впервые, подвезли рыбаки из колхоза «Красный ловец». Впрочем, я знал и раньше, что пароходы, проходя мимо этого острова, салютуют гудками — протяжными, чуть тревожными — в честь краснофлотцев с канонерской лодки «Ростов-Дон», погибших осенью 1941 года в неравной схватке с фашистами. Могилу их венчает памятник-обелиск с тяжелым якорем. Каждый год приезжают сюда в День Военно-Морского Флота речники Ростова и Таганрога, однополчане погибших, чтобы воздать воинские почести товарищам по оружию, возложить на их могилы цветы.
Урочище это издавна, еще со времен Азовских походов, служило местом захоронения донских казаков, сложивших голову в сражениях за Отечество. Везли сюда павших под Азовом на каюках и хоронили по христианскому обряду. Тысяча братских могил — это ли не свидетельство верного служения донцов родной земле? С Петра Первого ведет свое начало традиция салютовать героям пароходными гудками.
…Все дальше остаются за кормой святые холмы Камплички, тонут понемногу в сизоватой дымке купола собора. А через Дон шагают новые и новые гигантские опоры высоковольтных передач — во все концы уходит ток Новочеркасской ГРЭС. Если всмотреться в голубоватые дали, можно разглядеть корпуса этого гиганта энергетики, вобравшего в себя четыре Днепрогэса разом. Агрегат на два миллиона четыреста тысяч киловатт-часов энергии, к которому прорыт от Дона канал (это не Платов прокоп!)… На этот гигант, на ЛЭП, шагающие через Дон, обращали больше внимания юные мои спутники, когда подворачивала «Ракета» к Старочеркасской. У каждого времени свой лик: не старый собор, а ГРЭС занимает умы.
У Кобякова городища
…Ветер воет, проносясь по степи,
И шатает вежи половецки:
Шелестит-шуршит ковыль высокий,
И шумит-гудит трава сырая…
Горностаем скок в тростник князь Игорь,
Что бел гоголь по воде ныряет…
А. Н. Майков
Если верить официальным справочникам, город Аксай находится в пятнадцати километрах от Ростова. Это не совсем так. Наверное, пятнадцать километров действительно наберется от Аксайской пристани до Ростовского порта. В действительности Аксай кончается у Кобякова городища, а сразу за ним уже Ростов.
Кобяково городище — место знаменитое. И не только потому, что человек жил здесь еще с эпохи бронзы, общался с племенами многих стран и народов — в погребениях нашли здесь амулеты из Египта и амфоры из Малой Азии, изделия из балтийского янтаря и боспорские броши. В начале нашего тысячелетия здесь поселились половцы. В Эрмитаже хранятся найденные в Кобяковом городище половецкие шлемы, называли их шишаками. Обычай хоронить воинов в шлемах был только у кочевников, русские хоронили своих ратников по христианскому обряду.
По преданию, в Кобяковом городище томился в плену у половецкого хана Кончака князь Игорь. Отсюда бежал он в Киев, к Святославу — тому, что сказал русским князьям свое «золотое слово»:
Место это заросло звенящей травой, кустарником. Горячий ветер колышет густые заросли, сглаживает рябые лица каменных баб. Этого места не касается плуг: отсюда начиналась Россия — та, что потерпела кровавый урон во время похода Игорева войска и все-таки сдюжила, набралась сил и вышвырнула вон половецкие рати со своей земли…
Есть поверье, будто название «Аксай» происходит от имени знаменитого завоевателя Темир-Аксака, прозванного европейцами Тамерланом. Темир-Аксак вроде бы оставил свое имя и реке Темерник — маленькому притоку Дона в черте Ростова, и Аксайским холмам. Есть и другие версии.
Аксай с 1957 года стал городом, в нем еще и сейчас многое напоминает казачью станицу: куреня на сваях, да и плетни еще вместо частоколов встретишь, старая церковка на взгорье. А рядом современные многоэтажные дома, музыкальная школа, профтехучилище. Еще недавно был в станице полукустарный стекольный заводишко, а теперь вырос огромный завод «Аксайкардандеталь», построены крупный консервный завод, судоремонтные мастерские. Ставропольский газ идет в Москву через Аксай, здесь находится автоматизированная компрессорная станция. Знаменитый на всю страну виноградарский совхоз «Реконструктор» тоже в Аксае.
Лет пять или шесть назад узнали горожане, что бороздит океанские просторы танкер с именем «Аксай», решили подружиться с его командой. Началось с писем и телеграмм. Дело это не простое — письмо к другу, которого никогда не видел. Как найти слова, которые донесли бы привет с донских берегов, скажем, на остров Святой Елены или к мысу Доброй Надежды, поддержать моряков-аксайцев, много месяцев не видевших родных берегов, в их борьбе со стихией, с тоской по родным берегам? Первая встреча была заочной: обменялись «говорящими» письмами. А потом трижды встречались очно: в Новороссийске, Туапсе, Одессе. Отвезли на корабль подарки: баян «Ростов-Дон», изделия местных умельцев, дары аксайских садов и виноградников. А еще песню «Аксайский вальс» о городе Аксае и танкере «Аксай», сложенную инструктором райкома партии Борисом Голотиным. Домой вернулись с ответными подарками городу от моряков: чучелами диковинных морских рыб, фотоальбомами и тоже с песней, ответом моряков на «Аксайский вальс».
Сейчас корабль снова в плавание. Вернется домой — его, как всегда, поедут встречать аксайцы.
Город дал путевку в жизнь многим отважным своим сынам и дочерям. На площади Героев высится бронзовый бюст знаменитого аса, дважды Героя Советского Союза генерала Николая Дмитриевича Гулаева. Каждый год он проводит отпуск в родном городе — неделями пропадает с друзьями юности на рыбалке. Живет в Аксае Герой Советского Союза гвардии старшина Алексей Рой. В легендарном отряде морской пехоты Цезаря Куникова сражался Герой Советского Союза — еще один уроженец Аксая — снайпер Филипп Рубахо. В боях за Новороссийск Рубахо уничтожил триста сорок семь гитлеровцев и геройски погиб в одном из сражений. Ему не исполнилось тогда и двадцати лет… Вот уже больше четверти века — каждый день после того памятного боя — старшина Н-ской роты начинает вечернюю перекличку с имени Рубахо, навечно зачисленного в списки своей части. В Новороссийске есть улица Рубахо и школа его имени. И еще герои — уже Герои Социалистического Труда — виноградари Мария Волкова и Таисия Продан, они тоже живут в Аксае.
Четыреста лет городу — в русских летописях Аксайский стан впервые упоминается в 1570 году. Казаки здесь исконные, «кондовые», еще и сейчас встретишь на улице старика в галифе с лампасами, в фуражке с околышем. Хоть и считались «низовыми», а жили небогато. Слышал я притчу, что с лета и до рождества пели здесь: «Ой да взвеселитесь, храбрые казаки…», а после рождества чаще заводили другую: «Не покиньте, братцы, добра молодца…» Не очень жалую я статистику и в каждом городе, куда приезжал, не увлекался цифрами на щитах и транспарантах, но это вот что-нибудь да значит: сейчас в Аксае самая высокая рождаемость в Ростовской области и самая низкая смертность. Значит, есть в домах достаток и люди живут, как надо…
Пришло как-то в город письмо с танкера «Аксай». Моряки рассказывали, что в далеком порту Кейптаун встретили они земляка, бывшего белоэмигранта. Стоял у пирса жалкий и больной старик в лохмотьях, перечитывал буквы на борту с названием родной ему Аксайской станицы, потом осмелился заговорить с матросом. Только и сказал:
— Сынок, дома будешь, скажи станичникам: обманулся казак Скачков, пойлом заграничным прельстился…
Его пригласили на борт, а он отвернулся, закрыл ладонями лицо и пошел прочь. Может, боялся, наверное, виноват перед Родиной, не знал, простят ли его. А может, не стал бередить незаживающие на сердце раны…
А мне, когда узнал я эту историю, было откровенно жаль, что казак Скачков не подозревает, какой стала теперь древняя станица у Кобякова городища.
Ростов-город, Ростов-Дон…
Много милого и простого
Есть у города Ростова,
Два проспекта «пути пройденного» —
Ворошилова и Буденного.
Неспокойная и бедовая,
Днем и ночью шумит Садовая,
Переулки стоят тихи,
В них читают весь день стихи,
И по этому только судя—
Симпатичные это люди…
Михаил Светлов
Сегодня я дома. В Ростове я прописан, здесь много лет живу, здесь мои любимые книги и рукописи, здесь мои друзья. Я хожу по знакомым улицам, замечаю перемены, что успели случиться за короткий срок, кланяюсь бронзовому Горькому на красавице набережной, фонтанам на Театральной… Я говорю Ростову: «Здравствуй!»
Я расскажу о Ростове, что знаю и чем он мне дорог. Я не хочу называть его столицей Дона, все-таки Дон принадлежит не только ростовчанам, но еще и тулякам, липчанам, воронежцам… Я просто расскажу о добром городе, в котором много солнца и зелени и где улицы пахнут акацией и кленами, а высокое южное небо кажется опрокинутым в голубые волны.
С чего же начать мне свой рассказ? Наверное, с этих вот седых камней на крутом спуске к реке. Годы источили их и все-таки пощадили: крепким оказался первый камень, с которого начинался ордена Ленина город Ростов.
…В августе 1695 года Петр Первый со свитой ехал по донскому правобережью. Направлялся он из Черкасска к Азову, одолевали царя думы о заветном выходе к морю, о том, что нелегкой будет борьба с турками, державшими тогда в своих руках ключи от донского устья. Обозы уже прошли к Темер-нику, и Петр спешил догнать войска. День был жарким, и притомившиеся сановники поотстали.
У берега, под самой дорогой, шумел источник, пробиваясь к Дону. Петр будто бы слезе коня, попросил чашу, напился холодной и прозрачной, как стекло, воды, потом, обтерев усы, произнес:
— Богатый источник!
Так и окрестили с тех пор родник Богатым, а когда возникла здесь слободка, дали ей имя «Богатяновка». Слободка стала много лет спустя одной из посадских улиц. Соседняя с ней улица и сейчас именуется Петровской — в честь царя.
Но в ту пору, когда останавливался у Богатого источника Петр, не было еще ни Ростова, ни Богатяновки.
В декабре 1749 года императрица Елизавета Петровна подписала указ с повелением «учредить таможню русскую на Дону, у устья реки Темерника, против урочища, называемого Богатый Колодезь, где и донские казаки могут вести свою торговлю с приезжими греками, турками и армянами».
Год 1749-й и считают годом рождения Ростова-на-Дону.
К осени следующего года на пустынном берегу у Богатого источника поднялся поселок. И если Петербург был окном России в Европу, то Темерницкий порт стал ее воротами на юге. По тому времени это было единственное место, через которое Русское государство могло вести морскую торговлю со странами Черного и Средиземного морей.
А в Петербурге уже рождался проект мощной крепости, которую предполагалось построить у Богатого источника.
Крепостные стены высоко поднимались над Доном. Из амбразур и с редутов выглядывали стволы мощных по тому времени пушек. А вокруг глубокие рвы — опасная для врага преграда. По всем правилам военного искусства строил Ригельман крепость.
А кто такой Дмитрий Ростовский, именем которого назвали крепость, а позже и город Ростов?
Был в Малороссии казак Данила Саввич Туптало, постригся он в монахи, дослужился до митрополита в Ростове-Ярославском и стал называться Дмитрием Ростовским. А когда в 1709 году умер, церковь с ведома и одобрения царя объявила его «святым». Год закладки крепости на Дону совпал с «открытием мощей» новоявленного святого, вот и решили дать его имя степной крепости.
Когда в 1768 году началась русско-турецкая война, Ростовская крепость стала одной из основных баз русской армии.
Служила крепость и другим целям. Это здесь допрашивали и пытали казаков, осмелившихся пойти против царских порядков. Томились в крепостной тюрьме семья Емельяна Пугачева и мятежный донской атаман Степан Ефремов.
Что же касается Богатого источника, то он до сих пор могуч. Иной раз он нежданно-негаданно дает о себе знать, показывая горожанам свой крутой характер. Пробивают себе родники дорогу, не хотят мириться с тем, что заковали их в бетонную броню…
Старый Ростов именовали русским Чикаго или азовским Ливерпулем. Реже называли маленькой Москвой. Будто на дрожжах поднимался купеческий город после упразднения «за ненадобностью» крепости Дмитрия Ростовского. Выросли, задымили, запели гудки фабрик и заводов, верфей и шерстомоек. Горы зерна, угля, железа, соли, штабеля леса поднялись на берегу Дона. Запестрели на улицах витрины английских и итальянских магазинов, французских парикмахерских…
Мой дом в Ростове находится на проспекте Стачки 1902 года…
Это новая улица в городе. Еще недавно здесь простиралась степь, а посреди — огромная балка, знаменитая Камышевахская балка, где до революции ростовские рабочие собирались на маевки и митинги. 4 ноября 1902 года они пришли сюда не тайком, а многотысячными колоннами с пением «Варшавянки», с красными знаменами в руках. А на городских улицах слышались тревожные свистки жандармов, с шашками наголо и с нагайками спешили они к месту митинга. И все-таки не могли остановить демонстрацию рабочих. И тогда войска начали стрелять в забастовщиков. Склоны балки были орошены кровью, несколько рабочих было убито. Властям удалось разогнать митинг, но рабочие бастовали еще три недели. И три недели в Ростове не дымили заводские трубы, остановились поезда, замерла жизнь в порту, не выходили газеты. Рабочие держались, пока хватило у них сил. Впервые в Ростове пролетарии противопоставили себя царизму — так оценивал эти события Ленин.
Там, где начинается сейчас проспект Стачки, высится памятник — врезанные в дикую скалу мускулистые рабочие руки, мужественные, уверенные в своей правоте лица. А вокруг — громадный цветник, и с весны и до глубокой осени напоминают цветы о пролитой крови. Каждый день в шесть часов утра и в шесть часов вечера над проспектом звучит мелодия «Варшавянки» — наши ростовские куранты.
На несколько километров тянется проспект Стачки. Будто маленькие ручейки, вливаются в него улицы, которые носят имена героев революционных битв — Гусева, Сабино, Ставского, Васильченко, Черепахина, Ченцова… Обелиски — на месте баррикадных боев, мемориальные доски — на бывших штабах восстания, на подпольных оружейных мастерских. Прежней Камышевахской балки давно нет. Есть дома-гиганты в девять и двенадцать этажей, школы, кинотеатры, Дворец культуры железнодорожников.
В бурные дни 1905 года в Ростов приехал с поручением Ленина легендарный Камо. На Темернике — ростовской Красной Пресне — больше недели держались баррикады, и впервые в этом рабочем районе был хозяином Совет рабочих депутатов…
Если бы вы захотели обойти в Ростове все улицы, на которых есть памятные доски, вам потребовался бы не один день: столь знаменито у города революционное прошлое. Вот здесь жил Герман Лопатин — первый переводчик «Капитала» и член Генерального совета I Интернационала. Здесь останавливался Плеханов. В доме на Сенной (теперь улица Горького) была квартира Жозефины Гашер — члена Донского комитета РСДРП, жены и друга Петра Заломова.
Еще памятная доска: «Здесь, в Ростовском порту, работал грузчиком великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький». И дом, где он жил, — тогдашняя ночлежка…
Набережная в Ростове носит сейчас имя Горького. Ее не было прежде в городе — были угольные и лесные склады на берегу, приземистые бараки, завалы мусора. Уже после Отечественной войны повернулся Ростов лицом к Дону: две весны и два лета приходили сюда ростовчане, стар и млад, чтобы расчистить берег, одеть его в бетон и озеленить. Зато порт и набережная сейчас в Ростове подстать крупному морскому городу, любимое место отдыха ростовчан.
У одного из причалов порта тоже есть памятная доска. Здесь стояла в октябре 1917 года яхта «Колхида» — донская «Аврора». Радио «Колхиды» донесло в город известие о свержении Временного правительства и о первых ленинских декретах. Штаб ростовского пролетариата — Военно-революционный комитет — заседал на «Колхиде». Сюда с поручением Ленина прибыл в конце ноября член ЦК Андрей Сергеевич Бубнов.
Советская власть окончательно восторжествовала в Ростове в январе 1920 года, когда стремительным штурмом выбила белогвардейцев из города буденновская конница.
Несколько лет назад сессия Ростовского городского Совета учредила звание «Почетный гражданин». Пока три человека удостоены этого высокого звания: маршалы С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов, освободившие Ростов от белогвардейцев в январе 1920 года, и Герой Советского Союза Гукас Мадоян, чье имя связано с освобождением города от немецко-фашистских захватчиков в феврале 1943 года.
Мадоян — личность почти легендарная. Батальон, которым он командовал, отбил у гитлеровцев железнодорожный вокзал и, оказавшись в окружении, шесть дней держал круговую оборону, отразил тридцать две вражеские атаки, потерял две трети личного состава и все-таки не оставил занятых позиций, пока не подошли главные силы наступавшей армии.
В минувшую войну Ростов дважды переходил из рук в руки. Осенью 1941 года гитлеровцы хозяйничали в нем неделю. А потом городу пришлось пережить еще одну фашистскую ночь — с июля 1942 по февраль 1943 года. В городе хозяйничал враг, но город оставался непокоренным. Взлетали на воздух немецкие склады с боеприпасами, подрывались на минах автомашины и танки, распространялись листовки со сводками Совинформбюро. В Пионерском парке Ростова есть памятник пионеру Вите Черевичкину — он посылал за Дон голубей с донесением в советский штаб. Есть улица его имени — на ее камнях немцы расстреляли мальчика. На Комсомольской площади высится гранитная стела в память о молодых защитниках Ростова. Есть в городе улицы имени героев-ополченцев Малюгиной, Текучева, Варфоломеева, Катаева, командира партизанского отряда Трифонова-Югова…
Под Ростовом воевали против гитлеровцев испанские коммунисты-республиканцы во главе с бывшим командиром интернациональной бригады Гарсия Канель-Энрике. Гарсия и сейчас живет в нашем городе, работает инженером на заводе.
Из далекого Мадрида, минуя полицейские кордоны, доходит к нему маленький листок с подслеповатым печатным шрифтом — подпольная газета «Мундо обреро». Испания борется, Испания ждет своих сынов, и настанет такой день, когда они вернутся к ней…
Никогда не угаснет Вечный огонь у памятника павшим. Над вешним Доном вспыхивают рассветы, и одна заря сменяет другую, а огонь полыхает все таким же горячим пламенем, как и сердца тех, чей вечный сон он бережет.
Неподалеку от аэропорта есть густая роща, ее зовут Балабановской. Сейчас здесь рабочее сердце Ростова — завод «Ростсельмаш». А еще сорок лет назад здесь простиралась ковыльная степь. В 1928 году пришли сюда молодые люди с кирками и лопатами. Их не пугало, что примерзали к металлу голые руки, а под плохонькими пальто и старыми телогрейками гулял ветер: работа грела. Поезда, останавливаясь прямо в степи, выгружали у балки кирпич и камень, металлические формы, арматуру. Еще не было завода, а уже начали прибывать станки и оборудование. Вся страна строила гигант сельскохозяйственной индустрии.
Через год из сборочного цеха вышел первый комбайн. Его украсили цветами, хвоей и провожали на железнодорожную платформу с пением «Интернационала». Завод еще не был достроен, и строители пока жили в палатках, а Родина уже получала машины. Они так нужны были рождавшимся по всей стране колхозам!
Летом 1929 года на Сельмашстрой приехал Максим Горький. «Вы кирпичики кладете, — сказал он рабочим, — а в буржуазных газетах вой идет, про ваш завод пишут, смеются, удивляются, не верят. А надо доказать, всему миру доказать надо… И я верю, вы докажете. Жить хочется, когда посмотришь на вас, писать хочется…»
За границей были не только недруги, но и друзья. Они верили в «Ростсельмаш». Приехал Юлиус Фучик, ходил по цехам, беседовал с рабочими, вечером пел с ними в общежитии русские песни, а уезжая сказал, что увидел на Сельмашстрое завтрашний день своей родины.
…То было четыре десятилетия назад. За это время завод стал гордостью Ростова и страны и выпускает уже не один-два комбайна в сутки, как бывало, а двести пятьдесят — триста! И где только не встретишь машины с маркой «Ростсельмаша» — на Дальнем Востоке и на Алтае, на Кубе и в Болгарии, во Вьетнаме и на берегах Нила.
И еще один гигант поднялся возле старой Балабановской рощи — «Красный Аксай». Правда, он родился не на пустыре, стоял на этом месте до революции небольшой завод. Еще в 1923 году на нем были построены три первых советских трактора — три русских «фордзона». Еще не было Сталинградского тракторного, еще не строились тракторы в Петрограде и Харькове, а Ростов уже подарил стране эти машины.
Правда, «Красный Аксай» не стал тракторным заводом, он, как и прежде, делает плуги, а еще культиваторы, жатки, но родина советского трактора все-таки Ростов.
…Еще один знаменитый завод — ордена боевого Красного Знамени электровозоремонтный, в прошлом паровозоремонтный, — тот, чьи гудки звали ростовских рабочих на стачку в 1902 году и на баррикады в 1905-м. Последний паровоз на заводе был отремонтирован весной 1968 года. Иное время — иные локомотивы.
Это здесь работал донской «левша» Порфирий Потрясаев. На Парижской выставке в канун первой мировой войны ему присудили Большую золотую медаль за изобретенный танк-паровоз. Потрясаев не был даже инженером: сын крепостного мужика, выбившийся из помощников кочегара в чертежники. Одним из первых в стране его удостоили звания Героя Труда. Более полувека отдал Потрясаев заводу, в 1943 году он погиб от фашистской бомбы…
В Ростове строят вертолеты, радионавигационную аппаратуру для морских судов, речные катера, делают холодильники и подшипники, шьют обувь — можно ли все перечислить?.. Спутником радости называют продукцию завода шампанских вин, недавно здесь сошла с конвейера юбилейная стомиллионная бутылка волшебного напитка. На международных ярмарках славятся ростовские баяны и пианино.
Ростов — порт пяти морей. Каждый день швартуются у набережной речные и морские корабли — из Архангельска и Ленинграда, Астрахани и Одессы, Жданова и Батуми. Заглядывают и иностранные гости. Сами ростовчане тоже начинают ходить в заморские «вояжи»: речной теплоход «Ленинская смена» побывал в Неаполе и Риме…
В Ростове есть свой санаторий с двумя отделениями — кардиологическим и желудочным, с источниками минеральной воды, не уступающей по своим свойствам североосетинскому «кармадону». Есть богатый Ботанический сад. Двадцать минут езды на трамвае — и вы… на юге Африки, где-то за рекой Оранжевой. Цветут и плодоносят бананы. Распластало большие мясистые листья алоэ, так не похожее на своих хилых комнатных собратьев. Цветет мексиканская агава: двенадцатиметровый стебель, а на нем соцветие из четырех тысяч белых венчиков. А вот драконово дерево — оно способно возродиться даже при гибели всей наземной части, а лист его сможет разорвать только очень сильный человек… Триста квадратных метров — и шестьсот удивительных растений со всех концов планеты.
Из оранжерей Ботанического сада на улицы Ростова вышли канны, они стали второй эмблемой города. В Берлине, в Трептов-парке, у памятника советскому воину-победителю, тоже цветут ростовские канны: семена их подарили немецким друзьям жители нашего города.
Наверное, я увлекся рассказом о том, что составляет «фамильную гордость» моего родного города. А еще хотелось бы похвастать уникальным зданием цирка, самого большого в стране. И рынком. Говорят, характер города особенно отчетливо виден на рынке. Если побываете здесь, сразу почувствуете, какой щедрый и гостеприимный наш город.
Очень многие ростовчане прославили наш город своими делами и подвигами.
Я хожу по улицам города, узнаю знакомые имена на табличках с названиями улиц, на памятных досках. В этом вот старинном здании с большими якорями, прикованными стальной цепью к порталу, — мореходное училище имени Георгия Седова. Попросту «мореходка». Семьдесят с лишним лет назад по крутой немощеной улице ходил сюда в мореходные классы юноша с самодельным ранцем за плечами. Сын рыбака с Кривой косы, которая недалеко от Таганрога, он добрался в Ростов пешком и… босиком. Сапоги нес под мышкой, чтобы не истоптать в дальней дороге. А потом… Потом он блестяще окончил классы, сдал экзамен на звание штурмана дальнего плавания. Впереди были Морской корпус в Петербурге и трудные экспедиции на Дальний Север. Седов сделал все, что было в его силах, даже больше, но полюса так и не увидел: погиб близ острова Рудольфа, и в вечных льдах затерялась его могила.
Седов был первым, за ним шли другие, и среди них — питомцы Ростовского мореходного училища его имени — Герой Советского Союза капитан Белоусов и контр-адмирал Лунин. Неподалеку от улицы Седова жил еще один «морской волк», но лишь совсем недавно узнали мы, что он наш земляк. Я говорю о Цезаре Куникове.
В двадцать четвертом томе Большой советской энциклопедии о Куникове есть статья. Имя этого человека знает вся страна. Над могилой его в Новороссийске днем и ночью горит огонь вечной славы. О Малой земле, где сражался батальон морских пехотинцев Героя Советского Союза Куникова, сложены легенды, песни. Это был единственный на Черноморском флоте батальон, которому в знак особых заслуг была установлена специальная форма одежды. Куниковцы сражались с гитлеровцами в Ростове-на-Дону, под Таганрогом, в приазовских плавнях, а затем на катерах шли через все Азовское море к Новороссийску.
А как нам, ростовчанам, не считать своим земляком Ярослава Галана? Он родился под Перемышлем, но в годы первой мировой войны семья его нашла приют на Дону. В Ростове Галан учился в гимназии, был здесь очевидцем и участником революционных битв. И первые рассказы, написанные им, — о рабочем Ростове…
Бывает так. Родился и вырос человек на Дону, ушел отсюда в большой мир, живет вдали от родного города, и все-таки, если понадобится ему обрести силы, чтобы увереннее жить, лучше творить, побороть что-то трудное, он снова и снова возвращается сюда. Набродившись вдоволь по белу свету и насмотревшись на всякие чудеса, он не может не обратиться к тем местам, где прошли его первые годы, к тем людям, среди которых сложились его первые пристрастия и первые понятия о добре и красоте.
Таков Евгений Вучетич — человек редкого таланта. Он рос на той самой Скобелевской улице, о которой написал Свирский еще до Октябрьской революции цикл очерков «Ростовские трущобы», и сверстники звали мальчика не по имени, а очень непонятными словами: «Скульптор» и «Полководец». Было отчего: в девять лет он ловко лепил из глины кошек и собак, строгал из дерева сабли и маузеры, которые нужно было заряжать головками от спичек. В шестнадцать лет пошел на шахту, потом начал посещать художественную школу. Поступил в Академию художеств, снова вернулся в Ростов. Перед самой войной знаменитый Щуко пригласил его в Москву строить Библиотеку имени Ленина. В 1937 году была знаменитая скульптура партизанки, представленная на Парижской выставке. Затем — фронт, Вучетич — командир батальона. Тяжкое ранение и личное горе — смерть жены в оккупированном Ростове, розыски сыновей, попавших в приют, — не подкосили художника, а сделали еще мужественнее. Он лепит генерала Черняховского, создает памятник Ефремову для Вязьмы, монумент в Трептов-парке, скульптуру «Перекуем мечи на орала», наконец, величественный ансамбль на Мамаевом кургане. И снова возвращение в Ростов: его незавершенная работа — будущий памятник буденновцам, который сооружается в центре города…
В Ростове родился и начинал творить Мартирос Сарьян. «Сар» — значит «солнечный», «яркий». Судьба словно специально подарила человеку с такой фамилией талант живописца. Когда Первая конная освободила в 1920 году Ростов, Сарьян с друзьями-художниками предложил украсить Ростов тремя памятниками: Марксу, Революции и Интернационалу, а к Первому мая соорудить также памятники павшим борцам и Степану Разину. Памятник Марксу создавали на сбережения рабочих. Маркс, Ленин и Киров — на главных площадях, бронзовый Пушкин — на бульваре имени поэта, Горький — на набережной, Ломоносов — в университетском сквере, Николай Островский — в парке «Ростсельмаша», Витя Черевичкин — в Пионерском саду, Микаэл Налбандян — возле бывшего Армянского монастыря… Наверное, нужен памятник не только Разину, но и соратнику Ленина Александру Мясникову (он и родился в Ростове, и ушел отсюда в революцию), и Николаю Погодину (вам покажут на окраине домик, где он жил). И если не памятников, то хотя бы бронзовых бюстов заслужили такие ростовчане, как члены штаба «Молодой гвардии» Майя Пегливанова, Шура Бондарева и Саша Дубровина; танкист, погибший под Мадридом, Герой Советского Союза Владимир Кручинин; летчик Борис Капустин, направивший свой самолет в озеро, чтобы спасти жизни многих и многих берлинцев (это было уже весной 1966 года)…
Я знаю, что не так просто рассказать обо всех людях, которыми гордится Ростов. Самая меткая женщина в мире — ростовская студентка, заслуженный мастер спорта Лариса Гурвич. Первым в числе советских ученых, вступивших на Южный полюс, был ростовчанин Христофор Закиев. Первым секретарем горкома комсомола в Комсомольске-на-Амуре был ростовчанин Иван Минкин, сейчас он начальник товарной станции. И даже первое заявление с просьбой о зачислении в космонавты написала на имя Циолковского еще в 1927 году ростовская комсомолка Ольга Винницкая. Это очень любопытное заявление, вот оно:
«Многоуважаемый профессор! Я прочла в журнале «Огонек», что немецкий летчик Макс Валье собирается лететь на Луну. Моей давнишней мечтой было полететь на Луну, и поэтому я увлекалась Жюлем Верном. Теперь, прочтя некоторые ваши книги, я решила, что в полете на Луну нет ничего невозможного. И вот я рискую попросить Вас, может быть, Вы можете попросить Макса Валье, чтобы он взял меня с собой?.. Или мне лучше подождать, пока полетят русские, со своими как-то лучше…»
Пришлось Циолковскому разъяснить девушке, что не наступило еще время для полетов на Луну. Девушка не предполагала тогда, что в космос все-таки полетит первым не иностранец, а русский человек Юрий Гагарин.
Интересно, где она сейчас, Ольга Винницкая?
За послевоенные годы в Ростове построен второй город: было в нем до войны два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч квадратных метров жилой площади, а сейчас — пять миллионов триста тысяч. На семнадцать километров вытянулся вдоль Дона Ростов, на восемь — от Дона к северу. Еще совсем недавно там, где пролегли новые проспекты города — Ленина, Октября, Стачки, Коммунистический, Зорге, Мира, — колыхались на ветру метелки кукурузы, простиралась степь. И новые кварталы куда красивее прежних, довоенных…
Я вспоминаю, как восторженно писала о довоенном Ростове известная американская писательница Марта Додд в своей книге «Из окна посольства»: ее покорили удивительно правильная планировка улиц и оригинальная архитектура. В самом деле. Посмотрите на карту города: строгие и ровные линии проспектов и переулков пересекаются такими же аккуратными лучами улиц.
Когда зимой 1943 года фашисты были выбиты из Ростова, все улицы лежали в развалинах. Из Дона торчали фермы взорванного моста, хаос из металла и бетона на «Ростсельмаше», обгоревшие стены там, где высился красавец-театр… В нетопленном зале с оконными проемами, заложенными стеклянными консервными банками, ежась от холода, академик Владимир Николаевич Семенов докладывал партийному активу города о генеральном плане восстановления Ростова, утвержденном Совнаркомом…
Теперь, спустя четверть века, уже ничто не напоминает о ранах войны. В городе не осталось ни одного разрушенного здания. И все-таки весь он в строительных лесах. Строится новый университет. Поднимаются семнадцать этажей гостиницы «Аксинья», корпуса Дворца профсоюзов, новый порт, крупнейший на юге полиграфический комбинат, астрофизическая обсерватория… По решению правительства Ростов включен в число городов, где запрещено строительство новых промышленных предприятий, — около пятидесяти заводов и фабрик выносится за пределы города.
Через двадцать лет в городе будет больше миллиона жителей. Архитекторы рассчитали такой объем жилищного строительства, который обеспечил бы на каждого жителя не менее девяти — двенадцати квадратных метров. Строить жилье придется не только на пустырях, которых уже почти не осталось в городе, предстоит снести старый одноэтажный Ростов. Сколь трудна эта задача, можно судить хотя бы по тому, что весь центр города все-таки одноэтажный (не считая главной улицы Энгельса). Встанут новые дома в четырнадцать, шестнадцать и двадцать этажей, появятся новые площади и новые парки.
Если ты ростовчанин, ты не можешь не гордиться родным городом. Если ты гость, непременно полюбишь его.
От Ростова совсем близко устье Дона и море.
Сегодня рюкзак останется дома. Я доберусь к устью и без него. А в дорогу, как всегда, отправлюсь с рассветом…
Древний щит
Этот город называется Азопф, а по-русски — Азов… Итальянцы называют его Азак. Это название идет от татар, потому что азак у них означает «кручину» или «излучину»…
Крюйс
Как-то попалась мне в руки ростовская газета столетней давности «Ведомости городской управы». А в ней объявление: «Ура! В Ростовском порту знаменательное явление прогресса — появились два паровых судна — «Предприятие» и «Донец». Новейшие машины мощностью в 25–40 лошадиных сил позволяют развить такую скорость, что путь от Ростова до Таганрога может быть проделан менее, чем за сутки…»
Речники сегодня, наверное, улыбнутся. Да и не только речники: чтобы попасть из Ростова в Таганрог на «Ракете» или «Метеоре», понадобится меньше полутора часов. А до Азова и вовсе рукой подать — минут двадцать — двадцать пять…
Уже в шести километрах от Ростовского порта начинается донская дельта — уходит вправо несудоходный, обмелевший Мертвый Донец. Донская дельта — сплошные ерики и протоки: Лютик, Лагутник, Казачий, Старая Егурча, Егуречка, Каланча, Мокрая Каланча, Сухая Каланча, Новая Каланча, Старая Каланча, Богданов, Богданчик, Большая Кутерьма, Подгорная Кутерьма, Малая Кутерьма, Средняя Кутерьма, Старая Кутерьма, Переволока… На сорок больших и малых рукавов делится Дон, впадая в Азовское море. Сходит по весне большая вода, и там, где был ерик, вырастает остров, а на месте бывшего песчаного острова, гляди, уже появилась новая протока, и деревья по пояс оказались в воде. А в самом устье рождаются все новые наносные острова, будто отвоевывает у моря Дон метр за метром, удлиняет свое русло.
Остаются позади знаменитые курганы «Пяти братьев» — вотчина археологов, — плавни с обелисками и братскими могилами на островах — ив гражданскую, и в Отечественную полыхали здесь партизанские костры. Вот уже и станица Елизаветинская — самая низовая из всех станиц. И самая рыбная — еще тысячу лет назад вывозили отсюда греческие купцы красную рыбу почти во все европейские страны. А лет двести назад появились здесь и первые рыбные заводы — казачьи. Здесь и сейчас богатые нересто-выростные хозяйства.
Из Елизаветинской родом знаменитый донской художник Иван Иванович Крылов. Тысячи художников до него пересекали бескрайние русские степи, и глазу их, и сердцу ничего они не говорили. А пришел Крылов — сам степняк — и уловил зорким оком то, что не могли увидеть другие. Уловил лицо степи, уловил то, что затаилось в ней, — вековую душу, смутную и грезящую, за которой чувствуешь не бьющую, но уже готовую родиться своеобразную жизнь. Помните его знаменитую «Степь ковыльную»?..
А еще я знаю, что места эти песенные. Помню, как в Ростове выступал казачий хор с хутора Обуховка, который под Елизаветинской. Представляла этот хор областному смотру «хозяйка» здешних бесчисленных островов Екатерина Терентьевна Ющенко — председатель сельсовета, сама певунья и заводила, потомственная рыбачка, бывшая фронтовичка. Тридцать лет уже хору, и все эти годы руководит им моторист рыбхоза казак Евдоким Халявин. Трижды брали первые места в Москве. Задумают снимать какой фильм про казаков — не обходится без обуховцев: хорошо умеют они петь…
А вдали, на крутом левом берегу, уже встает Азов. Бродят по рыжей степи, раскачивая на седых курганах терпкую полынь, нестреноженные ветры, прижимают дубовые кроны к самой воде. Провода гудят высоко в небе — шагнули через Дон с его протоками и ериками ажурные мачты электропередач. С борта «Метеора» можно разглядеть высокий земляной вал — остатки крепостных стен. В проломе стены каменная арка городских ворот — сами ворота увезены в Старочеркасск. Сколько веков прошло под этой аркой?.. Сколько войн?..
Пристань в Азове маленькая, скромная. По улочке, мощенной камнем, взбираюсь на самый гребень крепостной стены.
Порт шумит внизу. Краны вытянули шеи, будто разглядывая, откуда пожаловали сегодня морские и речные корабли. Если спуститься на другую сторону крепостного вала, попадешь в старый Азов: узкие, кривые переулки, маленькие домишки… А направо гордо сверкают белизной новые дома, высокие, с балконами, увитыми зеленью.
Об Азове написано много. У Ломоносова есть поэма «Петр Великий». Писал об Азове Пушкин. Лев Толстой хотел создать эпический роман об Азовских походах, но не успел это сделать. Роман Алексея Толстого о Петре — тоже книга об Азове. Уже в наше время писатель Григорий Мирошниченко — уроженец донской слободы Ефремо-Степановки — отдал без малого три десятилетия своей жизни работе над романами «Азов» и «Осада Азова», воссоздав всю славную историю города у моря. Когда в Азове учредили звание «Почетный гражданин», первым, кому было оно присвоено, стал Мирошниченко — бывший конармеец и балтийский матрос.
Но новая история Азова еще не написана. А она не менее героична, чем его прошлое.
Азов вечером весь в россыпи электрических огней над скверами и площадями, в шумном великолепии зеленых улиц, в сияющих витражами окнах домов культуры и новых жилых домов. Я не встретил в Азове такой задумчивой тишины, как, скажем, в Задонске или Епифани — тоже старинных городах. Азов — это современный город, в котором древности — остатки крепостных стен или пороховой погреб — лишь достопримечательности, хоть и любопытные, но не главенствующие в облике улиц и площадей.
Город много строит, и потому, наверное, утром среди жителей, спешащих на работу, много парней и девчат в спецовках, забрызганных краской и бетоном. Здесь крупная судоверфь, заводы кузнечно-прессового оборудования и кузнечно-прессовых автоматов. Многие машины, созданные в Азове, не имели когда-либо равных себе в мировой практике. Тридцать восемь зарубежных стран — клиенты азовских машиностроителей. По городу ходит шутка:
— Раньше про нас говорили, что мы здорово уху варим. Уху варить мы и сегодня умеем, но еще научились и рыбу разводить…
А в порту стояли у пирса, тесно прижавшись друг к другу, сейнеры. Они были совсем новенькие, эти будущие труженики моря. Наверное, их собратья, ушедшие с Азовской верфи на Балтику, Каспий или в Черное море год-полгода назад, уже до блеска вылизаны морскими волнами и отполированы рыбацкими сапогами. Эти были с зачехленными надстройками, матово поблескивали свежей краской, пламенели высоко поднятой над водой ватерлинией; они еще не знали, что такое море.
Я попросил ревнивого боцмана, дежурившего у пирса, разрешения подняться с ним вместе на палубу. «Погляди, погляди, только огнем не балуй», — предупредил он. Уже на палубе представился: «Гавриил Скобелев», добавив, что от своего знаменитого однофамильца отличается тем, что не носит усов. Боцман открывал двери кубриков, чтобы показать, сколь удобно жить и работать на корабле двенадцати членам экипажа (такая полагается на сейнере команда). Судостроители и впрямь продумали все до мелочей: салон, камбуз, душевые кабины, радиорубка, новейшие системы навигации и управления судном, современные устройства, до предела облегчающие нелегкую рыбацкую страду. Скобелев похвастал: швы просвечивали изотопами — гарантия полная. А деревянные детали не горят: пропитаны особыми смесями. «Мировой класс!» — заключил он. Назавтра сейнеры уже будут провожать в море, наверное, «окрестят» по традиции бутылками с добрым цимлянским вином, поднимут флаги расцвечивания, а пока… Пока матрос в подвешенной люльке аккуратно подкрашивает надписи на бортах.
За девять веков Азов повидал немало, был ведь он щитом, прикрывавшим Русь от недругов. Одно поколение уступало место другому, и каждое имело право сказать гордо: «Азовцы мы…» Не одряхлел старый город, не состарился и в завтрашний день смотрит с гордостью.
Говорят, в давние времена море подходило к самому Азову. А сейчас оно отступило, и остались в устье Дона бесчисленные рукава да протоки, заросли они так, что попадешь впервые в эти места — непременно заблудишься, — чем не джунгли?
У меня, впрочем, проводники по этим джунглям были надежные — азовские старожилы. Мне оставалось только осматривать заповедные красоты да удивляться, как легко и свободно они ориентировались в лабиринте луговых проток и ериков и как уверенно пробивала наша моторка заросли краснотала, камыша, чакана. Глубины здесь небольшие, без весла не обойтись, то и дело приходится сталкивать лодку с переката. И песок, песок…
Удивительный край, эти заповедные гирла. Охотнику сюда дорога заказана, а к человеку-другу обитатели «джунглей» прониклись доверием. Лебедей не пугает стук моторки, выходят на водопой из чащобы лоси, а случается, и дикие кабаны. Ниже Азова, в Кагальнике, развели в вольерах чернобурых лисиц и норок. А птиц несметное множество. Чайки и другие их пернатые собратья запросто «удят» в ериках рыбу, вода ведь здесь чистая, прозрачная, до самого дна все разглядишь.
Попадается в Гирлах еще и угорь. На Дону его прежде не знали. Он ведь живет обычно в северных реках и нерестится в северной части Атлантики, в Саргассовом море. На Балтике угорь часто попадает в рыбацкие сети. И оказывается, угорь способен переползать довольно большие расстояния по суше, особенно при обилии на земле влаги.
Но вот и остров Перебойный, решаем сделать привал. Прежде был на Перебойном и главный лоцмейстерский пост. Лоцманы выходили отсюда на катерах в море, встречали направляющиеся в Ростов суда и проводили их через гирла. Только вся беда в том, что устье Дона страдает от частых спадов воды под влиянием сильных восточных и юго-восточных ветров. Случалось, пароходы подолгу простаивали возле Перебойного. Вопрос о фарватере был настолько важным, что еще сотню лет назад образовали в Ростове Комитет донских гирл. Понадобилось установить постоянную связь между Ростовским портом и лоцмейстерским постом, чтобы оповещать капитанов судов об изменениях глубин Дона, предупреждать посадку на мель в опасных местах. Поначалу применяли для этого оптическую сигнализацию, но она плохо действовала в дожди и туманы. Использовали даже воздушные шары, чтобы как-то сообщать капитанам об опасности. Ничто не помогало. Решили просить изобретателя радио Александра Степановича Попова установить в гирлах беспроволочный телеграф своей системы.
Первую радиограмму Попов послал на Перебойный с плавучего маяка 27 августа 1901 года. Регулярные же передачи начались 2 ноября, и за два месяца передано было триста депеш. Шестнадцать лет безотказно действовали радиостанции, установленные Поповым на острове.
…Маленький, полуразрушенный кирпичный домик. Уже много лет минуло с того времени, как оказался остров Перебойный в стороне от корабельных дорог, и редко заглядывают сюда туристы. Трудно добраться к Перебойному: катера не ходят, лодкой в заповедник можно попасть только с пропуском от АЧУРа. Иногда приезжают школьники-краеведы сфотографироваться у домика, искупаться.
Море совсем рядом: из окон домика видно, как гуляют бирюзовые волны, как ветер качает крутоносые суденышки и рыбацкие сейнеры, как склонились у береговой кручи над песчаной косой нарядные деревья. И еще рыбацкие домики на том берегу протоки. Густые запахи мокрых снастей доносятся даже сюда — за добрых полтора километра.
Мне не раз говорили азовчане, что работа и романтика в море существуют отдельно, сами по себе. Потому что, когда ударит хорошая волна или придет время брать богатый улов, рыбаку не до романтики. И еще, наверное, потому, что романтические истории о море и его людях живут порой в очень-очень сухопутных краях, а в приморских городах и поселках приходят на огонек только после нелегкой рыбацкой работы.
Я тоже слышал эти истории и на Перебойном, и в рыб-колхозе, которые в гирлах. «Сочинять», наверное, умеют все рыбаки — и любители, и профессионалы. Рассказывали мне похожую на правду историю про то, как «укачало» рыб, — выбросило после шторма целый косяк селедки на взморье. А еще про громадного сазана, который ударил рыбака в грудь, и тот, выпустив невод, потерял сознание. В Рогож-кино, возле Костиной ямы, попадаются такие рыбины на полтора-два пуда.
Служба у инспекторов рыбоохраны беспокойная.
— Вот так и живем, днем и ночью на воде…
А я вспомнил, слушая ачуровцев, как Ленин, уже будучи тяжелобольным, был обеспокоен тем, что в азовских водах появилась молодь осетровых рыб, в том числе почти переведшейся белуги, и эта молодь хищнически вылавливалась. За неразумное ведение хозяйства начальник охраны вод Донпродкома был отстранен от должности. Узнав об этом, Ильич запрашивал РКИ:
«Этого господина только отстранили от должности. Нужно узнать, где он, и проверить посерьезней, достаточно ли он наказан…
Следует не только припугнуть, но и как следует притянуть и почистить за эти безобразия».
Вот какая это служба — АЧУР…
Волны лениво облизывают песчаный берег, выплескивают измочаленный плавник и мелкую полированную гальку. Спокойное, не грозное и не опасное, а просто очень знакомое и очень щедрое море. Те, кто живет здесь, говорят, что в шторм и непогоду бывает море иным.
Когда это случается, а рыбаки еще не успели вернуться домой, весь поселок — от мала до велика — ждет на берегу, пока покажутся на горизонте хрупкие мачты сейнеров. Стоят на сыром ветру долгими часами, хоть и верят, что море не предаст людей, которые посвятили ему свою жизнь. На ветру между двумя вечностями — небом и Мировым океаном, что велик даже и тогда, когда представляет его небольшое и неглубокое Азовское море.
С грохотом проносятся мимо донского устья электропоезда. Они торопятся, даже не замедляют бега, спешат… А, между прочим, берега здесь столь же круты, как и под Новороссийском, и морем так же пахнет, и лунная дорожка уходит вечером далеко-далеко на край света. В народе говорят: искупаешься в такой дорожке — будешь счастливый. Приезжие (не местные жители!) иронически говорят, что Азовское море похоже на озеро: вода в нем малосоленая и коренных морских обитателей нет. И все-таки оно море!
Я видел, как вставало солнце над морем. Сначала разошлась синяя дымка, и развернулась — без конца и края — огромная хрустальная чаша, заполненная водой. Острым серым клином врезается в эту чашу Дон. На ранней зорьке от кипящей воды, как никогда, пахнет йодистым простором и свежестью и начинает испаряться роса, которая сплошь укрыла прибрежные камыши, а за крутыми откосами открываются безбрежные, как океан, ласковые степи — лукоморье.
С высокого холма хорошо видно голубую дельту Дона, а к западу от нее — берега Таганрогского залива, напоминающие по форме изогнутый лук.
Здесь, у Танаиса, проходила когда-то граница между Европой и Азией.
Здесь, у Танаиса, эллинский мир встречался когда-то с миром степных кочевников — сарматов и скифов.
Древнее наименование Дона «Танаис» прочно удерживалось в античной географии. Упоминание о нем можно найти у Геродота и Страбона, у римских историков. В VI веке до нашей эры, когда в Причерноморье появились первые греческие колонии, название реки принял город, выросший в этих степях.
Греки везли в Танаис вино, ткани, предметы роскоши. Сарматы давали им в обмен на привезенные товары рабов, продукты скотоводства, рыбу.
О Танаисе написаны сейчас десятки научных трудов. На его руинах открыт первый в Российской Федерации археологический музей-заповедник. Многие научные экспедиции работали в этих местах, раскопки не прекращаются и поныне.
Я медленно брожу по улицам навеки уснувшего города.
Семь веков простоял Танаис.
Несколько лет назад в этих местах, на берегу Мертвого Донца, сделано еще одно интересное открытие — крепость, возраст которой превышает три тысячи лет! О существовании ее никто прежде не предполагал.
Время не пощадило крепостных стен. И все-таки степные ветры не смогли стереть с лица земли эти развалины, их следы остались. Снят небольшой слой чернозема — и обнажились глубокие крепостные рвы, многочисленные переходы, выложенные камнем. С кем сражались здесь древние воины? История не сохранила свидетельств об этом.
Открыл эту крепость совсем еще молодой ученый археолог Станислав Братченко. Он высказал предположение, что на берегу Мертвого Донца — в степном лукоморье — существовала целая система крепостей и укреплений.
О курганах, больших и малых, разбросанных в бесчисленном множестве по всей донской степи, сложено немало легенд. Их слушал, путешествуя по лукоморью, Пушкин. Осматривал их проездом на Кавказ Лермонтов. Кто знает, какие думы вызывали они у опального поручика, до боли сердечной влюбленного в родную землю? Чехов, хорошо знавший эту степь, жалел, что такой замечательный поэтический материал, как легенды и предания о донских курганах, не нашел еще своего описателя.
Седое лукоморье для меня увлекательная книга, где каждая страница приносит радость открытия.
Чайки над гаванью
…В городе над морем были свои памятные события: тут обедал и ночевал проезжавший на Кавказ Пушкин. Тут умер император Александр I. Тут, в одном из портовых кабачков, произнес свою клятву посвятить жизнь борьбе с тиранией молодой матрос Джузеппе Гарибальди. Тут, на Полицейской улице, в мещанском домике родился великий писатель Чехов, а возле Кривой косы — великий путешественник Георгий Седов…
Виталий Закруткин
Донская моя «одиссея» заканчивается в Таганроге.
От Синявской я добирался сюда морем. Азов не мог стать при Петре Первом окном в Европу: выход по донским рукавам в море затруднялся мелями и перекатами. Другое место нашли на крутой каменистой косе, она называлась Таганий Рог. Берег высокий, глубины достаточны, удобная бухта, рядом родник. На этой косе рыбаки зажигали прежде костры из соломы, помогая товарищам найти дорогу к родным берегам. Так родилась крепость на Таганьем Рогу, к тюркскому «таган» (огонь, маяк) добавили славянское «рог» (мыс, береговой выступ); назвали ее Троицкой.
Таганрог дал выход в море, но столицей для России он не стал. В переписке с Вольтером Екатерина Вторая сообщала, что Петр долго не мог решить, кому отдать предпочтение как будущей столице — Петербургу или Таганрогу.
Заложенный Петром Первым в 1698 году, город был до основания разрушен по приказу того же Петра четырнадцать лет спустя. Россия воевала тогда со Швецией, турки тоже включились в войну. Чтобы избавиться от одного из противников, пришлось уступить туркам Приазовье. И еще дважды на протяжении семидесяти лет заново начинал строиться на пепелище Таганрог. Лишь при Екатерине Второй город окончательно стал русским.
На крутом мысу в гавани стоит бронзовый памятник Петру. «Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный конкурс…» — говорил Чехов о замечательном творении Антокольского. Петр уверенно и гордо смотрит в морские дали, он сделал все, что мог, дабы возвеличить могущество и славу родной земли. Дорогой к этому величию явился для него Дон. Таким изваял скульптор Петра. Басовитые гудки теплоходов не пугают белоснежных чаек, а их не счесть в огромной гавани, что встала на оживленном перекрестке голубых дорог. На высоких реях, на стрелах портальных кранов, возле хрупких яхт, на выложенных камнем причалах днюют и ночуют пронырливые чайки. И на эмблеме порта тоже чайка. Чехов неспроста избрал эту гордую птицу, чтобы бросить вызов старому миру, призвать к обновлению земли…
Из этой гавани уводили свои корабли не только Сенявин, но и Витус Беринг, Ушаков, Георгий Седов… Морская слава России начиналась не в Одессе и Новороссийске, а в Таганроге. В былые времена город этот был, пожалуй, самым значительным на всем Дону и на всем юге, и даже Ростов находился в «штате» Таганрога.
Весной 1833 года в этой гавани бросила якорь итальянская шхуна «Клоринда». Двадцатичетырехлетний капитан Джузеппе Гарибальди привез в Таганрог апельсины. Здесь, в Таганроге, он дал клятву посвятить свою жизнь борьбе за свободу Италии. Об этом напоминает обелиск, воздвигнутый в Таганрогском порту.
В этом маленьком городе родился Чехов, здесь прошли его детство и гимназические годы. «После Москвы я более всего люблю Таганрог», — признавался он. В неприметном его домике стол, книжный шкаф, диван… Недочитанная писателем книга, неоконченная рукопись. Под окнами старые кусты сирени, посаженные еще хозяином. Впечатление такое, что он совсем недавно вышел из этих низких комнат на прогулку к морю и вот-вот вернется… А в этом вот доме была греческая церковноприходская школа, в ней начинал Чехов учиться. Здание бывшей мужской гимназии, Чехов тоже учился в. ней. А много позже, как вышел отсюда в большой мир Антоша Чехонте, учились еще и другие знаменитые таганрожцы — четыре Героя Советского Союза, шесть писателей, здесь учился А. А. Гречко — сейчас министр обороны СССР, Маршал Советского Союза. Городской сад — Чехов проводил в нем долгие часы с книгой в руках. Теперь это парк имени Горького, заслуживший звание лучшего в республике. Старый таганрогский театр — Чеховский театр. Музей тоже создан Чеховым. Библиотека, которой дарил он книги вплоть до самой смерти…
Чехов хотел увидеть в родном городе водопровод, электричество, мечтал организовать на Миусе санаторий — все это появилось уже после смерти писателя, пророчески говорившего в рассказе «Невеста», что на месте жалкого провинциального города «не останется камня на камне, — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны, необыкновенные, замечательные люди…».
А вот здесь родился знаменитый художник Константин Савицкий. Не все знают, что на картине «Отправка новобранцев на войну» изображен перрон Таганрогского вокзала. В соседнем доме жил знаменитый поэт-сатирик Жемчужников — один из тех, кто придумал не менее знаменитого Козьму Пруткова. И еще дом — здесь в семье брата гостил Чайковский… Но пожалуй, более других знаменит дом № 40 на улице Третьего Интернационала — в нем по дороге на Кавказ останавливались Пушкин и Раевский, жил в этом доме и Жуковский. И снова имя Чехова: в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века в этом же доме выступали в хоре братья Чеховы — Антон, Александр и Николай, а руководил хором их отец Павел Егорович. Побывал в этом доме и Айвазовский. Нарком просвещения Луначарский, приехавший сюда после революции, оставил такую запись в книге посетителей: «Этот старинный уголок, сохранившийся сравнительно неприкосновенным, необходимо сохранить как исторический бытовой памятник, главным образом для учебных целей».
Сейчас в этом доме детский санаторий.
Одесситы гордятся Потемкинской лестницей, такая же лестница есть в Таганроге, и она не уступит по великолепию той, что в Одессе. Во время Крымской войны к этой лестнице подошли военные корабли интервентов, и казаки атаковали их с лестницы… в конном строю. Случай, казалось бы, невероятный, но правдоподобный. Казаки лучше интервентов знали повадки Азовского моря: дождались, пока подула «верховна» (норд-ост), ветер выгнал воду из Таганрогского залива, и корабли сели на мель. Тут их и атаковали конники…
Есть в городе памятник советским летчикам — Александру Егорову и Ивану Единархову. В апреле 1943 года во время боевого задания они сбились с курса и вынуждены были сесть на фашистский аэродром, приняв его по ошибке за свой. Когда разобрались в чем дело, было уже поздно: к машине бежали со всех сторон немцы. Запустить мотор не удалось, пришлось принять неравный бой. Выстрелом ракетницы в бензобак летчики взорвали себя вместе с самолетом. Даже фашистов поразило мужество советских пилотов. Чтобы поддержать падающий дух немецкого воинства, фашистский генерал решил похоронить советских летчиков со всеми воинскими почестями. Каково же было негодование гитлеровцев, когда на могилах героев появились цветы, венок, антифашистские стихи и листовки. Много раз убирали немцы цветы с могилы летчиков, а они появлялись вновь и вновь. И тогда, видя, что герои-летчики даже мертвыми продолжают сражаться, полиция закрыла доступ к могилам. Лицемерный фарс провалился…
На комбайновом заводе в цехе бортовых редукторов висит портрет Героя Советского Союза Семена Морозова — руководителя таганрогского подполья. Его расстреляли фашисты в феврале 1943 года. Шестой год уже, как Морозов навечно зачислен в коллектив комбайностроителей. Сто пять шестерен бортовых редукторов — такова сменная норма каждого члена бригады. Значит, сто пять шестерен — норма и Семена Морозова. Ее выполняют ежедневно нынешние сверстники героя. И хотя Морозов никогда не был в этом цехе, хотя он не занимался вместе с другими в университете технико-экономических знаний, хотя на табельной доске ему не отвели места, так как вся бригада перешла на бестабельный учет, он незримо трудится рядом с товарищами.
Фашисты до основания разрушили город, а он встал из руин, залечил раны, восстановил все, что было ему дорого, построил новые дома и заводы. Я был на металлургическом заводе вскоре после войны, он лежал тогда в развалинах и цеха стояли без крыш, а во все концы страны уже уходили эшелоны с прокатом. Теперь не узнать завода. Старый мой товарищ, мастер Андрей Арцыбасов, с гордостью знакомил меня с цехом непрерывной печной сварки труб. Семь метров газовых труб в секунду… В цехе не видно людей: за них все делают автоматы. Другого такого завода нет в Европе. На «Красном котельщике» меня встретил другой товарищ — бывший мой однополчанин Владимир Нужное, и ему тоже было что показать: более половины всех котельных агрегатов для электростанций страны дает Таганрог. Здесь делают такие котлы-гиганты, каждый из которых в полтора раза превышает по мощности Днепрогэс! А в музее выставлен большой приз «Гран при», которым удостоен на Всемирной выставке в Брюсселе таганрогский комбайн «СК-3».
Город живет размеренной, привычной жизнью. Спешат в заводские районы трамваи, лихо печатают по бульвару шаг моряки-седовцы с «Альфы», парень ждет под часами назначенного свидания, в водоем парка металлургов снова вернулись по весне лебеди… И не об этом ли Таганроге мечтал когда-то Чехов: «…жить в нем скоро будет удобно, и, вероятно, в старости (если я доживу), я буду завидовать вам».
…Почти сто лет уже этому маяку, самому высокому в Азовском море: огни его светят на высоте семидесяти метров от уровня Мирового океана, а видно их за девятнадцать морских миль (это тридцать пять километров). Лишь однажды погас огонь маяка — осенью 1941 года, когда в город пришли фашисты. До августа 1943 года не светил он в ночи… А уж с той поры, какой бы ни бушевал шторм и какая бы ни мела пурга, поднимаются по нескольку раз в день по крутой лесенке на сторожевую башню смотритель маяка Виктор Романович Баранов и его жена Людмила Васильевна. А прежде поднимался отец Баранова Роман Ефимович. Смотритель маяка здесь потомственная профессия.
Луч прожектора выхватывает из ночной тьмы рыбацкие сейнеры, многопалубные теплоходы, баржи, танкеры, идущие с Дона и на Дон. Здесь донская волна стала уже совсем-совсем морской, и море несет трудную, беспокойную вахту. Оно, Азовское море, всегда было рабочим морем и всегда служило людям, как умело и могло…
Завтра снова в дорогу
И ветер странствий
В душу мне стучится…
Людмила Щипахина
У каждого из нас есть своя необыкновенная земля. Мы взрослеем и мужаем, а земля все-таки остается неоткрытой, и каждая новая встреча с ней дарит нам радость. И каждый раз, прикасаясь губами к голубым родникам, что питают эту землю, мы не можем утолить жажду. Потому что она, родная земля, неисчерпаема. Потому что она щедра и дарит нам силы. Потому что она — мать. Потому что она может обойтись без любого из нас, но каждый из нас без нее — ничто.
Если человеку никогда не приснится затерявшаяся в зеленых хлебах тропинка, если у него не навернутся на глаза слезы от воспоминаний об услышанной когда-то в лугах за речкой девичьей песне, если ему не захочется, почуяв, как начали двигаться соки в лесу, махнуть рукой на все свои дела и пойти пешком по росе, — значит он никогда не любил по-настоящему родных мест, а лишь притворялся, что любит их.
Свидание с родной землей — это большой праздник. И не нужен вам пригласительный билет на этот праздник — кладите краюху хлеба с солонкой в рюкзак, проголосуйте попутной автомашине или автобусу. Но лучше всего, пожалуй, будет, если отправитесь пешком. И пораньше — с зарей…
Необыкновенная земля начинается сразу за порогом вашего дома. Для этого не нужно хлопотать в профсоюзе туристскую путевку в Каир или на теплоход, совершающий рейсы вокруг Европы. Сейчас даже на Командоры приглашают туристов. А свой край, свой город, река, на которой ты рос, — так ли уж хорошо это вам известно? Ведь как ни говорите, а если мы не напьемся живой ключевой воды из того же источника, откуда пили наши деды и прадеды, нам трудно будет идти дальше.
На исконных землях наших предков мы не туристы. Мы — хозяева. Ни одной стежки-дорожки не берем мы здесь напрокат — каждая начинается в сердце.
Человек в душе своей непоседа. Приходит время — он отрывается от родной земли, уходит искать свой Комсомольск-на-Амуре. Свою Целину. Свою Испанию… Уходит, но оглядывается. Уходит, но никогда не прощается навеки с родными местами. И всю жизнь вновь и вновь будет возвращаться к родным местам, к голубым родникам, что напоили его перед большой дорогой.
Обо всем этом думал я, когда путешествовал от истоков до устья родного Дона. И рассказал в этой книге я далеко не обо всем, что увидел: в сердце осталось больше…
Почти две тысячи километров осталось у меня за плечами, и каждый километр был для меня страной Див. Как Колумб, открывал я заново для себя родную землю, неожиданно прекрасную, полную нескончаемых загадок и легенд. И сейчас, когда нелегкое путешествие позади, я признаюсь: Дон, который был и прежде для меня дорогим, я полюбил еще крепче.
Я хочу, чтобы и у вас тлела искорка этой любви. Нужно просто не быть равнодушным, глядеть чуточку зорче, любить щедрее, и тогда не будет человека богаче, и весь мир станет вашим, и цветы расцветут для вас, и само солнце будет светить тоже для вас…
Потому-то будущей весной я снова накину на плечи свой рюкзак и уйду в чудесную страну Див на свидание с донской землей, изменить которой сердце мое уже не в силах.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
INFO
Моложавенко В. С.
М75 Голубые родники (От истоков до устья Дона). М., «Мысль», 1971.
207 с., 8 л. илл. (Путешествия. Приключения. Поиск)
2-8-2 /158-71
91 (С)
Моложавенко, Владимир Семенович
Голубые родники
Редактор В. В. Леонова
Младший редактор С. И. Ларичева
Художественный редактор С. М. Полесицкая
Технический редактор М. Н. Мартынова
Корректор Т. М. Шпиленко
Сдано в набор 8 декабря 1970 г. Подписано в печать 7 апреля 1971 г. Формат бумаги 60х841/16, № 2. Усл. печатных листов 13,02 (с вкл.). Учетно-издательских листов 11,97 (с вкл.). Тираж 82000 экз. А02483. Заказ № 1639. Цена 42 коп.
Издательство «Мысль». Москва, В-71, Ленинский проспект, 15
Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валовая, 28