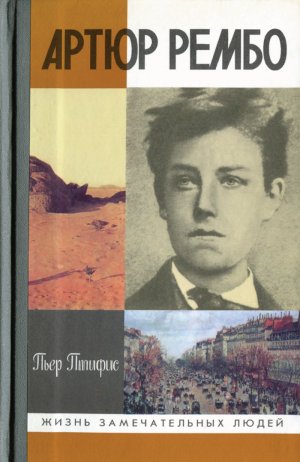
*Перевод с французского выполнен семинаром по художественному переводу под руководством М. К. Голованивской на кафедре французского языкознания филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в составе:
А. Афанасьева (глава 17), А. Глазырин (глава 13), М. Гончар (глава 15), В. Зайцева (глава 11), А. Кажемская (глава 6), К. Кузнецова (главы 7, 8), Е. Наумова (главы 14, 19, эпилог), Ю. Переслегина (глава 12), В. Пономарева (главы 8, 9, 10), Н. Романова (глава 16), М. Роянова (главы 17, 18), И. Свердлов (главы 2,3,4), А. Черненъкова (пролог, глава 1), Е. Юдина (глава 5).
Под редакцией И. Свердлова
Предисловие С. Б. Джимбинова
*Перевод осуществлен по изданию:
Pierre Petitfils. Rimbaud. Paris, Julliard, 1982
Ouvrage publié avec l’aide
du ministère français chargé de la Culture —
Centre national du livre
Издание подготовлено при поддержке
Министерства культуры Франции
(Национального центра книги)
Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.
Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d’aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des affaires étrangères français et de l’Ambassade de France en Russie
© Julliard, 1982.
© Семинар по художественному переводу под руководством М. К. Голованивской (филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова), перевод, 2000 г.
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2000 г.
© «Палимпсест», 2000 г.
ЗАГАДКА РЕМБО
Книга Пьера Птифиса, вышедшая в Париже в 1982 году, дает, пожалуй, наиболее подробную сводку биографических материалов об Артюре Рембо. Птифис то и дело переходит границу, отделяющую строго научное исследование от того, что французы называют «романизированной биографией», то есть некоего гибрида романа и биографии. Работа Птифиса изобилует мелкими фактами, которые, по замыслу автора, должны соединиться в сознании читателя, составив цельную картину жизни поэта. Такой прием имеет свои достоинства и недостатки. Самое главное — читатель не видит широкого контекста развития французской поэзии второй половины XIX века, а без этого трудно понять феномен Рембо, которому во Франции придают такое большое значение. Наша статья ставит своей задачей восполнить этот пробел.
Как ни странно это может показаться, французов иногда называют непоэтическим народом. Декартовское «cogito ergo sum» (я мыслю, следовательно, я существую) в самой заостренной форме выразило рационалистическую, рассудочную подоснову французского мирочувствия. А рассудочность никак не способствует поэзии. Еще перед Второй мировой войной известный английский поэт Альфред Хаусмен обронил в разговоре с Андре Жидом обидную фразу, что у французов между Вийоном и Бодлером, то есть целых триста лет, не было лирических поэтов. Мы слегка поправи-ди бы А. Хаусмена, забывшего П. Ронсара и поэтов «Плеяды», но все же остаются целых два века — XVII и XVIII — без поэзии. Это особенно курьезно, потому что XVII век считается «золотым веком» французской литературы, и имена Мольера, Расина и Корнеля до сих пор предмет гордости нации. А разве не курьез, что в XVIII веке величайшим поэтом Франции считался… Вольтер? Кто теперь помнит его многословные риторические послания?…Мы невольно произнесли слово «риторика». Французская поэзия очень риторична, велеречива, декламационна, пышные эпитеты составляли ее важную особенность вплоть до XX века. Только П. Верлен, старший современник Рембо, попытался, по его словам, «свернуть шею риторике» в своих небывало простых и задушевных «Романсах без слов». Даже великий Бодлер все еще работал в рамках классического александрийского стиха и связанной с ним пышной риторики.
Есть еще одна странная особенность французской поэзии, о которой здесь следует упомянуть. Русский, немец и англичанин всегда или почти всегда по одной строчке смогут сказать, стихи это или не стихи. Ибо стихи для них — это более или менее правильное чередование ударных и безударных слогов в строке (силлабо-тоническая система). А вот француз, даже на основании самой дивной строчки Бодлера или Малларме, не скажет, стихи это или нет, ему обязательно нужна вторая строка, и если число слогов (только число!) в ней окажется таким же, как в первой, то это, конечно, стихи. Дело в том, что французская система стихосложения чисто количественная, то есть силлабическая, без учета тоники (ударений). Иначе говоря, число ударных слогов в строке не имеет значения, лишь бы общее число слогов было одинаковым. Связано это с тем, что французский язык относится к группе языков с фиксированным ударением: как бы велико ни было число слогов в слове, ударение всегда будет на последнем слоге. Исключений нет, даже иностранные имена французы произносят на свой лад — «Пушкин», «Гоголь», «Достоевски». Фиксированное ударение придает некоторую негибкость французскому стиху, но мы уже сказали, что французы вообще не обращают внимания на качественную характеристику слогов и считают только их количество.
Силлабический стих на слух воспринимается как несколько более однообразный и монотонный, количество без учета качества слогов привело к тому, что долгое время основным размером французской поэзии был александрийский стих, который ни в коем случае нельзя отождествлять с русским шестистопным ямбом, последний весь основан на четком чередовании безударных и ударных слогов. Французский александрийский стих — это всего лишь 12-сложник, то есть в каждой строке должно быть 12 слогов, а уж сколько ударений — бог весть…
Таким образом, мы подошли к одному важному выводу — оказывается, все наши, даже прославленные, русские переводы французских стихов (хотя бы переводы В. Левика из Ронсара и Дю Белле), строго говоря, сделаны вовсе не размером подлинника. А для того, чтобы перевести их эквиритмически, следовало бы переводить силлабическим стихом (помните вирши Симеона Полоцкого и Антиоха Кантемира?), что было бы и вовсе художественной катастрофой. Так что не будем сетовать на наших замечательных переводчиков, хотя не следует забывать и о неизбежной условности их переводов.
Теперь можно перейти к истории французской поэзии. В XVIII веке у французов был один подлинный лирический поэт, его звали Андре Шенье, он был особенно любим в России, его переводил Пушкин (не все знают, что некоторые известные стихотворения Пушкина, например, «Покров, упитанный язвительною кровью», являются довольно точными переводами из А. Шенье). Кончил единственный крупный лирик XVIII века плохо: ему отрубили голову на гильотине за контрреволюционную деятельность (одно из многих деяний «Великой французской революции», о которых не любят вспоминать). Шенье был классицистом, подражал античной поэзии, античные реалии переполняют его стихи. Полвека спустя в них влюбился и совершенно изумительно перевел на русский язык граф Алексей Константинович Толстой.
Подлинный расцвет французской поэзии начался только с конца 20-х и в 30-е годы прошлого века. Романтики во главе с Виктором Гюго опробовали все жанры лирической поэзии, а Гюго еще отличался не только завидной плодовитостью, но и необыкновенным долголетием, причем многие самые значительные свои поэмы создал уже в конце жизни, то есть в эпоху символизма (конец 70-х годов). Но даже выдающиеся французские романтики — В. Гюго, А. Мюссе, А. Ламартин, А. де Виньи — не ушли от традиционной риторики, высокопарности, велеречивости. На излете романтизма, в середине 50-х годов, появился, может быть, самый значительный сборник стихов во всей европейской поэзии XIX века — «Цветы зла» Ш. Бодлера. Произошло чудо: этот сборник легко перешагнул языковые границы и получил мировую известность. Обычно считается, что Ш. Бодлер в середине XIX века начал новую европейскую поэзию, поэзию XX века.
Что, собственно, совершил Бодлер? Он показал реально и воочию, что непоэтическая действительность индустриального века может стать материалом для совершенно новой, небывалой поэзии. Название «Цветы зла» можно расшифровать как «красота безобразного». Из «бесконечной тошнотворности вывесок» (фраза из «Моего обнаженного сердца» Бодлера), глядя сквозь нее и поверх нее, преодолевая и преображая ее, можно создать нечто сравнимое с песнями дантовского «Ада», только на современном материале. Влияние этой книги на последующую поэзию, особенно в XX веке, было оглушительным и ни с чем не сравнимым (так было в Германии и Англии, но отчасти и в России).
Но вернемся в 60-е годы прошлого века. Романтизм уже исчерпал себя, расплылся в туманностях и многословии. И вот в 1866 году выходит первый том альманаха «Современный Парнас», рождается новое литературное направление, сразу противопоставившее себя романтикам, — парнасцы. Интересно, что одним из главных теоретиков и практиков новой группировки был вчерашний романтик, далеко не молодой человек — Теофиль Готье. Рядом с ним стояли такие замечательные поэты, как Леконт де Лиль, Теодор Банвиль, Ж. М. Эредиа. Парнасцы поставили себе задачей снова стянуть и собрать расслабленный романтиками французский стих. Главное в поэзии теперь — пластика, зримость и скульптурность. Вместо размытости — фокусировка на четкость и сжатость. Материал же поэзии мог быть самый разнообразный — Леконт де Лиль и Эредиа ушли в экзотику, Восток и тропики, античность и Средневековье. В отличие от Бодлера их меньше всего интересовала современность, она явно не вмещалась в предельно отполированные сонеты Эредиа. Парнасцам было отведено не так уж много времени, потому что в 70-е годы на смену им шло новое направление— символизм. Друг Рембо Поль Верлен, начинавший как парнасец, вскоре стал одним из главных символистов. Несколько упрощая, можно сказать, что если парнасцы представляли собой некий неоклассицизм, то символизм воскресил многие принципы романтизма — музыкальность, туманность, мечтательность и был своего рода неоромантизмом. Как сердце живет систолой и диастолой (сжатием и разжатием), так и искусство движется вечной сменой классицизма и романтизма, то есть объективного и субъективного образа мира. В этом смысле можно сказать, что ничего нет нового под луной. Даже сюрреализм в известном смысле позволительно расценивать как неоромантизм. Но не будем забегать вперед.
Мы подошли к главному герою нашего повествования — Артюру Рембо. Как хотелось ему напечататься в престижном альманахе «Современный Парнас»! Но, увы, второй выпуск вышел слишком рано, в 1869 году, пятнадцатилетний Рембо еще безвылазно сидел в своем Шарлевиле и писал полудетские «Новогодние подарки сирот», а следующий, третий выпуск, появился только в 1876 году, когда Рембо давно уже ушел из литературы.
Абсолютная уникальность феномена Рембо в двух датах: начало творчества (по крайней мере, дошедших до нас текстов) в 15 лет (1869 год), окончание и уход из творчества в 19 лет (1873 год). Таким образом, всего пять лет, которые исследователи бойко делят на три периода — ранний, средний и поздний, причем «поздний» — это все то, что подросток написал в 18 и 19 лет. Но гораздо удивительнее другое — за эти пять лет Рембо успел пройти путь, для которого европейской и, в частности, французской поэзии понадобилось не более не менее как целых пятьдесят лет, то есть до середины 20-х годов нашего века. И вот тут первая загадка Рембо. Как удалось подростку, почти мальчику из захолустнейшего крохотного городка Шарлевиля (попробуйте отыскать его на карте Франции, подскажу — ближе к границе с Бельгией), достичь так рано такого совершенства — ведь гениальный «Пьяный корабль» написан в 17 лет! Для марксистских критиков такого вопроса просто не могло существовать. Они с маниакальной, почти параноидальной настойчивостью выискивали в жизни и творчестве поэта то, что так или иначе связывало его с Парижской коммуной, все остальное оставляя в тени.
Итак, первая загадка Рембо: как и почему французская действительность позволила ему так рано вымахать до такой неправдоподобной высоты? Рембо прежде всего пришел вовремя: символисты сменяли парнасцев, стоял небывалый расцвет французской поэзии. Но почему из захолустья? Тут припомним один факт из биографии школьника Рембо: на выпускном экзамене он со сказочной быстротой набрасывает десятки безукоризненных стихотворных строк на давно уже мертвом и чрезвычайно сложном латинском языке («классическое образование»). Когда-то в Древнем Китае чиновник, чтобы получить следующую ступень на служебной лестнице, должен был написать массу стихов самого разнообразного содержания. К чему это привело, мы знаем: поэзии Танской и Сунской эпохи, Ду Фу и Ли Бо, Ван Вэю и Бо Цзюй И. Одно из семи чудес истории мировой поэзии. Но те хотя бы писали стихи на родном китайском. А тут от каждого школьника в провинциальном коллеже требуют стихов на мертвом латинском языке! Зато уж на родном-то он сможет писать стихи просто для отдыха и развлечения. Во всяком случае это раз в десять легче: скачки в мешках и свободный бег. Не знаю, убедил ли я читателя своей попыткой объяснения раннего совершенства Рембо, но материал для размышления здесь есть.
К тому же Рембо невероятно много читал, чуть ли не все книги шарлевильской городской библиотеки перебывали в его руках. Одно время подросток с жадностью поглощал оккультную и мистическую литературу (в том числе совсем еще свежие тогда книги Элифаса Леви), не случайно одна из основных глав «Сезона в аду» называется «Алхимия слова». Кстати, теоретические высказывания Рембо оказались не менее влиятельными, чем его поэтическая практика. Поэтому будет не лишним напомнить их читателю.
В «Алхимии слова» читаем (здесь и далее цитаты в моем переводе. — С. Д.): «Я приучил себя к простым галлюцинациям: смотрел на здание фабрики и совершенно ясно видел мусульманский храм (мечеть), школу барабанщиков, в которой обучались ангелы, кареты на небесных дорогах, салон на дне озера, чудовищ; тайны <…> Я пришел к тому, что стал считать хаос моего сознания священным»[1].
В последней фразе предельно краткая характеристика будущей поэтики сюрреализма. Проблема оформления, упорядочивания образов внешнего мира вдруг перестала существовать. Задача, оказывается, только в том, чтобы создать этот небывалый хаос в душе творца, а затем можно переносить его без всяких изменений на бумагу или холст. Можно ли упорядочивать то, что уже изначально признано священным?
Развитие и разъяснение мыслей Рембо можно найти в знаменитом письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года (так называемое «Письмо ясновидца»): «Все дело в том, чтобы сделать душу чудовищной, наподобие того, что компрачикосы делали с лицом. Вообразите человека, сажающего и культивирующего на своем лице бородавки. Я утверждаю, что нужно стать ясновидящим, сделать себя ясновидящим. Поэт делает себя ясновидцем путем долгого и систематического расстройства всех своих органов чувств <…> Он ищет самого себя, он пробует на себе все яды, чтобы оставить лишь их квинтэссенцию. Это нестерпимая мука, поэту требуется вся его вера, вся сверхъестественная сила духа, зато он станет великим больным, великим преступником, великим проклятым — и великим Ученым! Ибо достигнет неведомого! Потому что он возделывал свою душу — и без того богатую, — больше, чем кто-либо другой! Он достигнет пределов неведомого, и хотя жаждущий, он даже перестанет понимать смысл своих видений, он все-таки их видел!»[2]
К этим экстатическим откровениям нужно сделать прозаическую справку: видения и прорывы в неведомое происходили не без помощи гашиша и опиума, которые быстренько расстраивали «все органы чувств».
Мы подошли ко второй загадке Рембо: почему после столь блестящего начала поэтической карьеры он вполне сознательно и добровольно ушел из литературы в 19 лет? И прожил еще целых 18, умерев в классическом возрасте поэтов — в 37, после ампутации ноги? На этот вопрос есть ответ самого Рембо. Когда друзья спрашивали его, почему он перестал писать стихи, он отвечал: «Иначе я бы сошел с ума». В свете «Письма ясновидящего» это не пустые слова, а вполне серьезный ответ. «Расстраивать все органы чувств», чтобы галлюцинировать наяву, можно только до определенного предела, дальше — сумасшедший дом. Рембо предпочел практическую жизнь, как мы сейчас бы сказали — бизнес. Что поражает в Рембо, помимо его таланта, так это железная воля. Он был ровно на десять лет моложе Верлена (соответственно 17 и 27 в момент их знакомства), однако ведомым был именно Верлен, а Рембо ведущим. Порвав раз навсегда с поэзией и литературой, он запретил себе всякие попытки возврата или компромисса. И только в воспоминаниях сестры поэта Изабель есть удивительное место, где рассказывается о том, как в предсмертном бреду тридцатисемилетний поэт все ждал корабля, который возьмет его на борт, и бормотал какие-то странные слова, похожие на стихи. Значит, в последние минуты жизни поэзия вернулась к Рембо.
Но пора обратиться и к творчеству Рембо. И тут нас ждет, может быть, главный парадокс поэта: оказывается, мировое значение Рембо основано вовсе не на его стихах, в подавляющем своем большинстве слишком ранних, сентиментальных и не особенно глубоких, а только на двух его прозаических работах — «Сезон в аду» (в другом переводе «Одно лето в аду») и «Озарения». Строго говоря, это не совсем проза, это, скорее, верлибр или ритмизированная проза (припоминаю, как первый русский переводчик этих книг М. Кудинов выиграл процесс у издательства «Наука», которое сначала оплатило ему его работу как перевод прозы, а не построчно, как стихи).
Среди стихов Рембо резко выделяется «Пьяный корабль» (1871). Его можно перечитывать бесконечно. Поразительная сгущенность образов, богатство фантазии (об икре тропических рыб — «горькая рыжизна любви»), но главное — пророческое прозрение всей будущей жизни, вплоть до возвращения после африканских странствий в марсельский госпиталь старой Европы.
Русская поэзия ответила на «Пьяный корабль» почти столь же гениальным «Заблудившимся трамваем» Н. Гумилева. И русский поэт, как и его французский собрат, провидел в нем свою судьбу:
Гумилев ошибся только в орудии смерти: не топор палача, а чекистская пуля оборвала его жизнь в 36 лет…
«Пьяный корабль» переводят у нас уже почти сто лет, начиная с прозаического подстрочника А. Гилярова в его книге «Предсмертные мысли современной Франции». И давно уже насчитывается более десятка поэтических переводов «Пьяного корабля». А ведь фактографической основой этой дивной 100-строчной поэмы послужили доступные каждому школьнику романы «20 000 лье под водой» Жюль Верна да «Труженики моря» В. Гюго. Из всех переводов едва ли не самый точный — Бенедикта Лифшица. Судите сами: привожу первую строфу и даю максимально точный прозаический подстрочник:
То есть:
А теперь чудо-перевод Б. Лифшица:
В переводе сохранен буквально каждый байт информации оригинала, ничего не добавлено от себя, и при этом строчки безукоризненно зарифмованы, александрийский стих передан наиболее близким к нему русским шестистопным ямбом. Так и следовало бы переводить великую поэзию, хотя я понимаю, что это превосходит человеческие возможности.
Птифис упоминает, что когда известный поэт Теодор Банвиль, услышав «Пьяный корабль», предложил Рембо сделать разъяснительное вступление в таком духе: «Я — корабль, который спускался по рекам» и т. д., поэт ответил грубым ругательством в адрес мэтра парнасцев. И в самом деле, Рембо не только ничего не разъяснял, но открыл двери всем разновидностям алогичного, иррационального, произвольного… Словом, провозгласил некую хартию поэтической вольности, за что и был потом прославлен сюрреалистами. Но значение Рембо не только в этом.
Крупнейший католический писатель Франции, поэт и драматург Поль Клодель не раз заявлял, что пришел к вере под влиянием… чтения Артюра Рембо. Позвольте, но ведь Рембо — ярко выраженный антихристианский автор, читатели «Сезона в аду» помнят пафос отторжения христианства и возврата к язычеству. Все разъяснилось, когда я обратился к письмам Клоделя. 80-е годы прошлого века во Франции были периодом почти безраздельного господства позитивизма с его двумя главными «китами» И. Тэном и Э. Ренаном. Вера в безграничные возможности науки и прогресса, объяснимость всего и вся, что же касается религии, то в лучшем случае для позитивиста — это область непостижимого, и чем меньше о ней говорить, тем лучше. Так думал отец позитивизма Огюст Конт, а его ученики И. Тэн и Э. Ренан пошли гораздо дальше в сторону атеизма. Все чудесное, невероятное, волшебное отошло в область сказок, легенд, мифов, не имело отношения к реальной жизни. В этой атмосфере рос молодой позитивист Поль Клодель. И вот в его руки попали «Озарения» и «Сезон в аду» Рембо. И оказалось, что для свободного полета фантазии нет никаких пределов и можно сочетать что угодно с чем угодно и радоваться возникающему переливу красок. Можно видеть салон на дне озера и рояль в Альпах… Мир чудесен, он выше всяких чертежей науки, он создан всемогущим Творцом и управляется им по каким-то таинственным законам. Позитивист Клодель стал католиком. Но это было только начало славы А. Рембо. В 1924 году появился «первый манифест сюрреализма», подписанный Андре Бретоном. Пришел час Страшного Суда над декартовским рационализмом, иссушавшим французскую поэзию в течение нескольких веков. Долой разум и логику, этих тюремщиков всякого творчества! Только автоматическое письмо под диктовку бессознательного и подсознательного может обновить французскую поэзию. Движение захватило чуть ли не всю французскую поэзию. Легче назвать тех, кто в него не входил — это прежде всего Поль Валери, Поль Клодель и Сен Жон Перс. А среди тех, кто входил, едва ли не полсотни известных поэтов: Рене Шар, Поль Элюар, Луи Арагон, Анри Мишо, Раймон Кено, Жак Превер, Робер Деснос и десятки других. Стали искать предшественников нового литературного течения. Их оказалось двое, причем оба — почти современники: Исидор Дюкасс, писавший под псевдонимом граф Лотреамон, и Артюр Рембо как автор двух книг «алмазной прозы» — «Озарения» и «Сезон в аду». Сюрреалисты были единодушны в своих восторгах: как мог Рембо полвека назад, в начале 70-х, пробиться к подлинно сюрреалистской образности, дать такие образцы герметического зашифрованного письма, что даже самые изощренные современные комментаторы опускают руки в бессилии найти какой-либо смысл в некоторых главках «Озарений». Начался настоящий «бум Рембо». В 50-е годы уже выходил специальный журнал «Пьяный корабль», целиком посвященный проблемам рембоведения — редкая честь для поэта.
В нашей стране Рембо, наряду с Вийоном, удостоен двуязычного собрания сочинений (оригинал и русский перевод: Рембо А. Произведения. — М.: Радуга, 1988). Но сколько-нибудь подробной биографии у нас до сих пор не было, если не считать небольшой книжки Ж. Карре, вышедшей 70 лет назад (Л., 1929). Книга П. Птифиса заполняет давно уже зиявший пробел.
Станислав Джимбинов
Люди наконец поняли — поэт проклят с рождения, обречен на ужасающее одиночество, он — сумасшедший.
ЖАН КОКТО(из выступления в Оксфорде в 1956 г.)
Наоборот, я понимаю, и всегда понимал, что невозможно жить мучительнее, чем живу я.
АРТЮР РЕМБО(из письма домой от 5 мая 1884 г.)
ПРОЛОГ
На сегодняшний день о Рембо написано более трехсот книг и, кажется, ни к чему добавлять еще один том в эту библиотеку. После такого количества субъективных оценок, после такого множества исследований — научных и антинаучных, — посвященных поэту, который столь мало написал, быть может, не стоит развивать сюжет, и без того изученный в мельчайших подробностях, даже затасканный. Не рискует ли автор лишь сгустить мрак, окружающий имя Рембо? Во всяком случае, рассказывать о его жизни — значит идти наперекор современным взглядам, согласно которым произведение искусства самодостаточно, а знакомство с автором совершенно излишне и даже вредно, ведь, как говорят, только литературное наследие поэта достойно внимания, а разные истории и случаи из его жизни не более чем любопытны. Иногда такой подход правомерен: так, рассказ о жизни Малларме — жизни совершенно неприметной — не дает ничего нового для понимания его блистательного творчества; но было бы непростительной ошибкой поступать так в отношении таких авторов, как Верлен и Рембо, которые самую свою жизнь бросили на алтарь поэзии. Их жертва и есть их наследие. Все, что написал Верлен, перекликается с его биографией, а стихи Рембо останутся пустым звуком для того, кто не знает этапов его «крестного пути»: удушливую атмосферу, в которой он рос; жестокое обращение матери; его бунт, время, когда он был полон всесокрушающей энергии, способной все сровнять с землей, чтобы построить новый мир — столь же великолепный, сколь и призрачный; жестокое разочарование, когда он понял, что проиграл; ту ярость, с которой он растоптал свою любовь и свои мечты; наконец, решение броситься очертя голову в авантюры, и итог — гибель. Рембо оказался в когтях жестокой судьбы, покаравшей его за попытку вырваться за отведенные человеку пределы.
Рембо прожил недолгую жизнь — всего 37 лет, но она стоит того, чтобы описать ее во всех подробностях. Многие исследователи выбирают по себе те или иные ее моменты, только их считая существенными, например, «революционный», или «бунтарский» период. Другие решительно ничего не хотят знать о последних десяти годах жизни поэта в Африке, когда он, по выражению Андре Бретона, «вернулся в тюрьму», навсегда порвав с поэзией. Иные авторы скатываются и вовсе к бессмыслице, оценивая, а по сути снабжая ярлыками отдельные эпизоды жизни Рембо, объясняя это тем, что жизнь его якобы была лишена всякой логики. Это обманчивое впечатление; она насквозь пропитана логикой — логикой греческой трагедии.
Весьма противоречивые черты характера Рембо (например, он работал исключительно ради денег) смутили критиков, и они вообразили, будто, чтобы объяснить его, достаточно просто подобрать некий ключ. Таким ключом служит то детство поэта, то его склонность к розыгрышам, то гомосексуальные наклонности, то увлечение индуизмом, оккультными науками или магией — мы уже не говорим об иных ученых, которые зашли так далеко, что отождествили себя с Рембо, и, рассуждая о нем, говорят на самом деле лишь о себе. Но, поскольку ни один из вышеозначенных подходов не позволяет составить полной картины, у исследователей опускаются руки; они делают вывод, что жизнь поэта полна тайн, мифов и, наконец, что в ней просто ничего нет. Такой взгляд не нов: еще в 1892 году — спустя всего год после смерти Рембо — некий Адольф Ретте под псевдонимом Фра Дьяволо[3] писал: «Искатель приключений Артюр Рембо никогда не существовал, Артюр Рембо — миф». Известно, каким успехом «мифологический» подход пользовался в 50—60-х годах нашего столетия.
Вот до чего дошли ученые, в своей слепоте — умозрительные идеи нередко лишают людей зрения — забывшие о том, что Рембо был созданием из плоти и крови. А потому неудивительно, что среди огромного числа работ о нем столь незначительное место занимают биографии. Серьезные труды (беллетристика не в счет), посвященные его жизни, можно пересчитать по пальцам. Все, что есть — это «Жизнь и приключения Артюра Рембо» Жана-Мари Карре, неплохой труд, не вполне научный и на современный взгляд чудовищно неполный, работы Старки, полковника Годшота, книги Ундервуда, Франсуа Рюшона, Даниэля де Граафа и, наконец, «Жизнь Артюра Рембо», написанная мною в соавторстве с Анри Матарассо (изд-во «Ашетт», 1962, предисловие Жана Кокто), труд краткий и конспективный, в настоящее время ставший библиографической редкостью.
Сейчас, когда, по словам Алена Борера, «мы, наконец, понимаем Рембо», пришло время написать наиболее точную и ясную его биографию. Это должен быть рассказ, основанный на фактах и документах, рассказ, в котором не будет места предрассудкам, наконец, рассказ, который, как гласит девиз серии «Vivants»[4], будет открывать, а не скрывать.
О Рембо много говорят, но его плохо знают. Происходит это от того, что мы, воспитанные на картезианской догме — превратившейся уже в пагубное пристрастие, — которая предписывает нам любой ценой «понимать» (как будто поэта или стихотворение вообще можно «понять»), очень хотели бы объяснить его феномен рационально. Истина, однако, в том, что поэт ускользает от нас, ибо он родом из иного мира, и ничей мир не отстоял от нашего дальше, чем мир Рембо. Когда у него, ясновидца, «открывались глаза», он возвращался на свою настоящую родину; а она была далеко, очень далеко от сей суетной планеты, где, как он сам сказал в одном своем прекрасном стихотворении, наш собственный ничтожный, жалкий разум и близко к истине нам подойти не даст[5].
Глава I
КОРНИ
Окрестность города Аттиньи, что лежит между горными массивами Арденны и Аргон, — довольно плоская долина, сплошь состоящая из пашен и лугов, окаймленных лесами и орошаемых бесчисленными ручьями. Тут и там разбросаны хутора, на всем лежит печать уныния и нищеты. «В этой части Арденн, — пишет Поль Клодель, — вас встречают скудные пашни, две-три черепичные крыши и знаменитые леса, опоясывающие весь горизонт. Это страна источников, где лениво течет чистая, пленяющая своей глубиной вода, зеленовато-голубая Эна, заросшая водяными лилиями и длинным желтым тростником, что показывается из ее вод»1[6].
Говорят, характер человека формирует земля, на которой он живет. Надо полагать, еще в далеком прошлом крестьяне слились в одно целое с этой неблагодатной землей, которую век за веком обильно поливали своим потом. Здешние крестьяне вынуждены были стать мужественными и терпеливыми, чтобы выстоять перед иноземными нашествиями: сперва сюда пришли норманны, потом англичане, а затем немцы, немцы, немцы — в XVII веке, в 1815,1870,1914,1940 годах…
Когда-то Аттиньи был городом значительным, там проходили церковные соборы и советы знати, созывавшиеся королем. Было время, когда именно здесь вершилась история Франции. Здесь построил свой дворец Хлодвиг II, здесь в присутствии Карла Великого крестился Пипин Короткий, здесь перед всем народом каялся его сын, Людовик Благочестивый. Теперь о былой славе напоминают лишь развалины дворца XVI века в центре города.
В то время в Сент-Вобуре, неподалеку от Аттиньи, располагалось обширное поместье с замком, часовней, парком, садами, прудами, где разводили рыбу, банями и охотничьими домиками; в этом поместье жил правитель Роша. Совсем рядом, в Валларе, находилось еще одно поместье, сведения о нем сохранились в документах XIV века. На окрестных землях работали вилланы, многие из них с незапамятных времен носили фамилию Кюиф.
Как сказал впоследствии их потомок, Артюр Рембо, только после принятия «Декларации прав человека и гражданина» эти мужланы подняли глаза от своей драгоценной земли и увидели, что кроме нее в мире еще что-то есть.
Один из них, по имени Жан-Батист, родившийся в 1714 году, приобрел в 1789-м часть рошского поместья у Луи Ле Сёра, каноника из мезьерской семинарии. В 1791 году он перестроил и отремонтировал ферму (выведя на фронтоне главного дома свои инициалы), затем, войдя во вкус, отстроил и обновил другие дома на рошском хуторе. Он также перестроил и несколько других окрестных ферм, среди них Фонтенийскую, что находилась между Рошем и Вонком и принадлежала его отцу Николя. Именно на Фонтенийской ферме обычно жил наш Жан-Батист Кюиф. Неизвестно, когда именно ему пришло в голову переселиться в Рош и заняться обработкой земель, которые простирались вдоль Мери и Шюффильи. Несчастный, он не знал, что то было проклятое место.
Его история берет свое начало с разыгравшейся здесь семейной драмы и через драму духовную, выпавшую на долю правнука Жана-Батиста, Артюра Рембо, приходит к финалу — уничтожению немцами 12 октября 1918 года всех зданий фермы, кроме сенного сарая, перестроенного в 1933-м и в свой черед разрушенного в мае 1940 года вместе с прочими постройками по соседству, некогда принадлежавшими г-же Рембо.
Непохоже, чтобы Жан (1759–1828), сын Жана-Батиста, унаследовал предприимчивость отца; нам известно лишь то, что он сочетался браком с некоей барышней по имени Маргарита Жакмар.
Настал черед рассказать о деде поэта, Жане Николя Кюифе (1789–1858), земледельце из Роша. Его супругу звали Мари-Луиза Фелиция Фэй, родители ее, как и сам Кюиф, были землевладельцами. Дочь Жана Николя, Витали, будущая г-жа Рембо, мать поэта, всегда отзывалась о нем нежно («мой добрый отец»), а когда в 1900 году производилась его эксгумация, вспоминая о нем, отметила, что он был «высокий и очень сильный человек»2.
Все имеет свои корни в прошлом. Возможно, Артюр Рембо был бы другим, если бы другой была его мать. Ее же собственную судьбу определило печальное событие, произошедшее 9 июня 1830 года: мать Витали скончалась в возрасте 26 лет, оставив троих маленьких детей: Шарля-Огюста, двух месяцев от роду, ее саму, Мари Катрин Витали (ей тогда было пять) и Жана Шарля Феликса (ему было шесть лет).
Таким образом, семья лишилась материнской заботы. Отец делал для детей, что мог, но второй раз не женился. Конечно, бабушка, урожденная Жакмар, принимала участие в их воспитании; тем не менее Витали не замедлила взять на себя роль маленькой — но настоящей — хозяйки дома. Представим себе эту шестнадцатилетнюю девочку, работающую на ферме с утра до вечера, серьезную, экономную, деятельную и крайне замкнутую. В ее жизни не было никаких развлечений, кроме редких прогулок в Вузьер или на сооружавшийся тогда Энский канал; в ее жизни не было ничего, кроме обязанностей и ответственности. С раннего детства она поняла, что ни в чем не может полагаться на братьев.
В 17 лет (шел 1841 год) старший оказался замешан в каком-то происшествии (не то в драке, не то в грабеже), и ему грозила тюрьма; чтобы избежать ее, он завербовался в африканскую армию. Младший, Шарль-Огюст, пьяница и лентяй, был с братом одного поля ягода. Их выходки доставляли Витали необычайные страдания, поскольку выше всего она ставила доброе имя своего рода. Надо заметить, что ей выпала действительно горькая доля: никаких радостей, ни минуты отдыха, никаких знакомств, одна лишь работа изо дня в день, становившаяся все более и более изнурительной по мере того, как старели отец и бабка. У человека, прожившего такую юность, складывается совсем иное представление о том, как устроен мир, чем у ребенка, окруженного родительской любовью, которого отец и мать пытаются, насколько возможно, оградить от грубой реальности повседневной жизни. Стоит ли удивляться тому, что она еще в детстве надела на себя тяжелые вериги долга и что безделье, мотовство и распутство возмущали и оскорбляли ее до глубины души?
Разумеется, именно она вела счет семейным деньгам и не давала ни су брату-лентяю Шарлю-Огюсту, слишком хорошо зная, на что он их потратит. Можно себе представить, сколько криков слышала рошская ферма, сколько сцен и скандалов она перевидала. В один прекрасный день Шарлю-Огюсту это надоело, и двадцати двух лет от роду он женился на девушке по имени Маргарита Аделаида Миссе; свадьбу сыграли 10 февраля 1852 года.
Витали, утратив свое положение полновластной хозяйки дома, в конце того же года приняла решение уехать. Отец отвез ее в Шарлевиль и снял ей квартиру в центре города на улице Наполеона, в доме 12. Дом был самый обыкновенный, на первом этаже в нем располагалась — и располагается поныне — книжная лавка.
Старик Кюиф вынужден был частенько наезжать в Рош (сам он также отныне жил в городе): женитьба отнюдь не остепенила сына. Что до Витали, то она с каким-то высокомерным мужеством удовольствовалась жизнью бездеятельной и одинокой. Что ожидало эту изгнанницу? Судьба набожной старой девы, до которой никому нет дела? Ей нужно было хотя бы выйти замуж… Но она не поддерживала знакомства ни с кем, кроме, быть может, соседей. Шарлевиль, однако, был приятный и оживленный город, торговля в нем процветала, и в базарные дни на улицах было не протолкнуться. Это был даже город примечательный: построен он был в XVII веке, автором генерального плана был Карло Гонзага, герцог Мантуанский; великолепная — в целый гектар — Герцогская площадь была украшена прекрасным фонтаном; наконец, привлекали и окрестности города — извилистые, поросшие лесом берега Мааса. Местное общество состояло из разбогатевших негоциантов, дворян и промышленников маасской долины — долины мрачной, гудящей от шума литейных и кузнечных заводов, — но Кюифам путь в этот узкий кружок был заказан. Витали выходила из дому только в церковь или за покупками.
В конце 1852 года, когда ей было уже 27, Витали случайно познакомилась с тридцативосьмилетним красавцем-офицером по имени Фредерик Рембо. Встретились они на Музыкальной площади[7], куда пришли послушать выступление оркестра 47-го пехотного полка, расквартированного в Мезьере. Это событие было сродни чуду, поскольку замкнутая Витали, почти дикарка, была не из тех, кто знакомится с первым встречным. Она не была хорошенькой, однако ее манеры не лишены были благородства, то есть было видно, что она человек серьезный; все это не могло не пленить офицера, который после суровой жизни под африканским солнцем желал создать наконец свой домашний очаг. События развивались очень быстро, без излишней сентиментальности. 3 января 1853 года будущие супруги приехали к шарлевильскому нотариусу, г-же Дешарм, чтобы утвердить проект брачного контракта3, согласно которому супруги должны были иметь равные права на собственность; имущество невесты состояло в правах на долю наследства ее матери, и, кроме того, отец обязался завещать ей большую часть своего состояния.
15 января капитан Рембо испросил у командующего 4-й дивизией разрешение жениться на мадемуазель Витали Кюиф, за которой отец давал приданое в 30 тысяч франков и которая могла рассчитывать на наследство в 46 тысяч, довольно приличное по тем временам. Бракосочетание состоялось 8 февраля 1853 года — как только было получено разрешение. Свидетелями жениха были полковник барон Лемер и один из друзей, капитан Габийо; свидетелями невесты — дяди Фредерика Рембо, Шарль Морен из Рильи-Озуа и Пьер Огюстен Пьерло из Алландьи.
Откуда же он взялся, красавец-офицер по имени Фредерик Рембо? Чтобы узнать все с самого начала, отправимся в место куда более приятное, чем Рош, — в Нантильи, департамент Сона и Луара. Это «совсем маленькая деревенька в нескольких километрах от Грей, утопающая в зелени, где колокольня возвышается над верхушками деревьев»4, — рассказывает нам Жак Фукар. Упущена одна деталь: склоны холмов, превращенные в виноградники: предки капитана Рембо были виноделами.
Фамильная легенда, изложенная П. Берришоном5, согласно которой семейство Рембо происходит от герцогов Оранских, таким образом, является вымышленной, так же, как и родственные связи с провансальским трубадуром Раймбаутом де Вакейрасом6 (1180–1207). Действительность несколько прозаичнее. Фамилия Рембо связана с немецким по происхождению словом ribaud, что означает «обесчещенный». В средние века так назывались наемники, которые вербовались в войска с целью пограбить побежденных, и Артюр, наш поэт, знал об этом, когда писал в «Одном лете в аду»: «Мои предки если и отрывали задницу от скамьи, то только чтобы пограбить». В провансальском слово ribaud восходит к позднелатинской форме ribaldus или rimbaldus. Мистраль в своем Провансальском словаре приводит выражение «Cassa Ribaud» («наемник-пехотинец»), описывая комендантский час.
Итак, в Нантильи жили два винодела, братья Рембо, Гийом (1669–1739) и Габриель (1680–1735), у каждого из них была большая семья. Жан-Франсуа, один из сыновей Габриеля (год рождения 1730), открыл в Нантильи сапожную мастерскую. Это был человек непостоянный, из тех, что часто переезжают с места на место. Овдовев, в возрасте 47 лет он женился второй раз, на двадцатипятилетней Маргарите Брот (или Бродт), дочери портного. Однако жена так отравила ему жизнь, что однажды воскресным утром 1792 года (его сыну было всего шесть лет) он исчез, не попрощавшись и не взяв с собой даже перемены платья; далее его следы затерялись7. О Маргарите Брот известно, что она снова вышла замуж, сперва за дезертира-датчанина по имени Франсен, потом за одного ярмарочного торговца и кончила свои дни в совершенной нищете.
Дед поэта, Дидье, единственный ребенок Рембо и Брот, родился 19 апреля 1786 года. Он владел в Парсее портняжной мастерской; 27 июня 1810 года он женился на Катрин Тальяндье, дочери землевладельца. Позже, в возрасте 28 лет, мы находим его по-прежнему хозяином портняжной мастерской, но уже в Доле, департамент Юра. Он умер 18 мая 1852 года.
Именно в его время закрепляется написание фамилии Рембо — Rimbaud; до сих пор ее писали и как Rimbaut, и как Rimbaux, Rimbault, Rimbeaud — всех вариантов не перечесть.
У Рембо и Тальяндье было четверо детей. Двое из них, как говорят, погибли во время волнений 1830 года, однако подтверждений этому обнаружить не удалось. Зато судьба выжившего ребенка, Фредерика, прослеживается ясно. Ему удалось избежать обыденной монотонности этого бренного существования: он стал, что называется, «бравым воякой»8.
Родился он 7 октября 1814 года в Доле. В 18 лет, по совету кузена, офицера Иностранного легиона в отставке, Фредерик записался добровольцем в 46-й пехотный полк. Ему пришлось семь лет ждать, прежде чем 6 мая 1839 года он получил звание старшего сержанта. 13 апреля 1841 года он был произведен в чин младшего лейтенанта и переправлен в Алжир в составе пешего стрелкового батальона. Пешие стрелки, впоследствии прозванные «орлеанскими охотниками», отвечали за опасный участок фронта в районе Тлемсена, где они преследовали отряды Абд аль-Кадира. В том же батальоне служил Франсуа Ахилл Базен, будущий маршал.
В 1845 году, после очередного повышения, лейтенант Рембо был переведен в тлемсенский резерв, и это, как оказалось, спасло ему жизнь: его батальон был уничтожен в бою при Сиди-Брахиме. В июле 1845 года его назначили управляющим арабскими делами, а в июне 1847-го — главой Арабского отдела в Себду, то есть ему пришлось оставить шпагу и взяться за перо. Себду, небольшой аванпост с гарнизоном в 280 человек, находился в восьмидесяти километрах от марокканской границы. Его обязанности были чисто административного свойства и заключались в составлении раз в две недели отчетов о деятельности противника, поведении местных жителей, о положении на местных рынках, а также прочих делах, таких, как деятельность судов, работа полиции, сбор налогов и т. п. Он более чем достойно справлялся со своими обязанностями. Опубликованы некоторые из его отчетов, сохранившиеся в Архивах заморских территорий Франции9. Отметим среди прочего отчет о налете саранчи, случившемся в июне-июле 1849 года; его стиль великолепен и до странности похож на стиль его сына Артюра. Письмо Фредерика Рембо отличается ясностью, краткостью и точностью выражений. Он мастерски владел пером — ни излишних прикрас, ни неуклюжих оборотов; он писал, как заправский секретарь суда, аккуратный и ясно мыслящий. Другие его труды остались в рукописях; среди них «Военная переписка», «Трактат о воинском красноречии» и «О войне». Первые биографы его сына, г-н Бургиньон и г-н Уэн писали: «Это труды необыкновенные. В первом насчитывается 700 страниц большого формата, мелко исписанных, он сопровождается комментариями и пометами. Второй представлял собой сравнительный анализ античных и современных ораторов, избранные речи которых были изданы обществом офицеров в 1818 году. Третий замечателен изрядным количеством карт и описанием отдельных эпизодов Алжирской, Крымской и Итальянской кампаний»10.
Этими сведениями мы обязаны Изабель Рембо, сестре Артюра; ее мать отказалась разговаривать с вышеупомянутыми биографами и на просьбу показать рукописи также ответила отказом. От г-на Бургиньона мы знаем, что г-жа Рембо использовала листы сих необыкновенных трудов на свой манер: она заворачивала в них покупки, сделанные на шарлевильском рынке.
Для полноты картины надо также упомянуть сохранившуюся французскую грамматику, снабженную примечаниями, и различные арабские бумаги, в том числе утерянную ныне тетрадь, озаглавленную «Шутки, игра слов и т. д.»; говорили также о томе Корана с пометками Фредерика Рембо.
Абд аль-Кадир капитулировал в 1847 году; лейтенант Рембо оставался в Себду до самого 1850 года. Вернувшись во Францию 26 июня 1850-го, он был вынужден прозябать где-то в резерве, пока не получил звание капитана и назначение во второй батальон 47-го пехотного полка, расквартированного в Арденнах. Штаб полка и 2-й батальон располагались в Мезьере, 1-й батальон — в Живе, а резерв — в Рокруа.
Нетрудно себе представить, что капитан Рембо смертельно скучал в этом маленьком городке с узенькими улочками, где почти ничего не происходило. Должно быть, он тосковал по африканскому солнцу, по пескам и атакам, по былой ответственности и постоянным опасностям.
Вот тогда-то он и оказался в Шарлевиле, на Музыкальной площади…
Витали определенно испытывала нежные чувства к красавцу-офицеру. Она мечтала о прочном браке, основанном на строгих религиозных и моральных принципах, о детях и о том, как строго она будет их воспитывать, дабы научить быть стойкими в неудачах и жизненных неурядицах. Капитан Рембо, в свою очередь, отметил достоинства этой крестьянской девушки: несгибаемую волю, сильное чувство долга, врожденную склонность к экономии и требовательную строгость в одежде.
Молодожены поселились у отца Витали, все в том же доме 12 по улице Наполеона.
Прежде чем продолжить наш рассказ, следует, однако, описать обоих супругов (фотографий или портретов не сохранилось).
Вот что говорит о Витали Рембо ее зять Пьер Дюфур (литературный псевдоним Патерн Берришон): «Это была женщина выше среднего роста, с темно-русыми волосами над широким лбом, с лицом несколько смуглым, аккуратным прямым носом и миниатюрным ртом. Худая, с длинными, немного узловатыми руками, она выглядела высокомерной и в то же время энергичной».
Он замечает, что под этой суровой оболочкой скрывалась «душа необыкновенно тонкая, чуткая», и добавляет, что она была женщиной крайне нервной и в детстве страдала сомнамбулизмом. Наконец, следует сказать, что она хорошо владела пером. Ее письма, опубликованные Брие11, носят отпечаток благородства и простоты, их стиль напоминает «великий век»[8].
Жан Бургиньон рисует ее крестьянкой среднего роста, с лицом морщинистым и довольно красным, с ясными синими глазами. «Я ни разу не видел, чтобы она смеялась или улыбалась», — добавляет Луи Пьеркен, один из друзей Артюра.
К несчастью, те самые ее качества, что пленили капитана Рембо и выглядели издалека как несомненные достоинства, вблизи оказались невыносимыми недостатками. Ее глубокая религиозность проявлялась в виде чудовищной нетерпимости: она сочетала в себе ограниченность янсениста с железной логикой гугенота. Добавим к этому изрядную долю фарисейства — мнение окружающих очень много значило для нее. Она судила о людях больше по благосостоянию, чем по достоинствам, презирала бедняков и обездоленных, считая их ни на что не способными неудачниками.
Решимость ее характера питал безграничный деспотизм: она не терпела никаких посягательств на полноту своей власти, никаких советов, никаких упреков. Нет ничего удивительного в том, что она перессорилась со всеми соседями и, так сказать, со всем миром. Женщина с чувством долга? Что ж, капитан получил то, что хотел. Однако проявление чувства долга — это подарок: важно не то, что дарят, а то, как это делается. Исполняя долг, большинство людей испытывает радость и обретает душевное равновесие. Она же находила в этом повод для гордости и какое-то мрачное наслаждение. Нельзя сказать, что Витали была совершенно неспособна любить, но объект любви должен был покоряться ее воле. «Господь наградил меня сильным сердцем, полным мужества и отваги», — писала она Полю Верлену. Чем больше ей сопротивлялись, тем больше она сжимала тиски. И если позже она будет жаловаться, что несчастна, что ей на долю достались одни лишь страдания и слезы, так это потому, что взлелеянная ею жесткая дисциплина отогнала от нее всех, и вокруг Витали образовался вакуум. Мы увидим, как ее оставит муж, как старший сын сделается разносчиком газет, а потом завербуется на пять лет в армию только для того, чтобы досадить ей, а младший, Артюр, будет мечтать об одном — как оказаться от нее подальше. Витали чуть не порвала отношений со своей дочерью Изабель, добрейшей душой, только из-за того, что та вышла замуж не за солидного арденнского землевладельца, а за какого-то парижского писаку.
Марсель Кулон, описывая Витали, говорил в шутку, что она представляла собой нечто среднее между Брутом и мадам Лепик, матерью Поля де Карота. Верлен — не менее шутливо — называл ее матерью Гракхов.
Что за человек был капитан Рембо? Мы мало знаем об этом, и оттого гораздо хуже, чем могли бы, знаем его сына. Патерн Берришон никогда не видел его самого, но, вероятно, видел какой-то его портрет; он описывает его так: «Голубоглазый блондин среднего роста, с высоким лбом, коротким, чуть вздернутым носом, пухлыми губами, усами и эспаньолкой по тогдашней моде». Он добавляет также, что характер у него был «непостоянный, беспечный и необузданный». Позже мы увидим, что он был совершенно не способен смириться с обстоятельствами, которые были ему неприятны. Кроме того, его стиль свидетельствует об импульсивности и высокомерии. Высказывания на его счет иных биографов совершенно необоснованны: то, что Рембо в свое время был занят в Арабском отделе, не доказывает, что он пил, а то, что полки, где он служил, постоянно переезжали с места на место, вовсе не говорит о том, что у него была склонность к бродяжничеству. Наконец, нет никаких доказательств его безверия, а то, что он был погребен в полном соответствии с церковным обрядом, свидетельствует скорее об обратном. Но вполне возможно — и вполне понятно, — что ханжество жены его раздражало. «Каждый раз, когда ей случалось проходить мимо маленькой статуи Девы Марии, стоявшей в нише в стене, выходившей в сад, она становилась перед ней на колени; так происходило порой по двадцать раз на день», — пишет Брие. «Каждый вечер, прежде чем удалиться в спальню, она благословляла дом, и отдельно, уже лежа в кровати, горничную Мари».
К счастью или к несчастью, они поженились. Скорее всего к несчастью.
Примечания к разделу
1 Предисловие к Oeuvres complètes de Rimbaud, Mercure de France, 1912.
2 Письмо г-жи Рембо к Изабель от 24–25 мая 1900 г.
3 Брие С., Rimbaud notre prochain.
4 Фукар Ж., «Les ascendances bourguignonnes et comtoises d’Arthur Rimbaud», в le Bien public (Dijon) от 27 октября 1954 г.
5 Берришон П., Jean-Arthur Rimbaud, le poète.
6 Кулон M., la Vie de Rimbaud et de son œuvre, c. 24.
7 Ср.: Анри Ж., «Note sur les arrière-grands-parents d’Arthur Rimbaud»: Etudes rimbaldiennes, том III (1972).
8 Ср.: полковник Годшот, Arthur Rimbaud ne varietur, том I.
9 Ср.: Rimbaud vivant, № 5 (1974).
10 Буржньон Ж., Уэн Ш., Revue d’Ardenne et d’Argonne, ноябрь-декабрь 1896.
11 Брие С., Madame Rimbaud.
Глава II
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Шарль-Огюст получил от отца довольно крупную сумму денег для ведения хозяйства на рошской ферме (закупка инвентаря, семян и т. п.). Кюиф-старший счел это своей обязанностью, ведь для Витали он сделал очень много, и сын имел право рассчитывать на помощь отца; старик полагал теперь, что может наконец отойти на покой. Но, к его огорчению, негодяй снова стал пить и так грубо обращался со своей женой, что ей пришлось вернуться к родителям. Оставшись один, Шарль-Огюст завел привычку заставлять своих гостей — иногда, похоже, под дулом винтовки — напиваться с ним до полного изнеможения; скандал следовал за скандалом. Знал ли о подобных выходках Кюиф-старший? Трудно сказать, но он был не из тех, кто может сносить такое, и скорее бы отправился обратно в Рош восстанавливать почти разоренную сыном ферму. Однако скоро стало ясно, что его присутствие в Шарлевиле совершенно необходимо — медовый месяц наших молодоженов был очень короток, и 1 мая 1853 года капитан Рембо должен был оставить уже беременную жену и вернуться в расположение своей части под Лионом.
Через девять месяцев после свадьбы, 2 ноября 1853 года у Витали родился мальчик; его назвали Жан Николя Фредерик и отдали кормилице из Мезьера. Отец ребенка в это время гарцевал на лошади в окрестностях Романа, Анноне и Баланса.
В начале 1854 года капитан получил отпуск и приехал в Шарлевиль. Должно быть, он был рад прижать к себе сына, но тем не менее быстро понял, что терпеть не может детей, хоть это и не помешало ему сделать следующего ребенка.
В том же 1854 году капитан получил орден Почетного легиона; в Роше тем временем дела шли все хуже. Шарль-Огюст почти уже промотал деньги отца, когда на ферме неожиданно появился его брат. Он сильно загорел под алжирским солнцем, и его тут же прозвали «африканец». При виде своего непросыхающего братца Жан Шарль испытал такое омерзение, что «перекупил» у того ферму и попытался поставить ее на ноги. К несчастью, он ничего толком не успел сделать. 3 декабря 1854 он скончался; причина смерти осталась неизвестной.
К этому времени у г-жи Рембо уже родился второй сын, Жан Николя Артюр, герой нашего рассказа; произошло это 20 октября, в шесть часов утра. Капитан не присутствовал при рождении: за несколько дней до этого он был уже в Лионе, в своем полку.
Запись в книге актов гражданского состояния сделана дедом, Жаном Николя Кюифом и скреплена подписями Жана-Батиста Эмери[9], служащего мэрии, и Проспера Летелье, торговца книгами, хозяина дома. Крестили будущего поэта 20 ноября в церкви Гран Приёре (собор Нотр-Дам был построен только в 1860 году); совершил таинство викарий Констан Грисон. Крестным отцом был дед Кюиф, крестной матерью некая Розали Кюиф, по всей вероятности, его кузина.
С самого рождения жизнь Рембо овеяна мифами и легендами. Патерн Берришон не пропускает ни одной мелочи в истории его детства, о котором ему рассказывала его жена Изабель, сестра Артюра; своим рассказом он стремится убедить читателя, что на землю тогда явилось существо сверхъестественное. Например, Артюр якобы родился с открытыми глазами, что свидетельствовало о его будущей любознательности; нескольких месяцев от роду он якобы выбрался из колыбели и ко времени, когда его хватились, дополз практически до входной двери — это был первый из ряда его бесчисленных побегов.
С раннего детства его отправили на воспитание в семью одного торговца гвоздями в Жеспенсаре, близ границы с Бельгией. И вот, приехав туда в один прекрасный день, мать поэта была немало удивлена, обнаружив своего сына нагишом в ящике для соли, в то время как предназначенные для него кружевные пеленки красовались на его молочном брате.
Подобных историй можно рассказать великое множество; но довольно сказок о «безмятежном детстве».
Представляется правдоподобным, что г-жа Рембо поспешила в Рош, как только ей позволило здоровье; возможно, она даже присутствовала на похоронах своего брата Жана Шарля. С большей уверенностью можно утверждать, что она пыталась подыскать арендатора, который смог бы заменить Шарля-Огюста — последнего она просто выставила за дверь. Сей несчастный стал нищим бродягой; нанимался тут и там сельскохозяйственным рабочим, ночевал где придется, а временами жил на подаяние. Рассказывают, что как-то ему случилось снова оказаться в Роше и постучаться в родной дом. Г-жа Рембо сделала вид, что не узнала его, потребовала у него документы и, не обращая внимания на вопли брата, сунув ему немного денег, захлопнула дверь перед самым его носом. Он отдал Богу душу 31 января 1924 года. В свой последний час он отказался от исповеди, а вместо священника потребовал… красного вина.
Приключения капитана Рембо тем временем продолжались. В мае 1855-го он поднялся на борт «Зеноби» и направился в Крым. На передовую он не попал и увеличивал славу французского оружия тем, что рыл окопы вокруг Севастополя; сражаться ему пришлось только с начавшейся там эпидемией холеры.
Летом 1856 года, в то время как его полк направился пешим маршем в Париж — 25 дней пути! — он оставил его на сборном пункте в Гренобле; находясь там, он получил разрешение увидеться с семьей. Сохранившиеся в Шарлевиле документы говорят, что в том году — ив следующем тоже — Жан Николя Кюиф, как и прежде, жил на улице Наполеона, но его дочь Витали «уехала». Значит, встреча супругов произошла уже в Роше.
Встреча имела последствием рождение дочери, которую назвали Викторина Полина Витали; она появилась на свет 4 июня 1857 года и, увы, покинула его через месяц. В одном из стихотворений Артюр говорит: «Это она, в розах, маленькая покойница» (Озарения, Детство, И); должно быть, это воспоминание о могиле Полины — мать регулярно водила детей на кладбище.
Вскоре скорбь о потерянной девочке рассеялась: в сентябре 1857 года капитан вновь получил отпуск, и 15 мая 1858 года в семье родилась вторая дочь, Жанна Розали Витали; отец и на этот раз не присутствовал при родах — за некоторое время до того он отбыл обратно в Гренобль.
Артюру меж тем было уже четыре года. Примерно тогда, повествует Берришон, произошла следующая история: в один прекрасный день, вскоре после рождения Витали, малыш Артюр висел на подоконнике книжного магазинчика Летелье и пытался взобраться на него, чтобы получше разглядеть алые переплеты книг и лубочные картинки, украшавшие витрины. Старик Летелье незаметно прокрался ему за спину, схватил его и спросил:
— Что это тебя тут так привлекает?
Малыш показал на картинки.
— Хочешь, я тебе их продам?
— У меня нет денежек.
— A-а, у тебя нет денежек…
— Да, нет. Но если хотите, я отдам вам мою младшую сестренку.
Капитан редко навещал семью; 47-й пехотный полк по неизвестно чьей прихоти перебрасывали из пункта в пункт — из Гренобля в Дьепп, из Дьеппа в Страсбург, из Страсбурга в Селеста.
В конце августа 1859 года, когда жатва в Роше закончилась, г-жа Рембо, наняв детям гувернантку, сумела выбраться к мужу в Селеста — это была ее первая в жизни поездка на отдых. Но вскоре злосчастный полк должен был снова поменять дислокацию — из Селеста в Лотенбург, из Лотенбурга в Вейсенбург — так что она вынуждена была вернуться.
Через два-три месяца уже нельзя было не заметить, что она снова ждет ребенка. Г-н Летелье был так напуган столь регулярным приумножением потомства своей квартирантки, что попросил ее подыскать себе другую квартиру.
Каково это — ожидать четвертого ребенка и оказаться без крова!
Сдавать квартиры внаем в Шарлевиле начинали обычно после праздника святого Иоанна (27 декабря). В ожидании г-жа Рембо и ее выводок должны были довольствоваться номером в отеле «Серебряный Лев», в центре города. Когда год подошел к концу, г-жа Рембо согласилась на первое же предложение — квартиру на улице Бурбон (вероятно, дом 73); улица была застроена крохотными одноэтажными домами, жили там рабочие, а лавки и магазины вовсе отсутствовали.
Там, 1 июня 1860 года, родилась еще одна девочка, Фредерика Мари Изабель.
Судя по сохранившимся документам, капитан Рембо на некоторое время приехал пожить с семьей. Тогда-то отношения супругов уже всерьез разладились. Капитан привык командовать и никак не мог совладать с таким же авторитарным характером своей супруги, которая становилась все сварливее от необходимости мириться с более чем средним достатком и простотой нравов, среди которой им приходилось жить. Никакого покоя и бесконечные оплеухи детям. В то лето в доме царил сущий ад. Артюр (тогда ему было шесть лет) вспоминал в разговоре с Эрнестом Делаэ одну характерную сцену: его отец, в приступе ярости, швырнул на пол серебряную чашу, которая украшала буфет в столовой. Когда же, опомнившись, он поднял ее и аккуратно поставил на место, мать, чтобы не остаться в долгу, снова швырнула ее на пол и точно так же подняла и поставила обратно.
Незадолго до 16 сентября 1860 года, даты очередного передвижения 47-го пехотного полка — на этот раз в Камбрэ — супруги расстались (ей было 35, ему 46 лет). Разрыв был окончательный — у нас есть все основания полагать, что они с тех пор даже не переписывались.
Капитан прибыл вместе с полком в Камбрэ, затем в Валансьен, затем на сборный пункт в Шалоне. Так продолжалось еще несколько лет, в конце концов он подал прошение об отставке. 14 августа 1864 капитан Рембо оставил армию и обосновался в Дижоне1.
От него осталась лишь грамматика Бешереля-старшего (Париж, Симон, 1854), толстенный том в 878 страниц, испещренный его пометками. На форзаце мы читаем следующую максиму: «Если хотя бы немного не поработать, не получишь никакого удовольствия». На титульном листе написано: «Грамматика есть основа всего человеческого знания».
Ай да капитан!
Итак, г-жа Рембо оказалась одна на улице Бурбон со своими четырьмя детьми — двумя девочками и двумя мальчиками.
Она была несчастна. Ее мечта о размеренной и достойной семейной жизни рухнула как карточный домик. Скорбеть об этом она будет всю жизнь. Даже по прошествии сорока семи лет ей будет достаточно всего лишь увидеть, как за окном маршируют солдаты, чтобы старые раны открылись заново. «Сейчас, когда я пишу это письмо, — обращалась она к Изабель 6 июня 1907 года (в год своей смерти), — через город идут военные; а на меня нахлынули воспоминания о вашем отце, с которым я была бы счастлива, если бы иные из моих детей не появились на свет. Вы знаете, о ком я говорю; они принесли, мне столько страданий».
Если бы у г-жи Рембо не было детей, она, пожалуй, и вправду вела бы обычную жизнь офицерской жены. Однако судьбой ей было предначертано сражаться одной против целого мира и в каждой битве терпеть сокрушительное поражение. Неудачи заставили ее с удвоенной энергией заняться образованием детей, которых она решила наставить на суровый путь чести и долга, почитая любые попытки сделать карьеру пагубными. Став бабушкой, она уйдет на покой, сполна воздав за все оскорбления, которые нанесли ей братья и муж; так она думала тогда.
Когда мы думаем об этих благостных убеждениях и ужасающих последствиях, которые повлекло за собой их воплощение в жизнь, мы не можем не испытывать к бедной женщине одновременно чувства уважения и глубокой жалости.
Уже будучи взрослой, Изабель осознала, что старания матери пошли прахом, что она прожила свою жизнь зря; отсюда то остервенение, с которым она принялась защищать свою мать — и брата Артюра — от «нападок» историков, которые как раз говорили правду. Когда она с пеной у рта утверждала, что ее брат был истинным джентльменом, средоточием добродетелей и что он умер, как умирают святые, она тем самым пыталась облегчить страдания матери. Добавим к этому и определенную ограниченность, свойственную недостаточно образованным девушкам, какой была Изабель — Артюр действительно был для нее ангелом, святым, живой иконой. Эта почти религиозная наивность, быть может, дает повод для улыбки, но никак не для насмешек над «святым семейством», «проповедницей Изабелью», изолгавшейся сестрой и т. д.
Чем насмехаться, лучше попытаться понять.
На улице Бурбон у детей было два занятия — учиться под строжайшим надзором матери или, что совершенно естественно, играть с местными ребятишками. Для игр были отведены лестница, двор, в котором находились отхожие места, и чахлый садик. Несомненно, дружба с детьми работяг досаждала г-же Рембо чрезвычайно; однако братья, сообщники во всем, что касалось непослушания, преступали буквально все запреты. Мать шлепала их, сажала на хлеб и воду, лишала сладкого — ничто не помогало.
В стихотворении «Семилетние поэты»2, написанном со страстью, очень красочным языком, Рембо вспоминает о жизни на улице Бурбон. Там есть все — и мать, самодовольная и гордая, чей взгляд «таил ложь», и жалкие соседи:
наконец он сам, «в комнате своей пустынной и зловещей, где пахло сыростью и к ставням лип туман»[11], все еще взволнованный недавней потасовкой с девчонкой из семьи рабочих «с соседнего двора»; он вспоминал аромат ее кожи, а потом «прериями грезил, где трава / и запахи, и свет колышутся едва», или читал взахлеб романы, которые переносили его в неведомые края под сказочными небесами. Простыни из грубого полотна, на которых ему приходилось спать, превращались в паруса воображаемых лодок, которые носили его, опьяненного свободой, по безбрежным морям.
Увы, этой самой свободы он был уже лишен — в октябре 1861 года мать записала семилетнего Артюра и Фредерика в частную школу г-на Росса, что на улице Аркебуз, дом 113.
Это была школа без пансиона (так называемый экстернат), основанная в 1855 году Франсуа Себастьяном Росса, доктором наук из Страсбургского университета; поначалу в ней было около двух сотен учеников. Вскоре после основания, во исполнение директив о принципах современного образования министра Виктора Дюруя, учреждается «специальное» (говоря нашим языком, техническое) отделение, для которого строятся аудитории, лаборатории, мастерские. Результат не заставил себя ждать: никто и оглянуться не успел, как в школе училось уже более трех сотен учеников (на сто больше, чем в коллеже). Позднее, когда реформа была завершена, Франциск Сарсей писал («Солнце» от 19 марта 1866 года): «В Шарлевиле находится одно из самых лучших общеобразовательных заведений во Франции»4.
Школа и по сей день существует на площади Карно (в настоящее время площадь Уинстона Черчилля) в Шарлевиль-Мезьере. Здания по улице Аркебуз, знавшие Рембо, снесены. Каноник Мати описывает их так: «Фасад, выходивший на улицу Аркебуз, мало отличался от соседних домов. Входная дверь была выкрашена в темно-зеленый цвет. Войдя, вы оказывались в вестибюле, справа от вас была приемная, уставленная стеклянными шкафами, в которых стояла всякая всячина — чучела птиц, скелет и т. д. За вестибюлем находился узкий дворик (глубина его превосходила ширину в три раза), окруженный высокими, изрядно обветшавшими стенами, выкрашенными в цвет, который имеет кожа давно умершего человека; вдобавок они еще были покрыты заметным слоем паутины, как какой-нибудь древний кожаный переплет. Все это превосходило самые мрачные ожидания. Внизу была «комната для рисования», чтобы попасть в нее, нужно было спуститься по небольшой лестнице. Дальняя стена была так загажена, что новая грязь на ней была просто незаметна, так что ученики не брали греха на душу, когда швырялись в нее чернильницами на церемониях вручения премий».
«Во втором дворике только и можно было делать, что играть в шары. Спрятаться от дождя можно было только в бывшей прачечной, в которой вечно гулял ветер. В каждом уголке царили нищета и убожество — плесень, пятна и похабные надписи на стенах, залитые чернилами и изрезанные перочинными ножами пюпитры. Ни икон в классах, ни часовни, не говоря уже о церкви. И однако г-н Росса не был антиклерикалом — оркестр его подопечных нередко принимал участие в крестном ходе»5.
Несмотря на более чем плачевное состояние зданий и помещений, школа могла гордиться тем, что в ее стенах учатся дети местной буржуазии, «сливки» общества.
Г-н Тот, служащий в архиве Шарлевиль-Мезьера, откопал в газете «Арденнский курьер» за 13 августа 1862-го, 17 августа 1863-го и 9 августа 1864 года отчеты, свидетельствующие об успехах юного Рембо в школе Росса6 — в первый год, то есть в 9-м классе (1861–1862), он получил три премии и три похвальные грамоты (не указано, по каким предметам), во второй год, в 8-м (1862–1863), ему досталась первая премия среди учеников младшего звена, пять премий и семь похвальных грамот (не указано, по каким предметам), и наконец на третий год он получил премию по латыни и по переводу на латынь, премию по родному языку, премию по истории и географии и премию по латинской и греческой декламации, не говоря уже о похвальном листе по математике.
Патерну Берришону было суждено отыскать уникальные книжки[12], которые Артюр получил в дар: «Красота природы» отца Плюша (XVIII век), «История жизни Святого Доминика в картинках» де Марле 1858 года издания, «Заселение пустыни» Майн Рида 1861 года издания с иллюстрациями Гюстава Доре (книга в очень плохом состоянии — ее многократно перечитывали), «Французский Робинзон, или Новая Каледония» Морлена 1861 года издания и «Молодость Робинзона» Фалле 1863 года издания.
Неудивительно, что чтение вдохновило юного школьника на написание рассказов о «чудесных путешествиях в сказочные страны, в пустынях и океанах, в горах, о плаваниях по рекам» (письмо Изабель Рембо Луи Пьеркену от 23 октября 1892 года). К сожалению, позже Артюр частью эти рукописи потерял, частью уничтожил.
Сохранился ряд документов, связанных с периодом, когда Рембо учился в школе Росса. Во-первых, фотография его класса: он в школьной форме, смирно сидит в первом ряду, лицо насупившееся, кепи держит на коленях. Во-вторых, тетрадь для черновиков (без обложки) — 16 страниц, исписанных мелким почерком, неаккуратным и неразборчивым. Это диктанты, переводы с иностранных языков, конспекты, разного рода заметки, разбросанные в совершеннейшем беспорядке.
Это отрывки из Бытия, из басен Эзопа, Лафонтена, конспекты уроков географии, физики, всего 28 текстов на французском, 12 на латыни, несколько бессмысленных рядов слов, две математические задачки и семь рисунков.
Весь этот хлам не представлял бы ни малейшего интереса, если бы там не было одного странного рассказа, переходящего в исповедь, с прологом; начинается он так:
Автор грезит («Мне кажется, что… я родился в Реймсе в 1503 году»), но не все в этом тексте — игра его воображения; к ней примешиваются, хотя и в искаженном виде, реальные детали его жизни:
Хотя автор ничего не смыслил в математике, не желал — что бы ему ни предлагали: конфеты, карманные деньги, игрушки — ничего читать, отец отдал его в школу, как только ему исполнилось десять лет.
Затем тон меняется, роман превращается в памфлет, на тетрадные листы изливается ученическая злоба на тех, кто приговорил его к школьной каторге:
Рисунки — пять рисунков на предпоследней странице и два на последней, — озаглавленные «Детские радости», не менее любопытны:
1. Сани. Школьник тянет за собой сани, на которых сидит девочка. «Да здравствует Снежная Королева», — говорит она. Он отвечает: «Мы утонем».
2. Качели. Девочка сидит на стуле, подвешенном на дверной ручке. «А! Я упаду!» — кричит она. «Возьмись за что-нибудь», — отвечает ее брат, стоя с поднятыми руками.
3. Осада. У окна собралась семья — отец, мать и двое мальчиков — и швыряют разные вещи в толпу, собравшуюся на улице. Прохожий в цилиндре, подняв руки, с криком протестует: «Надо подать жалобу!»
4. Месса. Две сестры стоят на коленях у скамеечки для молитв. Одна из них протягивает брату, который ведет службу, куклу и приказывает ему: «Это нужно крестить».
5. Земледелие (подписано А. Рембо). Двое братьев и двое сестер машут руками над ящиком на подоконнике, в котором растет какое-то растение (каучуковое?).
6. Морское плавание (на последней странице). «На помощь!» — кричит школьник, сидящий в лодке, у него поднята левая рука. Другой пассажир лодки, его брат, вытянулся и тоже в отчаянии поднял руки.
7. (неподписанный эскиз). «На нем изображена женщина, сидящая у входа в рощу, она закрывает себе левой рукой лицо, а правой рукой машет в воздухе. От нее широкими шагами удаляется мужчина, с таким видом, словно он совершил преступление» (С. Брие). Аллюзия на уход из семьи отца или намек на какую-то собственную попытку к бегству7.
В «Атласе» Деламанша[15], которым пользовались все дети в семье Рембо, на оборотных сторонах карт тоже есть рисунки, иногда оригинальные, иногда явно скопированные с известных картин (1865–1870).
Наступил 1862 год, Артюр и Фредерик все еще учились в школе Росса; к празднику святого Иоанна г-жа Рембо сумела наконец подыскать подходящую квартиру в доме 13 на Орлеанском бульваре, широкой улице, вдоль которой росли каштаны (поэтому жители прозвали ее «Аллеями»); она соединяла Шарлевиль с Мезьером. Мы предполагаем, что именно тогда она распустила слух, что овдовела. Ее можно понять — она хотела раз и навсегда пресечь пересуды соседей, а говорили о ней всякое, например, что капитан был прав, что ушел от такой неуживчивой супруги. Вдовство станет теперь официальной версией; так, в 1871 году Артюр напишет Верлену: «Моя мать вдова».
Г-жа Рембо была недовольна школой Росса, она не оценила ни ее ориентацию на современность и науку, ни безразличие Росса к религиозному образованию. С ходом времени становилось все более ясно, что церковь относится к коллежу гораздо благосклоннее.
В этом свете неудивительно, что на Пасху 1865 года мать забрала братьев из школы Росса и отдала их в коллеж.
Вовремя! Летом того же года г-н Росса открыл в Шарлевиде — о ужас! — «Общедоступные курсы Шарлевиля и Мезьера».
Примечания к разделу
1 О «бегстве» капитана Рембо см.: Revue française de psychanalyse, май-июнь 1975. О его жизни в Дижоне и занятиях журналистикой см. статью А. Любленского-Боденема в Rimbaud vivant, № 18–19 (1980).
2 Единственная сохранившаяся рукопись этого стихотворения датирована 26 мая 1871 г. Однако у Ж. Изамбара были причины оспаривать эту дату, поскольку стихотворение явно позднее; со всей очевидностью, его писал Ясновидец — оно очень похоже на стихи осени 1871 г. Возможно, Изамбар читал более ранний вариант этого стихотворения, менее ядовитый, который Рембо впоследствии исправил? Это было бы естественным объяснением.
3 Полагали, что Рембо поступил в класс не раньше 1862 г. Стефан Тот в своей статье в 6-й тетради Культурного центра Артюра Рембо (Шарлевиль — Мезьер, ноябрь 1978) доказал, что Артюр поступил в класс уже в 1861 г. Из того факта, что он получал премии за 1861/62 учебный год, делается вывод, что он проучился в школе Росса целый год.
4 Данные из доклада Рене Робинета, бывшего архивиста департамента Арденны, на 98-м Национальном конгрессе ученых сообществ Клермон-Ферран в 1963 г. Тезисы опубликованы в le Bateau ivre, № 20, сентябрь 1966 г.
5 Выдержка из Entre nous, журнала бывших выпускников коллежа Сен-Реми (в прошлом — частная школа Росса), второй квартал 1949 г.
6 6-я тетрадь Культурного центра Артюра Рембо (Шарлевиль — Мезьер, ноябрь 1978).
7 П. Берришон в la Vie de J.-A. Rimbaud, с. 32 и J.-A. Rimbaud, le poète, c. 26, датирует эту тетрадку 1862–1863 гг. Высказывалось возражение, что тетрадь более поздняя — в ней содержится упоминание о персидских царях, а в школе Росса не преподавали древнюю историю; тем самым записи должны датироваться самое раннее концом 1865 г. Мы думаем все же, что это возражение бьет мимо цели — просто юный школьник так выражает свое неприятие того, чему его учат. Ср. примечание Антуана Адана в издании l’édition de la Pléiade, c. 1027. И однако мы согласны, что рисунок «Морское плавание», опубликованный в la Grive в апреле 1956 г., больше подходит для ученика коллежа — учебные корпуса находились на берегу Мааса.
Глава III КОЛЛЕЖ
Шарлевильский коллеж — а вместе с ним семинария и городская библиотека — располагался во внушительном (XVII век, греческий фронтон с лотарингским крестом) здании бывшего женского монастыря Гроба Господня на площади Гроба Господня (в настоящее время Земледельческая площадь); за коллежем находилась церковь с колокольней.
Дрожа от страха, братья Рембо переступили порог сего заведения в апреле 1865 года, семья как раз снова переехала — в дом 20 по улице Форе (впоследствии Императорская улица).
Артюру было десять с половиной лет, он пошел в седьмой класс, а Фредерик в шестой. Преподаватель истории, г-н Клуэ, не замедлил оценить способности младшего из братьев; ему так понравились его конспекты, непревзойденные по лаконичности и ясности, что он привел мальчика к преподавателю латыни и французского, г-ну Луи, и заставил его зачитать их.
В новом учебном году, когда Артюр перешел в пятый класс, уроки вел г-н Рулье, человек в высшей степени вспыльчивый, с угрюмой физиономией (непокорная прядь волос все время свисала ему на лоб); однако, когда приступ гнева проходил, он становился вполне терпимым.
Юный ученик сумел вписаться в новую обстановку, но не показал в тот год особенно высоких результатов: с церемонии вручения премий, состоявшейся 6 августа 1866 года, он унес домой похвальную грамоту первой степени по закону Божьему (а его брат — похвальную грамоту четвертой степени), похвальную грамоту пятой степени по родному языку и первую премию по латинской и греческой декламации.
Когда в октябре 1866 года наш герой пошел в четвертый класс, в коллеже сменился директор — место г-на Маллара занял г-н Дедуэ.
Ах! Господин Дедуэ! Этот тщедушный седовласый человечек1 с измученным лицом, южанин по происхождению, непоседливый как ребенок, не уставал поражать коллеж напыщенностью своих речей, просторностью одежды и необъятными полями своих шляп.
Класс вел теперь «дядя Перетт», дряхлый старик, в прошлом сельский учитель, требовательный и строгий. Он сразу разглядел в Артюре личность неординарную — и понял, что этот молодой человек за свою жизнь доставит людям массу неприятностей.
— Пусть он читает все, что успевает, заставляйте его! — сказал ему как-то г-н Дедуэ, но старый учитель покачал головой:
— Да, конечно, он умен, но что-то мне не нравятся его взгляд и улыбка. Он плохо кончит; обыденного его голова не вмещает — он будет гений, но не знаю, добрый или злой.
А Дедуэ уже видел Артюра в Высшей школе и только что не осыпал его цветами. Одноклассник описывает нам такую сцену: Артюр, слегка покрасневший, полный уверенности в себе, стоит посреди класса и несколько презрительно глядит на остальных, Дедуэ «детально разбирает его сочинения и буквально каждый абзац в устах директора превращается в шедевр»2.
В этот год братья Рембо первый раз причастились. От этого дня сохранилась фотография: Артюр — круглая голова, прилизанные волосы, задумчивый взгляд: ни дать ни взять ангел — сидит на стуле; справа от него стоит Фредерик, с нарукавной повязкой, левая рука на груди, взгляд глупый и сердитый.
Будущий поэт щеголял тогда своей набожностью; однажды, рассказывает его друг Делаэ, когда старшие ученики, покидая церковь, решили побрызгаться святой водой, он накинулся на них, стал царапаться, кусаться, хватать осквернителей за что попало и был побит; кончилось тем, что появился надзиратель и в наказание оставил всех в классе после уроков. После этого его называли не иначе как «ханжа, недомерок вонючий»3. Но это была лишь минутная вспышка.
Ожидая неотвратимого, как смерть, момента, когда часы коллежа пробьют восемь, ученики резвились на площади Гроба Господня. Как это всегда бывает, они бегали, пихались, дрались, швырялись друг в друга портфелями и катались на льду, если он был.
Площадь Гроба Господня выходила к Маасу; на другом берегу реки возвышался поросший лесом холм, местный «Олимп», на вершине которого в то время стояла вилла с башенкой в стиле рококо, прозванная «башня Лоло».
Один ученик четырнадцати лет по имени Эрнест Делаэ должен был каждый день преодолевать путь в десять километров — он жил в Мезьере — от своего дома до коллежа, и поэтому часто приходил раньше других; вместо того чтобы слиться с бушующим морем своих собратьев, обычно он бродил по берегу реки, с интересом наблюдая за тем, что проделывают двое каких-то мальчишек. Они, бросив портфели на откосе и забравшись в рыбачью лодку, пытались ее раскачать и опрокинуть. Когда она слишком близко подходила к берегу, они натягивали якорную цепь и, оттолкнувшись от берега ногами, снова выталкивали лодку на течение и продолжали раскачивать. Оба были — вот странно — одеты совершенно одинаково, немного на английский манер: в черные куртки и аспидно-черные брюки, оба носили одинаковые круглые шапочки. Другой свидетель говорит, что Артюр (речь идет именно о нем и его брате Фредерике) был «опрятненький, затянутый, напомаженный, носил пробор справа, всегда был в начищенных до блеска полуботинках, узел галстука, обрамленный накрахмаленным отложным воротничком, всегда был завязан безупречно».
Цвет глаз и цвет кожи тоже заставляли думать, что перед вами англичане. Они все время молчали, и только изредка младший, желая получше разглядеть дно реки, говорил старшему, чтобы тот прекратил игру. Последний дулся и садился в дальнем конце лодки, а младший распластывался и, уткнувшись носом в воду, наблюдал за извивающейся на галечном дне подводной растительностью и разными блестящими предметами — осколками посуды и бутылок.
Колокольный звон отрывал их от игры; они прыгали на берег, хватали свои портфели и со всех ног устремлялись в самую толкотню, чтобы оказаться на пороге дверей коллежа как раз в тот момент, когда консьерж даст второй звонок.
— Дядя Шоколь! Дядя Шоколь! — кричали дети (у иных выходило Шошоль, Шушуль, Шокуль и так далее), завидев доброго медлительного старика в его вечном картузе цвета «осадочных пород» (Делаэ) и накрахмаленном, как скатерть на свадебном столе, синем фартуке.
Как-то раз Делаэ — он был в седьмом классе — сидел на уроке немецкого языка рядом с одним из тех двух незнакомцев с реки; в классе было до неприличия шумно. И вот его сосед, получив тумака, решил, что это был Делаэ, и обрушился на того с кулаками.
— Ваши фамилии! — крикнул, обернувшись, учитель.
— Делаэ, Эрнест.
— Рембо, Фредерик.
Их оставили после уроков в качестве наказания; случайно в коридор, где они находились, заглянула жена директора и поинтересовалась, за что наказали маленьких шалопаев.
— Мы ничего не сделали, мадам, — ответил Делаэ, теребя свое кепи.
Фредерик, предчувствуя, какую оплеуху отвесит ему родная матушка и как она оставит его без ужина, хныкал и шмыгал носом.
— Этот по крайней мере раскаивается, — изрекла жена директора и с достоинством удалилась.
Так Делаэ заслужил дружбу «старшего Рембо», который, как он узнал, учился в пятом классе у Рулье. Фредерик был плохой ученик, неаккуратный и тупой: случалось, на контрольных он просто переписывал слово в слово условия задач и на этом останавливался. Если бы существовало место ниже последнего, Фредерик занимал бы его с полным правом.
В субботу в класс пришел объявлять оценки — о ужас! — сам Дедуэ; все тряслись от страха в ожидании этого момента. Когда он добрался в списке до Фредерика, он запнулся, затем продолжил:
— М-да…. а ведь ваш брат…
— А чего это он про твоего брата? — спросил Делаэ.
— Про Артюра? Он все время всех на что-нибудь подбивает!
К несчастью, знакомству Делаэ с «задирой» Артюром мешало — и постоянно — одно обстоятельство: появление в школе после окончания уроков г-жи Рембо с дочерьми. Ее горделивая манера держать себя, повелительный раздраженный голос красноречиво свидетельствовали о той суровости, на которую не уставал жаловаться Фредерик. Все это производило удручающее впечатление.
Каждый день опечаленный Делаэ лицезрел величественное дефиле: «Впереди, держась за руки, шли девочки, Витали и Изабель, во втором ряду шагали мальчики, Артюр и Фредерик, тоже держась за руки; за ними, на раз навсегда установленном расстоянии, завершая процессию, шествовала сама г-жа Рембо»4. Перед тем как «процессии» исчезнуть в толпе на Церковной улице, Фредерик на прощание оборачивался и подмигивал своему новому другу. Вскоре Артюр стал подражать брату, и сей дружеский жест стал предметом гордости будущего почитателя его таланта.
Артюр закончил год с хорошими, но опять-таки не блестящими результатами: первая премия по закону Божьему и по декламации (казалось, это был его конек, учитель даже остановил его, не дав дочитать до конца отрывок из «Энеиды»), вторая — по латинскому стихосложению и по истории и географии, похвальная грамота пятой степени по немецкому языку.
Преподававший в третьем классе (1867/68 учебный год) коренастый и волосатый бургундец по имени Арист Леритье, по прозвищу «дядя Арист», был добрый малый со многими странностями: во-первых, он нюхал табак, постоянно застревавший в его роскошных усах, во-вторых — что было хуже, — не выносил «романтических натур» и почитал за поэзию только стихи Бу ал о. Наконец, у него случались приступы всесокрушающего гнева, он тряс своей львиной гривой и наводил на учеников смертный ужас. Однако, успокоившись, охотно предлагал недавним жертвам в знак примирения свою табакерку.
Директору, заметившему неординарные способности младшего Рембо, удалось уговорить его матушку разрешить ему дополнительные занятия, как будто он и без того не учился отлично. Чтобы понравиться дяде Аристу, наш юный поэт преподнес ему скрупулезнейшую работу по Бу ал о, в которой были выявлены малейшие отклонения автора от законов стихосложения. Выше всего Артюр оценил «Аналой/Певчие/Конторка» и «Дурацкий завтрак», то есть пародии Буало. Он и сам писал пародии, упражняясь в остроумии; к сожалению, они до нас не дошли. Делаэ сохранил первую строчку одного такого стихотворения:
В других произведениях подобного рода он насмехался над красавчиком-одноклассником, нападал на человека, сменившего дядю Шоколя, молодого консьержа, который носил в зубах розу.
Он признался Леритье в том, что пишет стихи.
— Ну что же, и я когда-то писал стихи, особенно в честь Орсини[16].
Начатый подобным образом разговор не мог продолжаться долго. Рембо, опустив глаза долу, улыбался.
Наш герой пописывал и прозу. Надзиратель по имени Понселе хвастался (Патерну Берришону), что отобрал у Рембо один его приключенческий роман об аборигенах Океании5.
Склонность к пародии проявлялась и в шаржах; здесь он подражал Жилю, Домье, Ле Пти и Альберту Хамберту (автору непревзойденного Бокильона). Некоторые из них сохранились в географическом атласе Деламанша, о котором говорилось выше, однако доказать авторство Артюра не представляется возможным: если всяких буржуа и нотариусов еще можно отнести на его счет, то автором неумелых набросков тонким карандашом скорее всего был Фредерик, а элегантных дам, вероятно, срисовывали из модных журналов Витали и Изабель6.
Итак, у него была страсть к экзотике, эксцентрической пародии; осталось лишь сказать о его невероятной скрытности, и описание нашего героя будет полным. Так, Рембо тайно послал наследнику[17] стихотворение в шестьдесят строк на латыни, посвященное его первому причастию в церкви Тюильри. Этот факт — открытие Мел ера; в бумагах Патерна Берришона ей посчастливилось обнаружить нижеследующее письмо. Некий ученик по имени Жоли пишет 26 мая 1868 года своему брату:
«Ты, должно быть, знаешь братьев Рембо; один из них (тот, что сейчас в третьем классе) недавно отослал наследнику письмо с латинским стихотворением в шестьдесят строк, оно посвящено его первому причастию. Он держал это в строжайшей тайне, даже не показал стихи учителю, так что, наверное, насажал ошибок. Воспитатель наследника ответил ему, что маленький [следующее слово зачеркнуто. — П. П.] Ее Величества был очень тронут его письмом, и что она, как и он, когда-то сама училась в коллеже и потому прощает ему его ошибки»7.
10 августа 1868 года состоялась ежегодная церемония вручения премий; юный — ему еще не исполнилось 14 лет — Артюр Рембо показал себя примерным учеником: он получил первую премию по закону Божьему и декламации, целый ворох похвальных грамот и звание первого ученика в классе. Предсказания г-на Дедуэ начали сбываться.
С октября 1868 года г-жа Рембо больше не приходила забирать своих сыновей из школы. Однако вымуштрованные братья, вместо того чтобы принимать участие в школьных стычках и обмене марками, как и раньше, быстренько уходили домой. Товарищи, удивленные их необщительностью, чувствовали себя оскорбленными подобным поведением. И уходили они из школы под свист и улюлюканье. Делаэ и его одноклассник Поль Лабарьер8 (сын торговца мебелью с Орлеанского бульвара) не отставали от прочих; но двое дикарей и не думали оборачиваться на крики.
Тем не менее в один прекрасный день Лабарьеру удалось растопить лед отчуждения и завязать с братьями разговор. Делаэ не стал медлить и, в мгновение ока оказавшись на другой стороне площади Гроба Господня, присоединился к троице. С этого момента Артюра с Фредериком оставили в покое. Первым делом Делаэ спросил Фредерика: почему у его зонтика, как и у зонтика брата, отломан носик?
— Это все он, — сказал Фредерик, тыкая в Артюра пальцем.
— Нет, это все ты, — парировал тот и принялся рассказывать, как было дело.
Недавно, в одно из воскресений, когда они вдвоем, без сестер и матери, отправились на мессу, Фредерик придумал игру — совать зонтик в щель между дверью церкви и притолокой. Артюр недолго думая толкнул дверь, и носик отломился. Покидая церковь после окончания службы, во время которой виновник проделки испытывал, вероятно, угрызения совести из-за недостатка милосердия в своей душе, он притворился, что возобновил прерванную игру, чем Фредерик не замедлил воспользоваться, и зонтики снова стали одинаковой длины. Наказание, которое ожидало брата, думал Артюр, будет легче, если ляжет на плечи обоих. Но г-жа Рембо удовольствовалась следующим:
— Вы оба будете каждый день ходить в школу со сломанными зонтами, и насмешки ваших товарищей послужат наказанием за вашу глупую проделку.
Вместо того чтобы смеяться, Делаэ и Лабарьер восхитились поступком Артюра, достойным героев древности. Последние преграды пали, и теперь Делаэ, чтобы возвратиться в Мезьер, обычно шел через вокзал. Его интересовало многое: каких авторов следует предпочитать, древних или современных, классиков или романтиков?
Как-то он рассказал Артюру об одном миленьком происшествии:
_Ты знаешь, Лабарьер недавно сказал, что считает переворот второго декабря преступлением[18]. А ты что думаешь?
И Артюр, автор льстивого послания к наследнику, усмехнулся:
— Наполеону III место на галерах!
У Делаэ был такой вид, будто земля разверзлась у него под ногами.
Частенько к ним присоединялся Лабарьер, и все Четверо допоздна бродили взад-вперед по «Аллеям», обсуждая свои первые поэтические и прозаические опыты. Фредерик держался в стороне, рассказывает Делаэ, и, чтобы привлечь к себе внимание, время от времени останавливался возле какой-нибудь двери и звонил в колокольчик, после чего друзья разбегались кто куда. Они слонялись и по книжным лавкам, то и дело заходили в лавку к Жоли, на углу Герцогской площади и Мельничной улицы, в то время улицы Святой Катерины, или к Летелье, на улице Наполеона. Пролистывая разложенные на полках тома, они пытались запоминать напечатанные там стихи. Артюр, который к тому времени уже прочел Гюго и романтиков, зарывался в современную поэзию — а зарываться в современную поэзию тогда означало читать «Современный Парнас».
До Шарлевиля долетело лишь глухое эхо маленькой революции, произошедшей, когда вокруг издателя Альфонса Лемерра[19] собралась группа лучших поэтов той эпохи и назвала себя «Парнас». С марта 1866 года выходили ежемесячные 16-страничные выпуски «Современного Парнаса», сборника новой поэзии». Там можно было прочесть Теофиля Готье, Банвиля, Эредиа, Леконта де Лиля, Бодлера, Дьеркса, Сюлли-Прюдома, Верлена и других; ученику коллежа, изголодавшемуся по поэзии, было чем поживиться.
Артюр перешел во второй класс. После криков «дяди Перетта» и ужасных вспышек гнева «дяди Ариста» (Леритье) наступило спокойствие. Новый учитель, г-н Дюпре, недавно получил лиценциат, был молод, имел характер мягкий и открытый. Все, кто был с ним знаком, отмечали его приветливое выражение лица и большую отзывчивость. Этот мечтатель, в противоположность гневливому почитателю Буало, высоко ставил Мюссе, Гюго и Ламартина. Но что более всего понравилось Рембо, так это подувший в коллеже ветер либерализма: наконец-то ему стало чем дышать.
Именно в этом учебном году (1868/69) была введена система, когда уроки велись одновременно для учеников коллежа и слушателей находившейся в том же здании семинарии. Флёри, глава академии, находил в новой системе преимущества, поскольку семинария со своей стороны предоставляла преподавателей (например, учителя истории, отца Вильяма, который был всего лишь дьякон, учителя философии, отца Жиле). С педагогической же точки зрения система была хуже некуда, поскольку разрушала единство классов — она усаживала на одну учебную скамью четырнадцатилетних взбалмошных школьников и будущих священников, более взрослых и не в пример более степенных. Со всей неизбежностью противостояние двух сообществ, или, как в шутку их называл Изамбар, партии сигареты (мирян) и партии табакерки (духовенства) должно было привести к взрыву.
На следующий год кланы из соперничающих становятся вражескими. Рембо учился во втором классе; борьба «духовенства» с «мирянами» повлияла на него неожиданным образом: он просто обязан был одержать верх, положить этих парней в сутанах на лопатки, и потому стал заниматься с удвоенным усердием. К тому же ему надо было завоевать Дюпре. Он завел привычку после уроков оставлять на кафедре дополнительные варианты контрольных работ. Если нужно было написать сочинение по латыни, он оставлял также и вариант на французском или переводил прозой и стихами греческие тексты, в которых половина класса и слова не могла понять.
Дюпре, пораженный необыкновенной легкостью, с которой Артюр все это проделывал, чтобы подзадорить его и воздать ему должное, отослал в академию Дуэ блестяще выполненное Артюром задание по латинскому стихосложению (этот своеобразный экзамен состоялся 6 ноября 1868 года и длился три с половиной часа). Задание было опубликовано в журнале «Вестник среднего, специального и классического образования, официальный бюллетень академии Дуэ» от 15 января 1869 года. В задании предлагалось написать вариацию на отрывок из Горация (ода IV, книга III), в котором рассказывается, как поэт, увенчанный миртом и лавром, окруженный чудесными голубями, погружается в состояние транса и прорицает будущее. Рембо вывел в образе Прорицателя самого себя: он освободился от «безжалостного учителя», diri magistri (намек на Леритье), который держал его в цепях, и теперь может веселиться на просторах «радующих глаз полей» и «земли, овеянной дыханием весны».
Стая белых голубей, источающих благовоние, коронует его и уносит в свое гнездо, свитое из лучей света. И тогда небо разверзается и Феб, бог Солнца, начертывает небесным огнем на его лбу следующие пророческие слова:
«Ты будешь поэт» — в этом своем первом напечатанном стихотворении весь Рембо, вся его ненависть к навязанному порядку, вся его жажда свободы, вся его любовь к полям, залитым солнцем, все его мечты о жизни среди птиц, изливающих свет. Он уже знает, что отмечен богами.
За учебный год еще два задания удостоились чести быть напечатанными в «Бюллетене» академии Дуэ9: «Ангел и ребенок», 55 строк по латыни на тему серенького стихотворения Ж. Ребуля (номер от 1 июня 1869 года) и «Молитва Венере» на тему поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей» (контрольная работа первого семестра 1869 года, опубликована в номере от 15 апреля 1870 года). Что касается последнего задания, то здесь Рембо удовлетворился тем, что скопировал — улучшив — перевод Сюлли-Прюдома, вышедший в 1869 году у Лемерра, но г-н Дюпре ни о чем не догадался.
Муке, которому мы обязаны открытием этого подлога, указывает, что перу Рембо, возможно, принадлежит работа экстерна из второго класса, Альфреда Мабилье, озаглавленная «Колокол» и опубликованная в «Вестнике» 15 марта 1869 года. В самом деле, это стихотворение строится из строф и рефрена Omnia sic pereunt, rapide per inania rapta[21]; точно так же построено позднейшее стихотворение Рембо о Югурте. В пользу этой гипотезы говорит свидетельство еще одного ученика коллежа, г-на Делао: «Пока кто-нибудь из нас доказывал у доски геометрические теоремы, Рембо за какие-то мгновения мог наклепать несколько строчек стихов по латыни. Каждый из нас получал такое, какое ему было нужно. Название всегда было одинаковое, но фактура, идея, ход мысли в каждом стихотворении были достаточно оригинальны, чтобы учителю не пришло в голову, что все это — плод усилий одного и того же человека. Это была ловкая штука — за такое короткое время написать столько стихов. И, клянусь вам, это происходило постоянно».
У всякой медали есть две стороны; абсолютное незнание математики составляло негативную пару необыкновенным способностям Артюра в других областях. Он притворялся, что не умеет даже делить, и учитель, г-н Барбез, регулярно получал сюрпризы — вместо решения задачи в контрольной работе он мог прочесть латинские стихи.
Разумеется, беседы с Делаэ и Лабарьером продолжались. Первый сумел вскоре завоевать уважение двух новых товарищей, рассказав, что в одном бельгийском кафе ему случилось пролистать «Фонарь» Рошфора. Можно вообразить, как Рембо подпрыгивает от радости, когда Делаэ цитирует ему отдельные выученные наизусть места из этого призыва к мятежу и мщению. Он уже примерял на себя роль вольнодумца — Артюр мог себе это позволить, ведь он был первый ученик по закону Божьему; к примеру, на уроках истории он часто ставил отца Вильяма в тупик своими вопросами о Варфоломеевской ночи, об инквизиции и т. д. Ученики трепетали, а семинаристы притворялись, будто их и вовсе нет в классе; казалось, некоторым даже нравилась его, мягко говоря, нескромная любознательность. За стенами коллежа школьники горячо обсуждали эти запретные темы. Даже когда Рембо получал задание написать сочинение о французской революции, он и тут считал уместными крамольные фразы вроде «Дантон, Сен-Жюст, Кутон, Робеспьер, молодое поколение ждет вас!10».
Следует отметить, что хотя молодежь была пылкой, коллеж был к ней терпим. Выражать передовые взгляды на литературу или религию вполне позволялось, однако были и пределы: если надзирателю попадалась на глаза торчащая из-под словаря или из-под какой-нибудь книжки Дюруя ярко-красная обложка «Фонаря», он просил ее убрать.
— О нет! Все, что хотите, только не это!
В июне 1869 года семья Рембо переехала в квартиру на первом этаже дома 5-бис по набережной Мадлен (в настоящее время дом 7, набережная Артюра Рембо). Это был новый каменный дом с коваными балконами. В нем находилась контора сборщика налогов. Примечательно расположение здания: место было одно из лучших в городе, в двух шагах от Старой Мельницы, с видом на Маас и гору Олимп, все вокруг утопало в зелени.
Когда подошел конец учебного года, Дедуэ решил, что Артюр вполне готов к большому конкурсу академии Дуэ, объявленному для учеников коллежей департаментов Нор, Па-де-Кале, Эна и Сомма. Отец Мориньи, в то время семинарист второго класса (будущий директор коллежа Нотр-Дам в Ретеле, в котором одно время преподавал Делаэ, а затем Верлен), оставил полное живейших подробностей описание того, как проходил конкурс11.
Местом проведения был выбран Шарлевиль. Время — шесть утра. С половины шестого участники стали строить предположения, на какую тему им предстоит писать.
— Спорим, тема будет называться «Всемирная выставка»? — заявил один из них.
Рембо замахал руками:
— Вот будет весело, если в академии есть любители таких дурацких шуток!
Ровно в шесть в класс вошел г-н Дедуэ, вскрыл конверт с темой и произнес:
— Тема следующая: «Югурта». И все.
— Но как же это? На каком фоне это подать? — поднялся шум.
— Об этом ничего не сказано.
Директор удалился и вместе с ним несколько конкурсантов, решивших, что такая тема им не по зубам.
Рембо сидел за партой, бесстрастный, погруженный в мечты, взгляд его блуждал где-то далеко. К девяти часам он не написал ни строчки. Ошарашенный Дедуэ (он вернулся в класс) спросил его:
— Как же так, Артюр?.. Неужели Муза?..
— Я голоден, — был ответ.
Директор приказал консьержу принести несколько бутербродов. Когда это было исполнено, Рембо принялся за еду, не обращая внимания на приглушенные смешки соседей. Закончив, он схватил свою перьевую ручку и, начал писать сразу начисто, даже не заглядывая в принесенный с собой Gradus[22].
В полдень он сдал работу.
— У вас было совсем мало времени, — сказал ему учитель физики, надзиравший за конкурсом.
Нацепив пенсне, г-н Дедуэ пробежал глазами работу и победно воскликнул:
— Мы выиграли, я вам это точно говорю!
И в самом деле, Рембо получил первый приз и его работа была опубликована в «Официальном бюллетене академии Дуэ» 15 ноября 1869 года. Он очень оригинально раскрыл тему, проведя искусное сравнение двух судеб: судьбы Югурты, древнего короля Нумидии, побежденного Римом, посаженного в тюрьму и умершего там от голода и холода, и судьбы Абд аль-Кадира, побежденного Францией и посаженного по приказу Наполеона III под домашний арест в уютной крепости Амбуаз; бывший эмир был впоследствии освобожден и французское правительство назначило ему пенсию. Сие смешение римской и современной истории призвано было прославлять императора и по стилю совершенно не отличалось от произведений ярых апологетов режима. Строфы поэмы содержат по 12–14 строк, разделенных рефреном
На том же конкурсе по переводу с греческого Рембо досталась всего лишь похвальная грамота третьей степени — однако на ежегодной раздаче премий он был увенчан таким количеством лавровых венков, что можно было только позавидовать: звание первого ученика в классе, первая премия по закону Божьему, латинскому стихосложению, переводу с латыни, переводу с греческого, сочинению на латыни, истории, географии и декламации.
В новом учебном году риторику преподавал г-н Фельятр. О нем нам ничего не известно.
В ноябре 1869 года произошел небольшой инцидент, в котором, как полагали, был замешан Фредерик (на самом деле он не имел к нему отношения). Двое учеников подсунули под входную дверь семинарии непристойный рисунок под названием «Отец Вильям в бане». Об этой истории можно было бы не упоминать, если бы не встал вопрос об исключении Фредерика из коллежа; директор не дал этого сделать, убедив совет, что в таком случае мать заберет из коллежа и его брата, чего никак нельзя было допустить12.
Шатаясь по книжным лавкам, Артюр выяснил, что Лемерр запустил вторую серию «Современного Парнаса», в которой должно было выйти около дюжины брошюр, а из них предполагалось составить второй том. Наш герой скупил всю серию, и это не предположение — купленные им книги удалось обнаружить. Рембо продал их Полю Лабарьеру в феврале 1871 года. В первом выпуске был напечатан «Каин» Леконта де Лиля (сто строф по пять строк в каждой); книгу много читали, на полях постоянно попадаются пометки в виде линий, от одной до семи. Второй выпуск был посвящен Теодору де Банвилю с его 372-строчной поэмой «Цитра», десятком шутливых баллад и сонетом; многочисленные карандашные пометки свидетельствуют о том, что книгу также внимательно читали. В четвертом выпуске (третий отсутствует) вышли произведения целого ряда поэтов: Верлена, Эрнеста д’Эрвильи, г-жи Бланшкот и другие; лучшие, с точки зрения читавшего, стихотворения отмечены крестами.
Муке, отыскавший эти сборники, указывает, что некоторые стихи г-жи Бланшкот читатель предпочел немного поправить; так, например, в следующей строчке:
слово «горе» было заменено на «пузо»[24].
Рембо обожал юмор подобного рода.
Итак, «Современный Парнас» воскрес. И в сердце Рембо родилась безумная надежда. А вдруг и он?.. Почему бы ему не попробовать?..
Он был всего лишь школьником из какой-то богом забытой провинции. Ну и что, он заставит о себе говорить, заставит фортуну повернуться к нему лицом. Его будут печатать, он станет знаменит, парнасцы немного подвинутся и дадут ему место на своем Олимпе.
Не откладывая дело в долгий ящик, он принялся за исполнение сего великого начинания. Черпая вдохновение в стихах, опубликованных в «Журнале для всех» в сентябре 1869 года — «Бедные люди» Виктора Гюго (номер от 5 сентября) и «Дом моей матери» Марселины Деборд-Вальмор (номер от 7 ноября), — он написал стихотворение более чем в сто строк под названием «Сиротские подарки», каковое и отослал в этот же самый журнал. Марсель Кулон обнаружил в номере от 26 декабря 1869 года следующую заметку в рубрике «Переписка»:
«Г-ну Рем… из Шарлевиля. Стихотворение, которое Вы нам прислали, не лишено достоинств, и мы опубликуем его, если вы подсократите свое произведение на треть (в нужных местах, разумеется)»13.
Видимо, он сразу же выполнил требование издательства и выкинул из стихотворения два куска (вместо них в тексте идут точки) — 2 января 1870 года стихотворение было опубликовано.
Можно вообразить себе его гордость — его печатают, и не где-нибудь — в Париже! Двери Парнаса скоро сами распахнутся для него!
14 января на кафедру риторики шарлевильского коллежа был назначен новый учитель. Он был молод — двадцати двух лет — и прежде занимал кафедру в Азбруке (департамент Нор). Звали его Жорж Изамбар.
Он родился 11 декабря 1848 года, учился в Дуэ и получил лиценциат по филологии в июле 1867 года. Ему пришлось ждать год, чтобы получить должность — он был слишком молод. На фотографии, сделанной вскоре после приезда в Шарлевиль, он пострижен под художника и носит совершенно не идущие ему очки, которые к тому же нисколько не придают ему солидности. Пристальный взгляд, рот, готовый смеяться или злословить, выражение лица говорит об оригинальности и открытости, а также об изрядной доле независимости; ничего низкого, пошлого, вульгарного. Его любовь к свободе во всех ее проявлениях очаровала Рембо с первых минут знакомства. Ленель, сменивший Перетта, Дюпре, Изамбар ненавидели рутину, верили в будущее; а ведь они только что окончили университет Дуэ — было ясно, что и там происходят перемены.
Его приезд еще больше раззадорил юного Артюра, который уже с первого триместра только и думал, как бы ему обскакать семинаристов. Он показал настолько хорошие результаты, что директор подарил ему «Характеры» Лабрюйера, надписав на книге: «В знак глубокого удовлетворения Вашими успехами в учебе, ученику Рембо, класс риторики. — 17 марта 1870 года. — Директор. — Дедуэ». Нечто вроде премии авансом.
Еще через месяц Артюр вновь удостоился чести быть напечатанным в «Бюллетене академии Дуэ» — в номере было его стихотворение на латыни в сорок три строки, вариация на тему поэмы неизвестного автора «Иисус из Назарета», а вместе с ней еще четыре работы, выполненные на протяжении 1869 года («Сражение Геракла с речным богом Ахелоем», «Молитва к Венере», «О природе вещей», о которой говорилось выше, и, наконец, «Речи Аполлония о Марке Цицероне», речь на латинском языке, впервые вышедшая в издательстве «Плеяды» под редакцией Антуана Адана).
Артюр, разумеется, продолжил традицию оставлять на кафедре дополнительные задания, снабжая их надписью Lege quaeso[25], например, стихотворение «Офелия» на французском языке, вариацию на тему работы по латинскому стихосложению с тем же названием и даже свои собственные стихи.
Изамбар был сначала заинтригован, затем стал относиться к этому с живейшим интересом, однако не давал советов и не подбадривал Рембо. Юный школьник, такой сдержанный, замкнутый в классе, оживал, загорался, становился совсем другим человеком, едва речь заходила о поэзии.
В марте или апреле он должен был сделать доклад на тему «Письмо Карла Орлеанского к Людовику XI с прошением о помиловании Вийона, приговоренного к смертной казни через повешение». В качестве материала Изамбар дал своему лучшему ученику несколько книг, в частности «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и «Гренгуар» Теодора де Банвиля. Но тому оказалось мало; он послал Изамбару записку, в которой просил книги о разных исторических и литературных разностях14. Довольно дерзкий тон этой записки (вначале — «Есть ли у Вас и можете ли Вы мне дать…», в конце — «это было бы мне крайне полезно») — первое проявление той бесцеремонности, расцвет которой мы увидим позднее.
Г-жа Рембо восприняла появление этих книг у себя дома крайне отрицательно и выразила свое отношение следующим письмом, которое передала Изамбару через коллежского консьержа:
Уважаемый господин,
Я не могу выразить Вам всей меры своей признательности за то, что Вы делаете для Артюра. Вы даете ему советы, Вы проводите с ним дополнительные занятия — мы совершенно недостойны такой заботы.
Но кое-что я не могу одобрить; так, несколько дней назад Вы дали моему сыну одну книгу («Отверженные» в. гю-го (sic!)/ я возражаю, чтобы он ее читал. Вы знаете лучше меня, господин учитель, что, рекомендуя подросткам книги, следует проявлять максимум осторожности. Посему я предполагала, что Артюр достал ее без Вашего ведома, крайне небезопасно позволять ему читать подобные вещи.
С уважением,
В. Рембо
4 мая 1870 года
Едва Изамбар прочел письмо, как его вызвал к себе директор: к нему явилась некая рассерженная дама и вернула ему «крамольную» книгу, которую какой-то учитель осмелился дать ученику из класса риторики.
— Это абсурд, я согласен, — сказал г-н Дедуэ, — но будет лучше, если вы объяснитесь с этим мракобесом в юбке.
Изамбар тут же отправился к г-же Рембо. Она не дала ему и рта открыть:
— Что?! Гюго, этот грязный писака?! Это надругательство над верой! Эти «Отверженные», где непристойности на каждой странице! Вы считаете, что нашим детям полезно читать об этих мерзостях, господин учитель?!
Выпалив свою тираду, г-жа Рембо с треском захлопнула дверь перед носом учителя. Изамбар, совершенно пораженный, только и успел пробормотать:
— Да ведь я дал ему не «Отверженных», мадам, а «Собор Парижской Богоматери».
Этот разговор стал для него откровением. Все поведение Рембо, его скованность, страсть к свободе объяснялись тиранством этой тупицы, его матери. «Моя привязанность к нему, — пишет он, — стала еще крепче, когда я увидел, какому насилию подвергается его дух»15.
Теперь Изамбар, как мог, поощрял его занятия поэзией, ведь это была его единственная отдушина. Их отношения стали более доверительными и дружескими. Рембо часто прогуливался с ним по «Аллеям», провожал учителя до дома, интересовался его мнением о своих новых стихах.
Тем временем каждый месяц появлялся новый выпуск «Современного Парнаса». 1 мая 1870 года в магазины поступил выпуск № 7. Еще три книги, и издание серии прекратится. Рембо решил, что настал момент нанести решающий удар. Тайно от всех он заготовил длинное стихотворение «Credo in imam»[26], навеянное «Изгнанием богов» Банвиля, напечатанным в первом выпуске «Парнаса». Это вдохновенный гимн бесконечной, всеохватной Любви и пантеистической Природе, где живут богини Венера, Кибела, Астарта, Афродита, Европа, Ариадна и прочие. В сем символе веры есть и страсть, и прекрасные строки: «Глядя на мирозданье, / Мы бесконечности постигнуть не смогли»[27], но обрушивающийся на читателя шквальный поток идей ясно говорит о том, что автор стиха — неумелый, забывающийся дилетант. Вот его «Верую», вот его «молитва на Акрополе»[28]. Вместо ветхого Иеговы, который выгнал Адама и Еву из земного рая, и другого бога, который «нас к своему кресту смог привязать»[29], он поклоняется троице: Солнцу — оно «источник нежности и жизни», Любви — она «плоти торжество» и Свободе.
К сему главному блюду наш герой добавил закуску, стихотворение «Офелия» (тоже навеянное стихами Банвиля) и изысканной свежести десерт «Предчувствие»:
Глухими тропами, среди густой травы,
Уйду бродить я голубыми вечерами…[30]
строки которого напоминают одно стихотворение Коппе, и отослал все это парнасскому мэтру, Теодору де Банвилю, «через Альфонса Лемерра, издателя, улица Шуасёль, Париж»; к стихотворениям прилагалось следующее письмо (датировано 24 мая 1870 года):
Дорогой Учитель!
Сейчас месяц любви; мне семнадцать лет, когда ты полон надежд и воображаешь, как водится, Бог знает что — и вот я, ребенок, которого коснулась Муза — простите за банальность, — решил выказать мои верования, мои упования, мои чувства, все то, о чем говорят поэты — я это называю «весеннее».
Я послал вам некоторые из моих стихов — через Альф. Лемерра, нашего доброго издателя, — потому, что я люблю всех поэтов, всех настоящих Парнасцев — потому что настоящий поэт лишь Парнасец, — влюбленных в идеальную красоту, что мне нравится в Вас — как ни наивно это звучит, — потомке Ронсара, настоящем романтике, настоящем поэте. Вот почему — Это глупо, не так ли, но все-таки?..
Через два года, а может, и через один, я окажусь в Париже — да, и я, господа газетчики, я тоже буду Парнасцем! — я не знаю, что со мной… что я хочу сказать… Я клянусь, мой дорогой Поэт, вечно поклоняться двум богиням, Музе и Свободе.
Не хмурьте брови, когда будете читать эти стихи; я сойду с ума от радости, если вы сможете, мой Господин, отвести стихотворению «Credo in ипат» небольшое местечко на Парнасе… Я бы вошел в последнюю книжку Парнаса, и вошел бы с «Верую!» настоящего поэта!.. — О! Моя гордыня! Мое безумие!
Артюр Рембо
Далее идут стихи, а после них постскриптум:
Что, если эти стихи выйдут в «Современном Парнасе»?
— Разве они не выражают то, во что верят поэты?
— Меня никто не знает; ну и что? Поэты — братья. В этих стихах вера; в них любовь; в них надежда; вот и все.
— О Господин, ради меня: дайте мне воспрянуть: я юн; протяните мне руку.
Ответ Банвиля не сохранился, если он вообще был. Скорее всего, Банвиль ответил; но все, что он мог сделать, это выразить свое сожаление: материал для второго тома «Современного Парнаса» был собран полностью, свободного места не было. Должно быть, он намекнул также на то, что, возможно, будет и третий том, позднее. Позднее… Но это не могло утешить «бурлящий гений» Рембо.
Разумеется, Изамбар об этом не знал, ни о попытке, ни о провале.
На уроках тем временем отношения пятнадцати семинаристов в сутанах, напыщенных и покорных, и дюжины школьников в курточках, которых соседство с «духовенством» все более и более возмущало, становились все напряженнее.
Ректор потребовал от Изамбара быть осторожным и осмотрительным. Но как же было трудно вести себя безукоризненно в аудитории, где были смешаны столь разные люди, иные из которых были готовы и даже специально искали повод донести. Так, учителю пришлось — к великому удовольствию семинаристов — подвергнуть резкой критике Вольтера-драматурга, поскольку не говорить о нем было нельзя, его пьеса «Меропа» была в программе. Похвали он пьесу, те же самые семинаристы обвинили бы его в антирелигиозной пропаганде. Соперничество двух кланов, заметное уже во втором классе, превратилось в войну; впрочем, противники стоили друг друга.
Рембо, конечно, удостоился чести стать рупором «мирян»; он один был способен заградить носителям сутаны путь в первые ученики.
Однажды, на контрольной по латинскому стихосложению, в тишине класса раздался писклявый голосок семинариста по имени Александр:
— Гспаадин учитель! Рембо подсказывает. Он только что сунул соседу какую-то бумажку.
Изамбар бумажку отобрал, но в этот момент Рембо швырнул в лицо не ожидавшего такого поворота событий доносчика свой тяжеленный Тезаурус[31]. От неожиданности Изамбар не знал, что сказать; наказывать Рембо он не стал — на его месте он сам поступил бы так же.
Таким образом, за свое непоколебимое безбожие почитатель богинь античности должен благодарить одноклассников-семинаристов.
В конце учебного года, чтобы дать выход своей ненависти, он написал рассказ на двадцати трех страницах под названием «Не бывает каменных сердец». Это тайный дневник семинариста по имени Леонар, который умирает от любви к некоей Тимотине Лабинет, дочери покойного друга своего отца. В дневнике можно найти все — и лицемера игумена, и дурно пахнущие носки, и грязное белье; все это приправлено молитвами и детскими пародиями на церковные гимны. Эта второсортная вещица слишком карикатурна, чтобы быть смешной, однако она представляет известный интерес, поскольку здесь опробован ряд композиционных приемов, позднее использованных в «Одном лете в аду».
С этих пор Господь Бог, сплавленный в сознании Рембо в одно целое с матерью, клиром и семинаристами, стал для него синонимом Долга, Порядка, Цепей — одним словом, как говорил Прудон, Зла. Один из его сонетов так и называется — «Зло»; в нем алчный Бог спит, пока люди убивают друг друга, и просыпается, лишь когда богомолка жертвует ему 10 сантимов.
Однако не один только Бог должен быть уничтожен. «Какой труд, — говорил он Делаэ, — все нужно разрушить, все вытряхнуть из моей головы! Ах! Как счастлив ребенок, забытый в каком-нибудь безлюдном месте, выросший в одиночестве, которому ничего не вбивали в голову ни учителя, ни родители — он приходит в мир людей новым, цельным, без принципов, без понятий, — ведь все, чему нас учат — ложь! — и свободным, свободным от всего на свете!»16
По этим словам видно, до какой степени он был подвержен влиянию идей XVIII века: тут и «идеальный дикарь», и «статуя» Кондильяка, и tabula rasa, и атеизм Гольбаха, и прочее. Здесь он смыкался с парнасцами, которые ставили нетленное Искусство выше морали, выше политики и религии, презирали христианство (Теофиль Готье говорил, что даже смерть лучше, чем христианская вера) и уважали лишь языческое мироустройство, девственную природу и превыше всего нирвану (Леконт де Лиль).
Рембо очертя голову бросился за ними.
В политике у него был один идеал — Свобода. Неудивительно поэтому, что одним из источников вдохновения для него служила история французской революции: в длинном, жестоком стихотворении «Кузнец» он рассказывает, как 20 июня 1792 года, во дворце Тюильри, некий кузнец встретил лицом к лицу Людовика XVI и «своей рукой широкой швырнул ему в лицо багровый свой колпак». Здесь воображение далеко уводит поэта от реальности — прототип Кузнеца мясник Лежандр, обратившийся в Тюильри к королю с вопросом, обращался к нему на «вы» и не грубил.
К концу эпохи Второй империи Франция разделилась на два лагеря: правые консерваторы бонапартистского типа (их программа в трех словах — Порядок, Величие, Религия) и левые либералы, готовившие пришествие Республики, воцарение Науки и похороны Господа Бога.
В Шарлевиле люди делились на почитателей и ненавистников реакционной газеты «Арденнский курьер», которую читали благовоспитанные семейства, а с ними и г-жа Рембо. Артюр, естественно, состоял в партии ненавистников.
Заметим, что когда он — несмотря на весь свой взлелеянный в юности антиклерикализм, пронесенный им через всю жизнь, — позднее захотел окончательно порвать с Богом, ему это удалось только ценой поистине каторжных усилий. Дело в том, что его атеизм не был плодом сознательных размышлений, как это бывает у большинства людей науки; это была аллергия, реакция отторжения; он ненавидел религию потому, что ее прибрало к рукам чудовище по имени Диктат, как оно прибрало к рукам семью, образование, государство и Церковь Господню.
Вскоре круг общения Рембо, до поры ограничивавшийся Изамбаром, Лабарьером и Делаэ, расширился: учитель познакомил его с двумя своими друзьями, такими же холостяками, как и он, и тоже воспитанными в чужой семье — Леоном Деверьером и Полем Огюстом (друзья его называли Шарлем) Бретанем. Первый преподавал философию в школе Росса. Он жил на Орлеанском бульваре, в доме 95 (Изамбар — в доме 21). По словам Делаэ, он был «толстый жизнерадостный молодой человек, активный, практичный, трудолюбивый, полный оптимизма». О нем мало что известно. Он оставил преподавание в июле 1871 года и стал секретарем редакции новой региональной ежедневной газеты «Северо-Восток». Очень жаль, что он не оставил записок о Рембо, а ведь Деверьер делился с ним табаком, давал ему книги и, по словам того же Делаэ, находил его «крайне оригинальным, крайне забавным».
Поль Огюст Бретань, отошедший в мир иной в 1881 году, тоже не оставил о Рембо записок, но о нем самом мы кое-что знаем17.
Ему было 35 лет. Его отец был начальником отдела по сбору налогов в Нанси, да и сам он исполнял функции налогового инспектора на сахарном заводе в Пти Буа в Шарлевиле. Это был пузатенький фламандец, большеглазый, толстогубый, с длинными усами. Приехал он из Фампу, что близ Арраса; там познакомился с Верленом, который побывал в тех местах в 1869 году перед тем, как жениться. Они вместе бродили по кабакам, и Верлен в знак дружбы подарил ему замечательную стеклянную чернильницу. Поэзия его ничем не привлекала, однако он любил повторять одну верленовскую строчку из «Смерти Филиппа II» («Сатурновские стихотворения») — его восхищал ее натурализм:
после чего обязательно добавлял:
— Не правда ли, его вольности восхитительны?[32]
Рембо это очень забавляло — Бретань вкладывал в слово «вольность» совершенно неподходящий смысл.
Едкое остроумие юного школьника и его любовь перегибать палку нравились Бретаню, но он не угощал его ни пивом, ни табаком и даже книг не давал читать (известно только, что от него Рембо достались «Сказки» Шарля Делена). Рембо любил Бретаня за то, что тот был всегда спокоен и мог подолгу молча сидеть рядом с ним в кафе, куря свою пенковую трубку. Но достаточно было появиться какому-нибудь зануде, как он резко менялся. Луи Пьеркен рассказывает, что как-то раз вечером в кафе Дютерма на Герцогской площади к ним за столик подсел таможенник в чине унтер-офицера. Двое товарищей тут же принялись поносить тупиц-офицеров, которые не дают прохода молодежи, то и дело добавляя, что ради избавления от этого мерзкого отродья они пошли бы даже на убийство и с удовольствием наблюдали бы агонию своих жертв. Несчастный сначала бросал по сторонам растерянные взгляды, а потом счел за благо тихонько удалиться, и Бретань тщетно пытался подавить свой неудержимый хохот, очевидно, из опасения, как бы не лопнуло его толстое пузо.
Все, кто знал Бретаня, превозносили его музыкальные способности — он одинаково хорошо играл на скрипке, альте, виолончели и охотничьем рожке. Его карикатуры, героями которых чаще всего были священники — Рембо глаз не мог от них отвести, — также были великолепны. Это был самый настоящий «пожиратель святош», и его даже в шутку называли отец Бретань, Первосвященник и Магнус Сакердос[33], что не мешало ему увлекаться мистикой и оккультными науками. Но больше всего юного почитателя привлекал его интеллектуальный анархизм: он готов был в клочья разнести любой вид диктата — догму ли, правило, установление, что, однако, не мешало ему быть превосходным чиновником. Делаэ, который хорошо его знал, пишет: «Факультеты и академии он считал учреждениями репрессивными, с ними следовало бороться; и раз уж он говорил — в те редкие моменты, когда вынимал изо рта трубку, — что иные знаменитые врачи ослы по сравнению с иными деревенскими «костоправами», то не следует удивляться, что ему доставляло величайшее удовольствие наблюдать за тем, с каким рвением наш юный поэт ниспровергает принципы, сокрушает устои, попирает традиционное и глумится над «достойными людьми» и папой Римским»18.
Бретань сыграл важнейшую роль в интеллектуальном развитии Рембо, который именно в этот период становился все более и более нетерпимым.
С виду наш герой совсем не изменился, но это был уже другой человек. Это был все тот же хорошо одетый, вежливый мальчик. Внешне он все еще оставался ребенком: пухлые щечки, розовая кожа и волнующие, ангельские, пронзительные глаза-незабудки. Именно для Делаэ они и были прежде всего ангельскими: «Брюнет с голубыми глазами, причем голубыми по-разному; они то светлели, когда он мечтал, то чуть темнели, когда напряженно думал, когда искал, вглядывался в неизвестное, и его мысленный взор видел так далеко, что веки, как у кошки, смыкались, а длинные, шелковые ресницы немного дрожали, и голова оставалась в томной неподвижности»19.
В коллеже Рембо не фрондировал, но всегда был уверен в себе. Делаэ настаивает, что он был робким, и из-за каждого пустяка его лицо заливала краска, однако к первому классу он уже стал достаточно сильной личностью, чтобы с ним считались. «Говорят, он был робким, — пишет один из тогдашних учеников коллежа, которому мы уже не раз давали слово, — но мы помним его безапелляционный, даже наглый, должен заметить, тон; мы помним, как уверенно он разговаривал с учителями, с директором, мы помним, как он любил разыгрывать своих товарищей».
Мы уже говорили о его беседах с отцом Вильямом, учителем истории. Он поддразнивал и другого священника, отца Жозефа Жиле, но тут ему приходилось быть более осторожным, поскольку святой отец был крайне раздражителен. Однажды, рассказывает все тот же безымянный ученик коллежа, когда какой-то экстерн из Мезьера спросил его, не потому ли валюта Ватикана не имеет хождения во Франции, что папа — фальшивомонетчик, он побледнел, в ярости запахнул свою бархатную мантию и вышел вон, воскликнув: «Здесь оскорбляют мою веру, я ухожу!» Директору потребовалось все его дипломатическое искусство, чтобы замять инцидент.
Соученики считали Рембо «классным парнем», и не только потому, что он был первым по успеваемости; но и потому, что он умудрялся быть таковым, не будучи подлецом и подхалимом. Кроме того, он всегда был готов помочь. Он даже сумел открыть нечто вроде книжной лавки, продолжает наш безымянный свидетель. За небольшое вознаграждение он брался найти в городе любую книгу, какую пожелаешь. Частенько он убивал одним выстрелом двух зайцев — покупал сначала другую книгу, не ту, которую его просили, и прочитывал ее за ночь, не разрезая страниц. На следующий день он книгу возвращал под тем предлогом, что ошибся и менял на ту, которая на самом деле была нужна заказчику, но и она попадала к последнему только после того, как ее прочитывал Рембо.
Число книг, которые он мог проглотить за несколько месяцев, огромно: он брал книги у директора, у Изамбара, у Деверьера, у Бретаня… С равным усердием он брался за философию, социологию, политику, сочинения Тьера, Минье, Токвилля, Эдгара Кине, Прудона, Луи Блана… не говоря уже о классиках и поэтах; не забудем и Библию, к которой он регулярно обращался.
В разного рода проделках, чаще всего затевавшихся интернами, он участия не принимал — не забирался ночами в амбары, где хранились яблоки, или в шкафы для белья, принадлежавшие директору или его супруге с дочерью, не «ходил в гости» к воспитанницам соседнего монастыря, не заглядывал в кафе «У Дютерма» на Герцогской площади.
Что касается чувств, тут, казалось бы, не было ничего необычного. Испытывать любовь ему еще не доводилось, но он уже писал о ней стихи. Возвышенная риторика «Верую в единую» и зачатки страсти, явленные в стихотворении «На музыке», едва ли стоит считать свидетельством какой-то болезненной чувствительности. О том, были ли у него с кем-либо какие бы то ни было интимные отношения, судить трудно. Все тот же безымянный соученик говорит о неких «шалостях», но конкретных фактов не приводит. Вот его свидетельство:
«Ребята из маасской долины всегда были большие затейники и знали всякие штуки вполне греховного свойства. Ребята из интерната, знатные мастера подобных шалостей, учились и в коллеже, и в семинарии. Может, от них-то Артюр, это дитя Аполлона, и перенял, как и его брат Фредерик, некоторые привычки, о наличии которых можно было судить по его внешнему виду. Если это так, тогда понятно, почему он нашел среди них хороших друзей».
Делаэ, обсуждая эту же тему, говорит прямо: «Что касается нравов и пристрастий Рембо, я могу сказать следующее: извращенцы в коллеже, как и во всех школах, были, однако у Рембо такой репутации никогда не было. Ни в одном разговоре со мной — а мы разговаривали очень часто, беседы наши были очень личными, и он ничего от меня не скрывал — он не показал ни малейшей к этому склонности».
Таким образом, к лету 1870 года ни один человек не заметил, что Рембо уже сошел с нормального пути. Мать думала, что выдрессировала его. Изамбар писал: «Г-жа Рембо совершенно не знала своего сына; степень этого незнания всегда казалась мне поистине чудовищной». Артюр все еще был рядом, все еще был — на первый взгляд — послушным мальчиком; но он был уже не из этого мира, он уже был далеко.
Ставки были сделаны. События развивались с устрашающей быстротой. Было уже слишком поздно.
Закончился учебный год, и началось жаркое, тяжелое, полное недобрых предзнаменований лето.
Очередной конкурс Академии состоялся в июне 1870 года. Снова г-н Дедуэ возлагал все свои надежды на Рембо и был занят им одним. Чтобы натаскать его, Изамбар давал ему дополнительные занятия по нескольку раз в неделю.
Тема задания по латинскому стихосложению звучала: «Обращение Санчо Панса к своему покойному ослу». Рембо открылся необозримый простор для упражнений в остроумии. К несчастью, его текст — получивший первую премию — утерян, поскольку из-за начавшейся войны Академия Дуэ не смогла выпустить очередной номер своего бюллетеня.
Тучи заволокли горизонт. 15 июня Законодательному собранию была зачитана знаменитая депеша из Эмса. Депутаты восприняли ее как оскорбление, которое нанесли послу Франции в Берлине; решение депутатов было единодушным — война! На следующий день бонапартистская газета «Государство» напечатала проникновенное воззвание Поля де Кассаньяка к «священному французскому народу»: «Вы, республиканцы, помните ли вы, как в 1792 году… вы, легитимисты, вы, бонапартисты, вы, орлеанисты» и т. д. Как же так? Газета сторонников правящего режима, которая еще недавно говорила о необходимости войны для укрепления монархии, смеет призывать под свои знамена Великих Предков и их потомков, не покладая рук боровшихся с тиранией? Возмущенный и оскорбленный, Рембо тут же сочинил гневный памфлет:
Он показал это стихотворение Изамбару 18 июля после уроков, когда они вместе прогуливались по «Аллеям»:
— Вот, месье, — сказал он просто, — это вам!
Он дал ему прочесть и «Верую в единую», однако ни словом не обмолвился о том, как отсылал это стихотворение Теодору де Банвилю.
На следующий день Франция и Пруссия объявили друг другу войну.
С этого момента в Шарлевиль и Мезьер начали стекаться резервисты, призванные на службу декретом от 17 июля. В обоих городах закипела жизнь: колонны вновь прибывших с музыкой и развевающимися знаменами приветствовали батальоны 96-го пехотного полка, отправлявшегося защищать французские границы. Воздух наполнился патриотическими криками:
— На Берлин, на Берлин!
Одно удовольствие было видеть этот боевой настрой. Но Рембо переполняло отчаяние: эта глупая война (которая послужит только упрочению режима, если Франция ее выиграет) разрушала все его надежды попасть в «Современный Парнас»!
24 июля Изамбар уехал из Шарлевиля. Его больше ничто там не держало; он даже сказал, что не испытывает никакого желания присутствовать на церемонии вручения премий. Из Дуэ к нему приехала его тетка Каролина (на самом деле не тетка, а воспитательница — вместе со своими двумя сестрами она растила Изамбара после смерти его матери). Ей очень понравился Деверьер, и по просьбе Изамбара она пригласила его погостить у них в Дуэ несколько дней.
Отъезд сразу двух лучших друзей стал для Рембо тяжелейшим ударом.
— Что же со мной будет? — стонал он. — Сил моих больше нет терпеть такую жизнь, больше года я в Шарлевиле не протяну. Я в Париж поеду, стану журналистом!
Деверьер пытался отговорить его: «Журналистом? Это в вашем-то возрасте? У вас же нет ни опыта, ни образования!» Но все его усилия пошли прахом, Артюр упорствовал:
— Тем хуже для меня! Я умру по дороге, я отдам богу душу на парижской мостовой, но здесь не останусь!
— Я запрещаю вам это! — отрезал Изамбар. — Вы не имеете на это права! Вы должны хотя бы окончить школу. Потерпите еще год, мужчина вы в конце концов или нет? Подумайте о своей матери, не стоит ее выводить из терпения; и потом, через несколько дней вам вручат ваши премии, она станет относиться к вам снисходительнее…
— Вы ее плохо знаете.
— Вам необходимо остаться, закончить учебу, сдать выпускные экзамены. Диплом бакалавра, говорил Талейран, не цель, но средство: это ключ, который откроет вам любую дверь.
Рембо пожал плечами и обиженно пробормотал:
— Вы такой же, как все!
В его устах это было худшим оскорблением.
Изамбар был добрый человек и знал, что нужно сделать, чтобы Рембо простил его: он разрешил ему приходить в свой дом, пока его не будет, и читать книги из его библиотеки; хозяин дома, г-н Пти-Доши, должен был давать ему ключи. Вдобавок Изамбар подарил Артюру две книги Теодора де Банвиля, «Кариатиды» и «Акробатические оды». Поэтому Рембо, придя на вокзал проводить учителя, не выглядел уже таким отчаявшимся: у него было два-три месяца отсрочки. Что потом — будет видно.
Вечерний выпуск «Арденнского курьера» от 2 августа принес весть о победе под Саарбрюккеном. «Наша армия, — говорилось в коммюнике, — перешла границу и вторглась на территорию Пруссии». Сообщение привело всех в исступленный восторг; всю ночь по улицам маршировали процессии с бумажными фонариками. Армия одержала победу, скоро снова наступит мир. Солдат засыпали цветами, за марширующими отрядами бежали мальчишки. Одного такого мальчишку звали Фредерик Рембо; очарованный военной музыкой, он не пожелал покинуть часть, за которой увязался, и солдаты оставили его у себя как сына полка. Можно себе вообразить, что творилось с г-жой Рембо.
С конца июля «Арденнский курьер» открыл благотворительную подписку в пользу добровольцев, вдов и сирот. Городской совет пошел дальше и принял решение отвести здания коллежа, семинарии и конного завода под военный госпиталь. Охваченные патриотическими чувствами, ученики отказались от своих премий. «Мы решили, — говорилось в их письме в газету, — внести свою лепту в дело помощи французской армии, которая защищает сейчас наш народ»20.
Наконец настал великий день вручения премий — 6 августа 1870 года. Погода стояла великолепная. В уставленном знаменами и цветочными горшками зале, где стены были обиты темно-красной тканью, Ленель сделал доклад о Вергилии, а прокурор Анжену, председательствовавший на церемонии, зачитал речь, в которой прославлял императора, одерживавшего победу за победой.
Трофеи Рембо составили: звание первого ученика в классе, шесть первых премий (по закону Божьему, французской и латинской риторике, латинскому стихосложению, переводу с латыни, переводу с греческого), вторая премия по декламации, похвальная грамота четвертой степени по истории и географии и, наконец, первая премия Академии Дуэ. Целый ворох дипломов на золотой и зеленой бумаге и всего две — но зато великолепные — книги от Академии.
Вечером того же дня «Арденнский курьер» в краткой заметке известил о том, что двумя днями раньше армия потерпела поражение под Вейсенбургом. В этот же день случилась катастрофа при Фрешвилере.
Буйного восторга арденнцев как не бывало — людей словно окатили ушатом ледяной воды.
Примечания к разделу
1 О Дедуэ см.: Э. Делаэ, Souvenirs familiers, и П. Берришон (обе биографии Рембо). См. тж. Mercure de France от 1 января 1955 г. В Г Album Rimbaud опубликован его портрет.
2 «Des souvenirs inconnus sur Rimbaud», опубликовано Пьером Птифисом в Mercure de France от 1 января 1955 г.
3 Делаэ Э., Rimbaud (1906), с. 21, и Rimbaud (1923), с. 176.
4 «Les soùvenirs d’un ami de Rimbaud» (Луи Пьеркен), опубликованные Ж.-М. Карре в Mercure de France от 1 мая 1924 г., перепечатаны также в книгах Ж.-М. Карре {Lettres de Rimbaud, les deux Rimbaud).
5 Понселе, став директором школы, поведал об этом П. Берришону в письме от 30 ноября 1901 г. (хранится в собрании Матарассо).
6 Почти все эти рисунки опубликованы И.-М. Мелера в подарочном издании ее книги Rimbaud (1930). В книге Франсуа Рюшона есть еще один рисунок («Продавец песенок»). Остальные не опубликованы («Верблюд», «Слон» и прочие). «Воскресенье в маленьком городе» — немного измененная копия карикатуры Альберта Хамберта («Набросок о земледелии»), опубликованной в le Monde comique.
7 См. Mercure de France от 1 апреля 1930 г. Автограф этого письма хранится в Музее Рембо в Шарлевиле — Мезьере. Воспитатель наследника, Огюст Фильон, опубликовал книгу воспоминаний о своем знаменитом ученике (le Prince impérial, Hachette, 1912). Стихотворение Рембо там не упоминается.
8 О Поле Лабарьере см. статью Жюля Муке «Un témoignage tardif sur Rimbaud» в Mercure de France от 15 мая 1933 г.
9 Латинские стихи Рембо перевел и опубликовал Жюль Муке (A. Rimbaud, Vers de College, Mercure de France, 1932). Упражнение no латинской риторике, «Речи Аполлония о Марке Цицероне», опубликовано в издании l’idition de la Pléiade Антуана Адана (1972).
10 Э. Делаэ, Souvenirs familiers, с. 43, прим.
11 См. П. Берришон, J.-A. Rimbaud, le poète, с. 37 и Ж. Муке (Vers de Collège).
12 Артюр срисовал с учебника истории греческую статую. Фредерик отобрал у него рисунок, а у него в свою очередь его отобрал некто Руссо, который поспешил стереть целомудренный фиговый листок и нарисовал вместо него половой орган крайне внушительных размеров «в рабочем состоянии». Он сделал подпись к рисунку «Отец Вильям в бане» и с другим своим товарищем, Леруа, подсунул его под двери семинарии. Когда начали разбираться, подозрение сначала пало на Фредерика (7-я тетрадь Культурного центра Артюра Рембо, Шарлевиль — Мезьер, июнь 1981).
13 Марсель Кулон, le Problème de Rimbaud, poète maudit, c. 19.
14 B le Bateau ivre, № 14, ноябрь 1955, мы говорили, что эта записка не опубликована; это не так — ее напечатали в les Idées françaises, в 1924, с. 320, автор публикации Эмиль Ле Брен. Оригинал хранится в собрании Люсьена-Гро.
15 Жорж Изамбар, Rimbaud tel que je l'ai connu; статьи, воспоминания, заметки, собраны А. Буйаном де Лакотом и Пьером Изамбаром.
16 Э. Делаэ, Rimbaud (1906).
17 О Бретане см. воспоминания Делаэ, воспоминания Л. Пьеркена (примечание 22) и в особенности le Bateau ivre, № 14, ноябрь 1955 г.
18 Э. Делаэ, Souvenirs familiers, с. 148.
19 «Le Petit Rimbaud» (неопубликованная статья Делаэ), цитата взята из его работы Les Illuminations et Une saison en Enfer de Rimbaud, c. 27.
20 Это письмо можно найти в работе Робера Гоффена в Rimbaud vivant, с. 22–23.
Глава IV
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Французская армия терпит поражение в Эльзасе, 8 августа 1870 года в департаменте Арденны объявляется осадное положение, в Мезьере вводится комендантский час — а Рембо и дела нет; как лиса в курятнике, молодой поэт проглатывает книгу за книгой в библиотеке Изамбара. Спасительные стены дома учителя не пропускали ни лучей палящего солнца, ни криков г-жи Рембо; он проводил там целые дни и даже брал книги домой, чтобы читать их ночью. Вдобавок он еще покупал у букиниста книги в кредит, а чтобы мать об этом не знала, прятал их у Изамбара.
К 25 августа в библиотеке не оказалось книги, которую бы Рембо не прочитал. Тогда он продал свои призы за учебу, а заодно и несколько книг Изамбара, для ровного счета. Двадцать франков, полученные от книготорговца, давали возможность добраться до Парижа… Париж? В определенном смысле он уже побывал там. Парижский еженедельник «Ля Шарж» (его главным редактором был художник Альфред Ле Пти) только что, 13 августа, опубликовал одно его любовное стихотворение, «Три поцелуя», которое он послал в редакцию в ответ на предложение бесплатной подписки. Эти восемь строф оказались — вот ирония судьбы! — в номере с ультрапатриотической обложкой, рисунком Ле Пти «Отмстим!», доход от продажи которого пошел в пользу раненых. Стоило ли после этого колебаться — продавать призы или не продавать?
25 августа Рембо «в страшной спешке» пишет Изамбару первое письмо:
Мсье,
Как вы, должно быть, рады, что уехали из Шарлевиля! Мой родной город — самый идиотский во всей провинции. На этот счет, как видите, у меня нет больше сомнений. По той причине, что мы рядом с Мезьером, по той причине, что по нашим улицам разгуливает две-три сотни пехотинцев, наше блаженное население ведет себя откровенно шапкозакидательски, не то что осажденные в Меце или Страсбурге! Как это отвратительно — эти лавочники на покое, вновь надевшие форму! Сногсшибательное зрелище: нотариусы, стекольщики, сборщики налогов, столяры — огонь в глазах, брюхо колесом, шаспо[35] наперевес, — патрулирующие окрестности Мезьера. Патрульотизм — так я это называю. Моя Родина поднимается на свою защиту!.. По мне, лучше бы она осталась сидеть; сапогам место под лавкой! Это мой принцип.
Я выбит из колеи, я болен, я глупею, я в ярости, я-в отчаянии; я ожидал ярких солнечных лучей, бесконечных прогулок, отдыха, поездок, приключений, наконец; более всего я мечтал о газетах, книгах… Ничего! Ничегошеньки! В книжные лавки не приходит ничего нового; Париж с премиленькой улыбкой насмехается над нами — ни одного свежего издания! Вот она, смерть! Из газет только и есть, что «премногоуважаемый» «Арденнский курьер»…
Рембо рассказывает, что прочел в последнее время: «Три дня назад я принялся за «Опыты»[36], потом перечел «Сборщиц колосьев»[37] — да! я перечел эту вещь!» Восклицательные знаки призваны сказать: смотрите, до чего я дошел, читаю такую посредственность! Однако не все было так плохо: «Я купил «Галантные празднества» Поля Верлена, очень милая книжица за 12 экю. Диковинная, чудная, но — без дураков — восхитительная… Советую вам купить «Песнь чистой любви», другой сборник того же автора, он недавно вышел в издательстве Лемерра; я его не читал — до нас ничего не доходит; но в газетах его очень хвалят» (на самом деле к тому моменту по редакциям были разосланы только сигнальные экземпляры, а тираж в магазины еще не пришел).
В этом письме не было речи ни об отъезде, ни о Париже, ни о журналистике, однако постскриптум гласил: «Вскоре расскажу о жизни, которую буду вести после… каникул…»
Через четыре дня после отправки письма, 29 августа, в понедельник, семья Рембо — мадам, одетая в черное, прямая как истукан, Изабель, Витали в «зелено-блеклых одеждах», и сам Артюр (Фредерик до сих пор не вернулся) — отправилась на прогулку «на луга» между крепостными стенами Мезьера и берегом Мааса, обсаженным липами. Стояла прекрасная погода.
И что же случилось дальше?
Это описано в стихотворении «Воспоминание»: «Он» (Артюр) удаляется, оставляя «мадам» за вышиванием, а двух сестер за чтением книжки, прячется, а потом незаметно бежит на вокзал:
Ее боль понятна — от нее сбежал уже второй сын!
На вокзале «его»1 ждал сюрприз — движение на линии Шарлевиль — Париж прекращено! В самом деле, мы читаем у Жюля Пуарье в его превосходной книге «Мезьер в 1870 году»: «Днем 29 августа немецкая кавалерия разобрала рельсы между Аманью и Сольс-Монкленом; но вскоре путь был восстановлен. Однако несколько часов спустя немцы разобрали рельсы на перегоне Лонуа — Пуа».
Неужто придется возвращаться с повинной головой? Один выход все же был — уехать в направлении Живе или в Бельгию, где все спокойно. Он отправился в Шарлеруа, так как помнил, что отец одного его одноклассника, Жюля Дезессара, был главным редактором «Газеты Шарлеруа». Попытался ли он устроиться в газету? Вряд ли, это означало бы, что его позднейшая попытка была повторной; но так или иначе на вокзале в Шарлеруа он узнал, что оттуда обычным порядком ходят поезда на Париж — через Суас-сон. Через несколько часов он может быть в столице. Великолепно! Что было несколько менее великолепно, так это то, что он уже успел «поиздержаться в дороге» и у него не хватало денег на билет до Парижа — только до Сен-Квентина. Хорошо, пусть билет будет до Сен-Квентина. Рембо решил, что как-нибудь сумеет ускользнуть от контролеров на Северном вокзале и в Сен-Квентине с поезда не сошел.
В это время его мать буквально не находила себе места от беспокойства. Вечером 30-го в Шарлевиль потоком хлынули отступающие из-под Седана части, являвшие зрелище неописуемого беспорядка и разложения: лошади, повозки, фургоны, раненые, пехотинцы и зуавы без оружия, артиллеристы без пушек, в разодранных мундирах, умирающие от жажды, твердящие только одно — «нас продали». Вдали слышалась канонада; враг приближался, он был рядом, везде: немецких уланов видели в Эйвеле, в Сен-Лоране, на подходах к Мезьеру. На скорую руку в скверах, в садах, на площадях собирали походные лазареты — поток раненых все не прекращался, их прибыло около десяти тысяч.
— И что на него нашло, — спрашивала себя г-жа Рембо, — какая такая блажь? Он обычно такой благоразумный…
Ни один человек его не видел. Найти шестнадцатилетнего мальчишку в такой толпе было не проще, чем иголку в стоге сена. Г-жа Рембо вернулась домой затемно, с красными глазами; ее сердце было разбито. Изабель на всю жизнь запомнила тот ужасный вечер, когда «в каштановых аллеях беснующаяся толпа распевала патриотические песни».
На Северном вокзале не все прошло так просто, как воображал себе беглец. Контролеры задержали его с билетом до Сен-Квентина, и, поскольку у него не было денег, комиссар полиции при компании «Железные дороги от Парижа до бельгийской границы» отправил его в камеру предварительного заключения. В рапорте значится:
«31 августа. Парижский вокзал. Я отправил в камеру предварительного заключения при префектуре г-на Рембо, 17-ти с половиной лет, прибывшего из Шарлеруа в Париж с билетом до Сен-Квентина, без определенного местожительства и средств к существованию».
Таким образом, наш герой добавил себе лет и отказался назвать адрес матери. Впоследствии, рассказывая о происшедшем Делаэ, он представил все в более выгодном для себя свете: едва он оказался в Париже, как ему нахамил какой-то шпик; в ответ он обозвал его безмозглым легавым и стукачом. Он явно предпочитал выглядеть жертвой политических репрессий, а не обыкновенным зайцем, пойманным контролерами.
Берришон добавляет, что его обыскали и нашли какие-то таинственные карандашные записи (вероятно, блокнот со стихами), что дало повод полиции подозревать его в шпионаже — у полиции был приказ проверять все поезда с севера и востока. Властям не простили бы ни малейшей оплошности — национальные гвардейцы уже один раз захватили мэрию и пытались свергнуть правительство. Ярость народа грозила перелиться через край; повсюду говорили, что в неудачах армии виноваты предатели.
Рембо оказался жертвой этого психоза, Делаэ пишет: «Сначала он был заключен в общую камеру с толпой негодяев, которые избивали его; ему приходилось защищать свою честь, а его соседям по камере до этого и дела не было. Затем его вызвали на допрос, и в свои ответы он вложил столько ироничного презрения к закону, что разъяренный судья немедленно отправил его в Мазас» (по словам Изамбара, ироничное презрение к закону выражалось главным образом в сопливых рыданиях и «жутком страхе, какой бывает у загнанного животного»).
В следственном изоляторе (а вовсе не тюрьме) Мазас заключенные сидели в одиночках и общих камер не было; это была крепость на бульваре Мазас (в настоящее время бульвар Дидро), в ней содержалось около 1200 подследственных, по большей части политических.
Юного поэта сначала препроводили в канцелярию, затем в душ, пока его одежда проходила дезинфекцию в «серной». После этого надзиратель отвел его в камеру, где на площади в двадцать квадратных метров размещались санузел, подвесная койка, стул и маленький стол. Подъем был по звонку в семь часов; по второму звонку разносили еду, к этому времени заключенный был обязан убрать кровать и привести в порядок камеру. В половине десятого утра была одиночная прогулка, хождение взад-вперед по коридору, это был единственный раз на дню, когда заключенный покидал камеру. Ни один заключенный никогда не видел другого. Имелся ряд поблажек: разрешалось читать (в тюремной библиотеке было четыре тысячи томов), писать (бесплатно предоставлялись бумага, чернила и перо) и курить.
Дверь камеры закрылась, и Рембо остался в одиночестве. Он тут же написал четыре письма: матери, имперскому прокурору, комиссару полиции Шарлевиля и наконец Изамбару. Последнее сохранилось — это истерический крик «на помощь!» вперемешку с мольбами и наставлениями; видно, что автор находился в полнейшем замешательстве.
Париж, 5 сентября 1870 г.
Дорогой учитель,
Я поступил так, как вы мне советовали не поступать — я уехал в Париж, бросив родительский дом! Я отбыл в столицу 29 августа.
Сойдя с поезда, я был арестован — у меня не было в карманах ни гроша и я недоплатил 13 франков за поезд — и доставлен в префектуру, и сейчас ожидаю приговора в Мазасе. О! Я ПОЛАГАЮСЬ НА ВАС, как на свою мать; вы всегда мне были, как брат: я прошу вас немедленно помочь мне, как вы мне и раньше помогали. Я написал своей матери, имперскому прокурору, комиссару полиции Шарлевиля; если к среде, до отхода поезда на Париж, обо мне не будет вестей, САДИТЕСЬ НА ЭТОТ ПОЕЗД, ПРИЕЗЖАЙТЕ СЮДА, НАПИШИТЕ ПИСЬМО ПРОКУРОРУ ИЛИ ЯВИТЕСЬ К НЕМУ ЛИЧНО, попросите его за меня, ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ НА ПОРУКИ И ВЕРНИТЕ ЗА МЕНЯ МОЙ ДОЛГ! СДЕЛАЙТЕ ВСЕ, ЧТО В ВАШИХ СИЛАХ, и когда вы получите это письмо, напишите, вы тоже, Я ПРИКАЗЫВАЮ ВАМ, да, НАПИШИТЕ МОЕЙ БЕДНОЙ МАТЕРИ (Набережная Мадлен, 5, Шарлевиль), УСПОКОЙТЕ ЕЕ. НАПИШИТЕ И МНЕ тоже; сделайте это! Я люблю вас как брата, я буду любить вас как отца.
Жму вам руку
Ваш несчастный
[заключенный] Артюр Рембо из Мазаса
(И если вам удастся меня освободить, вы возьмете меня с собой в Дуэ)
«Садитесь на поезд, приезжайте сюда, верните за меня мой долг, сделайте все» — определенно, здесь Рембо очень похож на свою мать.
Пока суд да дело, Рембо сосредоточился на стихах, благо располагал бумагой и чернилами — подпись под автографом стихотворения «Вы, храбрые бойцы» гласит: «Мазас, 3 сентября 1870 г.».
Изамбар немедленно сделал все, о чем его просили — выслал Рембо деньги на обратную дорогу, вернул его долг и написал г-же Рембо. Вскоре после этого беглеца освободили, отвезли на Северный вокзал и посадили на поезд Париж — Дуэ.
8 сентября он оказался у Изамбара в настроении, какого следовало ожидать: он был зол сам на себя, был, разумеется, полон признательности к учителю, и в то же время предвидел неизбежный — и, естественно, скорый — конец своего приключения, возвращение и «материнские ласки».
Трехэтажный дом Изамбара, с симпатичным фасадом в итальянском стиле, находился на улице Аббе-де-Пре, в тихой части города.
Дом принадлежал сестрам Жендр, о которых мы уже говорили и которые взяли Изамбара к себе после смерти его матери и воспитали его. Самой младшей, Каролине, было 38 лет, ее сестер звали Изабель и Генриетта. Они держали шляпный магазин.
Все домашние, включая и приглашенного Леона Деверь-ера, приняли Рембо как блудного сына. «Поучения мы оставили на потом», — пишет Изамбар.
— Так вы видели Париж? — осведомился хозяин дома.
— Ну да… — ответил он. — Сквозь решетку «воронка».
— И вы, надо думать, приняли на ура провозглашение республики?
— Я как-то не следил за событиями…
Ему отвели уютную комнату на третьем этаже, в которой находилась библиотека. Первым делом нужно было заняться его внешним видом: разумеется, в душ, к тому же он вернулся совершенно обовшивев (несмотря на «серную»!). «Две ласковые сестры» усадили его на стул у открытого окна, выходившего в сад с пышной растительностью («натуральный тропический лес», как сказал впоследствии человек, купивший дом), и принялись за дело; Рембо описал это в стихотворении «Искательницы вшей»:
В этом стихотворении, полном чувства и тонких наблюдений, он сумел выразить необычайную непринужденность, порожденную истомой и неизреченной нежностью, которые охватили его, когда впервые в жизни он стал объектом женской заботы.
Изамбар известил г-жу Рембо о возвращении ее сына, справляясь о том, как ему теперь поступить, и одновременно прося ее быть милосердной к нему после того тяжелого урока, который был ему преподан. Он заставил беглеца приписать к письму от себя, что он раскаивается в своем поступке. Тот же хотел только одного: забыть навеки Шарлевиль вместе со всеми его жителями. Поэтому, ощущая себя в самом настоящем раю, он стал жить сегодняшним днем, как избалованный ребенок, без единой мысли о будущем. В самом деле, о таком он и не мечтал — безмятежные дни, посвященные чтению, прогулкам, поэзии. Ах! Как далеко была суета родного города и ежовые рукавицы «мамаши Рем».
Сначала он не вылезал из библиотеки, в которой, помимо прочего, были 21 том «Иллюстрированного журнала» и «Опыты» Монтеня; Рембо накинулся на них как голодный хищник. Его восхищало в них не столько содержание, сколько раскованность, резкость стиля. Одно место настолько ему понравилось, что он выбежал на порог дома и ждал там возвращения Изамбара, чтобы рассказать ему о своем открытии. Он зачел ему: «Поэт, по словам Платона, восседая на треножнике муз, охваченный вдохновением, изливает из себя все, что ни придет к нему на уста, словно струя родника; он не обдумывает и не взвешивает свои слова, и они истекают из него в бесконечном разнообразии красок, противоречивые по своей сущности, и не плавно и ровно, а порывами» («Опыты», кн. 3, гл. 9)[41]. Рембо просиял от радости, когда Изамбар улыбнулся. Долгое время после этого они подшучивали друг над другом, как два сообщника; Рембо только и делал, что повторял «как струя родника, как струя родника».
Изамбар не только давал ему советы; он сделал гораздо больше — в один прекрасный день познакомил его с еще одним своим другом, двадцатишестилетним поэтом Полем Демени, автором сборника «Сборщицы колосьев», который незадолго до того вышел в издательстве «Библиотека художественной литературы», что на улице Бонапарта, дом 18, в Париже2. В большей степени, нежели стихи — их он считал посредственными, — Рембо заинтересовало знакомство Демени с директором «Библиотеки», г-ном Девьеном.
Никто не успел и глазом моргнуть, а наш юный поэт уже решил, что Демени может быть — почему может? будет! — его издателем. Ему тут же понадобились кипы бумаги — переписывать стихи, написанные за последний год. Он принялся за дело с необыкновенным прилежанием и достоинством — это видно хотя бы из того, что вместо подписи он ставил инициалы. По выражению А. Буйана де Лакота, в этих автографах ликует каждая буква. Рембо не только переписывал начисто старые стихи, но и написал ряд новых — к примеру, «Завороженных» (20 сентября), умилительнейшая вещица, «Роман» (23 сентября), стихотворение мальчишки с пламенным сердцем, однако и под теми, и под другими он ставил одну и ту же дату, так что установить последовательность, в которой они действительно писались, не удается.
Написанное могло послужить материалом как минимум для брошюры, если не для полноценного сборника.
Наконец Рембо решил, что настал день, когда он должен стать журналистом. В Дуэ незадолго до того появилась новая газета «Северный либерал», и Изамбар был там секретарем редакции; Рембо часто заходил к нему, радуясь возможности полистать местную прессу и подышать «газетным воздухом», пропитанным запахом типографской краски. Он сгорал от желания работать в этой газете, но учитель холодно относился к этой идее, поскольку в этом случае у Рембо был бы предлог остаться в Дуэ, а ведь со дня на день…
Ему уже пришлось одернуть Рембо, когда тот попытался записаться одновременно с ним в национальную гвардию. Изамбар был той соломинкой, за которую хватался «утопающий» поэт. Было ясно, что он пойдет на все, чтобы остаться в этой атмосфере доброжелательности; здесь он чувствовал себя свободным, раскованным, за ним ухаживали такие добрые сестры Жендр. Даже военная служба была ему милее возвращения в Шарлевиль.
18 сентября Изамбар получил задание написать письмо протеста в адрес мэра, г-на Мориса, который был неспособен снабдить национальных гвардейцев оружием — обучение, за отсутствием винтовок, проходило с… метлами! Два дня спустя, когда он пришел к себе в кабинет, чтобы написать это письмо, Рембо протянул ему лист бумаги:
— Вот вам ваше письмо…
Изамбар почувствовал, что этот молодой человек становится ему в тягость. Его изначальная робость переросла в бесцеремонность, граничащую с наглостью, судя по всему, он был убежден, что ему все дозволено.
По утрам все со страхом просматривали почту — каждый полагал., хотя и не произносил этого вслух, что из Шарлевиля не стоит ожидать ничего хорошего. Рассказ Рембо о своей матери, откровенный до грубости, до такой степени поразил сестер Жендр, что они потребовали, чтобы он больше никогда не говорил о ней.
Письмо, которого ждали с таким трепетом, пришло 21 сентября; написано оно было 17-го. Это был безапелляционный приказ отправить беглеца немедленно домой. Как и следовало ожидать, Рембо упирался как мог: он никогда не вернется к матери! На этот раз Изамбар разозлился и, после того как Рембо взял себя в руки, сказал, что не даст ему денег, а сам купит билет — он отлично понимал, что иначе тот удерет в Париж.
Тогда Деверьер сказал, что готов сократить свой отпуск, чтобы отвезти Артюра в Шарлевиль. Так все проблемы были решены, о чем г-жу Рембо и известили. Однако, по законам военного времени, при переездах требовались охранные свидетельства, и чтобы их получить, пришлось ждать еще несколько дней. Это время Рембо решил потратить на пополнение своего журналистского опыта.
Вместе с Деверьером и Изамбаром он присутствовал на предвыборном собрании 23 сентября на улице Эскершен. Он написал отчет об этом событии и добился того, что его напечатали, и 25-го числа гордо продемонстрировал номер со своим отчетом Изамбару, который не знал, как поступить— поздравить его или осадить. Рембо было еще над чем поработать — так, он назвал «гражданином» крупного промышленника, известного своим скверным характером. Этот последний явился к Изамбару; он был в ярости:
— Как вы смеете! Вы насмехаетесь надо мной в вашей паршивой газетенке!
На упреки, переадресованные ему, Рембо не нашел ничего лучшего, как — совершенно искренне — ответить, что слово «гражданин» было очень популярно в 1789-м и 1848-м…
27 сентября пришло второе письмо г-жи Рембо, датированное 24-м. Тон был менее резок:
«Я очень беспокоюсь и не могу понять, почему Артюра так долго нет; он ведь должен был ясно понять из моего письма от 17-го сентября, что не может ни дня больше оставаться в Дуэ […] Можно ли понять блажь, которая ударила ему в голову, такому благоразумному и спокойному мальчику? Как он мог придумать такую дурацкую затею? Может, кто-нибудь подбил его на это? […] Будьте так добры, дайте ему взаймы десять франков. И поторопите его, пусть приезжает поскорее!»
В последний момент Изамбар решил ехать в Шарлевиль вместе с Деверьером — он хотел осмотреть места последних сражений при Седане и Балане.
Перед отъездом Рембо забежал к Полю Демени (он жил на улице Жан-де-Болонь, 39), но не застал его дома и в спешке написал карандашом — прямо на одном из листов со своими стихами, которые он оставлял ему, — следующие строчки:
Я пришел попрощаться с вами, я вас не застал дома.
Я не знаю, смогу ли вернуться; завтра утром я уезжаю в Шарлевиль — у меня есть охранное свидетельство — мне очень жаль, что я не могу лично попрощаться с вами.
Изо всех сил жму вам руку. — Прощайте.
Я вам напишу. Вы мне напишете? Нет?
Артюр Рембо
Путь домой был тягостным. Рембо забился в угол купе, сидел все время молча и притворялся, что не слышит, как Изамбар рассказывает о своих планах Деверьеру:
— После этого я думаю отправиться в Брюссель и навестить там моего старого друга Поля Дюрана. Я его давно не видел, это будет сюрприз. Он живет вместе со своей матерью на улице Фоссе-о-Лу…
Дверь открыла мамаша Рембо.
— Вот, я привез его вам, — сказал Изамбар и улыбнулся. Улыбка получилась вымученная.
Следующие несколько мгновений мамаша напоминала ветряную мельницу — пощечина за пощечиной сыпались на Артюра. Он закричал, больше от ярости, чем от боли — такое унижение на глазах у учителя, который обращался с ним как с равным, снести было тяжелее, чем ожог каленым железом.
Было ясно, что этим дело не кончится; вдоволь натешившись с сыном, она обратилась к Изамбару и сквозь зубы процедила:
— Что же касается вас, господин учитель…
У нее хватило духу обвинить его в том, что он подбил сына сбежать и к тому же удерживал его у себя вопреки ее приказу.
Изамбар слушал, раскрыв рот, и, поскольку она все продолжала говорить в подобном тоне, он понял, что еще немного — и он не сможет сдержаться; он поспешил удалиться, изо всех сил хлопнув дверью.
Бедный Рембо! На него снова навалилась угнетающая скука Шарлевиля. Изамбар был занят упаковкой своих книг и запретил Рембо появляться у себя без разрешения матери. Поэтому он не смог поделиться с Артюром своим изумлением, когда обнаружил, что в его библиотеке появилось несколько новых томов, тогда как несколько других исчезло, и среди них подарочное издание произведений Виктора Гюго, которым он очень дорожил. Однако Изамбар не стал сердиться, убедив себя, что новые книги компенсируют пропажу старых.
Рембо было совершенно нечего делать; однажды он отправился гулять и дошел до самого Мезьера; ему хотелось восстановить отношения с Делаэ — этот юноша с острым носом, хитрыми глазами, простоватым, даже наивным характером, был ему симпатичен. Его мать, чиновничья вдова, очень набожная женщина, владела бакалейным магазинчиком на углу улиц Гранрю и Фобур-де-Пьер. Для нее было честью принимать у себя известного своими успехами в учебе приятеля ее сына (о его последней выходке она не знала), ведь Эрнест мог научиться только хорошему, общаясь с таким блестящим молодым человеком. Сам Эрнест радовался не меньше ее — наконец появился кто-то, с кем можно поговорить, и не кто-нибудь, а первый ученик в школе, герой, вышедший из наполеоновских застенков! Рембо совершенно покорил его чтением своих последних стихов, так что в тот день Делаэ два с лишним часа провожал Рембо до дома.
— И что ты собираешься делать теперь? — спросил он на прощанье.
— Еще не знаю. Подожду более благоприятного момента и тогда снова уеду; в общем, сложно сказать…
— Ну пока, заходи еще.
— До завтра.
Рембо заходил каждый день. О! Как много всего обещали нашим двум друзьям эти нежданные каникулы, которые, казалось, не кончатся никогда. Чаще всего они назначали встречи в Сен-Жюльене, этом мезьерском Булонском лесу, или Лесу Любви, где росли вековые липы, милом местечке для прогулок, огороженном забором с ржавыми калитками. Там они были в безопасности. Они вынимали из карманов свои трубки, подозрительно оглядываясь на гуляющих, которые могли ведь и рассказать обо всем матерям — особенно это касалось старика Дедуэ, который хоть и сам дымил как паровоз, ученикам курить запрещал. У Рембо всегда была с собой книжка — Шамфлёри, Флобер или Диккенс. Делаэ считал такую литературу вполне реалистической — она показывает нам зло, говорил он, и, читая, мы узнаем, как лучше с ним бороться. Для Рембо это не имело значения, ему нужно было другое — ничего не бояться, перевернуть привычное отношение к слову, много заимствовать из иностранных языков и языка техники, создать стиль с такой выразительной мощью, чтобы можно было непосредственно обозначать мысли, ощущения, саму жизнь, наконец. Простак Эрнест не очень понимал, о чем речь, но он тем не менее был горд — такой экспериментатор избрал его своим лучшим другом! Уверенность, оригинальность просто не могли не привести Артюра к славе. Друзья смотрели на облака, окрашенные закатом в пурпур и золото…
Не стоит думать, однако, что наши друзья напоминали двух эстетов, рассуждающих о непостижимых уму простых смертных абстракциях. Им было всего 17 лет, а люди в этом возрасте очень склонны ко всякого рода ребячествам. Однажды Артюр сорвал с Делаэ форменное кепи коллежа и сорвал от него нашивку; она служила украшением и уже сама начинала отрываться — кепи было не новое.
— Да ты… что ты делаешь?
Еще мгновение и круглая шапочка Артюра оказалась на земле шагах в десяти от него. Но вместо того чтобы ее подобрать, хозяин прыгнул на нее и стал яростно топтать.
— Ты с ума сошел! — закричал Делаэ, выдергивая из-под ног Артюра уже бесформенный предмет. — Что скажет твоя мама?
— Не беспокойся! У нас все по правилам — за это меня на два дня посадят на хлеб и воду, только и всего. — И Артюр кинулся утешать своего друга, который чуть не плакал.
Этот случай напоминает историю с зонтиками в церкви — мы видим то же желание бескорыстно жертвовать собой, то же спартанское презрение к наказаниям, ту же готовность нести полную ответственность за свои поступки, даже если они дурацкие.
Иногда юноши бродили по городу в поисках развлечений. В городе же ничего не происходило. В первых числах сентября было заключено перемирие для эвакуации раненых. Этой передышкой воспользовались, чтобы усилить укрепления Мезьера, а в Шарлевиле был создан Комитет обороны, задачей которого было формирование национальной гвардии. Однако у Рембо больше не возникало желания записаться добровольцем. Атмосфера была накалена, в любом событии видели недоброе предзнаменование; истощенные от нервного перенапряжения люди по малейшему поводу кричали, что их предали; то и дело на улицах случались стычки, всюду слышалась брань, и, думается, наши двое бездельников не упускали случая поглазеть на эти «балаганные представления».
Как-то раз на улице толпа остановила карету «скорой помощи» с английскими санитарками.
— Они шпионки! — стоял крик. — Они везут для пруссаков амуницию и оружие!
Их едва не линчевали. На другой день улицы огласились криками «Победа!» — партизанский патруль захватил в плен дюжину пруссаков и с ними четыре груженных винтовками воза; пруссаков связали и доставили к генералу Мазелю, коменданту Мезьера.
— Теперь они в тепле и безопасности до самого конца войны, — пробормотал Рембо, когда их провели мимо.
Увы! Народ постигло разочарование — бравые партизаны позабыли про перемирие. Военному командованию пришлось отпустить солдат, извиниться перед ними и вдобавок компенсировать стоимость груза, поскольку его растащили. И все-таки толпа не унималась:
— Предательство!3
Мезьер с его крепостными стенами XVIII века, где меж камней росли левкои, с Главной площадью, превращенной в дровяной склад, Шарлевиль, с его магазинчиками, Старой мельницей, лесочком и тенистыми набережными — вот достопримечательности, которые обходили наши друзья, то чем-то озабоченные, то над чем-то посмеивающиеся, то чему-то радующиеся. Той осенью в воздухе носилось что-то недоброе, но им нравилось ощущение постоянной опасности.
И вот в один прекрасный день Делаэ не встретил своего милого друга. Тот снова ударился в бега.
В это время Изамбар находился на еще не остывших полях последней бойни. 8 октября, по возвращении в Шарлевиль, собираясь отправляться в Брюссель, он получил обеспокоенное письмо от г-жи Рембо. Артюр снова пропал! Она искала его везде, и у г-на Деверьера, и у Бретаня, и у г-жи Делаэ — маленький негодяй как сквозь землю провалился!
— На этот раз, мадам, вам придется согласиться, что я тут ни при чем, — ответил Изамбар. — Я не видел вашего сына со времени его возвращения из Дуэ.
Ей в самом деле пришлось с ним согласиться, но ей было известно о намерении Изамбара поехать в Бельгию, и она попросила помочь в поисках: чертов сын, быть может, сбежал именно в этом направлении — в последние дни он часто говорил об одном своем товарище по имени Леон Бильюар, который жил в Фюме. Этот город находился по дороге в Живе.
— Не могли бы вы, господин учитель, раз уж вы проезжаете через Фюме, сделать там небольшую остановку и убедить Артюра как можно скорее вернуться либо сообщить о нем в жандармерию, если он откажется.
Не желая показаться злопамятным, Изамбар согласился, больше из чувства долга и жалости.
Вероятно, наш герой сбежал накануне, 7 октября4. На деньги, вырученные от продажи нескольких книг, он купил билет до Фюме, как и предположила его мать. Под стихотворением «Зимняя мечта», датированным 7 октября, приписано: «В вагоне». Это претенциозная фантазия, посвященная «Ей» — воображаемой подружке, с которой поэт видит себя «в вагоне розовом и скромном, среди подушек голубых»[42]. В Фюме он прибыл в пять часов вечера. Родители Бильюара держали небольшое кафе; приятель тепло принял Артюра5:
— Ты останешься на ужин и переночуешь у нас.
После ужина он рассказал о своих планах: сначала он поедет в Вирё, что километрах в двенадцати от Фюме, нанесет визит общему знакомому, Артюру Бинару, а потом отправится в Шарлеруа (через Живе), чтобы там заняться журналистикой.
— Дезессар-старший возьмет меня главным редактором своей газеты.
На следующий день, в одиннадцать часов утра он уехал. Бильюар дал ему немного денег, несколько плиток шоколада и письмо к одному из своих двоюродных братьев, который служил в мобильной гвардии в Живе — может быть, он приютит Артюра. По пути Рембо, как и собирался, остановился в Вирё, у Бинара, где его еще раз накормили.
В Фюме Изамбар узнал, что беглец направился в Вирё, а потом в Живе.
Оказавшись в Живе, Рембо без труда отыскал казарму «мобилей» в здании Генштаба (сгорело в 1914 году), над которым господствовал форт Шарлемон, творение Карла Пятого и Вобана. Кузен Бильюара в тот день стоял в карауле, так что найти его было невозможно. Подумаешь, какой пустяк! Кровать-то осталась на месте! Ничтоже сумняшеся, наш уставший с дороги путешественник устроился на этой самой кровати и заснул. Наутро он оставил на видном месте на камине рекомендательное письмо.
В Шарлеруа, в редакции местной газеты (улица Коллеж, дом 20) юный Жюль Дезессар, здорово удивленный визитом Рембо, представил его своему отцу, члену законодательного собрания Хавье Дезессару. Это был человек солидный, который на всех смотрел сверху вниз, был крайне щепетилен во всем, что касалось принципов — это, впрочем, не мешало ему быть добрым; так, он привечал и часто помогал французским политическим эмигрантам. Он выслушал просьбу своего гостя с добродушным вниманием, но революционные идеи и брань, которой он осыпал французских политических деятелей, вскоре вывели его из терпения, и он вежливо выпроводил Рембо, пообещав ответить на следующий день. По словам Изамбара, г-н Дезессар пригласил Рембо на обед, и якобы именно там последний выступил со своими гневными филиппиками. Бельгийский писатель Робер Гоффен разговаривал с Мариусом Дезесса-ром, племянником члена законодательного собрания, и тот ему описал, в каком замешательстве оказалась их семья — Жюлю и его сестре Леони пришлось притворяться, что они очень заняты едой и просто не слышат, что там такое Рембо говорит6.
Наутро Рембо, неизвестно где переночевав, явился в канцелярию газеты, где ему сообщили, что в новом сотруднике не нуждаются.
Говорят, г-н Дезессар нашел характер юного возмутителя спокойствия настолько отвратительным, что навсегда запретил своему сыну встречаться с ним. Остается только сожалеть, что письмо Рембо Леону Бильюару, где он рассказывает об обеде (его очень позабавило, пишет он, что они называли его «вьюноша»), не опубликовано полностью. Нам известен лишь следующий отрывок, где говорится о том, что было после:
«Я поужинал воздухом, исходившим из вентиляционных решеток с приятным запахом мяса и жареной птицы, доносившимся из добропорядочных мещанских кухонь Шарлеруа, а потом пошел грызть при свете луны плитку шоколада».
Вероятно, Рембо, не зная, чем заняться, слонялся несколько дней по городу. Он так начинает один из своих сонетов:
«Зеленое кабаре» — более точно «Зеленый дом» — так назывался один постоялый двор; в нем все было выкрашено в зеленый цвет: и фасад, и стены изнутри, и даже мебель была зеленая. Робер Гоффен отыскал этот дом, теперь он составляет часть гостиницы «Эсперанс». Не вывел ли Рембо в другом своем сонете, «Плутовка», Мию, жирную фламандку, которую еще помнят местные старики?
На другой день его вдохновила еще на один сонет бельгийская цветная гравюра, на которой была изображена «блестящая победа при Саарбрюккене, одержанная под крики «Да здравствует Император!», продается в Шарлеруа по 35 сантимов»7. Не забудем и «Мою цыганщину», стихотворение, завершающее бельгийскую серию, маленький шедевр, полный иронии и горькой нежности:
Отсюда, видимо, следует, что провал его попытки заняться журналистикой не особенно его задел, раз он был способен смеяться над собой. Должно быть, он утешал себя тем, что такой начальник, как г-н Дезессар, не подошел бы ему. Ну и наконец с ним всегда оставались господа Благородный Риск и Свобода, которым он преданно служил.
Изамбар добрался-таки до члена законодательного собрания Дезессара:
— Рембо? Да, был, но он нас покинул и не сказал, куда направляется.
Ну что ж, тем хуже для него! На нет и суда нет. Он выполнил свой долг, и даже более того. Не всякий учитель счел бы поиски ученика вопросом профессиональной чести. Да кто он такой, в конце концов, этот Рембо? Не пойти бы ему к дьяволу?! Он хотел развязаться с этой историей, поскольку и так уже потратил уйму времени. Изамбар отписал г-же Рембо, что сына ее найти не удалось.
За все это время ему ни разу не пришло в голову, какую неосторожность он допустил, рассказав Деверьеру о намерении поехать в Брюссель к Полю Дюрану в присутствии Рембо. А он еще надеялся, что это будет сюрприз!
Рембо не забыл адрес и, добравшись пешком до Брюсселя, постучался в двери Дюрана на улице Фоссе-о-Лу. Красавчик заявил, что ему поручено сообщить им о скором приезде г-на Изамбара. При виде его ветхого платья, стоптанных башмаков и впалых щек — было ясно, что он очень давно не ел — г-н Дюран и его мать пожалели его и пустили в дом. Они даже предложили ему остаться до приезда г-на Изамбара, но он отказался, так как хотел посмотреть страну. Он не пропадет, уж это точно, говорил Рембо. Перед отъездом г-н Дюран дал ему немного денег.
Изамбар едва не лишился дара речи, узнав, что Дюран ожидал его приезда и что прежде у него побывал Рембо.
— Нет, вы только послушайте! Этот мерзавец торчал здесь! А я гоняюсь за ним повсюду уже неделю с лишним! Страну он, видите ли, хотел посмотреть! Ну что же, пусть смотрит, мне какое дело! Катись он ко всем чертям вместе со своей матушкой!
Выкинув Рембо из головы, Изамбар погрузился в атмосферу дружбы и покоя.
К 20 октября Изамбару нужно было вернуться в Дуэ.
Едва он переступил порог собственного дома, как тетки встретили его такими словами:
— Он здесь.
— Кто?
— Рембо.
— Как Рембо?!
Оказывается, тот добрался поездом до Дуэ и как ни в чем не бывало предстал перед сестрами Жендр.
— Это я. Я вернулся.
Он был одет по последней моде — сорочка с отложным воротничком, красновато-коричневый с золотой нитью галстук — вылитый главный редактор какой-нибудь газеты.
На этот раз Изамбар просто вышел из себя. Этот маленький негодяй позволил себе слишком много! Очень милый молодой человек, но назойливее целого роя мух! Ему было мало времени, которое Изамбар тратил на него, мало книг, которые он ему давал, мало его друзей — ему еще были нужны оба его дома, в Шарлевиле и Дуэ! И потом-, в какое положение он его ставит? Изамбар обещал г-же Рембо или вернуть его, или сдать в полицию. Г-жа Рембо снова станет твердить о сговоре! Нет, он больше этого не потерпит! Однако Изамбар не хотел оскорбить Артюра и сумел подобрать нужные слова:
— Поймите, мы вас не гоним, но мы не можем оставить вас у себя.
— Я знал, что так будет, — ответил Рембо потупясь. — Я сделаю, как вы скажете.
Г-же Рембо было послано письмо, и теперь следовало дожидаться ее ответа. Эти несколько дней Артюр посвятил переписыванию своих бельгийских сонетов; копии предназначались Полю Демени, с которым он, вероятно, увиделся.
«При малейшей помарке он начинал писать заново, — пишет Изамбар, — и требовал снова и снова тетрадные листы. Измарав их, он приходил и говорил: «Бумага кончилась», и так по нескольку раз на дню».
«Мы давали ему немного денег, чтобы он сам покупал себе то, что ему было нужно. Одна из моих тетушек как-то сказала ему: «Пишите на оборотной стороне», но он с оскорбленным видом ответил: «В издательствах пишут только с одной стороны». Он узнал это недавно, по всей видимости, от Демени — в сентябре он еще спокойно писал на обороте.
Через несколько дней пришел ответ от г-жи Рембо. Это было категорическое требование сдать беглеца в полицию.
Изамбар отправился на прием к комиссару, который пообещал ему сделать все необходимое. Когда он вернулся, на пороге, со своим узелком под мышкой, его ждал Рембо. Сестрам Жендр он пообещал вести себя хорошо. Изамбар отвел его в комиссариат; у обоих было тяжело на сердце. На прощанье они крепко пожали друг другу руки.
— Хороший мальчик, — сказал комиссар. — Мы не сделаем ему ничего плохого.
Это была их последняя встреча.
Вскоре после его отъезда одна из теток обнаружила надпись, нацарапанную карандашом на выкрашенной в темнозеленый цвет входной двери. Это было небольшое прощальное стихотворение, грустное и благодарное, обращенное скорее к дому, чем к его хозяевам.
Изамбар прочел его, улыбнулся, растроганный… и не дал себе труда скопировать драгоценное художество; в одно прекрасное утро оно погибло под кистью маляра.
В Шарлевиле Рембо, надо полагать, возобновил свои встречи с Делаэ. 20 октября перемирие закончилось и война продолжилась — но пока вдалеке от Шарлевиля; горожане видели только небольшие разведывательные отряды. В городе все было спокойно. Из Мезьерской крепости периодически постреливали, чтобы напомнить врагу, который был вне досягаемости крепостной артиллерии, об этом очаге сопротивления. Однажды, прогуливаясь в пригороде Арш, друзья видели, как шальной снаряд превратил в пыль несколько метров парапета. Оба сочли эти развлечения артиллеристов дурацкими и опасными.
28 октября пришла весть о том, что днем раньше капитулировал Мец. Затем в беспорядке начали прибывать остатки частей, от регулярности которых не осталось и следа; солдаты были измотаны, капитуляция сломила их боевой дух. С этой толпой — кто бы мог подумать? — в Шарлевиль вернулся Фредерик, о котором давно ничего не было слышно. Г-жа Рембо состроила кислую мину, но пустила его в дом. Два брата, два сообщника, сообщает нам Делаэ, не могли смотреть друг на друга без смеха. Но когда Артюр решил пошутить по поводу «брата-вояки, отправившегося в погоню за славой», последний, как человек бывалый, ответил ему, не меняясь в лице:
— Ар-тюр-чик, заткни свой поганый рот…
Работы по подготовке крепости к осаде шли полным ходом весь октябрь, и все, что находилось на линии огня крепостных батарей и мешало наводке, было безжалостно сметено с лица земли. Там, где еще недавно росли фруктовые сады и шелестел листьями Лес Любви, лежала теперь уродливая пустыня, заваленная ветвями срубленных деревьев. «Какое опустошение сада красоты!»[45] — напишет позже Рембо («Сказка», сборник «Озарения»); но сейчас он одобрял это варварство, хоть и жалел, что вековые липы попали под топор.
— Это все необходимые жертвы, — сказал он как-то. — Эгоизм, неравенство, привилегии — все это должно быть уничтожено.
— Но тогда наступит царство всеобщей серости, — возразил Делаэ.
Рембо в ответ подобрал с земли тысячелистник и тоном, каким, должно быть, Христос говорил в Нагорной проповеди о лилиях[46], сказал:
— Смотри: даже после того, как падут все общественные устои, в природе останется образец истинной красоты, которому мы сможем последовать. Анархия и естественное положение вещей — две стороны одной медали.
Он стал фанатичным приверженцем идей Жан-Жака Руссо, Гельвеция и барона Гольбаха. Все, что стояло на пути раскрепощения личности, будь то школьная дисциплина, семейный уклад, религия со своими десятью заповедями, мораль с ее рамками или деньги с их властью над людьми, — все это должно было быть скинуто с пьедестала, повалено на землю подобно старым деревьям, в тени которых прозябает молодая, новая поросль. Только тогда люди смогут стать лучше, а общество превратится в «Лес Любви».
Как-то, рассказывает Делаэ, они сидели на ступеньках здания Военного суда, и Рембо вынул из кармана синенькую брошюрку — «Возмездия» Гюго; книга все еще была под запретом. Ненависть и презрение, которые автор швырял в лицо ушедшему режиму, были для Рембо манной небесной; вместо имен и фамилий в книге стояли инициалы, и Рембо испытывал особое удовольствие, подставляя первые на место последних. Эпитеты, которыми сопровождались эти фамилии, переходили мыслимые границы приличия, но все эти оскорбления Рембо считал вполне уместными.
— Господи, — искренне воскликнул Делаэ, — какие же бандиты нами правили!
— Люди, правящие нами сейчас, ничуть не лучше тех, можешь быть уверен, — ответил ему Рембо.
Тем временем война тихой сапой добралась и до окрестностей Шарлевиля, мирного торгового городка, и отделила его от славной и неприступной Мезьерской крепости. Стало ясно, что близость Мезьера никак не поможет Шарлевилю, если немцы, как это уже было в 1815 году, обогнут крепость и сначала захватят город. Надлежало, таким образом, заняться также и укреплением славного детища Карло Гонзаги, причем заняться немедленно. Местная власть никак не могла принять решение: не хватало людей, средств, инвентаря. Воззвание Гамбетты от 24 октября (война не на жизнь, а на смерть!) и приказы генерала Мазеля, коменданта Мезьера, образумили наконец осторожных шарлевильцев. Городской совет утвердил неотложные меры из двадцати пунктов, которые предлагали военные инженеры для укрепления обороны, однако заявил, что согласился на это только «во имя чести города, из опасений за жизнь и имущество граждан». Итак, в пригородах выросли баррикады и малые форты; город превратился в укрепленный лагерь, в котором все охранялось и который нельзя было покинуть. Рембо оказался заперт в Шарлевиле, как мышь в мышеловке.
Рембо умирал от желания бежать и не сбежал только потому, что это было просто невозможно. Но Изамбара он убеждал, что остался дома из послушания. Вот его письмо:
Шарлевиль, 2 ноября 1870
Здравствуйте!
— Вам одному эти строки —
Я вернулся в Шарлевилъ через день после того, как расстался с Вами. Мать пустила меня в дом, и вот я тут… в совершенной праздности. Мать отправит меня в пансион только в январе 1871.
Ну вот! Я исполнил свое обещание.
Я умираю, я гнию в этой пошлости, в этой гадости, в этом пейзаже в серых тонах. Что Вы хотите, я успел пристраститься к вольной воле и еще… ко множеству вещей, о которых нельзя не сожалеть, Вы понимаете меня? Я должен был уехать прямо сегодня; у меня была возможность это сделать — я был одет во все новое, продай я свои часы — и да здравствует свобода! А я остался! Я остался! И я готов бежать отсюда снова и снова. — Вперед, шляпа, плащ, руки в брюки, и ура! — Но я останусь, останусь. Этого я никому не обещал. Но я это сделаю, чтобы быть достойным Вашей ко мне привязанности — так Вы мне сказали. Я буду ее достоин.
Моя признательность к Вам — я не знаю, как выразить ее; у меня нет слов, и не будет. Если бы надо было что-нибудь сделать для Вас, я бы умер, но сделал, — даю слово. — Мне еще столько хочется Вам сказать…
«Бессердечный» А. Рембо
Война: Мезьер не осажден. Долго ли так продлится? Об этом не говорят. — Я передал то, что Вы просили, г-ну Деверьеру, если нужно сделать что-нибудь еще, я сделаю. — То тут, то там вылазки партизан. — В городе эпидемия ужасающего идиотизма, он заразнее чумы. Это плохо кончится, поверьте. Это растлевает».
«Бессердечный» Рембо — намек на упреки сестер Жендр, которых глубоко оскорбил рассказ Артюра о матери, и они сказали ему, что у него нет сердца. По словам Делаэ, Рембо имел обыкновение говорить: «Мое превосходство над другими заключается в том, что у меня нет сердца».
Изамбар пишет, что во фразе «я передал то, что вы просили, г-ну Деверьеру» речь идет о его книгах, остававшихся запакованными в Шарлевиле. На самом деле Рембо должен был передать Деверьеру конверт с письмом для него и небольшой запиской для г-жи Рембо. Деверьер, не желая общаться с ней лично, попросил Артюра передать записку, что тот и сделал. После этого Деверьер был немедленно приглашен к ней в дом, и там все выяснилось. Что же было в записке? Это была не записка — это был счет! Изамбар требовал возмещения расходов, которые он понес из-за своего ученика — железнодорожные билеты, бумага… В письме Изамбару от 11 ноября 1870 года Деверьер описывает, как прошла его встреча с г-жой Рембо:
«Вчера я виделся с мамашей Рембо. Ваше письмо я ей передал через ее сына […]»
Для начала был учинен форменный допрос:
— Могу ли я быть уверена в том, что Вы, г-н Деверьер, проживающий по адресу… являетесь поверенным в делах г-на Изамбара? Могу ли я быть уверена в том, что мой сын получил письмо из Дуэ от Вас?
— Да, мадам.
— Требования г-на Изамбара неприемлемы, мне необходимо увидеться с ним лично, пока же я имею намерение отдать Вам 15 франков 65 су. Можете ли Вы их принять?
— Да, мадам.
Писклявый голос принялся диктовать:
«Получена от г-жи Рембо сумма в 15 франков 65 су, данная в долг г-ном Из. г-ну Р., ее сыну» (sic).
«Для г-на Изамбара, число, месяц, год».
«Затем карга сграбастала одной когтистой лапой расписку, разжала другую и оттуда выпали три монеты по сто су и еще пятнадцать су мелочью. Я взял деньги, рассмотрел их повнимательнее, попробовал на зуб (а вдруг фальшивые?). Счастливо оставаться, мадонна вы наша».
К этому же письму было приложено письмо г-на Ленеля, сменившего Дюпре, в котором тот обсуждал возможность скорого начала занятий в коллеже: «И тем не менее кажется, что занятия для экстернов будут, если не во всех классах, то по крайней мере в некоторых. Но начальство молчит».
Тянулись мрачные, пустые дни; ничего не происходило. Рембо и Делаэ, чтобы убить время, продолжали свои прогулки, несмотря на обильные снегопады и мороз. Они отыскали оставшуюся в целости будку сторожа недалеко от Леса Любви, курили там свои трубки и читали стихи. У Рембо всегда был с собой томик Банвиля или «Современного Парнаса». Лирика согревала их:
Но чаще они просто слонялись. Как-то раз в сумерки их окликнул гвардеец, стоявший на часах:
— Стой! Кто идет?
— Священная война с погаными пруссаками! — бросил ему Рембо, давясь от смеха.
— Проходите, — важно пробасил часовой.
Охота на шпионов была в самом разгаре. Однажды властям сдали мусульманина, который никак не мог понять, почему его называют пруссаком. В другой раз не поздоровилось одному старому учителю, которого застали за тем, что он подозрительно внимательно рассматривал… пищали времен Людовика XV. Обезумевшая толпа хотела утопить его в Маасе. Рассказывали, будто человека по имени Беккер, который преподавал немецкий язык в коллеже, видели в мундире капитана уланов; добавляли, что якобы один из его людей привел к нему молодого французского солдата и что Беккер узнал его — это был один его ученик по имени Ланьо, и потому велел его отпустить.
Люди боялись и думать о том, что их ждет; казалось, холод и отчаяние заключили союз с врагом. Что еще хуже, в лавках было пусто; немцы чудились за каждым углом. В завывании метели слышались трубы армагеддона.
В Шарлевиле, на улице Форе, дом 22, жил один фотограф, Эмиль Якоби, лысый и седобородый. Рембо хорошо его знал — когда-то он был их соседом. В бытность свою директором воспитательного дома в Туре он приобрел некоторую известность — благодаря его усилиям перед Академией наук предстал четырнадцатилетний пастух Анри Монде, который обладал поистине феноменальными способностями к устному счету. Помимо этого его перу принадлежал труд «Ключ к арифметике», опубликованный в Шарлевиле. Его уважали как бывшего члена Парижского общества интеллектуального раскрепощения. У Рембо он вызывал симпатию своими политическими взглядами: этот восьмидесятилетний старик утверждал, что был среди сосланных по указу от 2 декабря. Так вот, в октябре 1870-го ему пришла в голову мысль основать, газету с республиканским уклоном и назвать ее «Арденнский прогресс» в пику «Арденнскому курьеру». Деверьер был готов сотрудничать с этой газетой, но его статья, написанная для первого номера, была форменным образом изуродована редакторской правкой, так что он не очень-то лестно отзывается о Якоби и его газете. Вот отрывки из его письма Изамбару от 11 ноября 1870 года:
«Прогресс» начинает с истерики… Скабрезная газетенка… Якоби опускается до буржуазной прозы и жаргона… Он сумасшедший… Нетребовательность арденнцев поразительна».
Но какое до этого было дело Рембо — лишь бы печатали. Он должен печататься. Может, в «Прогрессе» напечатают его сонет «Уснувший в ложбине»?8 Если верить Делаэ, он отправил сию пастораль Якоби, который в рубрике «Переписка» ответил ему, что не время занимать внимание игрой на свирели и тому подобной ерундой. Тогда, чтобы не быть в отрыве от действительности, он (подписавшись Жан Бодри[48]) прислал в редакцию небольшой рассказ, главный герой которого — не кто иной, как Бисмарк, — отяжелев от обильных возлияний, валится на карту Парижа и засыпает… но уткнувшись носом в свою баварскую трубку, с воплем просыпается.
В ответ на это в номере от 29 декабря в «Переписке» появилось следующее (Делаэ пишет об этом в «Семейных записках»): «Г-да Бодри и Дейл (Делаэ), Ваши статьи меня заинтересовали, но хотелось бы, чтобы Вы приподняли завесу тайны над Вашими личностями».
— Только и всего? — воскликнул Рембо. — Отлично. Идем к нему.
— Здорово, — завершил за него Делаэ, — мы будем журналистами.
Увы! На подходе были иные события, которые положили конец их недолгой журналистской карьере.
После капитуляции Монмеди и Тионвиля 14-я немецкая дивизия была переброшена под Мезьер с приказом (от 14 декабря) окружить крепость и взять ее. На подготовку площадок для артиллерии потребовалось около двух недель, поскольку земля промерзла на 15 сантиметров. В Мезьере все были полны решимости. Все понимали неотвратимость бомбардировки, но делали вид, что не боятся. Тем не менее были приняты некоторые меры предосторожности — вокруг памятников архитектуры и церкви возвели защитные сооружения. «Враг может сжечь город, но крепость выстоит», — гордо заявлял генерал Мазель. Мелкие вылазки партизан и «развлечения артиллеристов» прекратились — отныне было запрещено тратить боеприпасы без необходимости.
30 декабря Рембо и Делаэ оказались на площади Префектуры, запруженной толпой. Прибыл лейтенант гусар фон Рейман с эскортом из двух фельдъегерей; он потребовал капитуляции города. Соблюдая приличия, парламентеров вежливо попросили удалиться. Комендант крепости попросил только об одном — пощадить Шарлевиль9.
Ничто не мешало начать фейерверк.
Вечером 30-го пошел снег. Заговорили орудия на бастионах. Затем раздался условный сигнал, барабанная дробь, и каждый должен был занять свое место в убежище — наутро должна была начаться бомбардировка. Делаэ и Рембо расстались более встревоженными, чем хотели казаться, однако нельзя сказать, что их огорчало то, что должно было наконец случиться.
31-го числа, в половине восьмого утра, ледяную мглу (было минус 18) пронзила ракета; это был сигнал. Один из первых снарядов попал в дом в пригороде Пьер, совсем близко от дома Делаэ, который прятался в подвале бывшей жандармерии.
И разверзлись врата ада.
Скоро город представлял собой огненное пекло, ежеминутно сотрясаемое взрывами, поднимавшими в небо огромные снопы искр. Несколько крепостных батарей пытались поначалу отвечать на вражеский огонь, но вскоре замолкли.
Так продолжалось весь день. Вначале Делаэ с интересом наблюдал за этим увлекательным зрелищем: из полуподвального окошка было видно, как горела мясная лавка — мясо поджаривалось, кипящий жир капал в горшки с геранью («Я расскажу про это Рембо», — говорил он себе); но через некоторое время монотонность происходящего — каждые три минуты что-нибудь взрывалось — утомила его. Наступление сумерек не принесло изменений. Передышки не ожидалось. Люди в убежищах, цепенея от страха и холода, метались от стены к стене. В одном из подвалов сидел еще один друг Рембо, Жюль Мари, будущий известный писатель; в своей книге «Время» он писал: «Двадцать семь часов без перерыва я слышал, как эти ужасные смертоносные снаряды с адским свистом описывают параболу над моей головой».
Тем временем, несмотря на сопротивление генерала Ма-зеля, который полагал, что город не понес существенного ущерба, Шарлевиль решил капитулировать. Совет обороны Мезьера колебался. К десяти вечера приняли решение не сдаваться. Ровно в полночь, в качестве новогоднего салюта, пруссаки дали по крепости 90 залпов; в городе все были уверены, что наступил конец света. Часы на церковной колокольне «звонили так, будто решили вызвониться на век вперед за несколько минут» (Делаэ).
В шесть часов утра над колокольней взвился белый флаг, но в тумане и дыму пожаров его никто не заметил. В десять часов один из сержантов получил приказ передать пакет командованию сил противника; это была безоговорочная капитуляция. По Мезьеру было выпущено 6319 снарядов, из них 893 зажигательных; 262 дома были стерты с лица земли, ни одно строение не осталось неповрежденным. По официальным данным, было убито 43 человека и сотни ранены.
В Шарлевиле было разрушено только два дома, а жертв насчитывалось всего 19 — четверо убитых и 15 раненых. Один снаряд разорвался — Рембо очень смеялся, когда узнал об этом, — в кабинете г-на Дедуэ; хозяин кабинета, его теща и двое посетителей, которые находились там в момент попадания, были легко ранены.
К утру 1 января 1871 года Мезьер представлял прискорбное зрелище — руины, груды битого стекла, обугленное дерево, пепел, едкая вонь наполняла воздух, и все это было местами припорошено снегом. Тут и там одинокими факелами догорали непотушенные (в трубах замерзла вода) пожары. Ошеломленные люди озирались по сторонам в гробовом молчании, пытаясь осознать масштаб катастрофы.
Весь день Рембо не находил себе места от беспокойства. Ни ему, ни сестрам мать не позволила выйти из дому:
— Нет, мсье Артюр, мы не пойдем смотреть, как падают снаряды, в этом нет ничего интересного.
Тем не менее вечером, в канун Нового года ему удалось-таки выбраться в пригород Фландр и разглядеть оттуда Мезьер, походивший на тлеющую мусорную кучу.
— Не много-то останется от мезьерцев, — то и дело повторяли вокруг него.
В полночь немцы под звуки фанфар ступили на Герцогскую площадь Шарлевиля.
Расквартировав войска в городе, немцы повторили ту же церемонию в Мезьере 2 января в три часа пополудни. Музыка была немного торжественнее, однако немцы закрыли за собой ворота и запретили кому бы то ни было входить на территорию поверженной крепости.
Поговаривали о тысячах жертв. Широко разошелся номер газеты «Бельгийская звезда», в котором был опубликован список пропавших без вести. Рембо проглядел его — там числилась и семья Делаэ. Быть может, он больше не увидит своего друга — единственного друга, может, даже останков его не увидит, а может, и останков-то никаких нет…
— Бедный старина Делаэ…
Наконец 4 или 5 января Рембо получил возможность отправиться в Мезьер. От дома Делаэ на Большой улице осталась одна стена. Трое пруссаков в черных беретах и красных повязках разбирали вход в подвал, надеясь найти там выпивку. Чтобы согреться, Рембо стал помогать им. Он ожидал обнаружить труп своего друга; его ожидания частично сбылись — трупы в подвале были, но это были погибшие кошки Делаэ. Ура! Может быть, еще есть надежда…
И вдруг — не может быть! — бледный, в большой овернской шапке, которую ему дали взамен неизвестно куда девшегося кепи, перед ним стоял Делаэ собственной персоной.
Какая удача!
Друг рассказал об ужасных часах, которые провел в убежище, спасаясь от «серного дождя». Немного времени спустя появилась и г-жа Делаэ и засыпала Рембо благодарностями за проявленное участие.
Рембо выслушал все со слегка ироничным выражением лица и, оказавшись наедине со своим другом, спросил:
— Все это замечательно, но где наши трубки? Когда мы в последний раз расстались, они были у тебя.
Делаэ указал пальцем туда, где еще недавно был второй этаж дома:
— Видишь — вон печка стоит. Я их там спрятал, пойди, поищи, кто знает, вдруг и найдешь.
Они побродили по руинам.
— Ужасно, — бормотал Рембо, — как это жутко — гореть…
Здание суда, со своим греческим фронтоном и пошлой колоннадой, стояло нетронутым.
— Ну конечно, — сказал он, — лавки и больницы горят как свечки, а вот суды… постой-ка! спорим, тюрьма тоже цела?
В самом деле, она была цела, как и бывшее здание жандармерии, где прятался Делаэ. А вот от типографии г-на Ф. Девена, где печатался «Арденнский прогресс», остались лишь воспоминания.
Но какое Рембо было дело до Якоби? Он был ужасно рад, хотя и не показывал этого — он нашел своего друга, то есть, по известной поговорке, ту пару ушей, которая всегда готова его слушать.
Один человек из мастерских Моона по имени Буржуа приютил семью Делаэ у себя в При, деревне близ Мезьера. Рембо часто туда наведывался и подружился с ним, поскольку, несмотря на фамилию, его взгляды были вполне прогрессивны.
Было очень холодно, но это не останавливало двух друзей, и они бродили по разбитым дорогам в окрестностях Варка, Эвиньи, Варнекура и Лафраншвиля, куря свои новые трубки. Их хлебом насущным были политика, метафизика и более всего поэзия. Что бы они ни обсуждали, Рембо всегда теперь занимал позицию радикальную, непримиримую и осыпал проклятиями всех, кто был с ним несогласен. Посреди мерзлой непролазной грязи деревенских полей он зачитывал «Приседания» и «Вечернюю молитву», а Делаэ слушал эти дерзости с открытым ртом.
Иногда им попадались пруссаки; с высоты своих повозок разглядывали их, забавляясь.
— Топрой тороки, — то и дело слышали наши друзья.
Рембо смеялся в лицо этим рабам, говорит Делаэ.
Как-то раз, когда они гуляли по довольно густому лесу, юный поэт задел головой белую акацию, и на лбу у него выступила капля крови.
— Что с тобой? — спросил Делаэ.
— Ничего, — ответил тот, — это мысль колется своими иглами.
Что он хотел сказать? Что он готов пролить кровь за свои идеи? Или что они были для него терновым венцом? Никто нам уже не ответит, но слово было сказано, и это было меткое слово; считается, что им навеяно следующее место из Поля Валери («Дурные мысли»): «Человек распят на кресте, этот крест — его собственное тело. Его поникшую голову глубоко пронзают иглы тернового венца мыслей».
У Рембо сжалось сердце, когда он узнал о бомбардировке Парижа, случившейся 5 января и унесшей, по слухам, шесть сотен жизней. Пожар Мезьера мало значил, в этом городе не знали даже, кто такой Бодлер… Но Париж! Сердце и мозг мира, очаг, разжигаемый интеллектуалами и революционерами, которые могут вырвать страну из того кровавого болота, в котором ее утопил деспотизм! Он разделил муку Священного Города, он повидал на своем веку и военные вылазки, и манифестации, и народные восстания. Увы! Неумолимая судьба по имени варвар-пруссак и буржуа-консерватор топила в крови все попытки снять блокаду. События развивались чем дальше, тем хуже: 28 января Жюль Фавр, вопреки воле народа, подписал капитуляцию, 8 февраля прошли выборы, которые республиканцы проиграли, и, наконец, 12 февраля Национальное собрание дало поручение сформировать национальное правительство не кому-нибудь, а г-ну Тьеру.
Возвращение в столицу сытых — лавочников, банкиров, капитулянтов, короче говоря, «партии порядка», как ее назвал Эжен Вермерш в своей статье в газете «Народ вопиет!» (6 марта 1871 года) — вдохновило Рембо на гневный памфлет «Парижская оргия, или Париж заселяется вновь»:
Как мы видим, стиль стал более отточенным.
Но это все еще было только начало.
Примечания к разделу
1 П. Берришон включил прекрасный комментарий к этому стихотворению в J.-A. Rimbaud, le poète, с. 68. Марсель Кулон и другие считают (как нам кажется, они заблуждаются), что в этих стихах содержится намек на побег капитана Рембо в 1860 г. (Артюру тогда было шесть лет).
2 Ср. Rimbaud vivant, № 16 (1979), рецензия на работу Ванденхёка о Поле Демени, публикация общества Amis de Douai.
3 Об этих происшествиях см. Делаэ (Souvenirs familiers). Историю с пруссаками включил в свою книгу Mézières en 1870 (Reims, Matot-Braine, c. 48) Жюль Пуарье.
4 Против такой датировки возражал Клод Дюше в «Autour du «Dormeur du val» de Rimbaud» (Revue d’Histoire littéraire de la France, 1962, c. 371). Он говорит, что Рембо уехал 2 октября. Мы же доверяем словам Изамбара, который утверждал, что вернулся в Шарлевиль 8 октября (Vers et Prose, первый квартал 1911).
5 О Леоне Бильюаре см. статью (довольно плохую) в Lettres françaises от 5 июля 1956 г.
6 Робер Гоффен, Rimbaud vivant.
7 Известна лубочная картинка под названием «Взятие Саарбрюккена», опубликована в les Oeuvres de Rimbaud (Paris, Gamier, 1981). Это не та картинка, которую описал Рембо, — она была более наивной и более популярной. Ее отыскать не удалось.
8 Шарль-Мари Дегранж в своей книге Morceaux choisis des auteurs français du Moyen Age à nos jours (Paris, Hatier, 1933) приводит «Уснувшего в ложбине» и дает отсылку на «Арденцский прогресс». К несчастью, проверить это невозможно, так как подшивки «Арденнского прогресса» за этот период не сохранились.
9 См. книгу Жюля Пуарье.
Глава V
«ЗВОНОК НА УРОК»
Увы! Предположения Ленеля, высказанные в письме к Изамбару от 11 ноября, начали, как это ни прискорбно, сбываться. С одной стороны, в помещениях коллежа до сих пор был размещен военный госпиталь, но, с другой стороны, ученики не могли бесконечно слоняться без дела. Поэтому Дедуэ 15 февраля разослал по семьям своих подопечных официальное письмо, в котором извещал, что часть занятий будет проводиться в помещении городского театра, пустовавшем в это трудное время.
Для Рембо новость была громом среди ясного неба. Он так привык к этим «вечным» каникулам, что не мог допустить и мысли о том, что однажды они закончатся. Жизнь изменилась: пала империя, восторжествовала свобода, народ освободился от своих цепей, и вот уже снова говорят о долге и дисциплине! Он не намерен с этим мириться! Делаэ, напротив, воспринял известие спокойно: «Я же говорил, что это когда-нибудь произойдет…»
Артюр ничего не хотел слышать. Когда мать приказала ему отправиться на занятия в коллеж-театр, Артюр ответил, что у него нет ни малейшей склонности к актерскому ремеслу. Но шуткой г-жу Рембо не проймешь. Она категорически потребовала, чтобы ее сын возобновил занятия. Ситуация напоминала известную песенку про двух баранов. Ни приказы, ни мольбы, ни угрозы («В таком случае вон из дома!») не действовали на Артюра. Раз он сказал нет, значит нет. Утром в первый день занятий он остался в постели.
Делаэ предвкушал развлечения:
— Здорово! Мы будем играть в прятки за кулисами и в суфлерской будке!
Действительность оказалась не столь забавной. Г-н Дюпре продиктовал латинский текст для перевода, разобрал отрывок из Еврипида и прочел лекцию о Паскале шестерым ученикам, у которых, мягко говоря, это не вызвало особого воодушевления. Вечером Рембо с саркастической улыбкой на лице пришел посмотреть, как «актеры будут уходить со сцены»; мрачный Делаэ привел его в неописуемый восторг. Но он заметно посерьезнел, когда стал рассказывать Делаэ, как идут дела дома. Добром ссора с матерью не кончилась; она постановила: или он идет учиться в пансион, или она выгоняет его из дому. Артюру было все равно: и в том, и в другом случае он готов был жить в лесу отшельником.
Следующие дни не ослабили напряжения. Измученная г-жа Рембо склонялась теперь к тому, чтобы, не откладывая дела в долгий ящик, выгнать упрямца вон. Когда Артюру самому наскучило слушать, как его называют бездельником и тунеядцем, он решил уехать. Вместо того чтобы дрожать от холода в лесу, он вернется в Париж и заведет знакомства с писателями и художниками. 25 февраля Рембо продал часы и купил билет.
По словам Делаэ, Артюр, кажется, уехал не один, вместе с ним была какая-то девушка. У обоих не было денег, и ночевать влюбленным пришлось на скамейке. На рассвете Рембо отдал девушке последние гроши, чтобы она вернулась домой к родителям в Вилле-Котре.
Этот эпизод оброс целым ворохом подробностей; однако ни один источник не подтверждает его достоверность. Известно, что Рембо не любил, когда друзья упоминали о его романах, так что, скорее всего, это мистификация: просто Рембо похвастался, что в Париже у него было небольшое любовное приключение, это придавало ему солидности в глазах друзей.
Среди прочего Рембо во время путешествия хотел узнать что-нибудь о Поле Демени, а если возможно, то и встретиться с ним: Артюра интересовала судьба его рукописей, приняли их или нет. Начал он с того, что отправился в издательство «Библиотека художественной литературы», что на улице Бонапарта, дом 18. «Там я искал адрес Вермерша», — объяснял он впоследствии самому Демени. Но увы! Вместо того чтобы сообщить ему что-нибудь, его самого стали расспрашивать про Поля. Рембо мог лишь сказать, что, по его представлениям, он все еще должен находиться на военной службе в Аббевиле. Вероятно, в «Библиотеке художественной литературы» Рембо дали адрес Андре Жиля; он давно уже восхищался карикатурами художника в «Затмении» и других журналах. Во всяком случае, Артюр отправился именно к нему, на бульвар Анфер (в настоящее время бульвар Распай). Поскольку хозяина не было дома, а ключ висел на двери мастерской, Рембо вошел и, увидев диван, недолго думая, расположился на нем, как сделал это в казарме мобилей в Живе. Когда Жиль вернулся, он нашел Рембо спящим.
— Послушайте-ка, — сказал он, расталкивая непрошеного гостя, — что вы делаете в моем доме?
— Я поэт, — ответил Рембо, — я смотрел красивые сны.
— Я, молодой человек, на вашем месте занимался бы этим у себя дома1.
Впрочем, Жиль был добрым малым, он дал Рембо немного денег и, возможно, даже приютил на несколько дней.
Одни вежливо прощались с Рембо, другие выгоняли его взашей, но, так или иначе, он всегда в конце концов оказывался на улице. Несчастный вынужден был бесцельно бродить по городу, так как почти все писатели и художники, с которыми он хотел встретиться, не вернулись еще в Париж. В те дни Рембо, сам того не подозревая, был свидетелем переломных событий в истории Франции. 6 февраля временное перемирие закончилось, и Тьер, во избежание новых бомбардировок, позволил немцам занять западную часть Парижа и Елисейские Поля. Узнав об этом, народ возмутился. «Нет капитуляции! Они не войдут!!!» — кричали демонстранты, собравшиеся под красными знаменами на площади Бастилии. А Рембо, не замечая, «что происходит в народе», ходил от одной книжной лавки к другой в поисках новых книг, главным образом сочинений об осаде и войне.
По вечерам он рылся в мусорных ящиках и ночевал на баржах с углем, пришвартованных вдоль набережных. Делаэ рассказывает, что однажды Рембо посчастливилось купить селедку, он носил ее в кармане и съедал по кусочку в обед и вечером.
В городе решительно нечего было делать. Столица обезумела от страха перед грозящим голодом, люди только и говорили, что о запасах провизии. «Париж превратился в один большой желудок», — вернувшись, сказал Рембо Делаэ.
10 марта Артюр вернулся домой. Он пришел пешком, был одет в лохмотья и непрерывно кашлял. В тот знаменательный день Национальное собрание переехало в Версаль; это означало, что скоро начнется новая война, которая столкнет лбами патриотически настроенный революционный Париж и консервативную провинцию, готовую на мир любой ценой.
В отсутствие Рембо семья Делаэ переселилась в деревеньку То в восточном пригороде Мезьера. Туда можно было попасть прямо из Шарлевиля, пройдя через железнодорожный тоннель, по которому теперь не ходили поезда. В То молодой «парижанин» благодаря своей шевелюре — Рембо не был у парикмахера четыре или пять месяцев — имел определенный успех. Делаэ, впрочем, вероятно, преувеличивает, когда говорит, что его волосы напоминали шелковистую гриву и доходили ему до середины спины. Какая такая блажь заставила Рембо отрастить такие длинные волосы (длиной более полуметра, если верить Делаэ)? Все просто: «парнасцев» упрекали за чрезмерную длину волос и бороды, и Рембо, конечно, хотел показать арденнцам, что он «парнасец». Одна незадача: мальчишки в То и в Мезьере, видать, принадлежали к другой художественной школе, иначе как объяснить, что они дразнили его «меровингом» и осыпали проклятиями. и камнями. Делаэ даже пришлось показать Рембо окольную дорогу, чтобы он мог невредимым добраться домой. Реакция шарлевильской публики была та же. Однажды от группы молодых служащих, проводивших на Герцогской площади свой обеденный перерыв, отделился человек и, подойдя к «парнасцу», протянул ему монету в 10 сантимов.
— Вот, дружок, — сказал он, — держи-ка и отправляйся к парикмахеру.
— Спасибо, — ответил Рембо, пряча монету в карман. — Табачком разживемся!
В другой день Рембо услышал у себя за спиной комплимент:
— Гляди, какая красавица!..
Но ради высокой цели он готов был терпеть не только насмешки.
Через неделю после его возвращения, 18 марта, произошли два памятных события: одно в Шарлевиле — официальное объявление о начале занятий в коллеже; другое в Париже — провозглашение Коммуны; убийство на Монмартре генералов Тома и Леконта, которые пытались завладеть пушками национальной гвардии, стало последней каплей, переполнившей чашу народного терпения. Эта новость стала известна в Шарлевиле лишь на следующие сутки.
Делаэ пишет, что 20 марта Рембо появился с на удивление радостно сияющими глазами. «Свершилось!» — сказал он. Ткацкий станок истории, остановленный в 1794 году[50], пустили заново. Отсрочка, предоставленная буржуазии, окончилась, об этом ее уже предупреждали в 1830-м[51] и в 1848-м[52]. На этот раз «свершилось»: народ снова двинулся вперед. Люди отряхивали последний прах старого мира. «Мы прогулялись до Шарлевиля, желая посмотреть, что происходит в народе», — продолжает рассказывать Делаэ. Повсюду они видели растерянность: неужели вслед за ужасами отечественной войны начнется война гражданская? Лавочники дрожали от страха, обыватели говорили о конце света, а через эту толпу с горящими глазами и всклокоченной шевелюрой шел напролом Рембо.
— Свершилось, — отрывисто говорил он, — порядок пал.
Поэт не скупился на пламенные речи и предсказания, в то время как Делаэ, которого веселило поведение Артюра, «находил это забавным». Человеческий род, освобожденный от материальных забот, расправлял крылья; эпоха Науки и Поэзии шла на смену эпохе Денег и Мракобесия. Наступало царство Свободы, и Природа распахивала свои двери. Мысли Руссо, Прудона, Луи Блана кипели в возбужденном мозгу нашего героя, подобно молоку, и грозили «убежать». Простак Делаэ ничего не понимал и не переставал выражать свое изумление вслух. Рембо, который в жизни не обращался к незнакомцам, заговаривал с прохожими и расспрашивал их о новостях из Парижа. Делаэ рассказывает, что в лицо одному дробильщику камня Рембо выпалил следующую тираду: «Народ бунтует, требуя свободы и хлеба, и завтра он победит. Все рабочие должны подняться, ведь они солидарны!» Бедняга выслушал его несколько скептически, потом поплевал на свои мозолистые ладони и снова взял молот, пробормотав при этом:
— В ваших словах есть доля правды.
Новость о начале занятий была несколько менее захватывающей. На стенах зданий можно было прочесть следующее объявление: «В Постановлении заседания Администрации коллежа от 4 числа сего месяца было указано, что «к работам по подготовке помещения и дезинфекции, необходимой вследствие продолжительного пребывания в помещении коллежа раненых, следует приступить немедленно». Благодаря стараниям и тщательному контролю комиссии, назначенной руководить указанными работами, они идут полным ходом и будут завершены в ближайшее время. Открытие интерната и начало регулярных занятий намечено на среду, 12 апреля сего года».
Нашли же эти коллежские крысы время начинать занятия! Как будто тюрьмы и коллежи теперь все еще что-то значили! Какой дурак станет изучать словесность и философию, когда сама судьба вершится на парижских баррикадах!
К счастью, ученикам дали трехнедельную отсрочку. Делаэ сказал, что ввиду скорого открытия коллежа «театральные курсы» отменили. Г-жа Рембо немного разжала тиски, но заявила:
— 12 апреля ты как миленький пойдешь в школу!
— До этого еще надо дожить.
Делаэ и Рембо обычно встречались в небольшом лесочке неподалеку от Ромри и То. Там, среди елей, робиний и ложных акаций, они обнаружили заброшенный карьер глубиной в три или четыре метра, устланный папоротником и мхом, настоящий приют тишины. Однажды в расселине скалы Рембо заметил пещеру2.
— Здесь будет мое убежище, — сказал он, — ты только приноси мне каждый день по куску хлеба, большего мне не надо.
А пока они целыми днями болтали, обсуждая Рабле, Руссо или Гельвеция. Они жили, уединившись в своем мире идей, — туда был заказан вход тупоумным шарлевильцам, туда не доносились крики г-жи Рембо. Что за прелесть было их уединенное гнездышко! В траве они находили маленькие известковые шарики, которые были не чем иным, как окаменелыми экскрементами сов; если разломить эти шарики, в солнечных лучах сверкали крошечные остатки мышиных костей и насекомых.
Между тем роковой день — 12 апреля — приближался. Г-жа Рембо дала понять, что если сын и дальше будет валять дурака, она перестанет его кормить. Артюру нужна была работа, но он не представлял себя ни продавцом, ни переписчиком в нотариальной конторе. Он снова оказался в безвыходном положении.
Однако Якоби каким-то чудом удалось возобновить выпуск «Арденнского прогресса». По протекции Деверьера Рембо взяли в газету секретарем редакции — это было единственное место, которое вообще могло ему подойти. 12 апреля он вышел на работу. В его обязанности входило разбирать почту и бумаги, составлять по телеграфным сообщениям небольшие статьи и т. д. Это была пустяковая должность, но за нее платили, и Рембо удалось заткнуть на время свою мамашу. Кроме того, Артюр рассчитывал получить повышение, стать главным редактором, а возможно, и заменить в один прекрасный день самого старика Якоби.
Артюр полагал, что рассчитался за свою неудачу с «Газетой Шарлеруа», и поэтому первым делом сообщил о своем назначении Бильюару. В самом деле, в письме Изамбару отца Жиле, преподавателя философии, можно прочесть следующее: «Что касается экстернов, не ходит лишь Рембо, который, по словам Бильюара, стал редактором газеты и проявил незаурядные способности к этому ремеслу». Ученики сожалели о его отсутствии: им было приятно слушать, как Артюр спорит с отцом Жиле (последний не всегда поддерживал линию директора). Где теперь словесные баталии прошлых времен!
Увы! Куда ни кинь, всюду клин. 17 апреля Рембо пишет Полю Демени письмо, в котором с грустью сообщает, что выпуск газеты Якоби приостановлен по приказу оккупационных властей.
Письмо это было довольно холодным. Начиналось оно весьма язвительно: «Что касается того, о чем я вас просил: как же я был глуп! Я не знаю ничего, что нужно знать, я решил не делать ничего, что нужно делать, — и потому я обречен. Да здравствует сегодня, да здравствует завтра!» По-видимому, такая реакция свидетельствует о том, что на четкий вопрос: как стать журналистом? — Рембо получил от Демени уклончивый ответ: не обольщайтесь, для этого нужны опыт, рекомендации, связи… Наверное, ответ Демени касательно рукописей Артюра также был отрицательным: если Рембо ни словом не обмолвился об этом, значит, все и так ясно. Он упоминает только о своем последнем пребывании в Париже и о книгах, которые видел в витринах магазинов. Последние строки письма выражают полнейшее безразличие: «И пусть бельгийская литература возьмет нас под свое крылышко. Всего хорошего».
Потеряв работу, Рембо снова стал подумывать о пещере в Ромри. Но в то же время его не покидало желание сражаться за великое дело. В свете зарева «большого пожара» отшельническая жизнь казалась ему малодушием. Его место было на парижских баррикадах, где решалась судьба Свободы.
Коммунары набирали войска и даже обещали жалованье в 30 су в день — этого хватало, чтобы только не умереть с голоду. В конце концов, быть солдатом Революции ничуть не хуже, чем журналистом. И 18 апреля Рембо отправился в путь, разумеется, пешком.
Делаэ рассказал, как Артюр сокращал себе дорогу. Сегодня это называется «автостоп». Рембо окликал попутную телегу и просил подбросить до ближайшего города. В качестве платы за проезд он рассказывал всякие вымышленные истории, которых у него было, что волос на голове.
Отправляться в Париж в то время было затеей рискованной. Правительственные войска пристально наблюдали за столицей, к тому же повсюду кишели пруссаки. На каждом шагу Рембо рисковал попасть в руки патруля и быть задержанным как подозрительная личность. Пробираясь однажды ночью через лес Вилле-Котре, он не на шутку перепугался: несколько лошадей галопом пронеслись в его направлении, он едва успел спрятаться за дерево. Это были немцы, которые забавлялись тем, что устраивали ночные скачки3.
До Парижа Рембо добрался предположительно 23 или 25 апреля. На заставе он гордо объявил, что пришел пешком из Арденн. Ему крикнули «ура!» и, поскольку у него не было денег, тотчас же организовали среди караульных «сбор пожертвований». По кругу пустили шапку, в нее накидали 21 франк 13 су. Чтобы показать, что он умеет жить, Рембо тут же поставил выпивку всей честной компании.
Его отвели в Вавилонскую казарму[53], бывшую казарму французских гвардейцев. Там Рембо был прикомандирован к отряду вольных стрелков, вероятно, это были Парижские вольные стрелки4.
Какова была общая ситуация вокруг Парижа? Версаль-цы готовились к генеральному штурму, и поэтому ничего не происходило. Обе стороны наблюдали друг за другом и посылали шпионов. Несколько случайных стычек имели место у Ванв и Исси, в то время как форт Нейи в связи с перемирием был временно оставлен в покое. Все улицы были перегорожены баррикадами, повсюду висели белые плакаты с короткими приказами. Единственная демонстрация была устроена франкмасонами на Елисейских Полях. Но невооруженным глазом было видно, что это кажущееся спокойствие готово в любой момент окончиться взрывом. Париж напоминал осажденный в декабре 1870 года Мезьер. Налицо были все признаки надвигающейся катастрофы: милосердные граждане, едва надев сапоги и пояса с портупеями, стали жестоки и холодны как камень; в сознании унтер-офицеров смешались понятия «власть» и «насилие»; солдаты шатались кто где; дисциплины не было и в помине.
В казармах царил невообразимый беспорядок. В одной и той же части были вперемешку собраны солдаты расформированных за братание с народом полков, солдаты национальной гвардии, моряки, зуавы. Не было никакой возможности ни обмундировать их, ни вооружить, ни даже раздать им одеяла.
Итак, в одно прекрасное утро Рембо проснулся в окружении грубых мужланов, покрытых татуировкой и, как и он, добровольно приговоривших себя к смерти. Казарма насквозь пропахла табаком и сивухой.
Заняться солдатам было нечем, оставалось только ждать приказов. Поскольку покидать казарму не запрещалось, наш поэт не лишал себя этого удовольствия. Позднее он рассказывал Делаэ, как подолгу бродил по городу в компании одного бывшего солдата 88-го пехотного полка, к тому времени расформированного. Этот солдат был малый весьма неглупый, мечтатель и идеалист. Впоследствии его, должно быть, расстреляли, как и всех, кто был схвачен и опознан. Возможно, Рембо, бесцельно слоняясь, именно тогда познакомился и с Жаном-Луи Фореном, хотя не исключено, что он уже встречал его в мастерской Андре Жиля, у которого Артюр был во время предыдущего визита в Париж. Берришон отмечает, что Рембо завязал знакомство с Фореном совершенно случайно5, и Фернан Грег подтверждает это в своих воспоминаниях («Золотые годы»): «Он (Форен) рассказывал мне о своей юности, когда носил прозвище Гаврош. Во время Коммуны Форену, по его словам, было совершенно нечего делать, и он слонялся по бульварам с Рембо; им еще интересовался какой-то священник, Форен забыл, как его звали».
Уместно в этой связи вспомнить об одном неправдоподобном рассказе Делаэ, касающемся девушки из Вилле-Кот-ре, о которой шла речь выше. Рембо, к своему большому удивлению, будто бы заметил ее однажды в толпе и решил, что она приехала в Париж за ним, но она якобы тут же исчезла и больше он ее никогда не видел. Эта воображаемая встреча явно сочинена в довесок к истории, произошедшей в феврале-марте; обе известны только в изложении Делаэ. Не будем заострять на них внимание.
Но Рембо не только «слонялся», он работал. Именно в столице он написал «Парижскую военную песню» и так называемую «Коммунистическую конституцию». Она утеряна, но известно, что в июле ее довелось прочесть Делаэ. «Конституция» Рембо — утопическая мечта: деньги отменены, центральная власть упразднена, коммуны независимы, коммунары сами выбирают себе начальников, которые наделены лишь временными и ограниченными полномочиями, референдум — основа исполнительной власти.
Довольно скоро развязная солдатня, с которой он проводил дни и ночи, стала вызывать у Рембо глубочайшее отвращение. Общаться с этим сбродом было выше его сил. Реакция отторжения была настолько сильной, что не оставила никаких следов от высоких патриотических чувств; веру в революцию он потерял. Рембо трижды менял название стихотворения, в котором выразил то, что пережил в Париже: «Погубленное сердце», «Сердце паяца», «Украденное сердце». Вот именно: смерть, фарс, кража. Его погубили, над ним посмеялись, у него украли мечту:
Полковник Годшот, акцентируя внимание на некоторых двусмысленных словах (корма, итифаллический), делает предположение, что ключ к этому темному стихотворению — какой-то инцидент сексуального характера, возможно, попытка изнасилования. Не заходя так далеко, отвращение и унылый характер этих стихов можно с не меньшей убедительностью объяснить откровенно скотским существованием солдат в Вавилонской казарме: похлебка, комок жевательного табака, попойки и сквернословие. Изо дня в день повторялось одно и то же. Как втолковать этим кретинам, что они сражаются за великое дело? Во всяком случае, стихотворение нельзя трактовать как плод воображения: рана была слишком глубока. Изамбар же как раз утверждал, что Рембо вовсе не ездил в Париж во время Коммуны. Как же тогда объяснить стихи о Коммуне? Разразившаяся социальная катастрофа вытащила на поверхность людей дна. Версальцы любили повторять, что Коммуну погубил алкоголь. В этом есть изрядная доля правды — коммунары сами все время приказывали своим солдатам вести себя пристойно.
Рембо, родившийся в буржуазной семье, любил революцию, но в глубине души ненавидел революционеров с их «грязными руками». Недолгое пребывание в казарме внушило Рембо панический страх и какую-то маниакальную ненависть к военной службе. Он умер с этой ненавистью, но жажда приключений побеждала в нем всякое отвращение и заставляла порой даже вербоваться наемником в иностранную армию.
Отныне все было кончено. Страница была перевернута. У Рембо оставалось лишь одно желание: вернуться в Шарлевиль. Пусть революцию совершают без него.
Снова Артюр вынужден был прибегнуть к разного рода хитростям, чтобы не попасть в засаду в окрестностях Парижа. Пригороды регулярно прочесывались конными патрулями; солдаты задерживали всех, кто казался подозрительным. В Вилле-Котре (вот уж действительно роковое место!) с Рембо произошло небольшое приключение, о котором он потом со смехом рассказывал Делаэ. Обнаружив какой-то заброшенный сарай, он решил в нем переночевать. А там как на зло свила себе гнездышко влюбленная парочка. Кавалер потребовал, чтобы Рембо убрался, а дама, премило улыбаясь, вытолкала его наружу со словами:
— Идите к соседке, дружок, ее зовут г-жа Левек. Это добрая старушка, она вас охотно пустит.
Как только задвинули засов, Рембо услышал приглушенный смех и голос, который сказал с насмешкой:
— Значит, г-жа Левек? Сдается мне, что это в двух шагах отсюда!
Артюру пришлось ночевать в придорожной канаве.
Как всякий бывалый бродяга, Рембо знал, как себя вести. Проходя через один городок, он явился к мэру и выдал себя за демобилизованного солдата, возвращающегося домой. Растроганный чиновник выдал ему нечто вроде путевого листа, который позволял предъявителю требовать у фермеров ночлега в крытом гумне и обед (в последнем обычно отказывали).
В Шарлевиль Артюр пришел в начале июля. Делаэ в городе не было; когда он его снова увидел, то не стал хвалиться вымышленными подвигами, а рассказал правду. 8 мая военные стычки под Парижем стали более значительными и смертоносными; сообщения о них вызвали у Рембо последнюю вспышку революционного энтузиазма. 13 мая он написал Изамбару: «Только лишь здравый рассудок удерживает меня здесь, когда приступы безумного гнева толкают в парижскую баталию — туда, где в эту самую минуту, когда я пишу Вам, гибнут рабочие».
«Клин клином вышибают» — говорит пословица, и в душе Артюра поэтический жар одержал победу над революционным. В этом нам еще предстоит убедиться.
Чтобы закончить описание эпизода, связанного с событиями Парижской коммуны, отметим, что приключения Рембо в восставшем Париже были слишком незначительны, чтобы оправдать постыдное прозвище «Рембо-коммунар», каковым его окрестили после возвращения. Но носить его ему было суждено до самой смерти: в 1887 или 1888 году, в Обоке, Рембо, по некоторым свидетельствам, говорил, что в Париже его посадили в тюрьму вместе с другими коммунарами (слово «казарма» для Рембо означало то же, что «тюрьма»). В 1891 году доктор Бодуэн услышал от одного из жителей Шарлевиля такой отзыв о проходящем мимо Рембо: «Смотрите-ка, вот он, знаменитый внук старика Кюифа, бродяга, коммунар, вертопрах!»6
«Рембо — герой Коммуны» — как хорошо это вписывается в легенду о нем. Легенда, разумеется, остается легендой, но если мы сделаем акцент на намерениях, а не на том, как они были реализованы, то, быть может, окажется, что эта легенда ближе к истине, чем действительность.
Что касается чувств, здесь практически не произошло никаких перемен с того времени, когда Рембо фаршировал свои стихи воображаемыми «шаловливыми» — и не очень — подружками. Он только и делал, что подтрунивал над «резвыми девчушками» на Вокзальной площади и пышными официантками бельгийских кабачков. Истоком его чувственности была мечта.
Весной 1871 года он попробовал написать стихотворение в прозе в подражание Бодлеру; он желал показать «свое сердце как на ладони». Стихотворение представляет собой два меланхолических отрывка, где на короткое мгновение появляются служанка и светская дама, а их последующее исчезновение заставляет Рембо пролить реки слез. В «предисловии» он описывает себя так: «Он был в расцвете сил, но не познал еще любви к женщине; его душа и сердце — в них была вся его сила! — выросли, питаясь странными и горькими грезами. Далее вы прочтете рассказ о его мечтах — о его возлюбленных! — которые являлись ему, когда он спал или когда он шел по улице, и о том, как их любовь длилась и как она заканчивалась; и из всего этого вытекают приятные религиозные размышления; это похоже на сладкие сны первых мусульман — готовых к подвигам и с обрезанной крайней плотью».
Вскоре воображаемые возлюбленные ему поднадоели. Некоторое время спустя после возвращения из Парижа Рембо отважился подойти к одной девушке приблизительно его возраста и передать ей записку, возможно, в стихах, в которой умолял ее о свидании на Вокзальной площади. Если верить Делаэ (по его словам, он получил в Юра письмо от Рембо, в котором тот рассказывал об этом приключении), у избранницы Артюра был взгляд богини, и походила она на Психею. Девица пришла на Вокзальную площадь, предстоящее свидание ее забавляло и вызывало любопытство… но не одна, а в сопровождении служанки! Рембо, от волнения красный как рак, с бешено колотящимся сердцем, не мог связать двух слов. Он немедленно ретировался под насмешливым взглядом красотки и ее служанки, давящейся от смеха. Он выглядел, по его собственному выражению, «растерявшимся, как 36 миллионов новорожденных пуделей».
По словам Берришона, г-жа Рембо получила письмо от незнакомого ей промышленника, отца этой девицы. В письме он призывал ее получше присматривать за сыном.
Кто же была героиня этого неудавшегося романа? Алан Гольди предположил, что это была некая Мария Генриетта, которую все звали просто Мария Юбер. Она родилась, как и Рембо, в 1854 году и была поразительно похожа на Психею с картины барона Жерара «Амур и Психея»7. Возможно, это и она, но Луи Пьеркен, когда говорил, что догадывается, кто она такая, не имел в виду Марию Юбер. Он уточняет, что в 1924 году обидчица Рембо была еще жива, в том время как Мария Юбер умерла в 1875 году. К тому же ее отец скончался в 1864-м и, разумеется, не мог быть автором письма, полученного г-жой Рембо.
Как бы то ни было, вслед за разочарованием в революции Рембо ждало другое разочарование, на сей раз в любви. Именно тогда его ненависть сорвалась с цепей, и из Рембо полился «неудержимый поток черной желчи, гнева и обиды», как сказал Жак Ривьер.
Чтобы отомстить за пережитое оскорбление, Рембо с упоением втоптал в грязь свои недавние мечты в едком стихотворении «Мои возлюбленные малютки»:
Через некоторое время он написал другое стихотворение, не столько язвительное, сколько отчаянное — «Сестры милосердия». В нем Рембо жалуется на то, что никогда молодой человек, желающий найти сестру милосердия, не найдет ее в Женщине, существе слишком слабом и слишком безучастном («Но женщина, тебе, о груда плоти жаркой, // Не быть сестрою милосердия вовек…»[57]). Обреченному на одиночество Артюру остается лишь утешаться «Зеленой Музой»[58] (абсент[59]) и «пламенем высшей Справедливости» в ожидании истинной сестры милосердия, таинственной смерти.
Действительно, именно такая участь и ожидала Рембо: лишь на смертном одре он встретил сестру милосердия, свою собственную сестру Изабель, которая пришла помочь ему умереть.
Во всем Артюр стал нетерпимым и раздражительным. Вскоре это испытал на себе Изамбар. В начале февраля он, дожидаясь назначения на новую должность, получил от своего брата, обосновавшегося в Санкт-Петербурге, заманчивое предложение: место гувернера в семье одного русского князя. Изамбар некоторое время колебался, опасаясь, что из-за своей гордости не сможет привыкнуть к зависимому положению, даже если будет купаться в золоте, и в конце концов отказался от предложения. Деверьер и Рембо были в курсе дела. В апреле Изамбар узнал, что в лицее Дуэ появилась вакансия (временное место преподавателя во втором классе); он использовал эту возможность, чтобы вернуться к преподаванию.
Рембо посчитал, что его обманули (Изамбар отказался от поездки в Россию, от роскошной жизни!), и исключил учителя из круга своих друзей; не зная оттенков в чувствах, он от чрезмерной признательности перешел к ироничному презрению.
Это был еще не разрыв, но серьезное охлаждение отношений; к тому же Рембо не забыл ему своих обид. Изамбар назвал «неприятными» его «Возлюбленных малюток», в ответ Рембо заявил (в письме, которым мы не располагаем), что нарочно прочитал их Изамбару, чтобы он его отругал. «Вы были поражены и вышли из себя, другими словами, вы проглотили наживку, здорово же я вас надул!»
Были и другие поводы для разногласий. Когда Рембо сообщил Изамбару о своем решении бросить учебу и заняться поэзией, тот отреагировал, как самый консервативный буржуа. Его нравоучения были ничуть не лучше нравоучений г-жи Рембо: «Вы бы лучше доучились и получили диплом бакалавра. Если вы не выносите жизнь в вашей семье, найдите работу: станьте надзирателем в коллеже, помощником бакалейщика или дворником, но не бросайте занятий».
Письмо Артюра Изамбару от 13 мая 1871 года, безусловно, самое важное из всех его писем учителю. Впервые Рембо раскрывает карты.
Он сразу начинает с нападок:
Милостивый государь!
Вы снова стали преподавателем. Вы мне говорили, что все мы обязаны обществу; Вы из когорты учителей, наставников: Вы идете по проторенной дороге. У меня тоже есть принципы: я цинично позволяю тем, кто этого хочет, содержать и развлекать меня; я вспоминаю старых ослов из коллежа: все, что я могу выдумать дурацкого, грязного, мерзкого, все мои поступки и слова — все это для них. За это меня угощают кружкой пива и стаканом вина. […] Я обязан обществу, это правда; но и я тоже прав. И Вы правы на сегодняшний день. По сути дела, Ваши принципы позволяют Вам понимать лишь субъективную поэзию: Ваше упорное желание добраться до преподавательской кормушки — простите! — это подтверждает [60]. Но Вам и уготована судьба довольных, которые умрут, ничего не совершив, потому что сознательно не захотели ничего совершить.
После этих любезностей Рембо сообщает о своем решении: «Работать? — Ни за что, ни за что! Я объявляю забастовку». Далее следует «великая тайна»:
Сейчас я негодяйствую как можно больше. Почему? Я хочу быть поэтом, и я работаю, чтобы стать Ясновидцем; Вы ничего не поймете, да я и не смог бы Вам объяснить. Речь идет о том, чтобы добраться до неизведанного через разнузданность во всем. Приходится много страдать, но нужно быть сильным, нужно родиться поэтом, а я почувствовал себя поэтом. Тут нет моей вины. Ия был бы не прав, говоря: «Я думаю», скорее нужно было бы сказать: «За меня думают». Простите за каламбур.
Мое «Я» — это «Я» кого-то другого. Несчастное дерево, которое вдруг обнаружило, что оно — скрипка! И да удостоятся презрительной насмешки невежды, которые придираются к тому, чего они совершенно не знают!
Вы мне не учитель. Вот Вам стихи, но это не сатира, как Вы бы сказали. Да и не поэзия. Это, как всегда, фантазия. Но умоляю Вас, ни карандашом, ни в мыслях не пытайтесь все разложить по полочкам:
- Погубленное сердце.
- Слюной тоски исходит сердце,
- Мне на корме не до утех… [и т. д.]
Это ни чего не значит. Пишите мне по адресу: дом господина Деверьера, для А. Р.
С сердечным приветом,
Ар. Рембо.
Двойное отрицание — для ясности Рембо следовало бы написать: «В этом что-то есть». А Изамбар, очевидно, решил, что Рембо забыл правила орфографии, и потому прочел: «Это ничего не значит».
Полагая, что речь идет о не имеющей под собой почвы фантазии, он утверждал, что в стихотворении Рембо рассказывает про одного юнгу, которого стошнило при виде оргии, имевшей место на борту корабля во время прохождения экватора. Пьяный юнга с пьяного корабля…
В судьбе Артюра произошел коренной перелом. Родился новый Рембо, который настолько отличался от прежнего, что его нельзя было узнать.
Делаэ рассказывал первым биографам поэта: «Действительно, в это время меня впервые поразили некоторые странности: я несколько раз видел, как Рембо шагал по улице, печатая шаг, гордо выпрямившись, с высоко поднятой головой. Щеки его горели, глаза были неподвижны и устремлены куда-то вдаль».
Вне всякого сомнения здесь идет речь об одержимости, подобной той, что бывает у предсказателей будущего. Его долгое молчание, походка, как у вымуштрованного солдата, напряженный взгляд, красное, как в жару, лицо — все указывало на то, что Артюр был не в себе, что в нем жил кто-то другой.
«Дома он стал мрачным, раздражительным, — добавляет Берришон, — порывистые движения, грубые манеры. Из-за всего этого его мать была в отчаянии, Артюр однажды показался ей таким странным, что она решила, что ее сын сошел с ума».
Поскольку несчастный Изамбар был неспособен понять, что же все это значит, Рембо не оставалось ничего другого, как изложить, ни на что особо не надеясь, свою новую теорию Полю Демени. Рембо написал ему письмо 15 мая 1871 года. На наш взгляд, это самое необыкновенное сочинение юного Ясновидца, представляющее собой одновременно лекцию по литературе и революционный манифест. Его программа состоит из четырех положений:
— Рок сделал из меня поэта.
— Быть поэтом значит быть Ясновидцем.
— Чтобы быть Ясновидцем, нужно разнуздать свои чувства и стать отвратительным.
— До сегодняшнего дня ни один поэт не пытался стать настоящим Ясновидцем.
Рок. Это исполнение воли таинственного оракула Феба-Аполпона: «TU VATES ERIS»: «ТЫ БУДЕШЬ ПОЭТ». Быть поэтом значит проснуться кем-то другим. («Мое «Я» — «Я» кого-то другого»). Это значит невольно стать инструментом: дерево, которое просыпается однажды скрипкой, или медь, которая просыпается трубой, не сделали для этого превращения ничего, они тут ни при чем. Не приходится ни сожалеть, ни радоваться, а лишь констатировать.
Ясновидение. Слово «ясновидец» было весьма распространено в конце XIX века: Малларме говорил о Готье, что тот ясновидец, Готье говорил это о Бодлере, Нерваль говорил так о самом себе… Но Рембо вкладывает в это слово библейский смысл: ясновидец — это тот, кто видит, что стоит за деяниями Господа. Ясновидец — это водолаз, взыскующий пропасти, он из глубин неведомого доносит до нас крупицы нового знания, как говорит Бодлер в своем «Путешествии». Красота, уродство, искусство, нравственность, распутство, низость — все эти слова лишены смысла. Все, что является нам оттуда, — священно!
Условия. Аскетическая жизнь ясновидца — это «сознательная разнузданность во всем», добровольное «негодяйствование». Речь идет о том, чтобы сделать свою душу уродливой, стать «величайшим больным, величайшим преступником, величайшим проклятием — и, тем самым, величайшим мудрецом — ведь ему доступно неизведанное}». Тогда он сможет повторить слова, которые сказал водолаз из книги Виктора Гюго «Человек, который смеется»: «Я испытал, я видел. Я водолаз, и я принес вам жемчуг, я принес истину».
Никто этого еще не делал. Поэзия до Казимира Делавиня (включая и творчество Расина) была не более чем рифмованная проза, игра, «пение осанны неисчислимым поколениям дряблых придурков». Поэтов прошлого можно поделить на невинных младенцев, мертвецов и недоумков. Ни у кого из них не хватило мужества стать Ясновидцем. Бодлер едва им не стал, но он вращался в слишком светском обществе; Поль Верлен («истинный поэт») и Альбер Мера — вот и все ясновидцы парнасской школы.
Рембо вознамерился стать первым настоящим Ясновидцем. Он решил, что будет распахивать «целину», возглавит колонну безобразных тружеников — мужчин и женщин, станет их знаменем. На это толкала его гордость, помноженная на упрямство.
Рембо с решимостью мученика шагнул в «огненное кольцо», которое должно было его уничтожить. Путь, который он сознательно себе выбрал, был воистину «крестным», как позднее сказал Верлен. Но Артюр был готов стерпеть все мучения, понимая, что они необходимы и неизбежны.
Для начала он решил порвать с Изамбаром. К сожалению, у нас нет ответа учителя на его письмо от 13 мая. «Я ограничился тем, — признается Изамбар, — что обозвал его дурачком за все те непристойности, которые он наговорил мне о своей новой жизни в Шарлевиле». «Погубленное сердце» показалось ему омерзительным. «Я не хочу сказать, что Вы безумны, это как раз подтвердит Ваши претензии на избранничество. Но если Вы действительно в это верите, мне не сложно будет Вам доказать, что Вы не более нелепы, чем любой человек из толпы». И Изамбар присовокупил к письму стишок без начала и конца под названием «Муза пердунов»:
«Вот что вы делаете, — пишет Изамбар. — Вы собираете в кучу бессвязные странные мысли, они порождают маленького уродца, которого вы тут же кладете в банку и заливаете формалином… будьте осторожны со своей теорией о Ясновидце, как бы вам самому в конце концов не стать таким уродцем и не оказаться в банке с формалином, которой место в Кунсткамере».
Изамбар заявляет, что Рембо якобы прочел это суровое предупреждение с улыбкой, но Берришон, несомненно, ближе к истине, утверждая, что юный Ясновидец ответил на послание своего учителя потоком брани. Но этим дело не кончилось, говорит Берришон. Изамбар отослал его ответ г-же Рембо, желая привлечь ее на свою сторону и моля принять все необходимые меры к восстановлению психического здоровья ее сына. На требование матери объяснить, что все это значит, Артюр якобы ответил парой метких словечек, а вот каких, Берришон предоставляет читателю право догадаться самому. Об этой памятной сцене вспоминает и Изабель. Мелера (а они с Изабель были близкие подруги) пишет: «Юные сестры Артюра хотя и не обмолвились при матери ни словом об этом происшествии, все между собой обсудили, ведь забыть о таком просто невозможно»8.
Поль Демени, судя по всему, и вовсе не ответил на длинное письмо Ясновидца, поскольку Рембо, как мы скоро это увидим, в своем следующем послании от 10 июня 1871 года настойчиво требует ответа, посылая к тому же три новых стихотворения: «Будьте так добры, ответьте и на это, и на предыдущее письмо. Я жду ответа, каков бы он ни был». Позже мы объясним, почему Демени ответить не мог.
Итак, Рембо не оставалось ничего другого, как продолжать, «с топором в руке», свое разрушительное начинание.
В это время стали острее проявляться антирелигиозные настроения Артюра. Несомненно, общение с отцом Бретанем сыграло здесь свою роль. Рембо частенько бывал у него, и там, в присутствии нескольких друзей, с большим успехом читал свои новые язвительные сочинения, такие, как «Приседания» (про монаха Милотуса) или «Первое причастие» — стихотворение, навеянное первым причастием Изабель, которое состоялось 14 мая 1871 года. Это стихотворение представляет собой ёрничанье и едкие насмешки в адрес священника, который подготавливал детей:
в адрес девчонок:
разя их слабости, их «подлое сострадание» и, наконец, восставая против Христа:
Полная ненависти гримаса делала Артюра в самом деле похожим на «Сатану в юности», как его называл Верлен.
На стенах и скамейках города Рембо писал мелом: «Смерть Богу!» Когда он случайно встречал священников, с его губ неудержимо срывались злобные оскорбления. Рембо доходил до того, что бросал в них вшей, которых специально для этого разводил в своей шевелюре9.
Другими жертвами его всеразъедающей желчности стали учителя Эрнеста Делаэ. Преемнику Изамбара, Анри Перрену, Артюр отправил шутливое послание, якобы написанное дядей вышеупомянутого Эрнеста из Ремильи-ле-Поте. Но Дедуэ тотчас опознал по стилю автора письма. Чтение послания в классе привело учеников в исступленный восторг.
Этот Перрен был «красный», радикал-активист. Он написал политический памфлет «Бич», вызвавший скандал на родине автора, в Нанси. После окончания пасхальных каникул он оставил коллеж, чтобы занять вместе с Деверьером должность редактора в новой ежедневной газете «Северо-Восток», ее первый номер вышел 1 июля 1871 года. Для Рембо это была новая и реальная возможность стать журналистом. Он, недолго думая, отправил Перрену через коллежского консьержа несколько стихотворений. Юмор в этих стишках был вялым и вымученным. Одно стихотворение описывало страх бакалейщиков перед наступлением «красных». Другое представляло собой монолог бывшего солдата-патриота, который клялся своими изуродованными конечностями, что помешает работе нового органа прессы.
Перрен, сочтя эти пародии дурновкусием, запретил консьержу впредь принимать писания «молодого человека с длинными волосами».
С преемником Перрена, Эдуаром Шаналем, Рембо также несколько раз пытался сыграть какую-нибудь шутку, но как отреагировал Шаналь, неизвестно. Во всяком случае его имя, как и имя его предшественника, наш поэт обрек на проклятие. «К чёрту Перрена!» — повторяют в своих письмах, как «Отче наш», Рембо и Верлен — последнему показалось забавным вступить в эту игру10.
Следующей мишенью — и это вполне закономерно — стал шарлевильский библиотекарь, Жан-Батист Юбер, бывший преподаватель логики и риторики в коллеже. Юбер был автором неплохих работ по истории Арденн.
Библиотека, в которой часто бывал Рембо, располагалась в здании бывшего монастыря, которое находилось по соседству с коллежем. Почти каждый день, дожидаясь открытия библиотеки, Рембо ходил взад-вперед перед коллежем, довольный тем, что шокировал папашу Дедуэ своей перевернутой вниз трубкой, недопустимо пышной шевелюрой и вызывающими гримасами. Потом Артюр проникал в храм папаши Юбера, который с большим трудом переносил мальчишек, нарушавших его покой. Так, например, Луи Пьеркена, ученика второго класса, Юбер выгнал однажды за то, что тот осмелился попросить «Сказки» Лафонтена. С тех пор старого ворчуна называли не иначе, как «Юбер — выгребная яма». Можно смело предположить, что он и Рембо не одарил своим расположением, ведь Артюр постоянно мозолил ему глаза, роясь в каталогах и в «свободном доступе», он вечно был недоволен, без конца требовал новых книг — как назло именно тех, которые стояли на самых дальних полках, покоясь под слоем вековой пыли. Это были трактаты по колдовству, оккультным наукам11 или романы, сказки, стихи фривольного содержания (Ретиф де ла Бретонн, «Сатирический Парнас» и т. п.). В конце концов постоянным посетителям библиотеки так надоел этот неугомонный и ненасытный школяр, что в один прекрасный день папаша Юбер проявил строгость и выставил Рембо за дверь: если он так жаждет знаний, пусть идет в соседнее здание (коллеж) и читает там авторов, которых изучают в его возрасте: Гомера, Цицерона, Ксенофонта, Горация, но пусть оставит в покое людей, пришедших в библиотеку работать.
Ни Юбер, ни посетители библиотеки — все эти «сидящие» — не подозревали, что юный нарушитель спокойствия в июне 1871 года пригвоздит их к позорному столбу:
Рембо, изгнанный из библиотеки и по-прежнему сопровождаемый Делаэ, прогулы которого он всячески поощрял, возобновил прогулки по окрестностям. Там он давал волю своему сарказму и черному юмору.
Однажды, когда Рембо и Делаэ шли мимо конных заводов Мезьера, переделанных в санитарный пункт, они увидели за колючей проволокой несчастных калек в длинных шинелях. Все они были очень больны, у иных были ампутированы ноги или руки. Калеки едва передвигались между деревянными бараками. Апофеоз проигранной войны! Поразительное сходство с морским отливом! Делаэ не мог удержаться и не высказать своего возмущения:
— Побежденный народ столь же достоин почитания, сколь и народ-победитель. Почему же люди, дарившие этим солдатам цветы, вино и ласку, отворачиваются от них, как от каторжников, именно теперь, когда они попали в беду?
«Бессердечный» Рембо ответил, что это вполне естественно:
— Эти люди были лишь орудием падшего режима. Пока считали сильными, их чествовали. А сейчас, когда они носят больничные колпаки, когда они наполовину околели, что, по-твоему, с ними делать?
В другой раз они присутствовали на немецком военном параде на площади Префектуры. Делаэ любовался выправкой и безукоризненной дисциплиной войск.
— Ах! — вздыхал он. — Эти люди намного нас превосходят!
Рембо подскочил, как ужаленный:
— Они во многом нам уступают! Они скоро подавятся своей победой! Слава отравит их, они обрекут себя на железную дисциплину ради сохранения своего положения, добычи и роста своего авторитета. А в конце концов какая-нибудь коалиция растопчет их, как это было с Наполеоном, который был наказан за то, что посмел разрушить надежду, родившуюся во время Великой революции. Бисмарк ничуть не умнее Наполеона: играя на тщеславии своего народа, он приведет его к самоубийству.
«Остроконечные каски» проходили мимо строевым шагом.
— Нет, ты посмотри на этих болванов, осоловевших от победы, и скажи мне, разве мы не лучше их?12
И все-таки, несмотря на тяжелое время, они все еще оставались обыкновенными озорными мальчишками. Однажды Рембо и Делаэ подошли к мезьерской церкви; в ней ремонтировали колокольню. Вдруг ребята заметили, что низкая боковая дверь, обычно запертая, открыта. Недолго думая, они вошли и вскарабкались наверх по обнаружившейся внутри узкой лестнице. На самом верху, пока Делаэ бережно прикасался к огромным колоколам и пытался разобрать латинские надписи, выгравированные в бронзе, Рембо заметил в углу чердака один предмет… Скажем так: вероятность его появления именно здесь была ничуть не больше вероятности появления распятия в аду. Это был великолепный пузатый ночной горшок из белого фарфора; вероятно, его принесли сюда во время осады для часовых и забыли. Через две минуты несчастный предмет, описав в воздухе изящную дугу, ударился о землю и разбился вдребезги. Давясь от смеха, они увидели, как один прохожий остановился, подобрал осколок фарфора, внимательно рассмотрел его и, озадаченный, вопросительно уставился на небо…
— Только бы это был не Дедуэ, — сказали хором Делаэ и Рембо.
Чтобы отвести беду, Рембо мигом написал на звукоотражающих пластинах на краю окна следующее восьмистишие (приводится Делаэ по памяти):
Однако Рембо все же был огорчен тем, что мать и папаша Юбер лишили его возможности читать. Мать совсем не давала ему денег, а Юбер выгонял его из своего храма-библиотеки.
А тут как раз вышла книга, которая очень интересовала Артюра. Это были «Мятежи и замирения» Жана Экара, молодого (23 года) поэта, входившего тогда в моду. Как бы Артюру раздобыть ее, точнее, каким образом заполучить бесплатно? Поэт поэту — брат. Он заплатит стихотворением. Через издателя Лемерра Рембо отослал Экару стихотворение «Завороженные», сопроводив его запиской, короче которой не придумать:
Июнь 1871 — Артюр Рембо
5-бис, Набережная Мадлен, Шарлевиль, Арденны. Экземпляр «Мятежей», будьте добры.
А.Р14.
Нам неизвестно, согласился ли Жан Экар на этот обмен. Как бы то ни было, Рембо продолжал свои вояжи по книжным лавкам Шарлевиля. Иногда ему случалось незаметно украсть какую-нибудь книгу, а потом, прочитав, принести обратно. Но поскольку возвращать краденое было ничуть не менее опасно, чем красть, Рембо приходилось иногда воздерживаться от возврата. Страх наказания не всегда воспитывает в человеке благоразумие.
К тому же Артюр покупал книги в кредит. И вот однажды его мать получила предписание выплатить сумму в 35 франков 25 сантимов, которую задолжал ее сын.
— Доигрались, мой милый. Готовьтесь отправиться в тюрьму, — сказала г-жа Рембо.
Артюр поразмыслил над этим вопросом, и ему пришла в голову блестящая мысль. Читатель помнит, что в июле предыдущего года Рембо спрятал несколько книг в доме Изамбара, чтобы его любопытная мамаша их не обнаружила. Среди них были «Флориза» и «Изгнанные» Банвиля, «Ужи» Луи Вейо, «Персидские ночи» Армана Рено, «Сборщицы колосьев» Поля Демени и другие. Что ж, он заберет эти книги у Изамбара, само собой разумеется, продаст их и таким образом погасит свой долг. С этой целью он пишет 12 июля 1871 года последнее письмо своему бывшему учителю, который заведовал тогда кафедрой риторики в шербурском коллеже.
Короткой первой фразой Рембо пытается загладить старую обиду: «Забудьте о нашей ссоре из-за бояр[65], не сердитесь на меня больше». Другая обрисовывает положение дел в настоящем: «Я умираю от страшной скуки и совсем не могу писать». Ни слова о Ясновидении и Ясновидцах. Высказав эти два положения, Рембо сразу переходит к делу: «Мне прислали огромный счет, а в кармане у меня нет и ломаного гроша». Артюр просит вернуть ему книги и ручается, что выгодно их продаст, и, чтобы доказать свои способности, предлагает образчик речи, достойный любого рыночного торговца: «Так ли Вам нужны «Сборщицы колосьев»?.. Арденнские школяры расстанутся с целыми тремя франками ради того, чтобы пялить глаза в эти «голубые дали». Я уж сумею убедить моего кредитора-крокодила, что покупка этой коллекции принесет ему целое состояние. Он купит у меня даже то, что никто не читает. Это я вам говорю — я продемонстрирую такую наглость, что у меня всю эту рухлядь с руками оторвут!»
Короче говоря, пусть-ка Изамбар отошлет эти книги к Деверьеру, дом 95, «Аллеи». Деверьер предупрежден. Он уже ожидает посылки: «Я оплачу пересылку книг и буду признателен Вам сверх всякой меры».
В постскриптуме он добавляет: «Судя по одному из Ваших писем господину Деверьеру, Вы волновались из-за своих ящиков с книгами. Так вот, Деверьер доставит их Вам по первому Вашему требованию».
Ага! Значит, книги Изамбара, и среди них те, которые просил Рембо, все еще были в Шарлевиле! Долго бы Артюру пришлось ждать прибытия своих томов!15 Поэтому Изамбар немедленно (так он, по крайней мере, говорит) выслал Деверьеру для Рембо указанную сумму в 35 франков 25 сантимов, в которой последний столь нуждался.
Так закончилась история отношений Рембо и его бывшего учителя.
Порвав с Изамбаром, Рембо наметил еще несколько «влиятельных особ», заслуживавших наказания, и в первую очередь любезного Теодора де Банвиля, этого парнасского полубога, стихи которого, изящные и плавные, когда-то поразили его. Но, по совести, кто такой этот рифмоплет? Цветочник, торговец цветами для салонов; его стихи — просто гербарий какой-то, букет для новобрачной. Он узнает, наш дорогой Учитель, «что говорят поэту о цветах»: лилии — это «клизм экстазы», сирень — это «вздор», фиалки — «приторные плевки черных нимф».
Да его тошнит от этой «слюны дудочек»:
Поэт должен изображать настоящие цветы, а не эти украшения загородных садиков. Он должен изображать экзотическую флору, неистовую, чудовищную, невероятную. А лучше, если он и вовсе отбросит все это изящное барахло:
И в заключение вот еще что: если ты упрямишься, поэт, и все-таки не можешь обойтись без флоры в своих стихах, то будь хотя бы полезен, то есть современен:
Заметим лишь, что заносчивость этой филиппики (адресат ее назван Снобом и Фокусником) смягчена тем, что столь резкая критика касается не одного только Банвиля, но и всех ему подобных: то, что говорят Поэту — это то, что говорят поэтам.
Как бы то ни было, все стихотворение выдержано в хамском и неприятном тоне. Авторское посвящение написано в том же духе:
Дорогой господин Учитель!
Помните, в июле 1870 года Вам прислали из провинции 100 или 150 гекзаметров мифологического содержания под названием «Верую в единую». Вы даже соблаговолили ответить.
Тот же придурок посылает Вам нижеследующие стихи за подписью Алкид Бава. — Простите.
Мне 18 лет, и я всегда буду любить поэзию Банвиля.
А в прошлом году мне было лишь 17!
Заметен прогресс?
Алкид Бава[70].
Мой адрес:
Шарлевиль, Мезьерская улица,
г-ну Шарлю Бретаню для А. Рембо.
Куда подевались мольбы, протянутые руки: «Заметен прогресс?»
Говорят, Банвиль остолбенел, прочитав это письмо.
Артюр выплеснул свою злобу, и теперь ему не оставалось ничего другого, как слоняться по окрестностям Шарлевиля и Мезьера в сопровождении верного Делаэ. Были каникулы, и гулять они могли с полным правом. Друзья бродили по лесам в Кюлобит и в Аветьере, читая вслух до хрипоты Вийона, Бодлера, Готье, Дьеркса, Верлена. Иногда Рембо и Делаэ устраивали вечера своих стихов в гостинице «У Шено». Там за два су они получали кружку пива, которую делили по-братски, и два часа полного покоя. У Рембо горели глаза, он собирался внести факел революции в самый храм Муз. Ничто не устоит перед его всесокрушающей яростью.
В один прекрасный день у них кончился табак, и они устроили «табачную экспедицию» в Бельгию. Дорога пешком через Гранвиль и Пюссманн отняла у них три часа (14 километров по прямой). На месте их поджидало непредвиденное испытание: «серная», так как в целях защиты бельгийского скота от ящура, бушевавшего в Арденнах, чиновники Леопольда II проводили дезинфекцию всех прибывающих из Франции. Двух друзей заперли в газовой камере, откуда они вышли задыхаясь и в слезах. Зато, пройдя это «чистилище», они получили доступ в лавки, полные всевозможных лакомств, и чистенькие ресторанчики; за 3 су они купили упаковку табака с фабрики Тома Филиппа. Это было почти даром.
Возвращаясь через лес, Рембо и Делаэ чуть не умерли со страха, когда из зарослей неожиданно появился какой-то таможенный чиновник со страшным бульдогом на поводке. Последовал допрос:
— Табак, кофе, цикорий, порох есть?
Они простодушно показали ему свой начатый пакет. Таможенник обыскал их и сказал:
— Ну ладно, идите…
Друзья рванули с места как угорелые. Рембо, все еще дрожа от воспоминания об обыске, сочинил сонет, посвященный добрякам-таможенникам. В большинстве своем бывшие солдаты, когда-то они охраняли или, наоборот, нарушали границу, а теперь годились лишь на то, чтобы браниться сквозь зубы: «Черт возьми!» или «Пусто, дьявол!»
Когда Рембо и Делаэ добрались до дома, было уже темно.
Рембо чувствовал, что его положение становится безвыходным. Начался август, и тем явственней стала угроза возвращения в класс. Было решено, что в октябре мать отправит Артюра в пансион, хочет он того или нет.
Был ли какой-то прок в его геройстве? Париж дважды надругался над ним и изгнал его, Изамбар посмеялся, притворившись, будто ничего не понимает, Демени хранил неодобрительное молчание. Отметим в скобках, что Демени и в самом деле был ошеломлен хамством и наглостью Рембо, но, в сущности, его понимал16.
Теперь Поль был нужен Артюру лишь как источник практических советов. За ними он и обращается к нему в письме от 28 августа 1871 года:
Милостивый государь,
Вы вынуждаете меня повторить мою просьбу, ну что ж. Вот Вам моя жалоба. Я пытаюсь выражаться вежливо, но я не достаточно владею этим искусством. Итак, вот в чем дело:
Я нахожусь в положении человека, которому предъявили обвинение и отпустили под залог до суда: вот уже год, как я порвал с обыденной жизнью, для чего — вам известно. Поскольку я — пожизненный заключенный в этих безобразных Арденнах, не общаюсь ни с кем, сосредоточен на работе отвратительной, упорной до нелепости и потому загадочной; поскольку я отвечаю молчанием на вопросы и злые, грубые окрики, и тем самым доказываю, что достоин своего «незаконного» положения, то, в конце концов, я спровоцировал свою мать, которая упряма, как 73 чиновника с похмелья, на катастрофическую меру.
Она решила навязать мне постоянную работу в Шарлевиле, то есть в Арденнах! Она сказала, что к такому-то дню я должен найти работу, или она меня выгонит.
Я отказался от такой жизни, ничего не объясняя: в этом случае я выглядел бы жалко. До сегодняшнего дня мне удавалось отодвигать последние сроки. Но моя мать дошла до того, что постоянно требует, чтобы я уехал или сбежал. А у меня нет денег, нет опыта, и в конце концов я попаду в исправительный дом. И тогда я погиб.
Итак, вот тот грязный платок, которым мне заткнули рот. Все очень просто.
Я прошу только совета. Я хочу работать как свободный человек, но в Париже, я люблю этот город. Итак, я иду пешком, простенько. И вот я прихожу в этот огромный город, не имея ни гроша за душой, а Вы мне когда-то сказали: кто хочет работать за 15 су в день, тот идет туда-то, поступает так-то и живет таким-то образом. Я пойду туда-то, поступлю так-то и буду жить таким-то образом. Я прошу Вас подсказать мне, чем заняться, чтобы это занятие оставляло мне свободное время, ведь размышления требуют много времени. Если эти материальные путы позволят мне работать, я даже полюблю их. Я буду в Париже — и мне просто необходим надежный источник доходов! Вы скажете, что я лукавлю! Я сам кажусь себе настолько странным, что должен заверить вас, что говорю совершенно серьезно.
(…) Впрочем, не зная, что могу ожидать от Вас в ответ, прерываю свое объяснение и полагаюсь на Ваш опыт, на Вашу любезность — я уже много раз выражал Вам свою признательность за Ваши письма. Я прошу Вас принять во внимание мои идеи… пожалуйста.
Вас не обескуражит, если я пошлю Вам некоторые из своих работ?
А. Рембо
Здесь мы имеем возможность оценить нетвердость Рембо. Всего месяц назад он заявлял Изамбару, что ни за что не будет работать, а теперь настойчиво просит совета, как найти работу за 15 су в день. И откуда взялась эта наивность Артюра, воображающего, что оплачиваемая работа оставит ему «свободное время» для сочинения стихов? Как бы то ни было, оказывается, по части своей поэтической карьеры Рембо больше на Демени не рассчитывает.
Куда ни кинь, всюду клин.
В один прекрасный день, когда Рембо в очередной раз плакался в жилетку отцу Бретаню, что его никто не понимает, тот удостоил его тем, что вынул свою трубку изо рта и рассказал, что, когда работал в Фампу, под Аррасом, близко познакомился с поэтом Полем Верленом, и он, может быть…
— Что, если я пошлю ему свои стихи? спросил Рембо, поняв с полуслова.
А когда Бретань добавил, что ему не составит труда присовокупить к его стихам рекомендательную записку, Артюр одним прыжком оказался на улице, как будто был узником и перед ним вдруг распахнули дверь его камеры. Отыскав Делаэ, Рембо тотчас потащил его в кафе Дютерма и усадил переписывать свои стихотворения (довольно изрядную часть):
— Это для Верлена!
И пока друг старательно переписывал «Завороженных», «Приседания», «Таможенников», «Украденное сердце», «Сидящих», Рембо убористым почерком писал длинное письмо на плотной желтоватой бумаге. Он выбрал эту дешевую бумагу специально, чтобы не платить слишком много за отправку письма по почте. Рембо писал о своем идеале, своем негодовании, своих восторгах, своей нужде, не без лести и настойчивости умоляя адресата не отталкивать доверчиво протянутую руку. Письмо, стихи, записка Бретаня — все это отнесли на почту и отправили по адресу издателя Лемерра, Париж, улица Шуасёль, 47, «для г-на Верлена».
Верлен говорил, что это письмо (оно, к сожалению, утеряно) изобиловало какими-то странными сведениями и любопытными выражениями вроде «мелкие пакости» или «менее надоедлив, чем Занетто»[71]. Автор письма намеревался приехать в Париж писать стихи, так как не Мог работать в душной обстановке своего провинциального города. Кроме того, у него не было средств к существованию: его мать, чрезвычайно набожная женщина, давала ему лишь 10 сантимов по воскресеньям, чтобы заплатить за место в церкви.
Отправив письмо, Рембо уже на следующий день, страшно нервничая, стучал в дверь к Бретаню. Ответа, конечно же, еще не было.
— Потерпите немного, — сказал его флегматичный Друг.
Но Артюр, не удержавшись, отправил Верлену второе письмо, еще более настойчивое. Вместе с письмом он послал еще три стихотворения: «Мои возлюбленные малютки», «Париж заселяется вновь» и «Первое причастие».
В течение нескольких дней Рембо жил в состоянии лихорадочного возбуждения, или, лучше сказать, не жил вовсе. У него был шанс оказаться в Париже, и к тому же ему не нужна будет никакая рабская работа за 15 су в день. Двойная удача! Но по приезде в Париж Артюр должен был иметь возможность показать стихи безупречного качества. Как раз в это время ему попалось одно стихотворение на довольно своеобразный сюжет, написанное Леоном Дьерксом и опубликованное в «Современном Парнасе». Его сочинение называлось «Одинокий старик» и рассказывало о некоем призрачном корабле, дрейфующем в океанах и приводящем в ужас экипажи других кораблей. Рембо сочинил стихи о другом «одиноком старике» — о себе, предварительно украсив стихотворение яркими фрагментами из «Тружеников моря» Гюго, «20 000 лье под водой» Жюля Верна и, возможно, из «Иллюстрированного журнала» своего детства. Впрочем, лишь благодаря своему гению он написал эти прекрасные стихи, которые предстают перед нами подобно симфонии, стремительно летящей через зеленоватые морские глубины к девственным просторам межзвездного Эфира, чтобы в конце снова низвергнуться в пучину горького отчаяния. Какое точное отражение собственной судьбы! Можно было бы предположить, что близкий успех вдохновит его на что-то вроде гимна: сначала он пропел бы о тьме, из которой произошел на свет, затем — о рассвете, осиявшем начало его пути, и закончил бы грандиозным апофеозом себе — триумфатору. Но мы видим нечто совершенно противоположное. Старый корабль, сбитый с пути фантастическими видениями, отчаянно призывает свою погибель:
Этот «Пьяный корабль», который должен был стать началом нового Рембо, предвестником других гениальных стихов, по сути являлся уже его лебединой песней.
Считается, что у Рембо были и другие источники вдохновения при создании этого шедевра: Старая мельница, возле которой стихотворение и было написано, Маас, омывающий набережную Мадлен, где в то время стоял кожевенный завод, окрашивавший воды реки в непонятный цвет. («Его мечтой, — пишет Делаэ, — было побарахтаться в мокром песке, среди диких растений и валявшихся там осколков разбитой посуды».)
Наконец, на четвертый или пятый день Бретаню принесли долгожданный ответ Верлена.
Поэт извинялся за то, что задержался с ответом на два письма, пришедших одно за другим. На это у него были причины. Он только что вернулся в Париж после отпуска, проведенного в деревне, и не успел подготовиться к достойной встрече поэта, чьи стихи его пленили.
Верлен ничего не написал о том, что его друзья — Леон Валад, Шарль Кро, Филипп Бюрти, Альбер Мера, Эрнест д’Эрвильи и другие — испытали весьма противоречивые чувства, прочтя стихи Рембо: одни отвращение, другие симпатию, третьи тревогу.
Стоит также обратить внимание на короткую фразу Верлена: «Во мне как будто остался след от Вашей ликантропии». Эта фраза важна, поскольку она проливает свет на продолжение всей этой истории. Ликантропия, согласно Жоржу Заэ, это «прежде всего бунт неприспособленного человека против общества, которое он считает недостойным и которое осыпает всяческими проклятиями»17. Литтре, со своей стороны, дает ликантропии такое определение: «Тип психического заболевания, при котором больной воображает, будто он превратился в волка». Верлен поставил абсолютно правильный диагноз, но он не скрывал при этом своей симпатии к ликантропам, или, говоря иначе, молодым волкам, пораженным этой болезнью. Еще не будучи знаком с Рембо, Верлен уже был его сообщником.
Итак, пока наш арденнский оборотень не находил себе места от радости и нетерпения, Якоби, судя по всему, добился разрешения возобновить выпуск своего «Арденнского прогресса». В самом деле, Жюль Муке обнаружил в «Северо-Востоке» от 16 сентября 1871 года статью за подписью некоего Жана Марселя; это была перепечатка из «Арденнского прогресса». Статья написана в воинственной манере, свойственной Артюру Рембо. Она представляет собой шутовской комментарий к современной политической ситуации и называется «Письмо барона Козопуха своему секретарю в замок Моей Святой Славы»[73]. Политическая ситуация на 7 и 8 сентября 1871 года сводилась к следующему: с одной стороны — приговор к заключению в крепость инженера Жоржа Кавалье (по прозвищу «Деревянная трубка») за то, что он передал исполнительному комитету Коммуны план парижских водостоков, и, с другой стороны, отклонение предложения барона Равинеля перевести правительство из Парижа в Версаль. Эти отнюдь не смешные события вдохновили крылатое перо Артюра на резвый и озорной комментарий:
Версаль, 9 сентября 1871 г.
Франция спасена, мой дорогой Анатоль, и Вы, конечно, правы, говоря, что в этом есть и моя большая заслуга.
(…)
Мы реорганизовали армию, провели бомбардировку Парижа, подавили восстание, расстреляли повстанцев, вынесли приговор их командирам, установили учредительную власть, одурачили Республику, подготовили монархистское правительство и приняли несколько законов, которые рано или поздно все равно переделаем.
(…)
Вы видели, как они надели наручники на Деревянную трубку? Мы выиграли матч-реванш, господа Коммунары!
В этой статье перед нами предстает совершенно другой, искрящийся весельем Рембо. Ответ Верлена преобразил его. Какой поразительный контраст с тем отчаянием, которым дышит его последнее письмо к Полю Демени!
Пришло второе письмо Верлена, также полное восхищения: «Вы прекрасно вооружены». На этот раз все было в порядке, все было готово: «Приезжайте, душа моя, вас зовут, вас ждут».
К письму прилагался денежный перевод на дорожные расходы (благотворительность парнасцев). «Свершилось». Каникулы продолжались, диктатуре мамаши Рембо пришел конец, ворота парнасского рая распахнулись, как по волшебству.
Но смутная тревога омрачала триумф Артюра, та же тревога, которая прервала полет его знаменитого «Пьяного корабля»:
Рембо предстояло вступить в мир художников и образованных людей, и тут его будто разбил паралич: сможет ли он преодолеть свою крестьянскую угловатость, свою юношескую застенчивость?
«Накануне отъезда, — рассказывает Делаэ, — Артюр захотел в последний раз пройтись по окрестностям Шарлевиля. Стоял сентябрь, солнце нежно ласкало землю своими лучами, дышалось легко, было не жарко и не холодно, все внушало надежду, природа делила с ним радость свободы, которую он заслужил. Мы уселись на опушке леса под названием Фонтан или Фортан, близ Эвиньи.
— Вот, — сказал Рембо, — что я представлю на их суд, когда приеду.
И он прочел мне «Пьяный корабль». Слушая это стихотворение, которое, бесспорно, — жемчужина поэтического искусства, я заранее поздравил с оглушительным успехом, который будет сопровождать его вступление в литературный мир: абсолютно все будут восхищаться им с первой же минуты. Немедленное признание и будущая слава не подлежат сомнению.
Как только Рембо закончил читать, он сник, стал грустным и подавленным.
— Да, конечно! — снова заговорил он. — Ничего подобного я еще не писал, я знаю… И всё-таки… общество образованных людей, художников!., салоны… изысканность!.. Я не знаю, как себя вести, я неловкий, застенчивый, я не умею красиво говорить… О! Конечно, вообще-то я никого не боюсь… но… Ах! Что я там буду делать?»18
И вот настал великий день. Бретань в последний раз пожал ему руку и пожелал удачи, Деверьер вручил внушительную сумму денег. А Делаэ проводил на вокзал.
«Когда я пришел на вокзал, чтобы пожать ему руку на прощанье, он уже довольно долго был там. Рембо внимательно следил за движением стрелок на вокзальных часах. Он показался мне довольно бодрым… Я снова весело сказал ему: «Ты ворвешься туда, как ураган… Ты заткнешь за пояс и Гюго, и Леконта де Лиля!»
И Делаэ принялся осыпать ироничными шуточками «этот городишко», глухую провинцию, Вокзальную площадь с ее пошлыми лужайками. Да Рембо просто повезло, что он уезжает!
Рембо улыбался.
«Просьба пассажирам, направляющимся в Бальзикур, Пуа, Лонуа, Ретель, Реймс и Париж, пройти на посадку!»19
Делаэ последний раз махнул рукой.
Поезд тронулся. Он увозил Рембо навстречу великим приключениям.
Примечания к разделу
1 Эту историю рассказывает в предисловии к «Реликварию» (1891) Рудольф Дарзанс. Кроме этого, ее включил в свой роман «Дина» Самуэль (1883) Фелисьен Шансор. В этой книге факты изложены несколько иначе: Макс (Жиль) застал Сенбера (Рембо) за чисткой собственных ботинок. Он бы его и оставил у себя, но тот был «страшно влюблен в воровство и в одного из наших друзей» (имеется в виду Форен?). Танаваль (неизвестно, кто зашифрован под этим именем), человек огромного роста, хотел его побить, но Рембо-Сенбер ответил ему: «С быками не дерусь!» Что тут основано на реальности, а что нет, неясно.
2 Делаэ указал точное местоположение этого грота в письме к П. Берришону от 22 июня 1897 г. (опубликовано в le Bateau ivre, № 13, сентябрь 1954).
3 Э. Делаэ, Rimbaud (1923). Верлен упоминал об этом в своей статье о Рембо в Людях современной эпохи.
4 Это следует из полицейского рапорта, переданного из Лондона в Париж 26 июня 1873 г. (опубликован Огюстом Мартеном). На обложке досье Рембо из архива бельгийской тайной полиции («Forçats libérés») стоит следующая надпись: «Бывший вольный стрелок». Делаэ и Верлен называли также другие военизированные формирования.
5 Берришон П., la Vie de J.-A. Rimbaud, c. 67.
6 Cm. la Grive, № 61, апрель 1949.
7 См. Rimbaud vivant, № 10 (1976) и 17 (1979).
8 М.-И. Мелера, Résonanses autour de Rimbaud, c. 183.
9 Рембо рассказывал об этом Верлену, и его жена Матильда упоминает об этом в своих «Воспоминаниях».
10 Письмо Верлена к Рембо от 2 апреля 1872 г. и июньское письмо того же года от Рембо к Делаэ.
11 Будучи главным библиотекарем с 1933 по 1945 год, Манкилье предоставил полковнику Годшоту (опубликовано в Arthur Rimbaud ne varietur, том I, с. 255) список книг по оккультным наукам, хранившимся в библиотеке Шарлевиля.
12 Э. Делаэ, Souvenirs familiers.
13 Э. Делаэ, Souvenirs familiers, в Revue d’Ardenne et dArgonne, май-июнь 1908 г.
14 Письмо к Жану Экару было опубликовано Пекенемом в la Grive за июль — декабрь 1963 г. и в Nouvelles littéraires от 26 сентября 1963 г.
15 И в самом деле, Изамбар получил свои ящики с книгами только четыре месяца спустя в Аржентане {Rimbaud tel que je l’ai connu, c. 172).
16 Демени обратился в ясновидческую веру Рембо! В 1873 г. он опубликовал у Лемерра сборник под названием «Видения», первое стихотворение в нем называется «Ясновидцы». Другое его стихотворение напоминает по композиции «Пьяный корабль» Рембо. Отметим, наконец, стихотворения «Видение Офелии» и «Миниатюра», посвященные Верлену.
17 Жорж Заэ, la Formation littéraire de Verlaine, c. 293.
18 «Рембо читал свои стихи, ничего не подчеркивая, но как-то конвульсивно, как будто его трясло в лихорадке. Его нервный детский голос совершенно естественно выражал силу слов. Он говорил, как чувствовал, так, как это к нему пришло, казалось, ему всегда не хватает остроты ощущений». Э. Делаэ, Rimbaud (1906), с.86.
19 Э. Делаэ, Souvenirs familiers, в Revue d’Ardenne et d’Argonne, ноябрь-декабрь 1908 г.
Глава VI
ПАРИЖСКИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ
Когда Поль Верлен получил письмо Рембо, ему шел двадцать восьмой год. Он был женат чуть больше года, и его жена ждала ребенка.
Отец Верлена, родом из бельгийских Арденн, талантливый полководец, скончался шесть лет назад. Мать Поля выросла в деревне в провинции Артуа. Сам поэт провел детство в парижском квартале Батиньолы после отставки отца родители Верлена решили обосноваться в столице. Сначала он ходил в школу, расположенную по соседству, позже перешел в частную школу-интернат, ученики которой ходили на занятия в лицей Бонапарта (Кондорсе). Он никогда не был примерным учеником, относился к занятиям небрежно и невнимательно и лишь поэзией увлекался страстно — уже в четырнадцать лет посылал свои стихи Виктору Гюго. Тем не менее ему все же удалось сдать выпускной экзамен. С огромным трудом получив «удовлетворительно», он поступил на юридический факультет. Однако посещение пивных в Латинском квартале показалось ему куда более приятным времяпрепровождением, нежели изучение права. Поль успел сменить несколько мест работы, прежде чем ему удалось стать экспедитором в парижской мэрии. К двадцати годам он превратился в человека слабохарактерного, чрезмерно эмоционального и болезненно чувствительного. В дружеской, доброжелательной обстановке он словно расцветал и становился чутким и остроумным, но, сталкиваясь с трудностями и разочаровываясь, впадал в неврастеническую депрессию и начинал пить. Воспрянув духом, он становился властным, жестоким, способным на крайности.
Два поэтических сборника Верлена, «Сатурновские стихотворения» (он говорил, что родился под этой несчастливой звездой) и «Галантные празднества», сделали его одним из лидеров «парнасцев». Именно ему выпала честь от имени этой молодой поэтической школы отправиться в Брюссель к Виктору Гюго, который жил там в изгнании, чтобы поздравить его с триумфальным возвращением на сцену спектакля «Эрнани».
Он пережил несчастную любовь. Ему пришлось погасить в себе страстное чувство, ибо предметом обожания была его старшая кузина Элиза, увы, замужняя женщина, мать двоих детей. Следует отметить, что у Верлена были и гомосексуальные наклонности, которые, впрочем, он умело скрывал: во всяком случае, в Париже не было никаких скандалов, связанных с его именем. Незадолго до начала войны он очертя голову ринулся навстречу шумным до неистовства сборищам и праздникам юных литераторов и художников того времени.
В августе 1870 года Поль женился на Матильде Моте, шестнадцатилетней девушке, дочери добропорядочного буржуа; она приходилась сводной сестрой другу Верлена Шарлю де Сиври, музыканту и исполнителю, знаменитому своими выступлениями в кабаре и салонах. Невесте поэт посвятил сборник пламенных стихов под названием «Песнь чистой любви»; если бы не начавшаяся война, сочинение попало бы на прилавки уже в июле 1870 года.
Вначале молодожёны снимали квартиру на набережной Турнель, но трагические события того грозного времени заставили супругов от нее отказаться. Дело в том, что после поражения Коммуны Верлен постоянно ожидал ареста за свою работу в городском муниципалитете во время восстания. Он не уволился скорее из патриотических соображений (ведь он родился в Меце!), нежели по политическим или социальным мотивам. Так как летом 1871 года репрессии ужесточились — а его супруга была в положении, — Верлен отправился к родственникам жены в деревеньку вблизи Арраса, надеясь, что так скорее забудут о его существовании. В начале сентября он вернулся в Париж и нанес визит своему издателю, который и вручил ему двойное письмо от Рембо и Бретаня.
В это время юных супругов приютили у себя родители Матильды. Они жили в трехэтажном особняке на склоне Монмартра, на улице Николе. Седобородый тесть Верлена, Теодор Жан Моте — именовавший сам себя Моте де Флервиль, — был довольно богатым рантье, но время от времени он исполнял обязанности инспектора начальных школ. Скрепя сердце он дал согласие на брак дочери с Верленом (какой-то поэт… кто бы мог подумать?..). Теща Поля, г-жа Моте (в первом браке маркиза де Сиври), занималась музыкой и живописью; по характеру она была женщиной доброй и терпимой. Она сумела смягчить первые конфликты, которые, увы, уже случались и портили картину семейного счастья Поля и Матильды.
Таким образом, можно видеть, что просьба Рембо о гостеприимстве была совершенно некстати. Но Верлен сделал все от него зависящее. Он уговорил г-жу Моте принять в их доме талантливого поэта — по оценке некоторых, более неистового, чем сам Бодлер, — незаслуженно прозябавшего в провинции. Недолго думая, хозяйка предложила разместить Рембо в кладовой для белья, маленькой комнатке на третьем этаже, которую ее сын, Шарль де Сиври, предоставлял в распоряжение своих друзей, когда они в этом нуждались. Но лишь на время; когда г-н Моте вернется с охоты в Нормандии, проблему жилья для юного таланта нужно будет решать заново.
О том, как в один сентябрьский вечер Рембо появился на улице Николе, рассказывалось неоднократно. Известно, что Верлен и его друг Шарль Кро, поэт и изобретатель, приехав встречать Артюра на Восточный вокзал — называвшийся в ту пору Страсбургским, — не узнали юного поэта. Они ожидали увидеть высокого молодого человека двадцати пяти — тридцати лет с мрачным и лихорадочно мятущимся взглядом. Не найдя никого, кто был бы похож на этот портрет, они вернулись ни с чем на улицу Николе.
Когда они вошли в дом, Рембо сидел на краю стула в небольшой гостиной эпохи Луи Филиппа на первом этаже, в обществе дам — г-жи Моте и Матильды, которые уже заждались возвращения Поля, ибо гость оказался, что называется, не слишком разговорчивым. Артюр был поражен. Как? Великий Ясновидец Поль Верлен окружен какими-то никчемными людишками, какими-то женщинами? В это было невозможно поверить!
Вначале гость с досадой в голосе односложно отвечал на многочисленные вопросы о своей семье, матери, сестрах, друзьях, об учебе в коллеже, о том, бывал ли прежде в Париже, и т. д., одним словом, участвовал в обычной светской беседе. Дамы довольно скоро утомились, и разговор грозил окончательно зайти в тупик, когда в гостиную размеренной походкой вошел Верлен — лысеющий, с коротко стриженной бородкой, — а за ним широкоплечий, с довольно грубыми чертами лица Шарль Кро. Они пришли на помощь дамам и сами стали задавать вопросы.
Рембо чувствовал, что к нему приглядываются, пытаясь понять, кто он такой, и, вынося свое суждение, не ведают жалости. Само собой разумеется, все сочли его деревенщиной. В самом деле, что он забыл здесь, в этой нелепой гостиной?
«Это был, — писала Матильда в «Воспоминаниях», — высокий крепкий краснолицый крестьянский парень. Он походил на школьника-переростка: из-под его куцых штанов были видны связанные мамой трикотажные голубые носочки. Волосы всклокочены, галстук болтается, как веревка, да и одет небрежно. Довольно красивые голубые глаза смотрели недоверчиво, но мы из снисходительности посчитали это проявлением застенчивости».
Рембо говорил с небольшим арденнским акцентом, какой бывает у жителей долины Мааса — тягучим, немного похожим на валлонский, — но вскоре он от него избавился1.
Верлен был, в свою очередь, ошарашен встречей с застенчивым подростком с ангельскими чертами лица, но стальным взглядом. Как такие мрачные стихотворения, как «Приседания» или «Первое Причастие», могли родиться в этой милой головке?
История сохранила для нас лишь одну реплику гостя во время той встречи. Когда кто-то приласкал большую домашнюю собаку — этакого квартирного льва, по словам Делаэ — по кличке Гастино — в честь Бенджамена Гастино, довольно известного революционного деятеля, — Рембо произнес:
— Собаки настоящие либералы.
Этим он наверняка хотел сказать, что либералы всегда готовы «служить» за кусочек сахара.
Пробило семь часов, время ужина. Гость притронулся лишь к супу и так и не оттаял; сославшись на усталость, он рано удалился в свою комнату.
Разочарование сжимало Артюру горло. Он, мечтавший своей поэзией перевернуть мир, и представить себе не мог, что попадет в такую до отвращения антипоэтическую среду мелких обывателей. Битва и не начиналась, а он уже попал в плен врага.
Нет, он не сдастся, он не спасует перед светскими условностями. Эти бабенки еще узнают, что такое негодяйствование, непременный атрибут Ясновидения. Из дома стали исчезать вещи, в том числе пропало распятие из слоновой кости и охотничий нож г-на Моте. «Речь идет о том, чтобы сделать свою душу уродливой», — писал Рембо Полю Демени. Прощайте, предрассудки, вежливость, чистоплотность и приличия. Артюр вел себя как свинья, чем привел хозяев в полное замешательство. Он не здоровался и не прощался, не мылся и не причесывался, абсолютно не следил за своей одеждой; едва на небе выглядывало солнце, он во весь рост вытягивался на крыльце. Верлен, не вдаваясь в подробности, так отзывается о некоторых его выходках: «Боюсь, что в этих проделках проглядывали какая-то мрачная озлобленность и издевательская усмешка»2.
Г-жа Моте предупредила зятя, что все это весьма прискорбно и что юного поэта, конечно, никто не гонит, но ему нужно как можно скорее найти другое жилье, ибо г-н Моте, который должен был вот-вот вернуться, уж точно не потерпит подобной оригинальности.
В первые дни Верлен показывал своему юному другу Париж: сначала Монмартр, затем Латинский квартал и тамошние пивные. Но такого рода прогулки не интересовали Рембо; таким же безразличным он останется и к Лувру, который покажет ему вскоре Форен: последний ходил туда копировать картины, это его вдохновляло! Рембо же смотрел не на картины, а в окно.
Одержимый навязчивой идеей своей миссии, Артюр с неистовством фанатика спешил обратить Верлена в ясновидческую веру. Он считал это своей наипервейшей обязанностью, все остальное было не в счет. Конечно, он понимал, что добиться обращения будет нелегко, но это лишь укрепляло его решимость. Он, как истый мученик, дойдет до конца; мысль о провале его даже не посещала; на кону была жизнь; либо он победит, либо погибнет.
Начнем со всеобщего разрушения и в первую очередь уничтожим Парнас, эту развалину… Никаких больше правил, ограничений, ибо лишь Ясновидец может — и должен — придумать универсальный язык, способный выражать все чувства и мысли. Ничто не должно мешать и противиться этому обновлению: чтобы распустились цветы будущего, нужно не только выровнять почву, но и вскопать ее как можно глубже, выкорчевать старые гнилые пни — Государство, Семью, Культуру, культ денег — и возвести на земной престол братство и науку. Коммунары пошли по правильному пути, но слишком рано остановились; надо было, чтобы участь дворца Тюильри постигла и остальные «груды камней»: и наполеоновские триумфальные арки, и собор Парижской Богоматери, и Национальную Библиотеку, и Лувр, чтобы грядущие поколения знали, что Поэзия — это прежде всего действие.
Да уж, Верлену пришлось выслушать настоящую лекцию о ликантропии!
Этот новоявленный апостол с новым же «евангелием» напоминал Полю другого оборотня, которым он сам когда-то интересовался, — Петрюса Бореля, автора «Аморальных сказок ликантропа»3. Сначала это забавляло Верлена, потом заинтересовало и покорило (в душе Поль был и оставался коммунаром). Он признавал правоту этого юнца, ведь тот стремился лишь к одному — вернуть Поэзии причитающееся ей первенство, ибо ей одной ведомо средство очищения и духовного возрождения мира. Безусловно, были и некоторые крайности в теории Ясновидца, но они, как подростковые прыщи, со временем исчезнут. Истинной сущностью Поэзии — единственно важной вещи в его глазах — оставались чувства и музыка. И это не противоречило стремлению к поискам неведомого. К тому же на этот путь уже ступил когда-то Бодлер.
Парнасцы каждый месяц собирались на своего рода цеховой ужин; событие называлось «ужин Озорных, или Злых чудаков» (оскорбительное прозвище парнасцев). Во время этой встречи в веселой и дружелюбной атмосфере читались вслух стихи. Война нарушила эту милую традицию, и она возродилась как раз в сентябре 1871 года: это должна была быть важная встреча, потому что события разбросали всех по разным городам, некоторые не виделись уже целый год. Каким радостным было торжественное возвращение!
Это был памятный вечер, приправленный сюрпризом: молодой человек, сидевший рядом с Верленом и которого последний представил как многообещающего поэта, за десертом встал и слегка срывающимся голосом прочитал свой «Пьяный корабль». Гости оцепенели от восхищения и изумления.
Эмиля Блемона на ужине не было. Какой счастливый случай! По этой причине Леону Валаду пришлось написать ему письмо, в котором он описал «по горячим следам» события того вечера, и письмо это дошло до нас. Датировано оно 5 октября 1871 года:
…..Вы много потеряли, не побывав на ужине Злых чудаков. Там нам был представлен исключительно сильный поэт по имени Артюр Рембо. Его покровителями выступали Верлен — как первооткрыватель юного таланта — и я — в роли его Иоанна Крестителя с левого берега Сены. Большие руки, большие ноги, совершенно детское лицо, более подходящее 13-летнему ребенку, синие глаза, в которых боишься утонуть; скорее нелюдимый, нежели застенчивый — таков этот парень, воображение которого, сильное и невероятно извращенное, очаровало и повергло в трепет наших друзей.
«Да ему проповеди читать!» — воскликнул Сури. Д’Эрви-льи сказал: «Это Христос среди отцов церкви». «Да это сам Дьявол!» — заявил мне Мэтр; в результате я пришел к новой и лучшей формулировке: «Дьявол среди отцов церкви». Я почти ничего не могу Вам сказать о биографии нашего поэта. Известно лишь то, что он приехал из Шарлевиля с твердым намерением никогда больше туда не возвращаться и никогда не видеться с семьей.
Приезжайте, Вы услышите его стихи и оцените их сами. Если только не какой-нибудь неприятный сюрприз (а у судьбы их много припасено!), то из него вырастет настоящий гений. Таково мое трезвое суждение; вот уже три недели, как я его вынес, и с тех пор ни минуты не сомневался в его истинности»4.
Но все же воодушевление автора письма было именно минутной вспышкой. Больше никогда Валад не упомянет Рембо, хотя тот вручил ему автограф своей «Вечерней молитвы» (обнаружен в его бумагах). Что касается Эмиля Блемона, которому Артюр подарил авторскую копию «Гласных», то он и вовсе никогда не разделит увлечение своего друга. Мы еще увидим, как Блемон, став в апреле 1872 года редактором литературного журнала, отказался печатать Рембо.
Верлен говорит горькую правду: «Когда Рембо вернулся в Париж год с лишним спустя, он не был популярен, поверьте. Великие Парнасцы (Коппе, Мендес, Эредиа) приняли новое явление плохо или не приняли вовсе. Никто, кроме Валада, Мера, Шарля Кро и меня — независимых Парнасцев, — не оказал Рембо радушного приема»5. И еще: «На этот раз он привел в восторг Кро, очаровал Кабанера, смутил и восхитил еще многих, вызвал ужас у изрядного числа дураков и по слухам даже доставил много неприятностей некоторым семействам, которые, впрочем, как утверждают, уже успокоились»[76].
Причиной успеха Артюра были любопытство и удивление, и поэтому успех его был недолговечен. Все ожидали поэта, а увидели фантазера, страдающего галлюцинациями. Общественное признание ушло, и о Рембо стали говорить как о не слишком любезном сумасшедшем, который составил себе ложное и нездоровое представление о том, что такое поэзия.
Наиболее снисходительные видели в нем несостоявшегося гения, падающую звезду, которая светит ярко, но недолго, и вскоре рассыпается в пыль. Поэзия парнасцев была основательной, невозмутимой и мраморно холодной; слушая бред этого новичка, мэтры лишь пожимали плечами, и скоро к ним присоединились даже недавние сторонники Рембо: Валад, Кро и другие. Лишь Верлен, несмотря ни на что, продолжал покровительствовать Рембо и уже собирал стихи юного поэта для последующего их издания. В его бумагах, помимо стихотворений, присланных Артюром из Шарлевиля, было обнаружено множество копий других стихов, в том числе «Пьяного корабля»6.
Рембо недолго пробыл звездой Латинского квартала, но, пока он ею оставался, ему приходилось подчиняться законам славы. Его представили мэтрам и сводили к фотографу.
Нужно было быть Теодором де Банвилем, чтобы с улыбкой встретить дерзкого автора стихотворения «Что говорят поэту о цветах». Леон Валад говорил одному из своих друзей:
«Этот малыш Рембо удивителен! Он заявил Банвилю, что пришло время уничтожить александрийский стих! Вы можете представить себе наше изумление, когда мы узнали об этой идее; но за ней последовало изложение теоретических принципов юного поэта. Мы внимательно слушали, пораженные зрелостью его суждений, так плохо вязавшейся с его юностью»7.
Это подтвердил и Банвиль, вспоминавший, как в один прекрасный день «г-н Артюр Рембо поинтересовался у меня, не нужно ли будет вскоре упразднить александрийский стих».
Делаэ добавляет: «Верлен рассказал мне, что когда Рембо прочитал свое стихотворение («Пьяный корабль») Банвилю, тот отметил, что было бы неплохо сказать вначале: «Я — тот корабль, который…» и т. д. Юный дикарь ничего не ответил, но, уходя, пожал плечами и пробормотал: «Старый осел!»8
По слухам, Рембо был представлен и Виктору Гюго, который принял его следующими словами: «Это Шекспир-дитя!»; но Верлен не упоминает ни об этой встрече, ни о разговоре. Рудольф Дарзанс, которому принадлежит первая версия рассказа об этом событии, не ручается за ее достоверность: «По крайней мере, так говорят». Гораздо вероятнее, что высказывание Гюго относилось к поэту и актеру Альберу Глатиньи. Это определение куда лучше подходило ему, нежели Рембо, у которого, если не считать его стихотворения об Офелии, нет ничего общего с великим Вильямом9.
Артюр также не встречался ни с Теофилем Готье, ни с Леконтом де Лилем — по правде говоря, он был принят лишь в узком кругу парнасцев из Латинского квартала. Единственное исключение: однажды он, по всей видимости, провел целый вечер в кафе в обществе Жюля Клареси, очень уважаемого критика. Делаэ, которому мы обязаны этим свидетельством, указывает, что Клареси назвал Рембо «славным малым»10, что в его устах было исключительной похвалой.
Наш герой снова встретился со старыми знакомцами: карикатуристом Андре Жилем (его карандашу принадлежит набросок, изображающий Артюра на носу его пьяного корабля11) и Жаном-Луи Фореном, по-прежнему бедным и страстно влюбленным в искусство. Последний зарабатывал на жизнь тем, что придумывал рисунки для рекламы или раскрашивал веера.
Затем Рембо отвели к фотографу. Одним из специалистов по работе со знаменитостями был в то время Этьен Карпа, совмещавший занятия фотографией с занятиями поэзией. Его мастерская находилась в глубине двора дома 10 по улице Нотр-Дам-де-Лорет. Рембо на фотографии просто замечателен: у него вызывающий и одновременно смиренный вид, проницательный взор Ясновидца устремлен вдаль, «и чувствуется, что все в нем презирает заботу о внешности и отдает предпочтение буквально дьявольской красоте естественности» (Верлен).
10 октября из Нормандии вернулся г-н Моте. Верлен собрал нескольких своих друзей и предложил им оказывать Рембо «гостеприимство по кругу», чтобы каждый по очереди брал на себя заботу о нем. Но Артюр не оценил этого великодушного шага. Не то чтобы он привязался к обывателям с улицы Николе; разлука с Верленом — вот что было для него невыносимо. Нужно было постоянно держать Поля рядом с собой, чтобы помочь ему освободиться от рутины, в которой он погряз. В действительности Рембо сразу понял его слабость, недопустимый недостаток для Ясновидца, который должен обладать сверхчеловеческим мужеством. Плыть против течения тяжело, это требует постоянного напряжения; но он приложит все усилия, потому что это его долг. А пока не все ли равно, где жить, у одного идиота или у другого…
Шарль Кро первым приютил Рембо у себя. Мастерская, в которой он занимался изготовлением искусственных драгоценных камней, располагалась в старом особняке на улице Сегье, узеньком проезде в квартале Сен-Мишель. У него уже жил юный художник Пенуте по прозвищу Мишель де Лэй. Теодор де Банвиль поручил своей жене заботу о том, чтобы Артюру принесли складную кровать, несколько простыней и одеял, а также туалетный столик. Эта услужливость лишь усилила злость Рембо: его ставили на одну доску с теми, кто живет подаянием! Эти доброжелатели наверняка ожидали благодарности и почтительных поклонов. Было нестерпимо, что его жизнь зависит от их добрых намерений. Да, в гроте Ромри, по крайней мере, он был бы свободен и никому ничего не должен!
Этот ужас перед зависимостью уживался в нем с абсолютно противоположной склонностью, о которой он говорил в письме Изамбару от 13 мая: «Я цинично позволяю тем, кто этого хочет, содержать и развлекать меня». Если он встречал добрую душу, готовую развлечь или одеть его, он предоставлял ей это право. Рудольф Дарзанс, который 20 лет спустя исследовал этот период жизни Рембо, приводит некоторые подробности: «Анри Мерсье12, учредитель прекрасного журнала «Новый мир» (увы, вышло лишь три номера), встретил Рембо у Антуана Кро, когда тот жил у своего брата Шарля. Ему представили Артюра, но весь вечер юный поэт просидел в углу с мрачным видом, ни с кем не общаясь. Через несколько дней Рембо пришел к Мерсье на улицу Россини с парой статей для «Фигаро», в том числе он принес «Белые ночи» и «Трибуну ура-патриотов»[77]. Но он был слишком бедно одет для того, чтобы предстать перед главным редактором такой газеты, как «Фигаро». Мерсье, будучи человеком небедным, предложил отвести Артюра к портному и дал ему немного денег. Рембо сразу же отправился на торговую площадь Темпль и купил синий костюм с бархатным воротничком. Артюр был тогда высоким худым мальчиком, у него были неуклюжие большие руки с толстыми красными пальцами, как у крестьянина. В тот же вечер состоялась премьера «Ящика Пандоры» в постановке Теодора Барьера в «Фоли драматик»13.
Во время антракта Артюр Рембо купил белую глиняную трубку, и Мерсье видел, как он тайком подкрался к одному экипажу и стал вдувать дым в ноздри несчастной лошади, находя в этом удовольствие.
«Быть жестоким действительно доставляло ему удовольствие. Впрочем, кажется, он был жестоким не только из позерства, несмотря на то, что частенько заявлял: «Надо обязательно убить Кабанера». Он в самом деле был злой человек» (предисловие к «Реликварию»).
В это время истек срок заключения в лагере Сатори Шарля де Сиври, шурина Верлена, сына г-жи Моте от первого брака; Шарль попал туда в результате каких-то политических коллизий. Верлен его очень любил и хотел непременно познакомить с Рембо. Он пригласил Артюра на маленький праздник на улице Николе в честь освобождения узника. Но на пылкого и непосредственного де Сиври Рембо произвел не слишком хорошее впечатление, потому что в тот вечер юный поэт делал все, чтобы выставить себя в неприглядном свете. И потом, ведь там был г-н Моте со своей вечной тюбетейкой на голове, со своими строгими раскосыми глазами; у Артюра не было никакого настроения расстараться для него и выглядеть, как подобает. Хорошенького тестя откопал себе Верлен!
Вскоре, а именно 28 октября, Матильда родила мальчика; его назвали Жоржем. «В тот день, — пишет она в «Воспоминаниях», — Верлен ушел из дома утром и вернулся лишь в полночь; казалось, он был рад рождению сына, поцеловал его и меня и отправился спать к себе в соседнюю комнату».
Можно догадаться, что рождение маленького Жоржа умножило беспокойство Рембо, потому что ребенок был еще одной ниточкой, связывавшей Верлена с семьей. Эту ниточку непременно нужно будет порвать, ибо Ясновидец должен быть свободен.
Этим неприятности не исчерпывались. К многочисленным препятствиям на пути к свободе ежедневно прибавлялись новые разочарования и уныние. Еще недавно он верил в миф о Париже, столице Свободы, Поэзии и Революции, «священном городе Запада»! Какой подлый обман, какой фарс! Делаэ он скажет, что Париж — симпатичный провинциальный городок. Он, видевший в Поэзии религиозное опьянение, а в Парнасе — жилище богов, «похитителей огня», оказался среди рифмоплетов уровня какого-нибудь богом забытого местечка, среди служащих министерств и ведомств, которые возятся с Музой подобно тому, как обитатели парижских предместий возятся со своими садиками по воскресеньям! Этот знаменитый «Современный Парнас», при одном упоминании о котором его сердце учащенно билось, оказался сборищем бородатых обывателей, которые дали бы сто очков вперед самим обывателям из Шарлевиля! Вот каким был Олимп, на котором он выпросил себе местечко! Какие бездарности, какие посредственности!.. А если он открывал рот, чтобы опровергнуть общепринятое, его тут же одергивали:
— Молчи, сопляк!
Он озлобленно уходил в себя, плевал на пол, хмурился. Вскоре, презираемый всеми, он достиг того, что Берришон назвал «блаженством уничижения».
Он недолго жил у Шарля Кро. Гюстав Кан утверждает, что Рембо указали на дверь после того, как он разорвал подшивку журнала «Художник» «в гигиенических целях». Правда ли это? По крайней мере, вполне правдоподобно. Как бы то ни было, Артюр исчез. Верлен узнал об этом не сразу, потому что с момента рождения сына большую часть времени проводил дома. Ставшая нервной и ревнивой Матильда беспрестанно осыпала мужа упреками: с чего это он так привязался к Рембо, о существовании которого несколько месяцев назад вообще не знал; почему проводит с ним целые дни, шатаясь по пивным; потому, что этот мальчик просто мил?!..
Никто не видел Рембо три или четыре дня. Верлен не находил себе места: кто, как не он, был в этом виноват? Он не выполнил свой долг до конца, он должен был лично заботиться об Артюре, а не поручать его другим; выходит, он бросил его одного в этих литературных джунглях!
Тогда Поль собрал друзей, чтобы обсудить с ними, как создать Рембо приличные условия существования и найти ему работу; ведь юный поэт, скорее всего, домой не вернулся: он часто повторял, что никогда этого не сделает!
Они методично обследовали Латинский квартал и его окрестности. Рембо нигде не было.
Через некоторое время Верлен встретил Артюра недалеко от площади Мобер. Тот, грязный, бледный, обовшивевший, нищий, голодный и холодный, почти отчаялся, но по-прежнему был полон решимости и не хотел сдаваться; «приходится много страдать, — писал он Изамбару, — но нужно быть сильным, нужно родиться поэтом». Он жил в ночлежках с бродягами и вместе с ними рылся в помойках.
Они договорились о двух вещах. Верлен, не откладывая дела в долгий ящик, попросит Банвиля — доброта его беспредельна — отвести для Рембо отдельную комнату в его доме, а потом организует сбор пожертвований для Артюра среди писателей Латинского квартала, чтобы он мог хотя бы не умереть с голоду. Сохранилось письмо Шарля Кро к драматургу Гюставу Праделю от 6 ноября 1871 года, в котором Кро просит адресата присоединиться к этому мероприятию в пользу «воспитанника Муз», как это уже сделали Камиль Пеллетан, Эмиль Блемон и он сам.
Мэтр принял Рембо у себя по-отечески великодушно. Г-жа де Банвиль, не отставая в любезности от мужа, предложила разместить Артюра в комнате прислуги в их квартире на улице Бюси. Она сама занялась обустройством жилья: подмела, повесила симпатичные шторки из кретона, принесла новые постельные принадлежности. Скоро комнатка стала выглядеть совсем неплохо. Конечно, речь шла лишь о временном пристанище. У Верлена уже были другие соображения на этот счет. Требовалось всего несколько дней.
Артюр, наверняка недовольный тем, что ему приходится подниматься в свою комнату по черной лестнице, еще больше озлобился. Как только он вошел к себе, он разделся, потому что его сорочка кишела вшами, и соседи, увидев его в окне голым, пришли в возмущение. Это незначительное происшествие раздули в чудовищный скандал. Когда позже Рудольф Дарзанс расспрашивал об этих событиях обитателей Латинского квартала, ему рассказали следующее:
«В первый же вечер Рембо улегся спать на простынях в одежде, с грязными ногами. На следующий день он с удовольствием расколотил весь фарфор, а также кувшин для воды, раковину и ночной горшок. Несколько дней спустя, когда ему понадобились деньги, он продал мебель» (предисловие к «Реликварию»). Все это мало похоже на правду. Более правдоподобной кажется другая версия: Банвиль, в тот же вечер оповещенный о безнравственном поведении своего жильца, пригласил его к себе, и тот объяснил ему, что после проведенных как придется ночей его сорочка была полна вшей, и ему просто необходимо было снять ее. Добрый мэтр, растроганный рассказом о таких ужасах, приказал принести чистое белье и радушно пригласил его на ужин.
Думается, Рембо прожил на улице Бюси не больше недели.
В конце октября по инициативе Шарля Кро был основан клуб, так называемый Зютический[78] кружок, заседания которого происходили в гостинице Этранже; она сохранилась и по сей день в квартале Сен-Мишель на пересечении улиц Расина и Медицинского факультета. Здесь, в одной из комнат на четвертом этаже, окна которой выходили на бульвар, «Озорные чудаки» могли сколько угодно курить, пить, читать, кричать, декламировать стихи и даже бренчать на пианино.
Барменом там был Эрнест Кабанер (настоящее имя Франсуа Матт), богемный музыкант, приехавший из своего родного Руссийона в Париж примерно в 1850 году. С тех пор он не покидал столицу. Он был дружен с Сезанном и другими художниками. Хрупкий, переменчивый, стеснительный, заикающийся, он стал живой легендой. Верлен описал его одной фразой: «Иисус Христос после трех лет непрерывного употребления абсента». Его наивные и чудные словечки передавали из уст в уста: во время осады Парижа он спрашивал, по-прежнему ли город осаждают пруссаки и не пришли ли на их место другие племена. Другая его фраза: «Я знаю, как играть тихую музыку; дайте мне три военных оркестра, и я покажу вам». Когда он получил наследство от одного родственника, он раздал половину денег бедным, а себе купил огромную вешалку, шарманку и гипсовую копию Венеры Милосской в натуральную величину. Говорят, он коллекционировал ботинки и сажал в них цветы. Самый безобидный, самый кроткий, самый скромный из людей, он подрабатывал, играя на танцах, и писал стихи на случай.
Верлен задумал сделать Рембо помощником Кабанера в баре Зютического кружка. Это занятие обеспечило бы ему место для ночлега и деньги на жизнь. К тому же Кабанер с его ангельским терпением был идеальным товарищем для Артюра с его бешеным и недоверчивым характером (шутка Рембо, приведенная выше — «Надо обязательно убить Кабанера», — была выражением симпатии, которую он питал к Эрнесту). Наконец, это была еще одна возможность ввести Артюра в круг поэтов и художников, которые воспринимали его как сумасшедшего и шарахались от него.
Сохранился «бортовой журнал» кружка, «Зютический альбом», фронтиспис которого украшен фантастическим рисунком Антуана Кро14. Он содержит около сотни произведений, пародий и фантазий, а также ряд фривольных рисунков. Чаще всего в роли авторов выступают Леон Валад, Шарль Кро и Рембо (примерно по 20 произведений), а также Верлен (14 произведений), Жермен Нуво, Рауль Поншон и другие. В «Альбоме» фигурируют четыре даты: 22 октября, 1, 6 и 9 ноября 1871 года. Сонет, помещенный в начале книги и названный «Разговор между членами Кружка», рисует нам шумную атмосферу этих собраний.
Немало стихов посвящено Кабанеру, постоянной мишени для насмешек завсегдатаев.
Одним из самых любопытных произведений является песенка, посвященная Рембо и подписанная Э. К. (Эрнест Кабанер).
По-видимому, круглый детский почерк — это действительно почерк Кабанера, но можно предположить, что текст создавался совместно несколькими «зютистами». Припев этой песенки эхом повторяет слова самого Рембо, который, когда его спрашивали, почему он так упорно хочет остаться в Париже, отвечал:
— Я буду ждать и ждать!
Он ждал, чтобы его приняли всерьез, чтобы признали истинную власть Поэзии, а самое главное — чтобы товарищ по Ясновидению, которого он себе выбрал, осмелился наконец разорвать свои путы. Он ждал «настоящей жизни». У него хватит терпения, пусть даже ему придется ждать вечно. В мае, все еще находясь в Париже, он написал цикл из нескольких стихотворений под названием «Празднества терпения», одно из них как раз называлось «Терпение одного лета»[82]. Пока что это было «Терпение одной зимы».
Знаменитый сонет «Гласные», написанный Артюром в Париже, навеян уроками игры на фортепиано, которые Кабанер давал Рембо в гостинице Этранже. Безусловно, Кабанер не изобрел ничего нового; хроматическая музыка или цветной слух были известны давно. Уже в XVII веке монах Кастель придумал для начинающих «окулярный клавесин», клавиши которого были выкрашены в цвета нот. Кабанер, как и Кастель, окрашивал ноты и вдобавок с каждой соотносил гласный звук. Следуя именно этому методу, Рембо прошел начальный курс игры на фортепиано. В романе с ключом Фелисьена Шансора «Дина Самюэль» под именем Рапене скрывается Кабанер; он объясняет Ришару де Буаэву (Вилье де Лиль-Адану): «Существует связь между гаммой звуков и цветовой гаммой. После долгих исследований я пришел к выводу, что белый цвет соответствует ноте до, синий — ре, розовый — ми, черный — фа, зеленый — соль. Если открыть эту связь между цветами и звуками, то пейзажи и портреты можно будет перевести на язык музыки, и тона в них будут заменены нотами, а полутона — диезами и бемолями».
Можно представить, как Рембо учит урок:
— Фа черная, до белая, ми розовая, ре синяя, соль зеленая.
Небольшое преобразование («А[83] черная») плюс вдохновение гения и вот вам сонет «Гласные». Эта гипотеза намного лучше гипотезы о цветном букваре. В самом деле, разве помнил Рембо в 1871 году о том, каким он был и что учил десять лет назад! Что его действительно интересовало в то время, так это изобретение совершенного и универсального языка — так, например, он писал Полю Демени 15 мая 1871 года: «Это язык для общения душ, в нем выразится всё: запахи, звуки, цвета, одна мысль будет подхватывать другую». Запахи, звуки, цвета. Если бы Кабанер предложил Рембо хроматическую и благоухающую трактовку музыки, эта мысль непременно завладела бы им. К тому же преподаватель, в знак уважения к своему ученику, посвятил ему свой «Сонет семи чисел», где нотам сопоставлены цвета, а заодно и гласные звуки. Автограф стихотворения украшен картинками, а ноты изображены на нотном стане15.
Таким образом все, кто толкует «Гласные» в свете метафизики, психоанализа и сексуальности, попадают впросак. Рембо не обращал никакого внимания на эти бредни, его интересовало лишь одно: расширить словарный запас, найти универсальный язык — одним словом, его увлекала алхимия слова.
В то время как Рембо священнодействовал в Зютическом кружке, Эрнест Делаэ впервые приехал в Париж и решил повидаться с другом детства; он был уверен, что найдет Артюра на улице Николе, в доме Верлена. Делаэ чувствовал себя не в своей тарелке, когда служанка ввела его в большую гостиную второго этажа. Из замешательства его вывело появление хозяина, который протянул ему руку и радушно приветствовал:
— Здравствуйте, дорогой друг!
Делаэ тщетно попытался выдавить из себя тщательно подготовленную и выученйую наизусть фразу: «Прошу прощения за то, что позволил себе, не имея чести быть знакомым с г-ном Верленом, прийти в дом последнего, надеясь узнать что-нибудь о моем друге Артюре Рембо, который… которого…», но Поль прервал его:
— Рембо?.. Отлично!.. Где его носит? Черт!.. Да везде понемногу, я бы даже сказал, что нигде… Я знаю, где его найти сегодня: не пойти ли нам к нему вместе?.. Вы согласны?..
Они вышли из дома, и их первой остановкой было кафе «Дельта». Потягивая горький Кюрасао, Верлен в продолжение беседы расхваливал достоинства «избранного из смертных», то есть Рембо, упрекая его лишь в том, что у него нет подружки: «Она бы вылечила Артюра от его приступов межреберной невралгии».
И хотя это явно было сказано в шутку, Делаэ слушал Верлена с вытаращенными глазами. Но это было только начало.
На втором этаже запряженного лошадьми омнибуса они доехали до гостиницы Этранже на бульваре Сен-Мишель. Тут Верлен воскликнул:
— А вот и логово нашего тигра!
Войдя в большую прокуренную комнату, приспособленную под бар, заставленную столиками и креслами, Верлен обменялся рукопожатиями с несколькими бородатыми мужчинами. Рембо, дремавший на диванчике, потянулся и встал, состроив недовольную мину. Он так повзрослел, что Делаэ едва узнал его. Растрепанный Артюр был одет в мятое серо-бежевое пальто, которое было ему велико, галстук веревкой болтался у него на шее. По его словам, он только что накурился гашиша, но под его действием видел только белые и черные луны, которые сменяли друг друга. Он пожаловался, что у него болят желудок и голова, и Делаэ вывел его на улицу. Рембо показал другу следы от пуль на крышах нескольких домов и колоннах Пантеона и объяснил, что они появились там недавно, во время майских уличных боев. Артюр был все еще под действием гашиша, и когда Делаэ спросил у него, «как в Париже насчет новых идей», тот лениво ответил:
— Ничтожность, хаос, возможно и даже вероятно все, что угодно.
Оставались еще приверженцы Коммуны, полные решимости бороться не на жизнь, а на смерть. В душе он с ними, говорил Рембо.
Делаэ был совершенно ошеломлен тем, насколько Париж изменил его друга.
— Париж, город-светоч… брехня! Сборище жадных грубиянов, город, кишащий идиотами, которым все мозги вышибли в казармах, столица умственно отсталых!
Потом он рассказал о кружке, о «чудаках», с которыми он общается, о Кабанере, одном из своих лучших друзей.
Делаэ рассказывает, что, прогуливаясь по бульвару Сен-Мишель, они остановились перед «мычащим» «Быком в масле», где была вывешена афиша с патриотической песней: «Кирасиры Рейшоффена».
Война… жаркое лето семидесятого года… вручение премий… безумные мечты… «Современный Парнас»… Как быстро летело время!
Зютический кружок оказался недолговечен: его распустили, по-видимому, из-за опасений его членов вызвать в один прекрасный день интерес у налоговой полиции. Впрочем, если бы кружок сохранился, Рембо, скорее всего, прогнали бы: его розыгрыши и насмешки над Кабанером не могли продолжаться бесконечно16.
Итак, ему надо было искать новое жилье. В который раз верные друзья — Андре Жиль, Шарль Кро, Банвиль, Мишель де Лэй — собрались вместе и решили снять для Артюра меблированную комнату, где бы его никто не трогал. Итак, в период с 15 по 20 ноября Рембо переселился в мансарду под крышей болыпого. особняка на углу бульвара Ан-фер (ныне Распай) и улицы Кампань-Премьер, прямо напротив кладбища Монпарнас. На первом этаже дома располагался магазинчик «Вина и выпечка», принадлежащий некоему Трепье. Покупателями были в основном кучеры омнибусов — омнибусный парк находился как раз по соседству17.
Мансарда была «наполнена грязным дневным светом, повсюду была паутина», потолок — он же крыша дома — имел форму «противного конуса» (Верлен); комнатка освещалась через окошко в этой самой крыше.
Вот что рассказал один из старых ремесленников этого квартала журналистке Мишель Ле Руайе: «Именно здесь я видел Рембо и Верлена. Артюр был еще совсем молоденьким, а в Поле было что-то чистое и демоническое. Они подолгу могли сидеть и пить, не говоря ни слова, а потом уходили рука об руку по улице Кампань-Премьер»18.
Им толком уже не о чем было говорить. Рембо был готов прямо сейчас заняться его освобождением, а удрученный Верлен ограничивался общими словами: да, конечно, он по-прежнему думает о великом начале новой жизни, он освободится от пут, но надо быть благоразумным и еще немного подождать. В то время, в конце ноября, он был между молотом и наковальней: с одной стороны, он был полон решимости не бросать Рембо, а с другой — вынужден был выслушивать насмешки и жалобы Матильды, которая с особой язвительностью— несмотря на все ее попытки оправдаться в «Воспоминаниях» — обвиняла мужа в постыдных чувствах к юному другу. Он лишь пожимал плечами, если был трезв, и бил ее, если был пьян; последнее случалось чаще. Почти каждый вечер в их доме происходили скандалы с побоями — и можно подозревать, что виноват в этом был Рембо. В своей сатанинской жестокости ему ничего не стоило нарочно побуждать Верлена шататься по кабакам, пить с ним до поздней ночи и отпускать его только тогда, когда он был уже совершенно пьян; ведь Артюр знал, что в таком состоянии Поль становится мрачным и опасным.
Тогда Матильда решила предпринять смелый контрудар, который открыл бы ее мужу глаза; если он не внял ее упрекам, то, может быть, молва заставит его образумиться.
В среду, 15 ноября, Верлен и Рембо присутствовали на премьере одноактной пасторали Альбера Глатиньи «Лес» в театре Одеон. Матильда сообщает, что ее муж был одет в мятый пиджак, заляпанные грязью ботинки, а на шее у него красовался один из тех ужасных шейных платков, которые ему так нравились. Что касается Рембо, он был «чудовищно грязен». Она обратилась к журналисту Эдмону Лепеллетье, лицейскому другу Верлена, поделилась с ним своими опасениями и попросила его проучить мужа, поведение которого было совершенно необъяснимым. Она хотела, чтобы Эдмон сделал это во имя дружбы, связывавшей его с Полем.
На следующий день, 16 ноября, за подписью Гастона Валантена (псевдоним Лепеллетье) в газете «Пёпль суверен» появились следующие строки: «Парнас был в полном сборе, все прохаживались и беседовали в фойе под бдительным оком издателя Альфонса Лемерра. То тут, то там можно было заметить светловолосого Катулла Мендеса под руку с Альбером Мера. То тут, то там болтали Леон Валад, Дьеркс и Анри Уссей. Сатурнический поэт Поль Верлен прогуливался под руку с очаровательной мадемуазель Рембо».
Этот язвительный намек, должно быть, вызвал появление на многих лицах понимающих улыбок. На следующий день Эдмон, как настоящий друг, решил, что обязан принести Верлену извинения за эту «милую шутку», но в доме на улице Николе Поля не было. Господин Моте и Шарль де Сиври одобрили поведение Эдмона, когда тот рассказал им, как Верлен и Рембо обнимали друг друга за шею.
Несколькими днями раньше, 14 ноября, Верлен присутствовал на премьере пьесы Франсуа Коппе «Покинутая» в театре Жимназ. Он вернулся пьяным около трех часов ночи, растормошил спавшую жену, сопровождая свои действия выкриками: «Вот оно что, «Покинутая»! Этот успех Коппе просто отвратителен!» За этим последовала трагикомическая сцена: Верлен вздумал взломать шкаф, в котором его тесть хранил охотничьи принадлежности, и Матильде удалось охладить его пыл, только пригрозив ему раскаленными докрасна каминными щипцами. На следующий день она пригласила к себе одну из своих подруг, журналистку, и 18 ноября в «XIX веке» в рубрике «Происшествия» появилась заметка, начинающаяся следующими словами: «Они милы, эти поэтики из «Современного Парнаса». В заметке говорилось о том, что успех пьесы Коппе так разозлил одного из парнасцев, что тот попытался убить свою жену и новорожденного сына. «Если г-н Коппе и впредь будет пользоваться успехом, — говорилось в заключение, — нельзя поручиться за жизнь этих двух созданий».
Но разве Верлена могли смутить или тем более вразумить эти упреки? Нет, они имели обратный результат. Он поступил, как Оскар Уайльд: когда в 1893 году последнего предупредили, что ему опасно общаться с юным Бози, он стал чаще появляться с ним на людях19. Эти истории развивались очень похоже, и обе закончились тюремным заключением.
Между тем Лепеллетье хотел во что бы то ни стало получить прощение за свой недостойный поступок. Он решил пригласить к себе Верлена и Рембо на ужин.
Рембо считал Лепеллетье всего лишь злобным ослом. Этот «старый солдат», этот «бумагомаратель», наверное, думал, что за тарелку супа перед ним начнут лебезить и пресмыкаться.
Вначале Артюр молчал, а потом, опьянев от бургундского, которое щедро подливал Верлен, желая спровоцировать хозяина, выдал на-гора несколько острот и откровенных оскорблений. «Особенно он хотел меня задеть, — пишет Лепеллетье, — обозвав некрофилом, потому что как-то раз он видел, как я снял шляпу при виде похоронной процессии. Так как незадолго до этого умерла моя мать[84], я приказал ему замолчать и так на него глянул, что он подумал что-то не то».
После того как Лепеллетье резко оборвал очередную шутку подобного рода, Рембо схватил столовый нож и поднялся с угрожающим видом. Лепеллетье, сохраняя хладнокровие, заявил ему, что если уж он не испугался пруссаков, то такой сопляк ему тем более не внушает страха. Он посоветовал Артюру попридержать язык, если тот не хочет, чтобы его пинком под зад спустили с лестницы. Тут вмешался Верлен, и с этой минуты Рембо молчал, отгородясь от всех облаком табачного дыма. Верлен декламировал стихи. Понятно, что Лепеллетье уже никогда не испытывал теплых чувств по отношению к Рембо…
Таким образом, можно сказать, что в конце 1871 года время остановилось. Рембо ждал, Верлен тоже ждал. Все это могло длиться еще очень долго. Между тем Верлен был разорен, ибо содержание «питомца Муз» влетало в копеечку; поэтому Поль направился в Бельгию, в Пализель, за своей частью наследства, оставленного одной из его теток, которая умерла в 1869 году.
Матильда пишет в «Воспоминаниях», что накануне отъезда Поль пришел домой в сопровождении Рембо и Форена, объясняя это тем, что им слишком далеко идти пешком до дома. «Он поручил мне заботу о том, чтобы утром им подали хорошего лукового супа. Я заказала этот суп кухарке, но когда она поднялась с ним в спальню, там никого не было».
Во время остановки в Шарлевиле Верлен увиделся с Делаэ и Бретанем в кафе де л’Юнивер, недалеко от вокзала, и там же познакомился с Деверьером20. Затем Поль отправился в Седан, заехал в деревушку Базей, знаменитую находящимся в ней домиком «последних патронов», и послал оттуда весточку Эдмону Мэтру, члену клуба «Озорных чудаков» и большому другу художников той эпохи. В письме Верлен просил Эдмона передать Рембо, что с ним все в порядке, и сообщал, что поручил Валаду написать Артюру.
Получив свою часть наследства, Поль вернулся в Париж как раз к концу этого ужасного года.
Поездка вызвала опасения его жены и матери. Женщины пришли к выводу, что раз ему требуется столько денег, значит, он очень много тратит на своего дружка Рембо. По их мнению, если дела и дальше пойдут так, он будет разорен, и это усилило тревогу и напряжение, которые вовсе не способствовали укреплению брака.
Сохранился плохонький портрет Рембо, сделанный одним из монпарнасских художников, Альфредом Жаном Гарнье. Он датируется тем временем, когда Рембо жил отшельником недалеко от Латинского квартала, не общаясь ни с кем, кроме Форена, который приставал к Артюру с идеей превратить его новое жилье в мастерскую (они поссорились в один прекрасный день, когда Рембо отказался пустить его в свою комнату). Лицо Артюра на портрете угрюмо, одутловато и вообще больше подошло бы какому-нибудь меланхоличному камердинеру, нежели вдохновенному поэту. Но тем не менее сомневаться не приходится, потому что с обратной стороны картона имеется пожелтевшая надпись: «Портрет поэта Артюра Рембо. Написан мной в Париже в 1872 году, на бульваре Анфер, напротив ворот кладбища Монпарнас. Гарнье». Скорее всего, в 1872 году Гарнье сделал лишь набросок, а позже добавил поверх изображения темных красок, тем самым изменив выражение лица поэта, потому что окончательно портрет датирован 1873 годом21.
В конце 1871 года, по случаю пятидесятилетия со дня рождения Бодлера (7 апреля 1821 года), художник Фантен-Латур задумал написать картину в пару к своей «Дани уважения Делакруа», которая собрала бы, под портретом Бодлера, всех знаменитых поэтов эпохи (Гюго, Готье, Леконта де Лиля, Банвиля и т. д.), но мэтры отказались от участия в этом проекте. Фантену пришлось довольствоваться менее популярными персонажами, и, таким образом, вместо величественной фрески получилась обыкновенная картина «Вокруг стола» — «Озорные чудаки» после банкета; в таком антураже стал неуместен и портрет Бодлера. Можно предположить, что Верлен и Рембо приходили позировать прямо в мастерскую, в дом 8 по улице Изобразительных искусств, сначала поодиночке, затем вместе со всеми. Первый эскиз лица Рембо — портрет гуашью, необыкновенно живой: очевидно, художника привлекла молодость Артюра, которая контрастировала с банальным и напыщенным выражением лиц всех остальных. Надо признать, что стиль картины до неприличия академичен; это произведение вообще не представляло бы никакого интереса, если бы были изображены лишь такие незначительные персонажи, как Экар, Валад, Пеллетан, д’Эрвильи, Бонье и Блемон. Лицо Верлена неподвижно и напряжено; рядом с ним Рембо, облокотившийся на стол и подпирающий свою лохматую голову толстой красной рукой. У него довольно сердитый вид, и он сидит спиной ко всем остальным. Все это — прекрасная иллюстрация царившей там обстановки: неуемный Рембо и озабоченный Верлен, а остальных, собственно говоря, просто нет, они — массовка.
На самом деле Верлен имел все основания быть озабоченным, ибо в его доме каждый вечер разыгрывались настоящие драмы. Он мог сколько угодно извиняться на следующий день — это было уже бесполезно. Ему ясно дали понять, что он перешел все возможные границы и невозможно дальше наблюдать, как он пренебрегает женой и сыном, шатаясь целыми днями по кабакам со своим странным дружком.
Артюра, ушедшего в тень, вполне устраивало то, что дела приняли такой оборот: в конце концов, хоть что-то происходит, Верлен уже на верном пути… В один прекрасный день Поль пришел к Рембо и сообщил ему, что после одного особенно громкого скандала жена с сыном уехала на юг, не оставив адреса (на самом деле они были в Перигё, в местах, откуда был родом г-н Моте).
Все шло как надо: плод почти созрел, мосты были сожжены; это уже победа, и скоро начнется парение в небесах свободы!
Но Верлен добавил:
— Матильда заговорила о разводе. Этого любой ценой нужно избежать. Нужно, чтобы она непременно вернулась. Условием возвращения она поставила твой отъезд из Парижа. Так что ты понимаешь…
Уехать? Ни за что! Подчиниться капризу какой-то дуры и уехать? Тут никто не имеет права ему приказывать. Он выбрал Париж и останется здесь, даже если никто не будет снабжать его деньгами. Вполне возможно, чтобы доказать всем свою независимость, он на время заделался уличным торговцем. Берришон утверждает, что в 1872 году люди видели, как он продает кольца и брелоки на улице Риволи.
В этой напряженной обстановке в конце января 1872 года состоялся традиционный банкет «Озорных чудаков». В тот вечер все собрались в одном ресторане в квартале Сен-Сюльпис, на углу улицы Вьё-Коломбье и улицы Бонапарта (здание сохранилось до наших дней). Как обычно, после плотного ужина в комнате, пропахшей коньяком и сигарным дымом, вместо десерта читали стихи.
Настроение у Рембо было хуже некуда. Кроме неприятностей личного плана, перед ним маячила перспектива вести жизнь мелкого, никому не известного поэта, и прозябать в нищете без малейшего шанса эту жизнь изменить.
Что обычно читали на этих вечерах? Жан Ришпен привел несколько примеров: «Мой осел» Леона Кладеля22 и «Лев» Огюста Кресселя. По свидетельству Верлена, Крессель в тот вечер читал свой «Сонет битвы»23. Вдруг с другого конца стола послышался голос — голос Рембо, — который все яснее и яснее добавлял после каждой строчки звучное «Дерьмо!».
— Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!
Ему крикнули, чтобы он замолчал, — он стал орать вдвое громче. И этим добился всеобщего возмущения.
— Урод недоделанный! — закричал Кариа, поднимаясь с места.
— Ты, мерзкий фигляр! — поддакнул Эрнест д’Эрвильи.
Рембо непристойно выругался ему в лицо. Высокий и сильный Кариа схватил смутьяна и выволок на улицу. В зале воцарилось прежнее спокойствие, но Рембо решил дождаться окончания вечера в прихожей, рядом с гардеробной. Увидев выходящего Кариа, он набросился на него, размахивая своей тростью-шпагой24. Кариа увернулся-от удара и, стиснув зубы, пробормотал: «Ничтожный хам!..»25 Он все же был легко ранен: трость оставила царапины на руке и в паху. Можно представить себе всеобщее волнение. Появился Верлен, сломал о колено трость-шпагу (которая наверняка принадлежала ему самому) и попросил Мишеля де Лэя отвести Рембо домой, на улицу Кампань-Премьер.
Известие об этом происшествии облетело весь Латинский квартал. Форен сформулировал «мораль сей басни» и записал ее на эскизе портрета Рембо, где тот был изображен сущим ангелом: «Не трогай дерьмо, оно и вонять не будет». Говорят, что Кариа уничтожил негативы фотографий «своего убийцы». Что касается Верлена, то ему сообщили, что он по-прежнему желанный гость на заседаниях клуба «Озорных чудаков», но дружка своего с собой пусть больше не приводит.
Между тем картина Фантен-Латура не была закончена: оставалось написать портрет Альбера Мера. Мера, возмущенный произошедшим инцидентом, предупредил художника о том, что не хочет быть изображен на одной картине с человеком, который обесчестил себя недопустимыми хулиганскими выходками. Этот выпад был направлен как против Рембо, так и против Верлена, которому не хватило смелости осудить Артюра. «Я был раздосадован, может быть, даже чувствовал отвращение, короче, я был очень зол на своего самого дорогого друга за то, что он не вмегпался, вот и все, — писал Мера 14 сентября 1900 года Эрнесту Рено. — Я теперь сожалею, что не изображен на той красивой картине рядом с друзьями; ведь там было место специально для меня»26.
В «Дневнике» братьев Гонкуров есть следующая запись от 18 марта 1872 года: «Там [в мастерской Фантен-Латура]…на мольберте стоит огромная картина, где представлен апофеоз парнасцев […]. В центре картины зияет пустое место, ибо, как нам наивно сказал художник, кое-кто не пожелал фигурировать рядом с собратьями, которых считают сутенерами и ворами»[85].
Фантен-Латуру пришлось вместо отсутствующего Мера изобразить букет цветов. На выставке, открывшейся 10 мая 1872 года, картину приняли с веселым любопытством: все эти господа не очень-то были известны широкой публике. Карикатурист Стоп на рисунке в газете «Журналь Амюзан» от 1 июня 1872 года в шутку заменил головы поэтов собачьими мордами. В журнале «Художник» Дюбо де Пекиду говорил, что Фантен-Латур превзошел самого Рембрандта. Рембо никто не уделил особого внимания. Но Теодор де Банвиль был выше злопамятства; в «Насьональ» от 16 мая он написал: «Рядом с ними г-н Артюр Рембо, совсем молоденький, можно сказать, ребенок-ангелочек; его прелестная головка будто бы удивляется запутанной взлохмаченности собственных волос. Этот юноша однажды спросил меня, не пришло ли время упразднить александрийский стих».
Тем временем отношения Рембо с Верленом зашли в тупик. Матильда отказывалась возвращаться. Все шло к официальному разводу. Тогда, по совету матери, отчаявшийся Верлен в слезах пришел к Рембо умолять его сжалиться над ним и уехать… хотя бы на время, ибо присутствие Артюра в Париже было единственным препятствием для необходимого во всех отношениях примирения.
В глазах Рембо это было доказательством того, что, оказавшись перед выбором, Поль предпочел гнусную жизнь обывателя священной миссии, предписанной ему судьбой: стать Ясновидцем. Какой удар! Какое жестокое разочарование!
Чего только не наслушался Верлен в тот день! Он — всего лишь презренный трус, не способный отказаться от комфорта, пресмыкающийся перед женой, мальчишка, заискивающий перед тестем…
Поль все стерпел; он умолял, плакал, давал новые обещания: да, однажды он освободится от цепей, сковывающих его, но сейчас нельзя допустить, чтобы разгорелся скандал, нужно переждать бурю, затаиться на время; плод еще не созрел, но в один прекрасный день он сам упадет с дерева. Так как Рембо наотрез отказывался вернуться к матери, было найдено временное решение проблемы: он уедет на несколько недель в Аррас (к одному из друзей Верлена? к его родственнику? просто остановится в гостинице?) и останется там до тех пор, пока все не успокоится. Как только удастся усыпить бдительность недоброжелателей, Артюра известят, и он сможет вернуться.
По словам Берришона, в то время г-жа Рембо получила анонимное письмо, в котором говорилось о скверном поведении ее сына в Париже. В письме ее просили срочно вызвать Артюра домой. Это письмо так соответствовало настроениям Верлена, что нельзя удержаться от предположения, что он сам его и написал.
Вероятно, Рембо получил из Шарлевиля категорическое требование вернуться домой, может быть, мать даже угрожала в случае неповиновения обратиться в полицию; именно это, видимо, и заставило его наконец уехать в Аррас. Точно о его пребывании там ничего не известно; Матильда читала переписку мужа с Рембо, относящуюся к весне 1872 года, и говорит, что Артюр действительно некоторое время был там. Артюр покинул столицу, ненавидя всех и вся, полный решимости жестоко отомстить за себя и за унижение, которое ему пришлось пережить.
Примечания к разделу
1 Позднее, в своих клоунских десятистишиях, которые Верлен называл «коппейки», он будет пытаться имитировать этот акцент[86], но у него на самом деле получается смесь из арденнского, шампаньского и артуанского акцентов на манер речи Онезима Бокильона; в 1875–1880 гг. было модно так говорить.
2 П. Верлен, «Nouvelles notes sur Rimbaud», la Plume, 15–30 ноября 1895 г.
3 О Верлене и Петрюсе Бореле см. Жорж Заэ, la Formation littéraire de Verlaine, c. 294.
4 Это письмо хранится в Бордоской библиотеке и было впервые опубликовано Жаном де Мопассаном в 1923 г. в Revue philomathique de Bordeaux et de Sud-Ouest.
5 П. Верлен, les Beaux-Arts, номер от 1 декабря 1895 г. В своей статье о Альбере Мера в «Людях современной эпохи» Верлен говорит, напротив, что тот остался холоден, узнав о приезде Рембо в Париж.
6 Ср. наше исследование рукописей Рембо в Etudes rimbaldiennes, том II, Minard, éditeur à Paris.
7 Свидетельство Шарля Бомона в Mercure de France, 1 октября 1915 г.
8 Письмо Делаэ полковнику Годшоту, опубликовано в Arthur Rimbaud ne varietur, том II, с. 141.
9 Гипотеза о том, что на самом деле имелся в виду Глатиньи, впервые появляется в письме Леона Ванье Луи Пьсркену от 26 января 1803 г. Легенда же сформировалась вскоре после смерти Рембо: в анонимной статье в l'Еспо de Paris от 12 ноября 1891 г. утверждалось, что Гюго произнес эти исторические слова и погладил Рембо по голове, а тот резко вырвался и бросил: «Меня тошнит от этого старого зануды». Лепеллетье утверждает, что Рембо обозвал его бумагомаракой и «любителем пошлой пышности» (Echo de Paris, от 25 июля 1901).
10 Э. Делаэ, Rimbaud (1923), с. 43, прим.
11 Рисунок опубликован в аукционном каталоге отеля Друо (книги), 29 мая 1968 г.
12 Об Анри Мерсье см. исследование Майкла Патенема в Revue des Sciences humaines, июль — сентябрь 1963 г.
13 Эта опера-буфф в трех актах, с музыкой Анрио Литолфа, игралась 18 октября 1871 г. По словам критиков, это была «петарда в стиле Оффенбаха».
14 См. Анри Матарассо и Пьер Птифис, «Rimbaud, Verlaine, Germain Nouveau et l’Album zutique», Mercure de France, май 1961 г.
15 Автограф принадлежал Полю Каше, сыну известного доктора Каше из Овер-сюр-Уаз, опубликован в книге Сюзанны Брие Rimbaud notre prochain.
16 Вот пример такой «шуточки». Делаэ писал (опубликовано Анри Гильеменом в Mercure de France от 1 октября 1954 г.; говорит Рембо): «Я развлекался — глупо, конечно — тем, что заставлял всех думать, что я — свинья, грязнее которой не сыскать. Мне все верили на слово. Вот как-то раз я рассказал, что будто бы зашел в комнату Кабанера, когда его там не было, и обнаружил там чашку с молоком для него; ради шутки я туда… и вдобавок сдро… Все ржали как лошади, а потом пересказывали эту байку, утверждая, что чистая правда».
17 Этот дом на бульваре Монпарнас был снесен в 1930–1935 гг.; у него была пристройка, в которой располагалось кабаре, филиал Хамелеона, там в 1925–1930 гг. поэты часто устраивали литературные вечера.
18 Le Miroir du monde, 1936.
19 Именно в эту эпоху Уайльд и лорд Альфред Дуглас познакомились с Верленом. «Что до Верлена, — пишет Дуглас, — я его уже встречал, мы тогда были вместе с Оскаром Уайльдом. Мы несколько часов провели в каком-то кафе за абсентом; у меня этот аперитив всегда вызывал рвоту. Было это за год до катастрофы» (Oscar Wilde et quelquesuns).
20 Деверьер писал Изамбару 2 января 1872 г.: «Рембо в Париже уже месяца два-три, живет у Верлена, поэта, друга Бретаня» (Ж. Изамбар, Rimbaud tel que je l’ai connu). Мы видим, что Верлен хотел внушить своим шарлевильским знакомым, что Рембо живет у него: г-жу Рембо было необходимо держать в неведении.
21 См. Le Figaro littéraire от 28 апреля 1951 г. Жюль Лефран (Revue Palladienne, № 17, 1952) утверждает, что в иные времена с улицы Кампань-Премьер можно было через особые ворота попасть на кладбище Монпарнас, в сектора 21 и 22. Впоследствии эти ворота были заложены. См. le Bateau ivre, № 9, март 1952 г.
22 Жан Ришпен в своей статье в Revue de France от 1 января 1927 г. допустил, вероятно, ошибку: Леон Кладель писал прозу. С другой стороны, известен сонет «Осел» Огюста Кресселя.
23 «Сонет битвы» опубликован в la Renaissance littéraure et artistique от 12 апреля 1873 г.
24 Эта версия, принадлежащая Рудольфу Дарзансу (опубликована в предисловии к «Реликварию»), как нам кажется, предпочтительнее версия Верлена (опубликована в предисловии к «Poésies complètes» de Rimbaud, 1895), согласно которой удар шпагой был нанесен через стол в обеденном зале. В 1895 г. Верлен пытался выставить Рембо в глазах его сестры не таким уж монстром.
25 См. полковник Годшот, Arthur Rimbaud ne varietur, том II, с. 159.
26 Le Sagittaire, октябрь 1901 г.
Глава VII
ИЗГНАНИЕ В ШАРЛЕВИЛЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАРИЖ.
НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
В Париже все устроилось как по волшебству, едва Верлен объявил о своей победе. В середине марта Матильда вернулась из Перигё, и отношения супругов наладились. Они пережили второй медовый месяц; Верлен был сдержан и аккуратен: все его выходки были прощены. К чести г-на Моте следует сказать, что он повел себя тактично и остался в Перигё. Однажды в порыве откровения Поль заявил своей жене: «Когда я вместе с темненькой кошечкой (Форен), я добрый, потому что она очень послушная, но когда я со светленькой кошечкой (Рембо), я злой, потому что она жестокая». Эти слова удивили Матильду, и она их запомнила. Она не поняла немного вызывающего юмора, который вкладывал в эту фразу ее муж. Он говорил горькую правду, насмехаясь над самим собой.
Вопрос о разводе больше не поднимался; барометр супружеских отношений показывал «ясно».
Пребывание Рембо в Аррасе было непродолжительным, вероятно потому, что Верлен перестал посылать ему деньги: в конце концов, у него была семья!
Юный Ясновидец был вынужден с повинной головой вернуться к матери. Это обстоятельство очень задело его самолюбие, он был подавлен.
Шарлевиль не изменился, но Рембо, избавившись от прежних заблуждений, видел в нем теперь всего лишь маленький Париж с такими же самодовольными дураками, такими же тщеславными обывателями, с тем же скудоумием, с той же никчемностью. К счастью, у него по-прежнему был Делаэ. Вдвоем они много гуляли, но больше не утруждали себя декламацией Гюго или Банвиля. С этим было покончено. Теперь они довольствовались наивными народными песенками или дурацкими куплетами, например, из оперетты «Сто дев» Лекока, которую Рембо видел в Варьете. Нередко они заходили в местный кабачок пропустить по стаканчику джина или просто пили пиво у Дютерма на Герцогской площади. Иногда они встречались со старыми друзьями по коллежу.
— Ба, да это же Рембо! Как дела?
Рембо усаживал их за свой столик и по старой привычке забавлялся тем, что рассказывал о себе самые гнусные вещи и похвалялся самыми мерзкими поступками. Эти любезнейшие господа, как рассказывает Делаэ, смеялись как жеребцы, а затем любезно прощались и с достойным видом уходили. Однажды Рембо с другом сидел в кафе «Пти Бу а». Неожиданно туда вошли пять или шесть немецких офицеров, вооруженных саблями, и стали вспоминать свои славные боевые подвиги. Несколько раз в их рассказах прозвучали названия арденнских деревень.
— Ja, ja[87], — одобряли все.
Рембо, уставившись на рассказчика, вдруг разразился истерическим хохотом и стал хлопать себя по ляжкам в приступе буйной радости. Это могло плохо кончиться. К счастью, внезапно появился один из друзей Делаэ. Он подошел к Рембо и пожал ему руку. Это разрядило обстановку, и Артюр успокоился1.
В Арденнах Рембо много работал.
В Париже он написал мало, только «Гласные», «Вечернюю молитву», может быть, «Охоту на духов» и еще несколько стихотворений, среди которых фантазии «Зютичес-кого альбома». Оказавшись в Шарлевиле, Рембо обрел покой и вновь взялся за перо.
В его новых произведениях поражают две вещи: ясность и обновленная форма.
Рембо вновь познает жизнь, вспоминает несколько эпизодов из своего прошлого — первое бегство («Воспоминание»), прогулки страшной военной зимой («Вороны») — или рисует себя, каким он был, когда лез из кожи вон, чтобы стать Ясновидцем. Этот портрет написан до боли откровенно; невольно задумываешься — как только его не убили в Париже.
Теперь, как справедливо отмечает Антуан Адан, «он больше не помышлял о том, чтобы гордиться своими пороками или кричать о своем бунтарстве», поэтому стихотворение неожиданно заканчивается следующими строками:
«В смирении он ждет, что после его смерти кто-нибудь помолится о нем Богу, Богу, в которого он не верит, но над которым уже не смеет насмехаться»2, — добавляет критик.
Итак, как мы видим, во время пребывания в Арденнах Рембо смог отдохнуть и восстановить свои силы — так в отрыве от «зеленого змия» выздоравливает в больнице алкоголик.
Весьма вероятно, он снова стал посещать библиотеку (папаша Юбер больше там не работал). Кажется, Рембо сошелся с двумя учениками коллежа, моложе его самого, но уже жадными до чтения. Это были Луи Пьеркен и Эрнест Мило, высокий молодой человек, кроткий и искренний; первый впоследствии стал историком и археологом.
В это же время Рембо удивительно раскрывается как прозаик: он погружается в прошлое и извлекает оттуда воспоминания-обобщения («фотографии прошлых времен», как он говорил); эти вещи утеряны, о них нам известно по рассказам Делаэ. Затем он начинает свою «охоту на духов», записывая воспоминания и впечатления от прогулок. Самый поразительный пример — это стихотворение «Детство» из сборника «Озарения»:
«Листьев рой золотой вьется вокруг генеральского дома[90]. — Отсюда по бурой дороге можно дойти до харчевни пустой. — Замок назначен к продаже; ставни сорваны с окон. Священник, должно быть, ключи от церкви унес. — Сторожки в парке пусты. Ограда так высока, что над нею видны только шумливые кроны. Впрочем, там не на что и смотреть»[91].
По словам Верлена, Рембо также хотел написать сборник «Никчемные исследования». Однажды мать спросила его, зачем он это пишет, раз это «ни к чему». Он ответил:
— Ничего не поделаешь, раз пишу, значит, надо!
Бедная г-жа Рембо! Собственные дети подвергали ее пытке: один марал бумагу, другой, Фредерик, чтобы хоть что-то заработать, продавал на улице газеты.
Из Парижа иногда приходили письма от Форена и Верлена. Последний прислал около десятка писем, опубликовано лишь три. Эти документы содержат факты, которые проливают свет на отношения Верлена и Рембо в тот трудный период. Верлен чувствовал себя виноватым, но — не правда ли? — все зло шло не от него; намекая на библейскую Юдифь и на Шарлотту Корде[92], он писал: «Всякие Юдифи и Шарлотты на тебя злы, и даже очень».
Письма Верлена вновь пробудили в душе Рембо ненависть, о которой он начал забывать. Сначала его предали, затем о нем просто забыли; когда он жаловался на скуку, ему советовали поискать работу. На эти любезные предложения он отвечал потоками брани. Его ответы до нас не дошли, но Матильда читала его письма и пришла в ужас. Она приводит небольшие выдержки в «Воспоминаниях»: «Я даже думать не хочу о работе. Черт меня побери» (повторяется восемь раз) или еще: «Только тогда Вы перестанете попрекать меня куском хлеба, когда сами увидите, что я ем настоящее дерьмо!..» Верлен, наверное, намекал на свои финансовые трудности.
Как видим, Рембо окружил себя стеной злобы и презрения; Верлену нужно было через нее пробиться. Поэтому ему пришлось занять позицию кающегося грешника, молящего о милости. Свое письмо от второго апреля, написанное в Сиреневом хуторке, он начинает с того, что благодарит Рембо за то, что тот послал ему партитуру одной «забытой песенки» Фавара (1710–1792) из его произведения под названием «Любовный каприз, или Нинет при дворе»:
В «Забытой песенке» все очаровывает, и слова, и музыка! Я попросил, чтобы мне ее сыграли и спели3. Спасибо за эту замечательную вещь! [Следуют сожаления о содеянном, Верлен пытается помириться с Рембо.] И спасибо за доброе письмо! «Маленький мальчик» понимает, что его справедливо отшлепали, «трусливая жаба» присмирела, она никогда не забывала о том, что нужно страдать, она думает об этом с еще большим — если только такое возможно — увлечением и еще большей радостью, ты ведь знаешь, Ремб.
Да, люби меня, защищай и доверяй мне. Я очень слаб, и поэтому ко мне надо относиться по-доброму. Я больше не буду надоедать ребячьими проделками ни тебе, ни нашему высокочтимому Священнику[93]. Обещай ему, что очень скоро он получит настоящее письмо, с рисунками и другими красивыми штуковинами.
…Но когда же, черт возьми, мы вступим на этот крестный путь, а?
Поль занят перевозкой своего «барахла», гравюр и т. п., с «улицы Камп».
Наконец-то тобой занимаются, тебя желают. До скорой встречи! Она обязательно случится, тут ли, там, но случится.
Мы все твои.
И. В.
Адрес тот же.
Кстати, расскажи мне о Фаваре.
Гаврош тебе напишет ex imo.
Мимоходом Верлен намекает на Кариа и на знаменитый обед «Озорных чудаков». Во втором, недатированном письме Верлен пытается успокоить Рембо, который хочет как можно быстрее вернуться в Париж.
Конечно, мы встретимся снова! Когда? — Подожди немного! Тяжкая необходимость! — Ну и пусть! Черт с этим со всем! И черт со мной! — и черт с тобой!
Но посылай мне твои «плохие» стихи (НИ), твои молитвы (!!!), наконец, будь всегда со мной — в ожидании лучшего после вновь воссозданной семейной жизни.
…И никогда не думай, что я тебя бросил. Remember! Memento![94]
Твой П. В.
Напиши мне поскорее! И пришли свои старые стихи и новые молитвы. Ты ведь сделаешь это, Рембо?
Третье и последнее известное нам письмо Верлена было написано в конце апреля, незадолго до возвращения изгнанника:
Тогда до субботы, около семи часов, как всегда, не так ли? Кстати, изыщи возможность написать мне в удобное время.
Тем временем все «письма страдальца» — матери, все письма о свиданиях, мерах предосторожности и т. д. — г-ну Л. Форену, набережная Анжу, 17, особняк Лозен, Париж, Сена (для г-на П. Верлена).
Завтра, надеюсь, смогу тебе сообщить, что наконец получил работу (секретарь в страховом обществе).
Эта новость, надо полагать, не привела Рембо в восторг: Верлен будет вести жизнь служащего, он будет привязан к работе!
Вчера не видел Гавроша, хотя у нас было назначено свидание. Я пишу тебе это у Клюни. Сейчас три часа дня, я ожидаю его. Мы замышляем против одного человека, ты потом узнаешь, кто это, забавную мстю. Как только ты вернешься, будут происходить разные жестокости, лишь бы только ты развеселился. Речь идет об одном господине[95], который посодействовал тому, что ты провел три месяца в Арденнах, а я — полгода в дерьме. Короче, сам увидишь!
Пиши мне к Гаврошу и рассказывай, что я должен делать, как должна быть устроена та жизнь, которую ты хочешь вести вместе со мной, о радостях, муках, лицемерии, цинизме, которые нам понадобятся: я весь твой, весь ты — знай это! Об этом — Гаврошу.
Твои «письма страдальца» — по адресу моей матери, но чтобы там не было ни единого намека на какое бы то ни было свидание.
Последний совет: как вернешься, сразу бери меня, чтобы ничто не смогло нас разлучить. У тебя это очень хорошо получится!
Осторожно:
Сделай так, чтобы по крайней мере в течение некоторого времени ты выглядел не так ужасно, как раньше: свежее белье, чистка обуви, причесывание, короче, ничего необычного. Это необходимо, если ты хочешь реализовать свои жестокие планы. Если понадобится белошвейка и т. д. — скажи мне.
Планы эти, кстати, если ты их реализуешь, принесут нам пользу, потому что «одна важная особа в Мадриде» в них заинтересована4 — поэтому security very good[96]!
Теперь — привет, свидание, радость, ожидание писем, ожидание Тебя. — Мне этой ночью приснилось: сначала Ты — мучитель детей, потом Ты — весь выголденный (Примечание: По-английски вызолоченный. Я забыл, что ты знаешь этот язык хуже, чем я). Смешно, не так ли, Ремб!
Прежде чем запечатать это, я хочу дождаться Гавроша. Придет он или нет? До встречи через несколько минут!
Четыре часа дня.
Гаврош пришел. Потом снова поговорим о приличном и безопасном жилье. Он тебе напишет.
Твой старина П. В.
Все время пиши мне из своих Арденн.
Буду писать тебе все время из моего дерьма.
Почему бы не послать к черту Реньо5?
По этим письмам можно проследить путь, который за несколько недель мысленно прошел Рембо: от оскорбительной злобы до нетерпения наконец предпринять то, что Верлен называл — не зная, насколько был прав — их «крестным путем». На это его подталкивало также страстное желание отомстить: он вернется с поднятой головой, он поиздевается над женщиной, которая выгнала его с позором. Он снова будет властвовать над ее мужем, он заставит его бросить все и пойти за ним на край света.
Весьма вероятно, что в своем последнем письме Верлен намекал на субботу, четвертое мая, так как в тот день ночью он вернулся домой пьяным, вырвал сына из рук жены и увез его к матери. Спустя три дня разыгралась редкая по своей жестокости сцена: взбесившись, Верлен ударил Матильду по лицу и попытался поджечь ей волосы. Это означало, что перемирию пришел конец.
Именно тогда его отношения с Рембо приняли новый оборот: они перестали быть платоническими. Вот почему Верлен в своем сонете «Поэт и Муза», написанном в 1874 году и посвященном легендарной мансарде на улице Кампань-Премьер, попытался отвести от себя подозрение, которое многим приходило на ум. Что же, еще недавно это было чистой правдой.
Но в сонете «Способный ученик», написанном в мае 1872 года, он, наоборот, все признает6. Рембо выполнил его просьбу: «Как вернешься, сразу бери меня…»
Трудно согласиться с Андре Фонтена, когда он утверждает, что в этом сонете речь идет о витраже, где архангел Михаил изображен сраженным — но лишь на время — дьяволом.
Все указывает на то, что Верлен переживал тогда что-то неслыханное. Небезынтересно будет отметить, что в 1874 году, когда Верлен пережил в тюрьме «мистический опыт», он был так же глубоко взволнован и, описывая этот опыт, использовал ту же интонацию и те же слова.
Все вышесказанное хорошо вписывается в логику характеров наших героев. У Верлена гомосексуальные наклонности впервые проявились еще в коллеже (говорят, что его пытался изнасиловать его друг Люсьен Виотти); но он вынужден был подавлять свои чувства. Встретив Рембо, он переступил все преграды.
У Артюра, напротив, не было к этому склонностей, но он согласился на «разумную разнузданность во всем», ведь она являлась одним из ключей к Ясновидению. Отдавшись Верлену, он преследовал две цели: мстил Матильде («Я изменил жене, но странною изменой», — признается Верлен Жюлю Ре7) и усиливал влияние на своего слабовольного друга, держа его таким образом в своей власти. Такая любовь была порочной, но это никак не повлияло на его решение; он остался хладнокровным и сохранил ясность мысли. «Так я влюбился в свинью»[97], — напишет он в книге «Одно лето в аду»; в другом месте книги: «К тому же мне нужно помочь и другим [стать Ясновидцами. — Прим. авт.] — это мой долг. Хотя все это не очень-то весело, душа моя…»[98]
Его долг… Можно подумать, мы слышим голос его матери. «Долг» было ее любимым словом.
«Крестный путь», обещанный Верленом, на самом деле предстояло преодолеть Матильде. Семейные ссоры на улице Николе становились все более жестокими.
Рембо поселили в мансарде на улице Месье-ле-Пренс — вероятно, в доме 41, в гостинице «Восток» — но скорее всего это был чердак старого заброшенного дома, где ютились люди без определенных занятий, а бедные художники устраивали себе мастерские. Это была довольно странная публика. Там можно было встретить Жолибуа, художника по прозвищу «Яблоко», потому что он всегда рисовал яблоки; Кретца, бородатого эльзасца, миниатюриста и оформителя церквей; Рауля Поншона, знаменитость из Зютического кружка, автора застольных песен, человека, соорудившего себе комнату из ящиков. Там видели и Форена, если верить одному из его биографов, Кунстлеру. Впервые Жан Ришпен встретился с Рембо именно у Жолибуа, по крайней мере он так утверждал, но память изменила ему — он говорил, что мастерская Жолибуа находилась на улице Сен-Жак.
Можно предположить, что наш необщительный арден-нец, относившийся к живописи презрительно, не пришелся по душе этой компании.
В прошлом месяце, — пишет он в июне Делаэ, — узенькое окошко моей комнаты на улице Месье-ле-Пренс выходило на сад лицея Людовика Святого. Под окном росли огромные деревья. В три часа утра можно было гасить свечу. На деревьях пели птицы: ночь прошла. Я закончил работать и смотрел на деревья, на небо, которое в эти первые утренние часы казалось немного загадочным. Я видел спальни лицея, там царила тишина. Но вот уже потихоньку начинали доноситься отрывочные, звонкие, милые сердцу звуки: это по бульварам провозили тележки. — Я курил свою чудную трубку и плевал на крышу, ведь я жил в мансарде. В пять часов я спускался, чтобы купить хлеба: пора. На улице одни рабочие. Для меня это было время напиться в каком-нибудь кабаке. Я возвращался, ел и около семи часов, когда из-под черепицы выползали погреться на солнышке мокрицы, ложился спать. Первое летнее утро и декабрьские вечера — вот что мне всегда очень нравилось здесь.
Жена пригрозила Верлену, что за малейшую провинность снова подаст на развод, и он присмирел. Каждое утро Поль отправлялся на службу в страховое общество «Ллойд Бельж», а в семь часов послушно возвращался к тестю и теще на ужин.
Было найдено письмо Форена к Верлену, написанное в 1885 году: «Где те времена, когда мы, Рембо и я, ждали тебя в маленьком кафе на улице Друо, покуривая глиняные трубки и потягивая Кюрасао? Это было тринадцать лет назад!»8
Очень скоро Рембо убедился, что над ним посмеялись, что его вернули в Париж лишь потому, что здесь было удобнее им управлять. И тогда он пришел в ярость, в кровавую ярость. Первой жертвой его ножа стал Верлен. Однажды, а точнее 23 мая 1872 года, Верлен с женой были приглашены к Виктору Гюго. Хозяин удивился, что Верлен хромает. Тот объяснил, что у него на ногах фурункулы. Не мог же он сказать, что это Рембо смеха ради искромсал ему ляжки. Антуан Кро, со своей стороны, рассказал Матильде следующее:
Мы втроем (Рембо, Верлен и я) сидели в кафе «Дохлая крыса» на площади Пигаль. Рембо нам сказал:
— Положите руки на стол. Я хочу вам кое-что показать.
Мы подумали, что это шутка, и сделали, как он просил. Тут он неожиданно выхватил из кармана нож и вонзил его несколько раз Верлену в ладонь. Я успел убрать руки и не был ранен.
Когда я в другой раз был в кафе с Рембо, Я на несколько минут вышел из-за стола, а когда вернулся, то увидел, что Рембо плеснул мне в кружку серной кислоты.
Матильда резюмирует: «В рассказах об этих ужасных шутках, а также о других, до того омерзительных, что — о Поэзия! — я не могу изложить их здесь, не было абсолютно ничего утешительного»9.
В подражание Рембо Верлен тоже стал «играть в ножички» в салоне Нины де Вильяр. Дошло до того, что, когда он напивался, приходилось прятать от него острые ножи. Матильде довелось узнать, что чувствует пленник индейцев, когда те танцуют вокруг него ритуальный танец перед тем, как снять с него скальп. Роль индейца — даже индейца-оборотня, с блестящими, как у волка, глазами — исполнял, разумеется, ее собственный муж.
Все, чего Рембо смог добиться — это перемены квартиры. Верлен снял для него в особняке Клюни (площадь Сорбонны) тесную комнатушку, окна которой выходили на узенький дворик. Именно здесь Рембо в июне написал Делаэ то необычное письмо, отрывок из которого мы привели выше; нигде лучше не рассказывается, каковы были его жизнь и умонастроение в то время.
Парижопа, июнудьга, 72 год
Мой друг!
Да, удивительна жизнь в Арденнах. Провинция, где едят мучнистые растения и ил и пьют местное вино и пиво — я не жалею, что покинул ее. Поэтому ты прав, что все время ее поносишь. Но здесь-mo: переливание из пустого в порожнее, одни тупицы. Лето стоит изнуряющее: не то чтобы было очень жарко, но от того, что хорошая погода может потрафить каждому, и что каждый — свинья, я ненавижу лето, оно убивает меня, как только вступает в свои права. Я испытываю такую сильную жажду, что сдохнуть можно. О чем я действительно сожалею, так это об арденнских и бельгийских реках, пещерах.
Я знаю здесь одну славную пивную. Да здравствует Академия Абсента, хоть официанты там — сволочи! Самое лучшее из ощущений — это опьянение. Потом, правда, просыпаешься — голова болит, во рту дерьмо!
Такая вот история. Единственное, в чем я абсолютно уверен, это что надо послать к черту Перрена. И к черту Вселенную. Однако я ее не проклинаю[99]. Я хочу, чтобы Арденны оккупировали и душили поборами. Но это не так важно.
Главное, ты должен много волноваться, может быть, тебе пойдет на пользу много ходить и читать. Во всяком случае, тебе нельзя сидеть все время дома и на работе. Чтобы стать настоящим зверем, надо уйти подальше от этих мест. Я не пытаюсь тебе что-то навязать, но я считаю, что, когда тебе тяжело, бессмысленно искать утешения в привычке.
Теперь я работаю по ночам, с полуночи до пяти часов утра. В прошлом месяце… [далее отрывок, цитированный выше]
Но сейчас у меня красивая комната в три квадратных метра с видом на бездонный колодец двора. Улица Виктора Кузена одним концом выходит на площадь Сорбонны (там находится кафе «Нижний Рейн»), а другим — на улицу Суффло. Там я пью воду всю ночь напролет, я не замечаю, как рассветает, я не сплю, я задыхаюсь. Вот так.
Очевидно, твое требование будет удовлетворено. Если тебе попадется в руки литературный журнал «Возрождение», не забудь подтереть им задницу. До сих пор мне удавалось избегать этих чертовых эмигрантов из моего родного города, шарлевилы им в бок. К черту времена года. Я в яростигра.
Удачи.
А. Р.
Свои сетования, несущие отпечаток нежной грусти, он ночами перелагает в стихи, «прибегая лишь к ассонансам, непонятным словам, детским или просторечным выражениям» (Верлен). Из этих стихотворений, написанных дрожащей рукой — автор несомненно был пьян, — Рембо составил сборник под названием «Празднества терпения». В этих унылых стихах читаются покорная усталость, «спокойный фатализм»10 (Делаэ):
или еще:
Рембо все время хотелось пить (Делаэ говорил, что так было всегда); эта жажда соединялась с другой и пожирала его в это знойное лето; не отставал и голод. В мечтах он уносится к прохладным арденнским рекам, Семуа и Уазе, к потокам Роша.
Академия Абсента, о которой идет речь в письме к Делаэ, находилась на улице Сен-Жак, дом 176, если верить телефонному справочнику того времени. Это была рюмочная, ее держал некий Проспер Пелерье. «Предание гласит, что при ее основании, в конце XVIII века, — пишут Ф. А. Казальс и Г. Ле Руж, — в стены заведения было вмуровано сорок бочек водки. Во времена, когда Альфред де Мюссе был там завсегдатаем, была такая традиция: когда умирал академик, открывали, предварительно украсив ее траурной лентой, одну из этих сорока бочек». Клиентуру составляли студенты, разносчики, уличные певцы, местные художники и ремесленники. Бокал «зелени» стоил там всего три су11.
Однажды Рембо неожиданно встретил там бывшего ученика шарлевильского коллежа Жюля Мари. Позже он станет знаменитым фельетонистом, а тогда был всего лишь нищим студентом, бродягой из Латинского квартала. «В его открытом взгляде, — написал он о Рембо, — читались неловкость и нерешительность, но в то же время в них была и насмешка, которая заставляла думать, что в это тревожное время он никого не принимал всерьез, ни себя, ни других» («Литература», октябрь 1919 года). Он записал его адрес и однажды ранним утром пришел к нему на новую квартиру на улице Гран-Дегре, если только это не была улица Сен-Се-верен; иначе говоря, это было где-то между площадью Мо-бер и Сеной. «Он жил тогда, — уточняет Мари, — в просторной комнате. Из всей мебели там были только стол и спрятанная в темной нише кровать».
— Ты тут и работаешь?
— Ну да, — ответил он и с иронической улыбкой указал на стол: там не было ни пера, ни бумаги, только свинцовая чернильница с зеленоватой высохшей грязью на дне[103].
В тот день Мари пригласил его в ресторан, где за 50 сантимов подавали кусок вареной говядины и половник супа.
Немного позже Рембо, в свою очередь, подарил своему другу пучок кресс-салата, купленный у зеленщицы рядом с площадью Сен-Мишель; друзья поделили подарок по-братски — ни у того, ни у другого больше ничего не было — и съели на ужин.
Последнее стихотворение Рембо «Молодожены» датировано 27 июня 1872 года. Поэт находится в комнате молодой четы; в глубине комнаты — открытое окно, через которое ему видно небо:
Он представляет себе людей, которые входят и выходят, но часто:
По этому стихотворению видно, что ему больше нечего было сказать. Если он и работал — что происходило все реже и реже, — то это было, как он скажет позже, «так, чтобы не совсем уж опускаться». К чему теперь старания? Никому до него не было дела, ни самому захудалому редактору, ни самому дрянному издателю. Раз так, к чему все это? Ему все время давали понять, что он изолирован, как человек, заболевший чумой. 27 апреля 1872 года Эмиль Блемон, Жан Экар и Ришар Леклид основали журнал «Литературное и художественное возрождение» и решили не печатать там «Гласные» (рукопись стихотворения была у Блемона). В то время Рембо считали человеком, не внушающим доверия, а его произведения — не достойными публикации. Будет небезынтересно отметить в скобках, что в сентябре 1872 года то же «Возрождение» опубликует, без какого бы то ни было комментария, стихотворение «Вороны»: на тот момент автора уже не было в Париже, и можно было печатать его, не опасаясь скомпрометировать себя и журнал. В том же духе поступали и другие: в феврале-марте Нина де Вильяр снова открыла свой знаменитый салон в доме 82 по улице Монахов, но Верлен не осмелился привести туда Рембо.
Такому бессмысленному существованию — спать и напиваться пьяным — нужно было положить конец. Чаша терпения была переполнена. Разрыв был неизбежен. Красивые обещания, «крестный путь», «жестокости», свободная жизнь наконец — какая чушь! От него избавились, ему перекрыли кислород. Верлен снова оказался во власти жены и тестя, его подавленное состояние говорило о том, что он жил под постоянной угрозой официального развода. Этого развода, которого он должен был бы желать всем сердцем и стремиться к нему всеми силами, он боялся как самого страшного несчастья. Из такого раба никогда ничего не выйдет.
И тогда 7 июля, в воскресенье, Рембо написал Верлену прощальное письмо. Он понял, что над ним посмеялись, и поскольку Париж и «парнасцы» вызывали у него отвращение, он решил уехать, сначала в Бельгию, а оттуда в далекие жаркие страны. Он сжигал мосты. Текст этого письма не сохранился, но, должно быть, в нем каждая строчка дышала ненавистью и презрением.
Для верности он решил сам отнести письмо Верлену на улицу Николе.
Примечания к разделу
1 Э. Делаэ, Rimbaud (1923), с. 162.
2 А. Адан, Oeuvres complètes de Rimbaud, Bibliothèque de la Pléiade, c. 943.
3 Ария, о которой идет речь, — из второго акта, седьмой сцены. Сборник пьес XVIII века, в котором есть и «Нинет при дворе», фигурирует в списке вещей, оставленных Верленом на улице Николе в июле 1872 г. Поэт посвятил «забытым ариям» девять стихотворений из сборника «Романсы без слов».
4 Эта «одна важная особа в Мадриде» (имеется в виду Мадридское кафе) был некий Антуан де Тунанс, из Перигё (оттуда же был родом г-н Моте), который объявил себя королем Патагонии и Араукании. Он набирал себе подданных, раздавал ордена (был «орден Стальной короны») и титулы. Верлен познакомился с ним у Антуана Кро, который станет «наследником» Тунанса. См. Жан Распай, Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, Albin Michel, 1981.
5 Имеется в виду Анри Реньо, очень талантливый художник и ярый патриот, убитый в Бузенвале 24 января 1871 г.
6 В дневнике Эдмона Гонкура есть на этот счет очень реалистичные — до тошноты — свидетельства. Морис Роллина (1853–1903), поэт и музыкант, рассказал, что как-то утром Рембо появился в одном кафе и улегся спать: «Я убит, я труп, он е…л меня всю ночь, у меня дырка в заднице не закрывается— дерьмо наружу само течет» (18 апреля 1896, Edition Ricatte, XIV, с. 116–117). 8 февраля 1891 г. записан рассказ Альфонса Доде, который в каком-то кафе процитировал высказывание Рембо о Верлене: «Да уж, мной он вволю насладился! А вот чтобы я с ним так же развлекался, не хочет! Да нет, нет, он в самом деле отвратителен, от одного вида его кожи воротит!» (Edition Ricatte, XVII, с. 193–194). В кругу Гонкуров ненавидели и Верлена, и Рембо (последнего именовали «педераст-убийца») и с удовольствием собирали самые мерзкие слухи о двух поэтах. См. Жан-Пьер Шамбон, «Edmond de Goncourt et Rimbaud», Parade sauvage, бюллетень № 3, июнь 1987 г.
7 См. Жюль Ре, «Les dernières lettres inédites de Paul Verlaine», Revue des vivants, 1923, отдельный оттиск.
8 См. Леандр Вайа, En écoutant Forain, Paris, Flammarion, 1931 r.
9 Бывшая г-жа Верлен, Mémoires de ma vie, Paris, Flammarion, 1935 r.
10 Джон Портер Хьюстон замечает в своей книге The Design of Rimbaud’s Poetry, что «песни» Рембо поразительно напоминают стихи знаменитой г-жи Гюйон, подруги Фенелона, как по стилю и ритму, так и по подбору слов. См. le Bateau ivre, № 18, июль 1964 г. Замечание крайне существенное.
11 Казальс и Ле Руж в книге les Derniers jours de Paul Verlaine приводят следующую песенку:
В 1910 г. Академия абсента превратилась из кабака в мясную лавку.
12 Это стихотворение и «песни», написанные в особняке Клюни, были обнаружены в 1906 г. Хранились они у Форена. Вероятно, он как-то зашел в каморку к Рембо после его отъезда в июле 1872 г. и забрал их.
Глава VIII
РАЗДОЛЬЕ В БЕЛЬГИИ.
ЗНАКОМСТВО С АНГЛИЕЙ
Пожалуй, нам с вами придется поверить в то, что существует бог по имени Случай. 8 июля, в понедельник, Верлен должен был найти в почтовом ящике прощальное письмо от своего друга, который в то время был бы уже далеко, где-то на пути в Антверпен или Роттердам. Но накануне, в воскресенье, Матильда почувствовала себя плохо: у нее поднялась температура и заболела голова. Она попросила мужа сходить за врачом. После неприятностей, которые супруги пережили в мае, их отношения наладились. Без всякого сомнения, этим они были обязаны тому, что Верлен получил постоянную работу и, как следствие, стал сдержан и аккуратен. О Рембо совсем забыли, как будто он и не возвращался из Арденн.
Итак, Верлен как ни в чем не бывало поцеловал жену и спокойно вышел.
Недалеко от дома — вот сюрприз! — он встретил Рембо, который остановил его и, не дав опомниться, заявил, что больше не может так жить и посему покидает Париж. Вероятно, их разговор продолжился в кафе. Там Рембо повторил, что его терпению пришел конец, что он не изменит своего решения и не купится больше на обещания. Он сказал, что в тот же день уезжает в Бельгию, а потом будет колесить по всему миру.
Верлен неожиданно оказался перед выбором. Ему предстояло решить свою судьбу. Сначала он представил себе длинную и скучную вереницу дней, поглощенных работой, себя, связанного строгой дисциплиной, погрязшего в рутине, — это была безрадостная жизнь, жизнь без будущего. Затем вообразил приключения, опасности, свободу, неожиданности. Или пан, или пропал. Решать надо было именно сейчас; через несколько секунд будет уже поздно, быт снова поглотит его. И он решился:
— Я еду с тобой!
Ну что ж, жребий брошен.
Тотчас он придумал, как объяснит свое бегство: он уехал за границу из опасения попасть под суд. Каждый день военные советы рассматривали дела людей, которые почти и не были связаны с Коммуной; в такой обстановке Верлену могло грозить самое страшное. Все сразу поверят, что чтение газет, где публиковались списки осужденных, подвигло его на то, чтобы покинуть Францию и ждать за границей объявления амнистии. Ему представился такой случай, и он им воспользовался. Он бежал в Бельгию, чтобы скрыться… на время. А там видно будет.
Друзья были без денег, и поэтому первым делом направились к г-же Верлен, матери Поля. Он обрисовал ей угрозу ареста и под этим предлогом выпросил денег на первое время. Затем приятели отправились на Северный вокзал.
Сначала Верлен и Рембо, вероятно, долго спорили о том, каким будет их маршрут. В конце концов они сели на ночной поезд до Арраса — первый этап на пути в Бельгию. Возможно, Верлен хотел отблагодарить человека, который приютил Рембо в феврале. Как бы то ни было, они приехали на вокзал слишком рано, чтобы делать визиты: было около семи часов. Они сидели в ресторане вокзала и завтракали. К ним подсел какой-то старикашка глуповатого и меланхоличного вида. Физиономия у него была «скорее неприятная», говорит Верлен в книге «Как я сидел в тюрьме». Наши друзья, незаметно толкнув друг друга и молча обменявшись красноречивыми взглядами, не меняясь в лице, начали «игру Бретаня», то есть стали обсуждать во всех ужасных подробностях, кого и как они в последнее время убили, ограбили и изнасиловали. Непрошеный сотрапезник тут же исчез. Но не успели друзья как следует посмеяться, как вдруг неизвестно откуда появились два жандарма в треуголках и схватили их:
— Объясняться будете в прокуратуре.
И их повели к заместителю прокурора в мэрию. Для этого надо было пересечь весь город, и можно не сомневаться, что нашим двум героям было не по себе: их сопровождали двое жандармов, и поэтому на процессию глазели прохожие. В ожидании, пока чиновник их примет, Верлен готовил оправдательную речь («Я родился в Меце, я французский гражданин, я республиканец» и т. д.), а Рембо утирал слезу: все это очень напоминало ему Дуэ, 1870 год, когда полиция по просьбе матери положила конец той прекрасной жизни, которую он вел в гостях у Изамбара. Сейчас его точно так же отправят обратно в Шарлевиль под конвоем. А как же иначе… К счастью, все уладилось. Заместитель прокурора сразу понял, что имеет дело с двумя любителями глупых шуток, и, прочитав им наставление, отпустил. Бравые молодцы жандармы отвели их обратно на вокзал, где не отказались от стаканчика водки, которым Верлен непременно хотел их угостить, пока они вместе с Рембо ожидали поезда на Париж.
С Северного вокзала они перебрались на Восточный: их цель осталась прежней — Бельгия, но теперь они решили сделать остановку в Шарлевиле.
Утром 9 июля они стояли у двери отца Бретаня. Он был приятно удивлен, видя их у себя. У всех было очень хорошее настроение, и все вместе они отправились выпить и поговорить по душам в привокзальный ресторан, где и были замечены, как мы это увидим дальше. Вечером добрый Бретань разбудил одного из своих соседей, извозчика:
— Жан, брат мой, два моих друга, священника, нуждаются в твоей помощи. Встань же и запряги коня Апокалипсиса!
Ночью «отец Жан» довез их на своей двуколке до бельгийской границы. Неизвестно, каким образом им удалось обойти пограничный дозор и избежать проверки документов; так или иначе, они благополучно пересекли границу.
На следующий день г-жа Рембо узнала, что ее сына видели около вокзала в сопровождении какого-то незнакомца и отца Бретаня. Не колеблясь ни секунды, она пошла к Бретаню за разъяснениями. Когда она убедилась, что Артюр посмел вернуться в Шарлевиль и не зайти к ней, она направилась в полицейский участок. Она потребовала у полиции разыскать своего сына, который, как она полагала, отправился поездом в Бельгию.
Два беглеца, ступив на бельгийскую землю, осознали, что невозможное наконец осуществилось, они обрели свободу! Больше никакого надзора, никаких запретов, подозрений, неодобрений, никаких тревог! Впереди лишь бесконечные каникулы!
Для них начиналась «настоящая жизнь», беспечная, полная неожиданностей и легкого и опьяняющего счастья:
Как ураган промчались они через Валькур, заехали в Шарлеруа, поразились, как ужасно выглядят угольные карьеры и домны. Вдоль берегов Сены и канала, пешком и железной дорогой, они добрались до Брюсселя и остановились в «Льежском Гранд-Отеле». Верлен хорошо знал эту гостиницу, так как в 1867 году, когда он с матерью приезжал поздравлять Виктора Гюго, они жили именно там.
Матильда в «Воспоминаниях» сильно драматизирует бегство мужа, она говорит, что за несколько дней до этого ее охватило необъяснимое беспокойство. Искренность этих слов вызывает сомнение, так как весьма вероятно, что ее свекровь, г-жа Верлен, сразу все ей объяснила. Поль уехал, потому что боялся ареста; нет причин для переживаний. Ему в самом деле угрожала опасность.
Письма, которые Верлен писал жене, были полны загадок и неясностей: «Я живу в настоящем ночном кошмаре, однажды я вернусь…» В письмах матери, напротив, Верлен говорил правду: брак был его самой страшной ошибкой, его жизнь в семье стала каторгой и т. д.
Однажды Матильда, которая волновалась о своем муже не больше, чем следовало, застала мать Поля в слезах. Это вызвало ее сильнейшее любопытство — что же узнала г-жа Верлен? Какая такая страшная тайна ей известна? В чем тут дело?
Пока парижские дамы мучились разными вопросами, наши беглецы сошлись с коммунарами-эмигрантами. Их было около двухсот пятидесяти человек; они издавали революционную газету «Бомба». Верлен и Рембо встретились с самыми известными из этих людей: Жаном Батистом Клеманом, Анри Журдом, Леопольдом Делилем, Артуром Раном, Бенджаменом Гастино. Особенной честью для Рембо стало знакомство с Жоржем Кавалье, «Деревянной трубкой»; Верлен был уже давно знаком с ним, а Рембо рассказывал о нем читателям «Арденнского прогресса».
Именно тогда после первого знакомства с героями великой трагедии у Верлена родилась идея написать «Историю Коммуны». Сделать это было нетрудно, так как он, в силу своих обязанностей в мэрии, находился в центре событий. Он попросил жену прислать ему материалы, касающиеся этого вопроса; она должна была найти их в незапертом ящике его стола. Эта на первый взгляд безобидная просьба стала причиной целой серии катастроф, так как Матильда, роясь в другом ящике (возникает очень сильное подозрение, что этот ящик, в отличие от первого, был-таки заперт на ключ), нашла ответы Рембо на тайные письма ее мужа с февраля по май 1872 года. Из этих писем следовало, что, в то время как Поль утверждал, что Рембо уехал домой и больше никогда не вернется, он тайно готовил его возвращение! Можно ли было вообразить более очевидную ложь, более грязное предательство? Неожиданно в комнату вошел г-н Моте. Он забрал письма Рембо, чтобы отдать их адвокату своей дочери, а все остальное порвал. Вероятно, так пропала «Охота на духов» — рукопись была не очень пухлой, так как, по словам Верлена, хранилась в запечатанном конверте.
Матильда, не находя себе места от беспокойства, направилась к свекрови узнать, что же ее так расстроило в прошлый раз. Она стала расспрашивать о Поле, и добрая женщина пошла за последним письмом, которое получила от него. Матильде хватило одного беглого взгляда, чтобы убедиться, что в Брюсселе был Рембо! Все прояснилось; угроза ареста оказалась всего лишь предлогом.
Она была женщиной долга, поэтому решила сама вырвать мужа из лап его чертова дружка. Если же при этом выяснится, что Поль в самом деле не чувствует себя в безопасности в Париже, они уедут на время в Новую Каледонию. Там живет много коммунаров, которые смогут снабдить его материалами о трагических событиях мая 1871-го.
И вот в конце июля Верлен сообщает Рембо, что в Брюссель приезжает его жена в сопровождении г-жи Моте. Это известие совсем не обрадовало Артюра. Он понимал, что Матильда сможет околдовать Поля и вернуть его себе. Чтобы это прекрасное приключение, которое еще только начиналось, не закончилось так глупо, надо было действовать очень осторожно. Все в самом деле могло принять дурной оборот, ведь Матильда пустит в ход свои козыри: поцелуи, рыдания и смех, любовь наконец. Она считала, что уже взяла верх.
Верлен, выбитый из колеи и абсолютно растерянный, возражал только против немедленного возвращения в Париж. Матильда не сразу поняла, что он имел в виду. Поль хотел сказать, что он не свободен, но не решался и ссылался на то, что ему еще надо уладить кое-какие дела, прояснить ситуацию, дождаться ответов… короче, это был детский лепет. Матильда решила, что надо ковать железо, пока горячо, и назначила мужу свидание на площади Южного вокзала в четыре часа. Поезд на Париж отходил через час.
Рембо об этом свидании узнал. Ему надо было немедленно действовать. Он заявил, что раз так, он тоже уедет в Париж тем же пятичасовым поездом. Это невозможно, возразил Верлен; если он вернется в Париж, снова начнутся ад, работа, кабала, насмешки друзей — все то, от чего он избавился. Но коли нашему арденнскому барану какая блажь втемяшивалась в башку… Рембо стоял на своем, поэтому Верлен, придя на свидание в назначенное время, был сильно подавлен и едва волочил ноги. Матильда и г-жа Моте взяли его под руки и направились к вокзалу. Сев в поезд, они решили, что одержали победу. Верлен же был мрачен и угрюм.
На пограничной станции Кьеврен все пассажиры должны были сойти с поезда для прохождения таможенного контроля.
Верлен заметил в толпе Рембо1 и стал пробираться к нему. Поезд должен был вот-вот тронуться. Матильда и г-жа Моте были уже в вагоне, они высматривали Поля на платформе и наконец увидели его:
— Быстрее сюда! Быстрее!
— Нет, я остаюсь, — надвинув шляпу на глаза, отчеканил он и побежал к Рембо, который где-то прятался.
Матильда, униженная, оскорбленная, в слезах вернулась в Париж; ее сердце было полно презрения к мужу, она больше никогда его не увидит. У нее начался жар, и она слегла. Несколько дней спустя пришла записка от Верлена, которая совсем доконала бедную женщину: «Несчастная морковная ведьма, мышиная принцесса, клоп, которого давно пора раздавить, Вы все испортили, Вы, может быть, разбили сердце моего друга. Я возвращаюсь к Рембо, если он меня примет после того предательства, которое Вы заставили меня совершить». Послание, вероятно, было написано в нетрезвом состоянии; рукопись отсутствует, текст известен только по «Воспоминаниям» Матильды.
Естественно, было снова возбуждено дело о разводе. Рембо ликовал; как Цезарь, он пришел, увидел, победил. Солнце сияло над его головой.
В одном полицейском донесении (рапорт от 1 августа 1873 года) есть пассаж, касающийся этих событий:
Действие происходит в Брюсселе.
(…) Супруги ладили довольно неплохо, несмотря на капризы Верлена, который был уже давно не в себе, когда на беду в Париж приехал мальчишка пятнадцати-шестнадцати лет, родом из Шарлевиля. Он хотел показать свои произведения парнасцам. Этот Рембо чудовищно талантлив и чудовищно безнравствен одновременно.
Строй его стиха совершенен, однако его произведения абсолютно непонятны и отвратительны.
Верлен влюбился в Рембо, и они уехали вместе в Бельгию наслаждаться душевным покоем и всем, что из этого вытекает.
Верлен бросил жену с беспримерной легкостью, хотя она, как говорят, очень любезна и хорошо воспитана.
Влюбленных видели в Брюсселе; они открыто выказывали свою любовь друг к другу. Недавно г-жа Верлен поехала к мужу, чтобы попытаться его вернуть. Верлен ответил, что уже слишком поздно, что сближение невозможно и что к тому же он больше себе не принадлежит. «Семейная жизнь мне ненавистна, — воскликнул он, — у нас жестокая страсть!» Сказав это, он показал жене свою грудь, иссеченную шрамами от ножевых ранений, которые ему нанес его друг Рембо. Эти двое дрались и терзали друг друга, как дикие животные, чтобы испытать потом радость примирения.
Г-жа Верлен, потеряв всякую надежду, вернулась в Париж[109].
Опасность была устранена, и начался медовый месяц. Верлен выразил тогда свое счастье в легких стихах «Laeti et errabundi» из книги «Параллельно». Поэзия Рембо тоже изменилась. Когда Артюр жил в особняке Клюни, его стихи были смиренны и печальны, теперь их переполняла радость:
«Счастье! — воскликнет он в книге «Одно лето в аду». — Смертельно сладостный его укус, даже в самых мрачных городах, предупреждал меня, что вот-вот запоет петух, — ad matutinum, и что Christus venit»[111].
В другом стихотворении, «Брюссель», он мысленно проходит по бульвару Регента, этой длинной тенистой аллее, откуда виден дворец короля («очаровательный дворец Юпитера»). Было приятно прогуливаться там при ярком свете солнечных лучей между «напудренными, чинными фасадами». В некоторых домах были школы; оттуда раздавался «детский лепет», вокруг пели птицы. И вдруг он останавливается:
Выражение «Красиво адски!» он повторяет в другом стихотворении того времени «Кто она, не цветок…»[114]. Это было действительно слишком прекрасно, невероятно, похоже на сон или волшебную сказку.
Мог ли Артюр подозревать, что безоблачное бельгийское небо уже затянуло черными тучами? В одном досье бельгийской тайной полиции имеется письмо неизвестного судебного следователя своему начальнику, из которого следует, что просьба г-жи Рембо о розыске ее сына удовлетворена2.
Я имею честь послать Вам письмо некоего г-на Рембо[115], который просит помочь ему разыскать своего сына Артюра, покинувшего отчий дом вместе с (зачеркнуто: молодым человеком) по имени Поль Верлен.
Из собранных материалов следует, что (зачеркнуто: молодой) Верлен живет в гостинице «Льежская провинция» на улице Брабант в Сент Жостен-Нооде[116]. Что же касается г-на Рембо, то о нем до сих пор ничего не известно (зачеркнуто: Местопребывание Рембо пока неизвестно, однако можно полагать, что он живет со своим другом).
Этот документ свидетельствует о том, что если бы безвестный полицейский не перепутал «Льежский Гранд-Отель» с гостиницей «Льежская провинция», случилось бы непоправимое: Рембо вернули бы к матери, а Верлена, может быть, обвинили в совращении несовершеннолетнего. Но боги хранили друзей. Они как будто почуяли опасность и уехали из Брюсселя, чтобы посмотреть все королевство. Как образцовые туристы, они побывали в Мехелене, Генте, Брюгге, правда, их не очень интересовали старые камни, дома эшевенов[117], рынки, соборы, церкви и бегинажи[118].
7 сентября 1872 года, в субботу, в Остенде они впервые увидели море. Они были восхищены. Море всегда было для них символом истинной свободы. Естественно, они сразу сели на пароход до Дувра. Рембо испытал настоящее потрясение, шок. В стихотворении «Морской пейзаж», написанном на борту парохода, он — деревенщина! — сравнивает судно с плугом, который вспахивает водную поверхность, поднимая с каждой стороны проложенной борозды волны пены:
Во время путешествия, длившегося около восьми часов, их, по словам Верлена, «немного покачивало», но, как оказалось, качку оба переносили нормально. В воскресенье на рассвете они увидели залитый солнцем Дувр. К несчастью, все рюмочные и рестораны были закрыты. С большим трудом им удалось заказать в каком-то кафе вареные яйца и чай.
Потом они отправились в Лондон. Полная перемена обстановки, изумление, восторг: Темза, этот «громадный поток грязи» (Верлен), огромные мосты на кроваво-красных опорах, «невероятные» доки, улицы, бурлящие лихорадочной деятельностью, зеленые невозделанные пространства, «вавилонские» строения рядом с домами в неоготическом стиле, фабрики, дымящие трубы, бедные кварталы — от всего этого голова шла кругом. По сравнению с буржуазным, закованным в предрассудки Парижем Лондон представился им настоящей столицей мира, современной, потрясающей.
Прежде всего двум друзьям надо было заняться самыми неотложными делами: в гостинице им останавливаться было нельзя, и поэтому Верлен, знавший адреса нескольких эмигрировавших коммунаров, своих друзей, поспешил воспользоваться их услугами. Так, например, Вермерш, верный соратник группы «Ганнетон», который собирался жениться, уступил им свою комнату в доме 34 по Хоуленд-стрит. Феликс Регаме, художник и карикатурист, принял их 10 сентября в своей мастерской на Ленгам-стрит. От этой встречи — а также от тех, которые последовали в октябре, — остались ценные памятные вещи: портрет Верлена с сократическим черепом, набросок, где он же гуляет с Рембо по одной из улиц Лондона, а на них недоверчиво глядит полисмен… Представляя эти документы в книге «Верлен в картинках» (Paris, Floury, 1896), Регаме пишет: «Мы очень мило проводим время. Но он (Верлен) не один. С ним его немой друг. Это Рембо».
Рембо же ко всей этой затее отнесся несерьезно и заснул в цилиндре на стуле в углу мастерской — таким его и изобразил Регаме. Верлен, в свою очередь, взял карандаш и набросал веселую сцену: на террасе Академии Абсента на улице Сен-Жак продавщица цветов пытается обольстить Ка-риа. Он ей показывает, крутя пальцем у виска, на ангелочка Рембо, который возлагает на его голову венец, в то время как слева двое парнасцев (Леконт де Лиль, Катулл Мендес) как будто замышляют черную месть.
Вот наши два лондонца устроились в особняке XVIII века; раньше там жили достойные люди, а теперь сдавались внаем меблированные комнаты. Верлен и Рембо были заняты целыми днями: они бегали по всему «невероятному городу», вели нескончаемые беседы с коммунарами, которые встречали Верлена как своего (не он ли во время восстания работал начальником отдела печати в мэрии?). Из них назовем, кроме Эжена Вермерша, Жюля Андриё, очень умного, образованного человека, Пьера-Оливье Лиссагаре, автора «Истории Коммуны», Камиля Баррера, сотрудника газеты «Общественная жизнь», полковника в отставке Матусевича… Эта небольшая группа людей была очень активна, она организовывала лекции (две из которых провел Верлен) и доклады, издавала газеты. Но скоро Поль перестал принимать во всем этом участие, потому что всюду чуял дух осведомителей, а Рембо и он сам как раз очень хотели, чтобы полиция ничего о них не знала — за ними на самом деле постоянно следили. Поэтому они предпочитали бродить по улицам, им нравилось наблюдать за происшествиями, демонстрациями. На каждом шагу их смешили местные особенности: женщины в красных шалях, чистильщики сапог, негры, кучеры (Рембо нарисовал одного в романтическом широком плаще), пьяницы, нищие, проститутки и т. д. Естественно, они посещали, по мере возможности, пабы, кофейни и театры, где смотрели оперетты на английском, «Морковного короля» или «Выколотый глаз» Эрве, произведения Оффенбаха и, вероятно, несколько пьес Шекспира. Они побывали на международной выставке в Кенсингтонском саду, в центре которого находился огромный, под стать Колизею, Альберт-Холл; видели знаменитый Хрустальный Дворец из стали и стекла в пригороде Сиденем. Эти странные и величественные памятники индустриальной цивилизации, находящейся в своем расцвете, — там жили «духи», на которых «охотился» Рембо: им посвящено стихотворение «Города»3 из «Озарений», и Ундервуд несомненно прав, полагая, что «жаркий аквариум» в стихотворении «Bottom» — это освещенный газом аквариум в Хрустальном Дворце, «чудо науки», как о нем тогда говорили, а на самом деле приманка для посетителей4. Их жизнь была сплошным праздником: они присутствовали на живописном дефиле манекенов на празднике Гая Фокса, на церемонии вступления в должность лорд-мэра Лондона, посетили музей восковых фигур мадам Тюссо, «Тауэр сабвэй» (туннель под Темзой), видели фейерверки и фонтаны с подкрашенной водой. Рембо был поражен и воодушевлен индустриальным прогрессом, жизненной силой, верой в будущее целой нации, без всякого сомнения, первой в мире. И все это происходило в одновременно нежном и варварском окружении, под «серым хрусталем небес».
Причудливый рисунок мостов, то прямых, то выгнутых дугой, то пологих или стоящих под углом к первым, и отражения этих фигур в светлой воде обводного канала кажутся столь легкими и удлиненными, что берега оседают под тяжестью соборов и уменьшаются в размере. На некоторых мостах еще теснятся лачуги. На других взлетают сигнальные вышки, дрожат в тумане хрупкие парапеты. Минорные аккорды наплывают и тают, с берегов доносятся звуки струн.
Мелькнет красная куртка или какое-то платье, сверкнет трубная медь. Что это — народные песни, отголоски светских концертов, городских оркестров? Серо-голубая вода широка, словно морской пролив. Белый луч, упавший с небесной выси, роняет занавес на эту комедию [120].
Верлен, не писавший ничего уже два года, по примеру своего друга снова взялся за перо. Начиналась поэтическая эра, эра Ясновидения. «Романсы без слов», озаренные нереальным английским светом, выражают нежную меланхолию и приятные сожаления.
Но от поэзии до реальности далеко, и скоро их беспечной жизни наступит конец. Жена Верлена подала в канцелярию гражданского суда прошение о раздельном проживании и раздельном владении имуществом, пока не будет решено дело о разводе. Она приводила в свою пользу десять доводов, как-то: ее муж часто напивался пьян и жестоко с ней обращался, он неожиданно сбежал, странно вел себя в Брюсселе и т. д. Он, вероятно, не хотел придавать этому никакого значения, но ему постоянно приходили разные официальные бумаги, которые беспокоили его все больше: повестка для него одного, повестка в суд обоим супругам — рассмотрение возможности примирения, потом постановление от 13 октября, по которому Матильде разрешалось проживать у своих родителей, а Полю запрещалось «посещать означенный дом», решение прокурора о назначении алиментов в 1200 франков в год с немедленной выплатой 1000 франков и т. д.
Все это приводило Верлена в ярость, он потерял хладнокровие: он даже собирался «набить морду» мэтру Гийо-Сионе, адвокату жены, и созвать суд еще раз, так как у него тоже, кричал он, были «доказательства»! Ему дали понять, что это ни к чему не приведет, что ему надо играть по правилам, если он хочет защищаться в суде. Тогда он нашел себе адвоката, мэтра Перара (его контора находилась на улице Россини). В письме своему другу Лепеллетье от 8 ноября он говорит, что пишет речь в свою защиту, которой развеет в прах «отвратительные обвинения» (в содомии): «В речи я провожу трезвый и ясный анализ той душевной силы, в высшей степени достойной уважения, которая порождает мою симпатию к Рембо, нашу дружбу, верную, глубокую и постоянную, не стану добавлять совершенно чистую — господа, подумайте сами, какие мерзости вы нам приписываете!»
Этот документ, к сожалению, не сохранился: архивы господина Перара были уничтожены в 1919 году. Верлен — неисправимый поэт! — вообразил себе, что подобная исповедь, в которой он представал в самом выгодном свете, может повлиять на судейских крючкотворов и опровергнуть неопровержимые доказательства. С той же целью он собирался написать сборник стихов под названием «Песнь грязной любви», изобличающий вероломство жены и рисующий его мучеником; однако Рембо отговорил его: это показалось ему проявлением дурного вкуса, и потом, сколько можно обращать внимание на эту дуру?
Все эти неприятные обстоятельства, усугубленные приближением зимы, заставили их спуститься с небес на землю; к тому же друзьям не хватало денег — Верлен не мог бесконечно просить у матери, — так что порой они даже нищенствовали, как, видит бог, многие в ту пору в Лондоне: «В притонах, где мы пьянствовали, он (Рембо, «инфернальный супруг» «неразумной девы» Верлена) плакал при виде толпящейся вокруг нищей братии»[121].
Такая обстановка отнюдь не благоприятствовала литературному творчеству, для которого и Рембо, и Верлену нужны были покой и свобода. Друзья прекрасно понимали, что о них, как и об их дерзкой выходке, стали постепенно забывать.
В то же время Рембо продолжает записывать в «Тетрадь Ясновидца» свои ощущения: он делится впечатлениями, рассказывает сны, рисует пейзажи; все это были для него лишь упражнения в стиле — вот почему «Озарения» так бессвязны и фрагментарны. Рембо, вероятно, рассчитывал когда-нибудь объединить эти отрывки в целостное произведение, которое стало бы одной из вершин французской литературы, но подобный труд потребовал бы многих лет жизни в обстановке некоего неизменного благодушия. Он же жил в атмосфере постоянных раздоров. Его отношения с Полем становились все хуже. Терзаемый огорчениями, измотанный угрызениями совести, Верлен постоянно страдал, вздыхал и плакал; он постепенно превращался в ипохондрика. Удрученный Артюр смотрел на него с жалостью: несчастный не мог понять, что он, Ясновидец Рембо — чуждый унынию сверхчеловек, способный благодаря своей воле и энергии перенести любые поражения и насмешки, преодолеть привязанности, стерпеть безразличие. И этот сверхчеловек тащит за собой беднягу Верлена, парализованного ожиданием суда и чувством раскаяния перед женой, ее родителями и малюткой сыном!
Жалкий брат! Что за ужасные бдения ты перенес ради меня!
«Я не был ревностно поглощен этим предприятием. Я насмехался над его слабостью. По моей вине мы вернулись в изгнание, в рабство». Он предполагал во мне несчастие и невинность, очень странные, и прибавлял беспокойные доводы.
Я, зубоскаля, отвечал этому сатаническому доктору и кончал тем, что достигал окна. Я творил по ту сторону полей, пересеченных повязками редкой музыки, фантомами будущей ночной роскоши.
После этого развлечения, неопределенно-гигиенического, я раскидывался на соломе. И почти каждую ночь, едва только заснув, бедный брат вставал, с гнилым ртом, с вырванными глазами, — такой, каким он видел себя во сне! — и тащил меня в залу, воя о своем сне идиотского горя.
Я, в самом деле, в совершенной искренности ума, взял обязательство возвратить его к первоначальному состоянию сына Солнца, — и мы блуждали, питаясь палермским вином и дорожными бисквитами, и я спешил найти место и формулу[122].
Уже в начале этого «откровения» Рембо кается в том, что ему не хватило твердости характера. «Я насмехался над его слабостью» значит — я переоценил его бессилие, с ним надо было обращаться более жестко («По моей вине мы вернулись в изгнание, в рабство»).
Таким образом, уже в то время Рембо смутно предвидел, что вся его затея кончится плохо. Более того, он сам пострадает от этого: судебное разбирательство бросало тень на него. Матильда обвиняла Верлена в том, что он сбежал с юношей, и ее адвокаты могли это доказать; и тогда, поскольку Артюр несовершеннолетний, мог вмешаться прокурор. Рано или поздно мать неизбежно узнает обо всех этих гнусных инсинуациях. Кроме того, его литературной карьере придет конец.
Тогда Артюр набрался смелости и, опережая события, решил во всем признаться. «Недавно Рембо написал своей матери, — сообщает Верлен Лепеллетье 14 ноября 1872 года, — с целью известить ее о том, что делалось и говорилось против нас, и сейчас я поддерживаю с ней постоянную переписку. Я дал ей твой адрес, а также адрес моей матери, господ Моте, г-на Истаса и обоих адвокатов».
Г-жа Рембо восприняла эту новость как посягательство на ее доброе имя. Узнав о том, что ее отпрыску предъявлено обвинение в отвратительном разврате, она бросила все свои дела и нанесла визит матери Поля, которая, естественно, заявила, что все это лишь грязные сплетни, и возложила вину на коварных родителей Матильды, намеревающихся погубить ее дорогого сыночка.
Тогда г-жа Рембо поспешно направилась к ним на улицу Николе.
«Мы лучше знаем, что нам делать», — сказали ей высокомерно. В борьбе за письма и рукописи своего сына, за которые Верлен дорого бы заплатил, она также потерпела поражение: «У нас ничего не осталось, кое-какие бумаги находятся у адвоката, но их, вероятно, можно будет получить только после суда».
Итак, опасность была реальной и серьезной, поэтому был необходим срочный отъезд Артюра домой. Верлен, который считал, что разрыв будет равносилен признанию вины, не сдавался, вероятно, под влиянием Рембо, которого перспектива жизни в Арденнах отнюдь не приводила в восторг.
Но в конце концов мать почти насильно заставила Артюра вернуться в Шарлевиль, посылая ему просьбы, более походившие на угрозы.
«Жизнь моя переменится, — пишет Верлен Лепеллетье в начале декабря, — на этой неделе Рембо уедет в Шарлевиль, а сюда приедет моя мать».
В этом письме он сообщает, что они с Рембо видели на выставке картину Фантен-Латура, где изображены вместе. Двое друзей, должно быть, вволю посмеялись над невозмутимыми бородатыми парнасцами.
Примечания к разделу
1 На то, что Рембо ехал в том же поезде, первым указал Франсуа Порше (Verlaine tel qu’il fut, c. 198, примечание); он цитировал свидетельство Делаэ.
2 См. Д.-А. де Грааф «Autour du dossier de Bruxelles», Mercure de France, 1 августа 1956 г.
3 См. нашу статью «L’Architecture rimbaldienne» в Nouvelles littéraires от 24 августа 1967 г.
4 В.-Ф. Ундервуд в своих работах о жизни Рембо и Верлена в Англии довольно подробно рассказывает о том, как развлекались в ту пору (конец 1872) в Лондоне (приводятся названия пьес, шедших в театрах, выставок и т. д.).
Глава IX
ШАРЛЕВИЛЬ И РОШ — ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
Отъезд Рембо, казалось, облегчил на несколько дней жизнь Верлена — это могло положить конец наветам со стороны семейства Моте. Поль уже представлял себе, как он заживет с матерью, у которой только что произошла бурная сцена с г-ном Моте, потребовавшим алиментов и получившим категорический отказ. Рембо рассчитывал (по крайней мере, так он сказал Лепеллетье) снять маленький домик и пожить спокойно, а может — кто знает? — обзавестись семьей. Суда он не боялся и вел себя, как будто ни в чем вовсе и не был замешан, а слушание меж тем вполне могло состояться.
Г-жа Рембо тоже вздохнула с облегчением. Конечно, этот господин Верлен очень мил, но ее сын должен наконец понять, что пришла пора расстаться, раз уж его поведение стало причиной семейной ссоры, дошедшей до бракоразводного процесса.
Разочарование постигло Рембо сразу по приезде домой. Он был еще ослеплен огнями большого города, слышал грохот экипажей на улицах — вот почему родной Шарлевиль показался ему мрачным, как никогда. Город все еще был занят пруссаками[123], и в пять часов, как только наступали сумерки, улицы пустели. Конечно, здесь был старина Делаэ, но тот постоянно пропадал в своей конторе. И потом, он как был, так и остался ужасным провинциалом.
Рембо прочел ему некоторые из своих стихов, написанных с мая по август 1872 года. Вот как сообщает об этом сам Делаэ: «В начале 1873 года Рембо говорил: «А теперь, теперь я пишу незатейливые песенки, это ребячество, это мило и наивно», улыбаясь при этом с обычным для него выражением насмешливого смирения на лице»1.
На самом деле Рембо кипел злобой, ибо против него вновь образовалась коалиция: уже во второй раз Поль, Матильда, семейство Моте и г-жа Рембо сговорились заткнуть ему рот.
Письмо Верлена, пришедшее 10 января 1873 года, оторвало Артюра от этих мстительных раздумий. Поль писал, что ему очень плохо, что еще немного — и он «подохнет». Чтобы доказать правдивость своих слов, он попросил Рембо передать Эмилю Блемону вложенную в конверт записку следующего содержания: «Я умираю от печали, от болезни, от тоски, от беспомощности. Рембо передаст Вам это послание. Извините за краткость: больному она простительна. До свидания, а может быть, прощайте!»
В чем же была причина такого состояния? После Рождества Верлена охватили меланхолические чувства, об этом он сообщает Лепеллетье: «Все же мне очень грустно и одиноко.
Рембо — о! ты его совсем не знаешь, один лишь я познал его целиком! — покинул меня. Чудовищная пустота. Все остальное мне безразлично. Все люди — сволочи, и сволочами помрут. Но тише, черт возьми!»
Внезапно он впал в глубокую депрессию; он полагал, что пробил его последний час.
Его полные отчаяния письма достигли своей цели: примчалась мать в сопровождении кузины, а затем к нему возвратился и сам Рембо.
Артюр почувствовал, что двери его шарлевильской тюрьмы приоткрылись. Он не мог упустить такую прекрасную возможность улизнуть: ведь нельзя же оставить в беде друга, единственного друга, смертельно больного — не так ли? Но когда он попросил у матери денег, чтобы вернуться в Лондон, она возопила: «Ни за что! Ты никуда не поедешь!»
Тем не менее он получил необходимые 50 франков: г-жа Верлен передала их ему через Делаэ.
Через два дня Рембо был в Лондоне.
Верлен принял его с распростертыми объятиями и был счастлив объявить Эмилю Блемону, что после воссоединения со своим спутником чувствует себя гораздо лучше: «Что же касается Рембо — он тотчас же вернулся, ведь дружба для него превыше всего, он обо всем другом забыл; он все еще здесь, и, быть может, его неустанные заботы облегчат мою несчастную жизнь».
Рембо приехал в самый разгар семейного совета. Нужно было что-то делать, нельзя было пускать дело на самотек. Было решено, что, поскольку причиной всех бед Поля был проклятый процесс, затеянный Матильдой, он должен, что называется, смело взять быка за рога: поехать в Париж и от чистого сердца предложить ей полное примирение, а не зарываться головой в песок перед надвигающейся грозой. Если Матильда на это согласится, проблема будет решена, если нет, то перед судом он предстанет с гордо поднятой головой, имея в своем распоряжении веские доводы и хорошего адвоката, а значит, у него будут все шансы выиграть процесс. Верлена заставили признать, что, совершив такой благородный поступок, он ничего не потеряет, а только выиграет.
Но как только его мать уехала, к Полю мгновенно вернулись тоска и апатия.
Что до Рембо, то он вообще сомневался, что Поль способен на решительный шаг, и поэтому не видел веской причины торопить события. Самое лучшее — забыть обо всем и жить, как живется. Пора уже несчастному прекратить стонать и понять, что всем бедам придет конец лишь тогда, когда он забудет о существовании Матильды. Очевидно было одно: в Англии они должны жить независимо и свободно. Артюр когда-то говорил Полю Демени, что нужно найти «надежный источник доходов», а для этого требовалось прежде всего основательно изучить английский, чтобы иметь возможность давать уроки, зарабатывать деньги и не быть никому обязанным.
Мы с Рембо, пишет Верлен Эмилю Блемону, очень много занимаемся английским: читаем Эдгара По, сборники народных песен, Робертсона и т. п. Кроме того, мы стараемся выправить наше произношение, беседуя с торговцами, трактирщиками, книгопродавцами, и охотно выслушиваем все их замечания по этому поводу.
Ежедневно мы совершаем дальние прогулки в предместья и окрестные деревни Кью, Вулич, так как весь Лондон нам уже знаком. Друри-Лейн, Уайтчепел, Пимлико, Энджел, Сити, Гайд-Парк — все эти места мы знаем как свои пять пальцев.
[…]
Пока что мы пытаемся хоть немного заработать. Скоро мы сможем изъясняться достаточно хорошо, чтобы давать уроки французского, латыни и так далее.
Долгие прогулки и учеба были прекрасным развлечением, но не менее прекрасным было чтение. 23 и 25 марта друзья получили читательские билеты библиотеки Британского музея. Неизвестно, кто был их поручителем. Рембо расписался в том, что ознакомлен с правилами пользования библиотекой, и указал возраст — 21 год, хотя на самом деле ему было лишь 19.
Что они читали? Вероятно, По, Лонгфелло, Суинберна; может быть, они даже сидели за одним столом с Карлом Марксом, который в то время проводил там целые дни. Делаэ пишет, что Рембо получил отказ на требование выдать сочинения маркиза де Сада: эти книги лежали в закрытом фонде, чтобы получить их, требовалось специальное разрешение.
Однако никакое занятие не могло развеять тоску Верлена, терзаемого мыслями о своей трагедии. Теперь он был убежден, что только ценой разрыва с Артюром добьется душевного покоя. Несколько дней подряд его видели в районе вокзала «Виктория» — вероятно, он пытался узнать расписание поездов. Наконец, 3 апреля он решился сделать роковой шаг: поехать в Ньюхейвен, чтобы оттуда отплыть в Дьепп. Но в ожидании парохода Поль услышал, как два подозрительного вида джентльмена разговаривают о коммунарах и об участи, ожидающей их во Франции; это привело его в ужас. Повсюду полицейские! Тогда он направился в Дувр и утром 4 апреля поднялся на борт парохода «Графиня Фландрская», который возвращался в Антверпен. Прежде Поль написал Матильде нежное и трогательное письмо, в котором умолял ее быть благоразумной, прекратить этот дурацкий процесс, отравляющий их существование, подумать о маленьком Жорже и приехать в Намюр, где он ждал ее. Там они помирятся и, простив друг другу все обиды, вместе вернутся в Париж.
Воспрянув духом, он стал ждать ответа. Будь у нее даже каменное сердце, она не сможет остаться безучастной к человеку, который на коленях и в слезах молит ее о прощении.
Верлен и не подозревал, что за ним давно следила полиция. На следующий день после его отбытия из Лондона в парижскую префектуру поступило следующее сообщение: «Верлен, бывший служащий городского комитета до и во время Коммуны, друг Вермерша, Андриё и К°… отбыл в Париж по семейным делам».
Второе сообщение от 8 апреля доказывает, что Рембо знал о предполагаемой встрече в Намюре: «Верлен распустил слухи, что уехал в Намюр, сам же спокойно живет у матери».
17 апреля офицер Ломбар, служащий парижской префектуры, получил указание собрать все возможные сведения о прежней деятельности Верлена, его нравственном облике, поведении во время восстания, но в первую очередь об истинной причине его приезда в Париж.
Теперь понятно, какой рискованный шаг Поль предпринял, чтобы вновь завоевать расположение Матильды: он подвергался опасности сесть за решетку по меньшей мере лет на десять.
Все это вызвало неудовольствие Рембо, но он, однако, чрезмерно не беспокоился, предполагая, что Верлен вернется, расстроенный и сердитый. В сущности, он не ошибся. Матильда ответила мужу, что письмо ясно говорит о страхе проиграть процесс, который она, со своей стороны, считала беспроигрышным, поэтому пусть он впредь ее не беспокоит — она просто не будет читать его писем.
Итак, Артюру вновь приходилось расплачиваться за последствия: действительно, Верлен, сраженный наповал таким известием, уехал отдыхать к своей тетушке Эврар в Бельгию, в Жеонвиль, а Рембо снова остался один; он недостаточно владел английским языком, чтобы давать уроки, и следовательно, был не в состоянии покрыть свои расходы и заплатить за квартиру.
Артюр знал, что 5 апреля вся его семья уехала из Шарле-виля в Рош — не для того, чтобы подышать чистым деревенским воздухом, а из-за недавно случившихся больших неприятностей: конюшня и зерносклад сгорели, урожай пропал, к тому же арендатор бросил ферму. «Развалины сплошь поросли диким хмелем и крапивой», — пишет П. Берришон.
Артюр нагрянул в Рош 11 апреля, в Страстную пятницу. Это значит, что он оставался в Лондоне один всего несколько дней. Его сестра Витали, которой в то время было пятнадцать лет, рассказывает в своем дневнике:
То был великий день в моей жизни, ибо он был отмечен одним событием, которое меня поразило чрезвычайно: неожиданно приехал мой брат, чем доставил всем небывалую радость. Я вижу как сейчас, что мы сидим в комнате, где обычно занимались какими-либо делами, с матерью, братом и сестрой; и тут раздается тихий стук в дверь. Я пошла открывать… представьте мое изумление, когда я оказалась лицом к лицу с Артюром. Когда прошла минута первого удивления, брат поведал причину своего приезда, чем еще больше всех обрадовал — да он и сам был доволен. Весь день мы были вместе и испытывали чувство единства, сопричастности друг другу, о котором Артюр не имел, можно сказать, ни малейшего представления2.
13 апреля, на Пасху, все семейство направилось к обедне в Шюффильи, посвятив послеобеденное время прогулке. Этакая сельская идиллия: г-жа Рембо отдает приказания рабочим и каменщикам, Изабель и Витали возятся с цыплятами на птичьем дворе, а Фредерик копается в огороде.
Бедняга Артюр! В какую же дыру его занесло! Эта нищая деревня была под стать его матери — строга и печальна. «Ничто не скрашивает убогости здешнего пейзажа, тягучей деревенской дремоты и картины всеобщего запустения — ни холмик, ни деревце, ни речушка», — пишет Жюльен Грак. «Кроме неба тут ничего нет», добавляет Андре Дотель3.
Что же делать здесь, в изгнании? Рембо скоро понял, какая ждет его жизнь: жизнь простого крестьянина в сабо, без гроша в кармане, без друзей, без развлечений. Тогда он решил написать книгу о своих духовных поисках, благодаря которой смог бы заработать достаточно денег, чтобы снова уехать, не спрашивая мать и не взывая к щедрости г-жи Верлен. Артюр рассчитывал быстренько сочинить небольшую книжку в несколько глав. Великое произведение, которое он задумал — изучение варварского, незнакомого мира, открытого его взгляду Ясновидца, — могло и подождать.
Итак, он привез из Лондона («Это самый настоящий Иерусалим!» — говорил Верлен) несколько страниц, на которых были записаны его «зарисовки» на тему трех сцен из Евангелия от Иоанна: первые чудеса Иисуса в Галилее, Самарии и чуда у купальни. Бумага в Роше была редкостью, поэтому он сделал кое-какие наброски на оборотной стороне этих листов; это были части «Языческой, или Негритянской книги», которую он планировал написать, озаглавленные «Дурная кровь», «Ложное обращение»[124] и «Алхимия слова».
Он поддерживал постоянную переписку с Верленом, который в Жеонвиле скучал не меньше его, и возобновил отношения с Делаэ, все еще находившимся в Шарлевиле.
20 апреля, в воскресенье, было положено начало милой традиции: встречи трех друзей за столиком какого-нибудь ресторана неподалеку от границы.
15 мая Делаэ получил иллюстрированное послание Рембо, ценное свидетельство о жизни в Роше и планах, в том числе и литературных:
Рош
кантон Аттиньи
май 1873 года
Мой дорогой друг, ты можешь судить о моем нынешнем существовании по этой акварели.
О Природа! О мать моя!
Далее следует рисунок, довольно хорошо описанный П. Берришоном: «В небе маленький человечек с лопатой в руках, он ее держит так, как будто это дароносица, изо рта у него вылетают такие слова: «О Природа! О сестра моя!» На земле человечек побольше, в сабо, в руках у него лопата, а на голове колпак из хлопка, он окружен травой, цветами и деревьями. В траве сидит гусь, он говорит: «О Природа! О тетка моя!»
Какая гадость! И как же чудовищно простодушны эти крестьяне!
Чтобы добраться до кабака, надо вечером пройти пару лье, а то и больше. Из-за mother я попал в такую дыру!
Есть и другой рисунок, неизданный, пейзаж с подписью: «Деревушка Рош, кантон Аттиньи, вид из дома г-жи Рембо».
Я не знаю, как выбраться отсюда, но все-таки вырвусь на волю. С тоской вспоминаю об ужасном Шарлевиле, о кафе де л 'Юнивер, о библиотеке и т. д. Однако работаю довольно регулярно, пишу маленькие вещи в прозе, под общим заглавием: «Языческая, или Негритянская книга». Это глупо и невинно. О невинность! невинность, невинность, невинн… эх, цепом бы ее!
Верлен тебе уже, наверно, дал злополучное поручение договориться с г-ном Девеном, издателем «Северо-Востока». Я думаю, этот Девен мог бы неплохо напечатать книгу Верлена [125] по сходной цене и надлежащим образом, если только он не будет использовать такой же поганый шрифт, как и в газете. Хотя он вполне способен сверстать ее на манер своей газетенки, да еще объявления всунуть!
Мне больше нечего тебе сказать, я в столбняке от созерцания Природы, думаю, скоро я в этой природе растворюсь. Я твой, о Природа, о мать моя!
Жму тебе руку в надежде скорой, насколько в моих силах, встречи.
Р.
Я прочитал свое письмо. Верлен тебе, должно быть, предложил встречу в воскресенье, 18 числа, в Буйоне. Я туда приехать не смогу. Если ты там будешь, он, скорее всего, даст тебе несколько отрывков в прозе, написанных мною или им, чтобы ты их мне передал.
Моя мамаша вернется в Шарлевиль в июне. Это абсолютно точно, и я постараюсь на некоторое время задержаться в этом милом городке.
Жара стоит изнуряющая, а по утрам морозит. Позавчера я был у немчуры (немчур меня!) в Вузъере, там население в 10 тысяч человек, это в семи километрах отсюда. Немного развеялся.
Я связан по рукам и по ногам. Ни одной книги! Ни одного кабака поблизости, ни одной уличной драки! Что за ужас эта французская деревня! Моя участь зависит от этой книги, куда должны войти еще полдюжины ужасных историй, которые мне предстоит придумать. А как я могу придумывать ужасы в подобной обстановке! Рассказов тебе своих не посылаю, хотя написал уже три, это слишком дорого мне обойдется. Ну, вот и все.
До свидания, вот увидишь!
Ремб.
Упоминание о воскресной встрече в Буйоне содержится в письме Верлена к Делаэ от 15 мая, где Поль просит отменить назначенное свидание в Сюньи и сообщает на всякий случай, что 18 мая будет в Буйоне.
Он действительно побывал там, но никого не встретил:
Под проливным дождем, пешком пришел туда в полдень, пишет он Рембо, не нашел никого. Собираюсь уезжать с почтовой каретой. Отужинал с какими-то французами из Седана и здоровенным школьником из шарлевильского коллежа. Пирушка была — мрак!
Это письмо, очевидно, написанное после ужина, сопровождавшегося обильными возлияниями, содержит кроме довольно грубых шуток повторяющийся два раза намек на приятное известие: «Ты останешься доволен». Это значило, что путь в Англию был свободен — мать Верлена, при которой у него не хватало духу уехать обратно в Лондон, собиралась вернуться к себе в Аррас.
В пятницу 23 мая, накануне решающей встречи в Буйоне в следующее воскресенье, Верлен изложил свой план Лепеллетье: он поедет в Льеж, затем в Антверпен и наконец в Лондон после встречи с «дружками из Шарлевиля — Мезьера».
Эта встреча произошла 25 мая. В тот день Верлен так опоздал в «Арденнский отель», что и два года спустя все еще помнил об этом («Да, и по-свински же я себя повел тогда», — напишет он 1 июля 1875 года Делаэ). Последний спустя 55 лет описал памятный обед в октябрьском номере «Певчего дрозда» за 1928 год, но его рассказ содержит слишком много явных ошибок и нелепостей, чтобы приводить его здесь.
Можно предположить, что Рембо был рад возобновлению «крестного пути», тем более что Верлен, казалось, успокоился, если не полностью излечился. Он, похоже, решил — окончательно и бесповоротно — устроить свою жизнь, не думая о жене. И потом, для Артюра все было лучше, чем Рош в мае и Шарлевиль в июне.
Пасмурный и меланхоличный Делаэ один вернулся в Седан на почтовом дилижансе.
После посещения Льежа в понедельник 26 мая4 и Антверпена 27-го оба путешественника сели в тот же вечер на пароход компании «Грейт Истерн Рейлвэй», который, подняв якорь в 4 часа, прибыл в Харвич на следующий день в 6 часов 40 минут. «Неслыханное по красоте путешествие», — пишет Верлен Лепеллетье в письме от 29 (на самом деле 30) мая (пятница).
Рембо, восхищенный, написал верлибром стихотворение «Движение», по тону очень отличающееся от «Морского пейзажа», воспевающее первую встречу с морем. Наши путешественники покоряют мир («юная пара уединилась на этом ковчеге»):
Они сняли комнату у некоей г-жи Александры Смит в доме 8 на Грейт Колледж-стрит в Кемден-тауне, на северо-западе Лондона, очень веселом квартале недалеко от Хайгета, пристанища художников.
Сначала все было великолепно. Верлен взялся наконец за ум: «Никого не буду больше донимать своими проблемами, — пишет он Эмилю Блемону 30 мая 1873 года. — Правосудие положит всему конец».
Рембо мог праздновать победу. Со спокойной душой он принялся переписывать начисто черновые наброски «Языческой книги». Верлен нарисовал, как тот сидит в трактире и пишет, добавив на полях: «Вот так было написано «Одно лето в аду», в Лондоне, в 72–73». Этот рисунок (утерян5), о котором сообщает Шарль Уэн, хранился у издателя Леона Ванье.
Верлен, пользуясь не меньшей свободой, посещал читальные залы Британского музея и вновь почувствовал вкус к творчеству. Он уже понял, что Рембо был прав, настаивая на их финансовой независимости. Если они собирались надолго задержаться в Англии, то, конечно, не могли бесконечно пользоваться щедростью г-жи Верлен. Уроки французского приносили им достаточно, чтобы покрыть текущие расходы и немного отложить на черный день — свобода, черт возьми, стоит денег! Друзья уже представляли, как они путешествуют со всеми удобствами, как туристы, в южных морях… — в любом случае, далеко, очень далеко от улицы Николе!
Ундервуд нашел два практически одинаковых объявления в популярном «Эхе» от 11, 12 и 13 июня и «Дейли телеграф» от 21 июня 1871 года:
«Уроки французского, латыни, литературы на французском языке дают два джентльмена из Парижа. Цены умеренные. Верлен, 8 Грейт Колледж-стрит, Кемден-таун»6.
25 июня Верлен торжествующе объявил Эмилю Блемону, что нашел… одного ученика! Вероятно, побольше — вскоре оба друга стали давать по два урока в день за три шиллинга, что обеспечивало им карманные расходы, покупку табака и выпивку. На вопрос следователя в Брюсселе на допросе 12 июля 1873 года: «На что вы жили в Лондоне?» — Рембо ответил: «Главным образом на деньги г-жи Верлен, которые она присылала своему сыну. К тому же мы давали вместе уроки французского языка, но уроки эти приносили небольшой доход: дюжину франков в неделю».
Они рассчитывали преуспеть на этом поприще, вот почему занялись английским, на этот раз очень серьезно, «вкалывая» целыми днями. Верлен читал поэзию, особенно Суинберна, а Рембо выписывал слова из попадавшихся ему под руку газет, в основном из спортивной хроники и разделов о сельском хозяйстве. Обладая уже достаточным словарным запасом, они углубляли свои знания, занявшись тематическим изучением лексики. Кроме того, друзья снова начали посещать театр.
Однако в тот момент, когда Поль и Артюр уже почувствовали, что свободны и самостоятельны, все внезапно обрушилось.
В чем была причина?
В первую очередь «понимающие» улыбки и сплетни, которые распространились среди коммунаров-эмигрантов на счет их отношений. Это, должно быть, началось еще раньше, но друзья ничего не замечали, так как почти не встречались со ссыльными; тем не менее Верлен виделся иногда со своими старыми друзьями, Вермершем, Рега-ме и Андриё. Рано или поздно должен был разразиться скандал.
И вот в один прекрасный день Рембо, направившись к Жюлю Андриё, которого очень любил за образованность, к немалому своему удивлению был встречен, по словам Делаэ, «с неприязнью, доходившей до грубости»7. Он хотел сказать, что Артюра попросту выставили за дверь, возможно, при свидетелях. Значит, Андриё узнал, о чем перешептывались его товарищи-коммунары.
Для Верлена это был настоящий удар. Все его старые раны тотчас открылись. Он, который еще недавно писал Блемону: «Я вновь обрел смелость и здоровье» (25 июня), пал под ударом судьбы. Молва об их «порочной связи» подтверждала «инсинуации» семейства Моте. Он не только проиграет процесс, но и будет опозорен.
Тогда Верлен попытался опровергнуть слухи об их связи. Так, например, по сведениям Ундервуда, которые он получил непосредственно от Камиля Баррера, Верлен пришел к последнему, чтобы оправдаться: «Меня обвиняют в том, что я педераст, но это не так!»
Новость о происшедшем между Андриё и Рембо быстро облетела всех лондонских коммунаров и не ускользнула от осведомителей, которых и в Лондоне было порядком. 26 июня 1873 года в парижскую префектуру было передано следующее сообщение:
«Неясной природы связь объединяет бывшего служащего префектуры Сены (он не покидал свой пост и во время Коммуны), поэта-путешественника из журнала «Призыв» г-на Верлена и некоего молодого человека, часто наезжающего в Шарлевиль, во время Коммуны числившегося в отряде парижских вольных стрелков, г-на Рембо. Семья г-на Верлена настолько уверена в достоверности этого унизительного факта, что основывает на нем один из пунктов прошения о разводе».
Гнев Верлена был таким же неистовым, как и ярость Рембо.
Отныне их всюду будет сопровождать дурная слава. Это конец их литературной карьеры. К имени Рембо будет прикреплен позорный ярлык, да и мать его скоро будет поставлена об этом в известность.
Каждый мог обвинять своего друга в том, что тот исковеркал ему жизнь. Их отношения дали трещину, которую невозможно было не замечать.
Верлен, вероятно, запил горькую, как это с ним происходило, когда случались неприятности. Можно представить, как жестоко они стали обращаться друг с другом. Камиль Баррер вспоминал об их ссорах, доходивших подчас до мордобоя и поножовщины. Эрнест Делаэ рассказал о дуэлях «на немецкий манер»: «Брали в руки острое лезвие ножа, завернутое в салфетку таким образом, чтобы выступал кончик, и целились им в лицо и горло»8.
Рембо, со своей стороны, подтверждает его свидетельство: «Не раз по ночам сидевший в нем демон набрасывался на меня, мы катались по полу, я боролась с ним»[127] («Одно лето в аду»).
Скоро Рембо и Верлен не могли уже скрывать следы своих драк: порезов и кровоподтеков. В полицейском рапорте от 1 августа 1873 года говорится: «Эти двое дрались и терзали друг друга, как дикие животные, чтобы испытать потом радость примирения».
Так дальше продолжаться не могло.
Примечания к разделу
1 Э. Делаэ, Rimbaud (1906), с. 115.
2 «Nouveaux documents sur Rimbaud: le journal de sa sœur Vitalie présenté par H. de Bouillane de Lacoste et H. Matarasso» в Mercure de France, 15 мая 1938 г. Отдельный оттиск. Издание l’édition de la Pléiade.
3 La table ronde, ноябрь 1954 г.
4 «Льеж, каким я его видел! — я был там в день свержения Тьера в 1873 г. Я думал, я помолодею— нет…» П. Верлен, Onze jours en Belgique. Правительство Тьера пало 24 мая 1873 г. В Льеже об этом стало известно в понедельник 26-го.
5 Revue d’Ardenne et d’Argonne, сентябрь 1901 г., с. 191.
6 В.-Ф. Ундервуд, Rimbaud et l’Angleterre.
7 Э. Делаэ, Rimbaud (1923), с. 52.
8 Э. Делаэ, Verlaine (1919), с. 170.
Глава X
ТРАГЕДИЯ ДЕСЯТОГО ИЮЛЯ
В начале июля Верлен принял решение со всем этим покончить: он повторит свой намюрский подвиг, вызовет жену в Бельгию, а если она к нему не приедет, тем хуже — он покончит с собой. В обстановке строжайшей секретности он разработал план побега, записав в своем тайном дневнике, найденном Ундервудом, что ему надо предпринять: спрятать в надежное место рукописи, белье, одежду и т. д. Предварительно он выведал, что в четверг, 3 июля, в полдень, из Лондона в Антверпен отплывает пароход.
Когда наутро Верлен, мрачный и решительный, возвращался с рынка с бутылкой масла в одной руке и селедкой в другой (Казальс говорит, что это была скумбрия, завернутая в газету, а Делаэ добавляет, что рыба была тухлой, — но не все ли равно?), Рембо, увидев его в окно, крикнул:
— Вот Верлен к нам идет дурацкой походкой, а в руках у него — масло с селедкой!
Поскольку Верлену нужен был лишь предлог, эта обидная реплика стала для него сигналом к действию. Он ворвался в комнату, как сумасшедший, бросил свои покупки на стол и, побагровев, закричал: «Ну нет! Это невыносимо! С этим надо покончить! Раз ты надо мной издеваешься, я уезжаю!»
Быстрым движением он схватил свой чемодан, который — вот чудо! — был уже собран, и вышел, хлопнув дверью. Рембо, обескураженный, с открытым ртом смотрел, как Верлен бодрым шагом удаляется от него, но потом, поняв, что это не шутка, последовал за ним.
Здесь в нашем повествовании небольшая лакуна. Рембо, несомненно, лично присутствовал, когда его спутник поднимался на пароход до Антверпена, отправляющийся из дока Сент-Катрин. Но расстояние от Грейт Колледж-стрит до дока — примерно шесть километров, поэтому они не могли пройти всю дорогу пешком. Верлен, должно быть, сел в фиакр или воспользовался каким-либо общественным транспортом. Мы не знаем и не узнаем никогда, поехали ли они на омнибусе или метро, и поспорили ли в последний раз. Так или иначе, ровно в полдень пароход поднял якорь под вой сирены, а Рембо наблюдал за этим с причала и отчаянно махал руками, не прощаясь со своим спутником, но безнадежно взывая к нему.
Все было кончено. Пароход скрылся из вида. Рембо остался без единого пенни в кармане, один в огромном городе.
На следующий день после обеда он написал беглецу письмо, еще точно не зная, по какому адресу его отправить.
Вернись, вернись, мой дорогой, мой единственный друг, вернись. Я клянусь, что буду добрей. Если я повел себя некрасиво, упорствуя в своей идиотской проделке, то я раскаиваюсь, так раскаиваюсь, что это нельзя передать словами.
Вернись, все забудется. На беду поверил ты этой глупой шутке. Вот уже два дня я не прекращаю лить слезы. Вернись. Ты должен быть мужественным, дорогой друг. Ничто не потеряно. Тебе нужно только сесть на обратный пароход. Мы снова заживем здесь очень открыто, очень спокойно. О! Я умоляю тебя! Впрочем, это для твоего же блага. Вернись, здесь все твои вещи. Я надеюсь, ты понимаешь теперь, что в нашем споре не было ничего серьезного. Ужасная минута! Но почему, когда я махал тебе, чтобы ты сошел с корабля, ты не сделал этого? Для того ли мы провели вместе два года, чтобы так расстаться? Что же ты будешь делать? Если ты не хочешь возвращаться, хочешь ли ты, чтобы я приехал к тебе?
И постскриптум:
Ответь скорее, я смогу остаться здесь только до понедельника, вечером я уеду. У меня нет денег, и я не могу отправить это письмо.
Я отдал твои книги и рукописи Вермершу.
Если я не должен больше тебя видеть, я пойду в армию или во флот.
Он думал, что это был лишь каприз, простая размолвка, каких они уже много пережили и за которой в скором времени последует примирение.
На следующий день курьер принес письмо от Верлена «с моря», помеченное «очень срочно», которое удовлетворило любопытство Артюра.
Сначала упреки:
Друг мой! Я не знаю, будешь ли ты еще в Лондоне, когда дойдет это письмо. Я все же считаю необходимым сказать, что ты, однако, должен, наконец, понять, что мне абсолютно необходимо было уехать, что я не мог больше терпеть эту жизнь, жестокую и полную беспричинных сцен, разыгрывающихся из-за одной твоей фантазии!
А вот и разгадка тайны: он направляется в Брюссель, куда вызвал жену. «Если через три дня все будет по-старому и жена не приедет, я всажу себе пулю в лоб».
Здесь Рембо, должно быть, лишь пожал плечами. Но постскриптум вывел его из себя: «В любом случае мы больше не увидимся».
Тогда он продолжил начатое накануне письмо, зная теперь, куда писать: «Брюссель, до востребования».
Дорогой друг, я получил твое письмо «с моря». На этот раз ты не прав, совсем не прав. Для начала, в твоем письме нет ничего определенного: приедет твоя жена или нет и когда приедет — через три месяца или три года — как знать? Что же касается самоубийства, то я, зная тебя, могу предсказать, как ты на самом деле будешь вести себя: будешь метаться, всюду бродить и всем надоедать в ожидании жены и смерти. Согласись, для нас обоих не секрет, что мы оба притворялись, когда ссорились. Но виноват все же ты, потому что даже после того, как я позвал тебя, ты упорно не хотел отринуть свои выдуманные чувства. Ты думаешь, что сможешь жить лучше с кем-то другим? Подумай! Ну конечно нет!
Только со мной ты можешь быть свободным, я же клянусь тебе, что буду, буду добрей, что сожалею о своей вине, что, в конце концов, я в здравом рассудке, что очень тебя люблю, что, если ты не хочешь вернуться или видеть меня, ты совершаешь преступление и будешь раскаиваться ДОЛГИЕ ГОДЫ, так как потеряешь всякую свободу, а в жизни у тебя будут одни несчастья, вероятно еще более ужасные, чем те, которые ты уже испытал. А потом вспомни, чем ты был до встречи со мной.
Ну, здесь Рембо перегнул палку: до встречи с ним Верлен был уважаемым поэтом, примерным мужем и счастливым отцом. Конечно, между ним и женой произошло несколько тяжелых сцен, но в августе 1871 года, удалившись в деревню, они пережили там второй медовый месяц; а сейчас он был почти забыт, у него камнем на шее висел бракоразводный процесс, и к тому же его открыто обвиняли в связях, противоречащих общественной нравственности!
В следующей части письма сообщаются домашние новости («мне пришлось продать всю твою одежду, но ее еще не забрали») и планы на будущее: «В понедельник я рассчитываю уехать в Париж, мой адрес будет у Форена». И под конец угроза:
Если твоя жена вернется, я, конечно, не стану тебя компрометировать своими письмами — я просто больше тебе никогда не напишу.
Тем временем в Брюсселе Верлен уже понимал, что Матильда не приедет, и сожалел о своем безрассудном поступке, за который вынужден был расплачиваться Рембо. 5 июля, чтобы что-нибудь узнать о нем, он расспрашивает в письме Матусевича, бывшего командира коммунаров:
Мне пришлось бросить Рембо без средств, хотя это — я искренен, и пусть говорят, что хотят — причиняет мне ужасную боль. Тем не менее я оставил у него книги и личные вещи, чтобы он мог продать их для возвращения на родину.
(…) Вы виделись с ним после моего отъезда? Напишите же. Мне так важно это знать! Все шутки в сторону — договорились? — потому что мне больше не до шуток, черт возьми!
Он известил свою мать, Матильду и г-жу Рембо о роковом решении: если в понедельник в полдень жена не приедет, он пустит себе пулю в лоб!
Однако, по совету Огюста Муро, сына одного из бывших отцовских приятелей и крестника матери, с которым они случайно встретились, Верлен изменил свое решение: он не покончит с собой («Простое самоубийство начинает казаться мне чересчур нелепым», — писал он Матусевичу), а наймется к карлистам[128].
Его мать, срочно приехавшая в Брюссель, умоляла его не делать глупостей, а г-жа Рембо в пространном письме взывала к его мужеству: «Мсье, я не знаю, какие неприятности у вас случились с Артюром, но я всегда предполагала, что развязка ваших отношений должна быть несчастливой. «Почему?» спросите вы меня. Потому что то, что не позволено и не одобрено честными и порядочными родителями, не несет счастья детям. Вы, молодежь, надо всем смеетесь и издеваетесь, но вы не сможете оспорить тот факт, что на нашей стороне — жизненный опыт, и всякий раз, когда вы идете наперекор нашим советам, вы попадаете в беду».
Ну и наконец урок нравственности в великолепном патетическом стиле: счастье состоит в исполнении своего долга, поэтому работайте, найдите цель в жизни, не теряйте надежды на Бога, единственного нашего утешителя и врачевателя наших ран. Хочется вставить это письмо в золоченую раму и повесить на стену для всеобщего обозрения!
Что же касается Матильды, то она не соизволила ни написать, ни как-либо иначе выразить свое участие.
Как только Верлен понял, что потерпел неудачу, он отправил хозяйке квартиры, г-же Смит, записку, в которой просил позаботиться о его вещах, пока он не вернется в Лондон. Возвращение было самым мудрым решением, нужно было забыть обо всех «великих предприятиях» и мужественно вернуться к обыденной жизни. Г-жа Смит немедленно показала эту записку Рембо, который счел необходимым спустить своего друга с небес на землю (письмо от 7 июля): «Ах, ты хочешь вернуться в Лондон! Ты еще не знаешь, какой тебе окажут прием! Какие лица будут у Андриё и у всех остальных, когда они снова увидят нас вместе!»
Стало очевидно, что возвращаться в Лондон нельзя. К тому же там у них больше ничего не было. «Все продано, кроме одного пальто», — сообщил Рембо.
Растерявшийся и обеспокоенный Верлен погрузился в раздумья. Его судьба была окончательно решена: он наймется в испанскую армию защищать королевскую честь и в ближайшее время отправится на поле битвы. Один бог знает, что будет потом. Но совесть мучила его всякий раз, когда он думал о том, как дурно поступил с Рембо. Сударыня из Шарлевиля была права: всегда нужно исполнять свой долг. Он же не сделал этого и трусливо бросил Артюра на лондонской мостовой, принеся его в жертву своему заблуждению, что крошка Моте возвратится к нему, а она вместо этого только лишний раз показала, что у нее вместо сердца камень. А добрый, милый друг не сердился на него и все еще его призывал!
Не раздумывая более, 8 июля Верлен пришел на почту к открытию, чтобы послать Рембо следующую телеграмму: «Иду добровольцем Испанию. Приезжай. Льежский отель. Белье, рукописи, если можно».
Теперь все было в порядке. Рембо привезет его рукописи, и после трогательного прощания он поедет искать счастья в другие страны.
Дело было за главным: завербоваться в войска дона Карлоса[129]. 8 июля около полудня Верлен в сопровождении Муро направился в испанское посольство.
Катастрофа! Иностранцы на службу не принимались.
будет петь Гаспар Гаузер, то есть сам Верлен, в сборнике «Мудрость».
Ситуация прояснилась: не могло быть и речи, чтобы снова вернуться в Лондон из-за Андриё и остальных, и вскоре должен был приехать Рембо. Так же не могло быть и речи о романтическом самоубийстве или поступлении на военную службу. Единственный выход — это взяться за решение семейного вопроса. Итак, он поедет в Париж, потребует встречи с этой женщиной, которая все еще оставалась его женой, и поставит ее перед выбором: либо она откажется от процесса и согласится возобновить совместную жизнь, либо прольется кровь. Чья? Возможно, его: раз он уже пожертвовал своей жизнью, его личное счастье стоит победы дона Карлоса. Ее? Она этого захотела. Папаши Моте? Почему бы и нет, ведь он противился реализации его законных в конечном счете планов.
Верлен наконец понял, что именно нерешительность и врожденное великодушие были причиной его постоянных неудач и что лишь решительные действия, даже, если потребуется, жестокие, смогут изменить его судьбу.
На случай, если Матильда одумается, он снял две комнаты на втором этаже отеля «Виль де Куртре», в самом центре, на Гран-Плас, на углу улицы Брассер.
Поздно вечером, побывав предварительно в «Льежском Гранд-Отеле», появился Рембо1.
На следующий день, 9 июля, в среду, Верлен изложил ему свой план, приняв самый суровый вид, на какой только был способен, чтобы не дать ему возможность даже улыбнуться, если Рембо засомневается в серьезности его намерений, а потом спросил, что тот собирается делать.
— Я поеду в Париж, как и написал, — ответил Рембо.
Это было уже слишком! В прошлом году здесь же, в Брюсселе, он точно так же настаивал на возвращении в Париж… Опять за старое?
Рембо, с упорством, достойным его матери — о! как он был похож на нее в такие минуты! — ничего и слышать не захотел. Он свободен, не так ли? Свободен и для начала волен отомстить той шлюхе, которая его оскорбила и готова вновь пасть в объятия своего мужа. Обстоятельства сделали из него хозяина положения: они не хотели его присутствия, старались его устранить, потому что он мешал им, и вот он им еще покажет! Он никому не слуга, и он не сдастся. Пусть Верлен делает, что хочет, он же не желает служить ступенькой к счастью для крошки Моте, пусть она не ждет, что он принесет себя в жертву.
— Послушай…
— Что бы ни случилось, я еду именно в Париж, и ты мне не помешаешь.
— Ну ладно, увидим…
Весь день прошел в яростных спорах, ни один не хотел уступать. Понемногу Верлен утвердился в своем решении: его место возле жены, и любой вставший на его пути будет безжалостно сражен. Он защищал свои законные права.
Верлен, разгоряченный алкоголем, упорно добивался своего; он и не подозревал, что 9 июля один лондонский осведомитель передал в Париж такую записку: «Поль Верлен, близкий друг Вермерша и Андриё, уехал из Лондона в Брюссель, где получает письма до востребования». Над его головой нависла опасность, а он об этом даже не догадывался.
На рассвете 10 июля — в шесть часов утра! — он вышел побродить по городу, ожидая открытия оружейной лавки Монтиньи, которую он заметил, возвращаясь из Галери Сен-Юбер. Смеется тот, кто смеется последний! Он купил шестизарядный семимиллиметровый револьвер за 23 франка в кобуре из лакированной кожи и коробку с пятьюдесятью патронами. Поль попросил, чтобы ему объяснили, как пользоваться оружием, потом решил предварительно выпить для смелости. Он зарядил револьвер в туалете кафе на улице Шартре.
Вернувшись в отель к полудню, он показал Рембо свое приобретение.
— Для чего это?
— Это для вас, — ответил он, — для меня, для тебя, для всех!
На самом деле у него не было никакого определенного намерения, он только хотел показать, что не шутит, что у него в кармане веский аргумент, с которым стоит считаться!
Потом они пошли выпить рюмку-другую — было уже очень жарко — и вернулись в отель только к двум часам.
Здесь диалог двух глухих возобновился с удвоенным ожесточением. Поезд в Париж уходил без десяти четыре. Рембо уже собрал вещи, чтобы ехать, ему не хватало только денег на билет. Г-жа Верлен не отказала бы ему в двадцати франках, но ее сын запретил давать Рембо деньги. Она колебалась между страхом перечить Полю, который был в плохом настроении, и желанием прекратить эту невыносимую сцену. По мере приближения назначенного часа Верлен все более нервничал и раздражался. Он как тигр защищал свое счастье и домашний очаг. Он ревел. Он пойдет на крайние меры! Он никого не боится! Несколько раз ему пришлось отлучиться, чтобы утолить жажду в кафе отеля, настолько у него пересохло во рту (можно предположить, что каждый раз он закрывал дверь на ключ).
Но вот время пришло. Рембо принял решение: довольно ломать комедию, он уедет даже без денег.
Тогда Верлен придвинул стул к закрытой на ключ двери, с криком вытащил револьвер и прицелился в своего друга:
— Если ты уезжаешь, вот тебе, получай!
Рембо, побледнев, стоял напротив него, прислонившись спиной к стене. Раздались два выстрела: первая пуля попала в левое запястье, вторая застряла в стене в тридцати сантиметрах от пола. Г-жа Верлен вбежала на шум и тут же бросилась к раненому, из руки которого текла кровь. Оторопевший Верлен, сотрясаемый плачем, повалился на кровать. Придя в себя, он протянул револьвер Рембо:
— Возьми, разряди его мне в висок…
Его успокоили. Рана Рембо была не очень серьезной, артерия не задета, но кровь текла ручьем, и надо было сделать перевязку.
Все трое направились в больницу Святого Иоанна, договорившись, что скажут, что это был несчастный случай, произошедший во время чистки оружия; раненого осмотрели, перевязали и пригласили явиться на следующий день.
Они вернулись в отель, где никто ничего не заметил.
И тут спор возобновился. Рембо упрямо собирался ехать во что бы то ни стало. «Аргумент» Верлена оказался неэффективным.
Что же теперь? Опять начинать все с начала? Г-жа Верлен, доведенная до предела, вручила Рембо двадцать франков на дорогу. Когда тот уже направлялся к выходу, Верлен остановил его:
— Я тебя провожу!
Втроем они направились к Южному вокзалу. Для Верлена это было капитуляцией, поражением по всей линии фронта; счастье его загублено. Ну нет! У него хватит смелости в последнем рывке схватить судьбу за горло.
Без десяти восемь они вышли на Руппскую площадь. Верлен опередил свою мать и Рембо на несколько шагов, а потом, повернувшись к ним лицом, заявил, что вышибет себе мозги у них на глазах. Он опустил руку в карман, где все еще лежал пистолет, так как никто не подумал его обезоружить. Тогда, охваченный паникой, Рембо подскочил к ближайшему полицейскому и, указывая на Верлена, закричал:
— Арестуйте его, он хочет меня убить!
Всех троих отвели в центральный комиссариат полиции города, находившийся в здании мэрии. Там, после долгого ожидания, уполномоченный Делаль приступил к предварительному допросу. Рембо рассказал о произошедшей днем сцене точно и сдержанно. В разгоревшейся ссоре он обвинил Верлена: «Его общество стало невыносимым, и я изъявил желание вернуться в Париж». Взамен г-жа Верлен тоже не проявила снисходительности к Рембо: «Вот уже два года г-н Рембо живет за счет моего сына, и сыну приходится терпеть его сварливый и злой характер». Она не уточнила, о чем они спорили. Что же касается Верлена, то он был настолько взволнован, что не понимал, что говорит, и в итоге оговорил сам себя, заявив сначала, что его жена подала на развод, обвиняя его в «развратной связи» с Рембо, а потом — что Артюр, прибыв за два дня до этого в Брюссель, захотел его бросить. «Я поддался порыву безумия и выстрелил в него».
Все было ясно, речь шла о трагическом разрыве — версия, принятая впоследствии почти всеми биографами как классическая. «Он хотел бросить меня, поэтому я выстрелил». В действительности причина была иной. Когда распутная жизнь, которую вел Верлен, стала для него невыносимой, он решил вернуться к нормальным семейным отношениям. Если он стрелял, то не потому, что Рембо захотел его покинуть, а потому, что тот мешал выполнению его плана: в Париже должен был быть кто-то один — или Поль, или Артюр.
Полицейский заключил Верлена под стражу по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, изъял револьвер и коробку, в которой оставалось сорок семь патронов — доказательство того, что пистолет был еще заряжен, — и попросил Рембо и г-жу Верлен никуда не уезжать, так как их может потребовать к себе королевский прокурор.
Перед Верленом открылись двери карцера «Амиго», одиночной камеры в полицейском участке, а его мать и Рембо вернулись в отель; это было поздно вечером. Там их встретил художник Муро, о котором уже шла речь. Мать Верлена была так подавлена, что не могла вымолвить ни слова, поэтому всю эту нелепую историю ему рассказал Рембо.
На следующий день, 11 июля, владелец «Виль де Куртре», Верплетц, заинтересовавшись раной Рембо, спросил у него:
— Вы что, ранены?
Накануне он ничего не слышал.
— Да так, пустяки, — был ответ.
В больнице, куда направились Рембо и г-жа Верлен, больного осмотрели, и было решено, что нужно извлечь пулю. Он был помещен в 11 палату, койка № 19.
Муро не покидал г-жу Верлен. Она вернулась вместе с ним в отель, заплатила по счету и уехала в Иксель[131], где сняла комнату.
На следующий день, в субботу 12 июля, к Рембо пришел маленький господин в пенсне, следователь Теодор Стерстевенс в сопровождении секретаря, чтобы записать его показания. Артюру пришлось рассказать все еще раз. Начал он неопределенно: «В прошлом году, после ряда ссор с женой и ее родителями, Верлен предложил мне поехать с ним за границу». После довольно длительного пребывания в Лондоне у них начались раздоры «из-за того, что я упрекал его в беспечности и непозволительном поведении по отношению к некоторым нашим знакомым». В Брюсселе у Верлена «не было никакой определенной цели», он не хотел оставаться в этом городе, поскольку ему там нечего было делать. Артюр же хотел вернуться в Париж. «То Верлен изъявлял желание поехать со мной, чтобы там, как он говорил, расправиться с женой и ее родителями, то решительно восставал против этой поездки, потому что Париж наводил его на слишком грустные мысли. Он был в состоянии чрезвычайного возбуждения. В то же время он упорно настаивал на том, чтобы я остался с ним; он то впадал в отчаяние, то приходил в ярость». Как говорится, наплел сорок бочек арестантов. Такой сумбур вызвал у следователя подозрение, что от него что-то скрывают.
Рембо отдал секретарю свой портфель, в котором были бумаги, представлявшие для следствия большой интерес: письма Верлена с апреля по май 1872 года, сонет «Способный ученик» и другие документы.
Пуля была извлечена 17 июля.
Как и следовало ожидать, Теодор Стерстевенс вернулся на следующий день, чтобы окончательно прояснить все обстоятельства. Он уже представлял дело в общих чертах, однако один момент оставался неясным: действительная причина выстрелов. Хотя Верлен и купил оружие, у него могло не быть в голове определенного намерения.
«Верлен настаивал, как только мог, чтобы я остался с ним, — заявил Рембо. — Верно то, что в определенный момент он изъявил желание поехать в Париж, чтобы попробовать помириться со своей женой, и поэтому хотел мне помешать поехать туда с ним; но он менял свои решения каждую минуту, не останавливаясь ни на одном определенном плане. Вот почему я не нахожу никакой серьезной причины для покушения, которое он на меня совершил».
Пристрастие следователя раздражало Рембо: дело принимало опасный оборот. Следствие, может быть, будет проведено в Париже и — кто знает? — в Шарлевиле. Тогда, решив его приостановить, 19 июля он подал на имя судьи заявление, в котором просил не возбуждать «ни уголовного, ни гражданского иска», а также писал, что не собирается воспользоваться правом «требовать возбуждения уголовного дела против г-на Верлена». Другими словами, он добровольно отказывался предъявить гражданский иск, но этого было недостаточно для закрытия уголовного дела, уже возбужденного прокуратурой.
В тот же день, 19 июля, директор больницы Святого Иоанна передал следователю пулю, извлеченную из запястья Рембо, и сообщил ему, что раненый потребовал, чтобы его выписали из больницы.
Итак, Рембо был свободен, одинок, ошеломлен внезапностью происшедших событий и полон сожаления и горечи. Париж его больше не интересовал. Рана на руке заживала, через несколько недель от нее не останется и следа. Но душевная рана продолжала его терзать. Верлен будет осужден, в этом не было никакого сомнения, но и Рембо придется давать показания в суде, а потом о нем будут говорить еще и на другом суде, во время развода, в газетах появится его имя, в Париже разразится скандал, вся его жизнь может быть искалечена из-за этой дурацкой истории. И все из-за его упрямства: желая наказать Матильду, он наказал самого себя.
Эрнест Делаэ отмечает, что Рембо вернулся в Арденны через несколько недель2. Действительно, кажется довольно правдоподобным, что он дождался решения суда в Брюсселе. Это подтверждается также обнаруженным в 1947 году Матарассо рисунком на доске из красного дерева, на котором мы видим молодого человека в лихорадке, лежащего на кровати под красной периной. На табличке слева вверху можно прочитать:
Эпилог на французский манер.
Портрет француза Артюра Рембо, раненного своим близким другом, французским поэтом Полем Верленом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.
Писано с натуры Жефом Росманом у г-жи Пенсмай, продавщицы табака, на улице Бушер в Брюсселе.
Были найдены следы этого Андре Мари Жозефа Росмана (родился 31 января 1853 года) и г-жи Пенсмай, урожденной Анны Порсон, лавочницы (работала с 1872 по 1874 год3).
Итак, Рембо попал в меблированную комнату в одном из беднейших домов, над табачным ларьком.
28 июля по постановлению совещательной палаты Верлен предстал перед судом по обвинению в «ранении Артюра Рембо, повлекшем за собой нетрудоспособность последнего» (статья 399 бельгийского Уголовного кодекса). Тем временем парижская префектура собирала сведения, допрашивала знакомых Верлена, выясняя, как он вел себя во время Коммуны и каковы были его отношения с Рембо. Благодаря этому мы имеем донесение в характерном жандармском стиле, написанное следователем Ломбаром, писания которого мы уже цитировали. По его словам, эта драма «поставила с ног на голову весь Брюссель»; на самом деле пресса о ней не писала.
На глазах у матери одну или две недели тому назад у Верлена произошел спор со своим другом Рембо насчет денег, и после всех мыслимых оскорблений он выстрелил в последнего из пистолета, Рембо же стал звать на помощь. Мать Верлена, не зная, кто именно совершил попытку убийства, также позвала на помощь, и Верлен был арестован и заключен в тюрьму «Пти Карм», где ожидает приговора. Эти абсолютно достоверные факты можете проверить в Брюсселе. Возможно, что в Верлена из пистолета выстрелил Рембо, поскольку мне не удалось узнать в точности, кто именно стрелял.
8 августа Верлен предстал перед судьями шестой палаты исправительного суда. Рембо и г-же Верлен были присланы повестки в отель «Виль де Куртре», но так как они поменяли место жительства, оба в суд не явились.
Несмотря на все усилия, приложенные мэтром Нелисом из брюссельской коллегии адвокатов, защитником обвиняемого, Верлен был приговорен к двум годам тюрьмы строгого режима и штрафу в двести франков. Приговор был не слишком суров: намеренно ранив Рембо, Верлен выказал явное намерение убить его.
Осужденным и его адвокатом была подана апелляция, но кассационный суд 27 августа отклонил ее.
Верлен в наручниках был переправлен в тюрьму для военных и гражданских преступников «Пти Карм».
Рембо больше нечего было делать в Брюсселе, и он вернулся в Рош.
Примечания к разделу
1 В своих показаниях следователю в Брюсселе 12 июля 1873 г. Рембо ошибается и заявляет, что прибыл в бельгийскую столицу «во вторник утром». Утром во вторник, 8 июля, он все еще находился в Лондоне.
2 Э. Делаэ, Rimbaud (1906), с. 125.
3 Об этой чудесной находке объявил 5 апреля 1947 г. в Le Figaro littéraire Морис Монда. Она принадлежала Матарассо. О Жефе Росмане и о вдове Пенсмай (едва ли она существовала) см. статью Матарассо в Mercure de France 1 ноября 1947 г. О г-же Пенсмай-Порсон (она, вероятно, существовала) см. Д.-А. де Грааф, Mercure de France, 1 августа 1956 г.
Глава XI
В АНГЛИИ С ЖЕРМЕНОМ НУВО
В один прекрасный день, около полудня, Артюр прибыл на Вонкский вокзал. Мать, извещенная о приезде сына, уже ждала его. Можно представить ее горькое торжество:
— Я же говорила, что это плохо кончится. Бог всегда наказывает непослушных детей.
Она чувствовала себя глубоко оскорбленной, скандал приводил ее в ужас. Что касается Рембо, приехавшего с перевязанной рукой, вид у него был отнюдь не задиристый.
Если верить Берришону, Изабель, которой было тогда 13 лет, сохранила в памяти сцену возвращения брата. Артюр будто бы рухнул на скамью, повторяя сквозь слезы:
— О Верлен! О Верлен!
Может быть, он осознал в полной мере свою ответственность, так как именно из-за его чертова упрямства Верлен оказался в тюрьме. Между ними все было кончено — так не следовало ли ему остаться в Бельгии, сесть в Антверпене на корабль и уплыть в какую-нибудь далекую страну? Там он был бы свободен, а здесь, в Роше, он снова оказался в заключении.
— Что ж, все кончено…
— А твои бумаги, тебе их по крайней мере вернули?
Артюр привез с собой кипу страниц — материал для книги, которую предстояло теперь закончить. Можно поручиться, что Рембо и словом не обмолвился о компрометирующих стихах, конфискованных судьей.
Не мешкая семья вновь принялась за работу, нужно было собирать урожай.
«Унылая дыра» стала еще унылее, чем раньше. По дневнику Витали можно судить, что в Роше была поистине невыносимая тоска — она мечтала только о том, чтобы побыстрее открылся монастырь Гроба Господня в Шарлевиле.
Теперь и вовсе ничто, кроме гонорара за книгу, не могло помочь Артюру бежать. Недавние события были еще свежи в его памяти, это могло прибавить произведению резкости и натурализма. В то время как Фредерик орудовал вилами, а мать неутомимо вязала снопы, он сидел на чердаке, в единственном тихом уголке этой бурлящей вселенной. «Мой брат, — пишет Витали в своем дневнике, — не работал с нами в поле, он слишком серьезно был занят творчеством, чтобы позволять себе тратить время на другую работу».
Отметим в скобках, что Витали умалчивает об отъезде брата в мае и его возвращении в июле; какое-то потаенное чувство, должно быть, подсказало ей, что о некоторых вещах говорить не следует.
«Языческая книга» или «Негритянская книга» — какое убожество! Одним росчерком пера Артюр похоронил эти названия и заменил их другим, более ярким — «Одно лето в аду».
Общение с Верленом вдохновило его на написание одной из наиболее удачных глав, названной «Словеса в бреду», с двумя подзаголовками: «Неразумная дева» и «Инфернальный супруг». Несчастный муж Матильды предстает в обличии неразумной девы, обольщенной и запуганной. В длинном монологе она боязливо и плаксиво жалуется на суровость, жестокость и цинизм своего спутника — Ясновидца, упорствующего в непонятном желании «изменить жизнь». «Он был еще почти ребенок. Я забыла свой долг и пошла за ним. Какая жизнь! Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира. Я иду туда, куда он идет; так надо. И часто я, несчастная душа, накликаю на себя его гнев. Демон! Ты же знаешь, Господи, это не человек, это Демон»[132].
Не хватало только вступления. Оно было немедленно написано: «Однако совсем недавно, обнаружив, что я нахожусь на грани последнего хрипа, я ключ решил отыскать от старого пиршества, где, может быть, снова обрету аппетит!»[133]
Еще несколько заключительных абзацев, озаренных светом адского пламени, и книга будет закончена.
«Одно лето в аду» — это не рассуждение в собственном смысле слова, где есть посылки и заключения; это страстная речь, постоянное переосмысление влечений, склонностей и предпочтений автора в водовороте жизни, где все имеет свою противоположность: порок и невинность, Бог и ненависть к нему, тяга одновременно к первобытным цивилизациям и индустриальному обществу, навязчивая мысль о Востоке и полное его неприятие и т. д. Это манихейская[134] борьба света и тьмы, которую ведут с упрямой гордостью, кривляясь, кружась и пританцовывая.
Лейтмотив здесь — тема поражения. Рембо первый насмехается над своим честолюбием, иллюзиями и жалкими достижениями. Глава «Алхимия слова» открывается ироничными словами: «О себе. История одного из моих безумств». Так он называет то, чему посвятил жизнь — Поэзию, озаренную Ясновидением.
Каждый вечер он спускался вниз к семье, видел усталые лица и отвечал молчанием на упреки близких. «Ведь он уже почти здоров, — думали они, — но вместо того, чтобы работать, сидит на чердаке и марает бумагу».
На этой самой бумаге он изливал свою злость: «Любое ремесло внушает мне отвращение. Крестьяне, хозяева и работники — мерзость. Рука с пером не лучше руки на плуге. Какая рукастая эпоха! Никогда не набью себе руку»[135].
Сидя на чердаке и глядя сверху на копошащихся в земле родственников, он писал: «Жизнь расцветает в труде — это старая истина; однако жизнь, принадлежащая мне, не так уж весома, она взлетает и кружит вдалеке от активного действия, столь дорогого современному миру»[136].
Если, оставшись один, он иногда кричал и топал ногами, то делал это, как нам представляется, чтобы дать выход злости, которую вызывали в нем упреки домашних. П. Берришон, напротив, склонен понимать это в духе сомнительной романтики. «В часы работы, — пишет он, — сверху нередко доносились судорожные рыдания, прерываемые то стонами, то смехом, то злобными выкриками, то проклятиями».
Это сказка. Такая же сказка — история о кресте, который был якобы вырезан на его рабочем столе (когда об этом рассказали Полю Клоделю, он долго смеялся).
Итог произведения выражен в одной фразе: «Я растратил свою жизнь, ничего не осталось».
Удивительный текст, пронизанный молниями и искрами; отдельные места — возможно, лучшее, что было когда-либо написано по-французски:
Иногда я вижу на небе бесконечный берег, покрытый ликующими народами. Надо мною огромный корабль полощет в утреннем ветре свои многоцветные флаги. Все празднества, и триумфы, и драмы создал я. Я пытался выдумать новую плоть и цветы, и новые звезды, и новый язык. Хотел добиться сверхъестественной власти. И что же? Воображение свое и память я должен предать погребению! Развеяна слава художника и создателя сказок!
Я, который называл себя магом или ангелом, освобожденным от всякой морали, — я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью. Просто крестьянин![137]
На рассвете, когда кошмар заканчивался, он шел, пошатываясь, его лицо было залито холодным потом и покрыто «засохшей кровью». Вокруг не было никого. Галлюцинации и демоны исчезли. Еще слабый, но полный решимости, он был похож на расслабленного из купальни в Вифезде, которого исцелил Христос[138] — эту сцену сам Артюр изобразил так: «Паралитик, лежавший на боку, поднялся, и Проклятые увидели, как удивительно уверенно он пересек галерею и исчез в городе»[139]. В «Одном лете в аду» эту мысль он выразил следующим образом: «Мы войдем в города, сверкающие великолепием».
Вскоре он вынужден был признать очевидность того, что, сбежав из ада, Проклятым быть не перестал.
Прошедшее лето было жарким. Увядшие листья на деревьях и на земле говорили:
Вот и осень.
Перечитанная и исправленная рукопись была закончена. Артюр датировал ее апрелем — августом 1873 года.
Он собрал свой урожай.
Теперь наш герой держал в руках ключ от дверей своей тюрьмы (по крайней мере он так думал) и поэтому погрузился в праздные мечты: «Я завидовал блаженству неразумных тварей — гусениц, невинных, как обитатели лимба[140], кротов в дремоте непорочности». Его хотели привлечь к сбору фруктов (в деревне работы всегда хватает), но в конце концов оставили в покое. Так побуждает нас думать Витали, когда пишет в своем дневнике: «Наступил период сбора фруктов. Мы все взялись за работу… почти все».
Осталось сделать самое трудное и самое неотложное — найти если не издателя, то хотя бы владельца типографии. Надо полагать, он пережил не один жестокий скандал, прежде чем получил от матери задаток на предполагаемые расходы. Она не понимала, как можно тратить время на писание историй без начала и конца; видимо, она очень любила своего Артюра, раз уступила ему.
— Моя книга хорошо разойдется и, если ты ссудишь мне денег на первый взнос, я сам смогу расплатиться с издателем.
В конце концов она согласилась, пожав плечами, — на эти выброшенные на ветер деньги лучше было купить участок земли.
По словам Изабель, мать попросила показать ей рукопись. Она ничего в ней не поняла.
— Что ты хотел этим сказать?
— Я хотел сказать то, что тут говорится; в буквальном и во всех других смыслах.
К кому обратиться? Артюр помнил одного брюссельского издателя, Жака Поота, жившего на улице Ошу, 37, управляющего Типографского союза, который издавал юридический журнал «Право в Бельгии». Может быть, Рембо узнал о нем, перелистывая этот самый журнал перед судом (он беспокоился за судьбу Верлена и хотел знать, сколько тот рискует получить). Может быть, Рембо уже тогда свел знакомство с Жаком Поотом. Как бы то ни было, он отправил ему рукопись. Было договорено, что Рембо получит авторские экземпляры, заплатив аванс, а весь тираж (пятьсот экземпляров, розничная цена — один франк) будет оплачен при выпуске.
Вернемся на мгновение в Брюссель, где находился несчастный Верлен. Он так и не понял, что же с ним произошло. Он не поумнел и ничего не забыл и, сидя в камере, мечтал воссоединиться с Матильдой, не порывая с Рембо. Об Артюре он вспоминает в стихотворении «Crimen Amoris».
Его грехом было восхвалять жизнь и удовольствия, укрывшись за спиной Бога, которого он мечтал создать сам.
Но Бог, низвергнув в ад, превратил его в ледяную статую. Стихотворение Верлен послал Рембо, и тот собственноручно переписал его1 (это доказывает, что тогда они еще не разорвали отношения).
Помириться с Матильдой было не в пример сложнее. К тому же Верлен выставлял предварительные условия: например, он уверял Лепеллетье, что готов забыть о невероятно глупом (sic) поведении своей жены и принять ее с распростертыми объятиями, если она вымолит у него прощение.
Есть основания думать, что Рембо не ездил в Брюссель наблюдать за набором и изданием своей книги, как это утверждает П. Берришон. Его мать была не настолько щедра, чтобы оплачивать такие издержки. Столь же маловероятно, что он читал корректуру, иначе бы в издании не было такого чудовищного количества опечаток.
Однако установлено, что по приглашению Поота Рембо 23 октября отправился в Брюссель, чтобы забрать авторские экземпляры. Он остановился в «роковом» отеле «Виль де Куртре», как это следует из досье бельгийской тайной полиции:
«Рембо, Артюр, возраст — 19 лет, родился в Шарлевиле (Франция), профессия — писатель, проживает на улице Брассер, 1; 24 октября тайно выехал оттуда».
В тюрьме «Пти Карм» Рембо оставил один экземпляр своей книги для передачи Верлену. Очень вовремя, так как 25 октября заключенный был переведен в тюрьму в Монсе. Этот экземпляр с лаконичной дарственной надписью — «П. Верлену от А. Рембо» — Поль бережно хранил всю жизнь и завещал своему сыну Жоржу.
В ноябре, возможно, в знак благодарности Верлен посвятил своему бывшему товарищу несколько стихов и два рассказа в стихах (об этом он заявляет в письме к Лепеллетье от 28 ноября 1873 года). Эти произведения — своеобразный ответ Верлена на «Одно лето в аду», и то, что он посвятил их Рембо, говорит о нем, как о хорошем друге.
По возвращении в Рош Рембо вел себя не слишком скромно. Он всем показывал белую обложку книги с красующимся на ней именем автора. У него было около дюжины экземпляров.
Было бы достойно писателя, по здравом размышлении, разослать эти книги по газетам и журналам. Но Рембо развлекался как ребенок, раздавая драгоценные экземпляры друзьям, которые ничем не могли ему помочь. Одну книгу получил Делаэ (позже Рембо попросил ее вернуть), другую — Эрнест Мило (кажется, он тоже ее вернул).
Форену, который не вращался в литературных кругах, Рембо поручил распределить несколько экземпляров среди знакомых, что тот и сделал кое-как. Книги получили Жан Ришпен, Рауль Жинест — если верить Шарлю Моррасу — и, может быть, Рауль Поншон. Короче говоря, никакой пользы розданные экземпляры Рембо не принесли.
Понятно, что Артюр не мог представить свое творение на суд парнасцам (Мендесу, Блемону, Валаду), ведь он знал, что они враждебно настроены по отношению к нему. Этот путь был для него закрыт.
Однако свобода зависела от судьбы его книги, а он слишком высоко ставил свободу, чтобы упустить даже малейший шанс получить ее. Нужно было что-то делать, и он отправился в Париж, захватив с собой несколько экземпляров.
Полковник Годшот утверждает, что Рембо оплатил путешествие из денег, которые мать дала ему, чтобы вернуть долг издателю2. Это весьма вероятно, так как долги внушали ужас г-же Рембо, а Артюр, со своей стороны, должен был любой ценой стать знаменитым. Но это всего лишь предположение.
В Латинском квартале «брюссельская история» стала известна еще до приезда Рембо. Жан Ришпен писал, что Артюр в это время был знаменит своими приключениями с Верленом, а вовсе не своими произведениями. Все единодушно ополчились на Рембо: люди не забыли его вызывающей грубости времен зимы 1871/72 года и считали Рембо ответственным за случившееся с их дорогим другом Верленом. Посеяв ветер, он пожинал бурю.
Некоторые старые знакомые, к которым он обратился, отвернулись от него или дали понять, что ему здесь нечего делать. П. Берришон рассказывает один любопытный случай. Альфред Пуссен, юный нормандский поэт, сидел однажды вечером в кафе «Табуре», около Одеона. Там только и говорили, что о брюссельском скандале. Внезапно появился бледный молодой человек, на которого все показывали пальцем. Он молча уселся за стол. Пуссен, узнав в нем Рембо, подошел и предложил выпить, но тот отказался. В его взгляде было столько грусти, что Пуссен на всю жизнь сохранил воспоминание о том трепете, который охватил его, когда он поймал этот взгляд.
Подобное молчание было в характере Рембо, одновременно замкнутого и очень эмоционального. Когда случалось несчастье, он уходил в себя и, как говорится, впадал в депрессию. Можно быть уверенным, что в этот момент он послал к черту литературу и литераторов.
В том же кафе «Табуре» в другой вечер Рембо неожиданно встретился с провансальским поэтом Жерменом Нуво, который когда-то был репетитором в Марсельском лицее (лицей Тьера). Возможно, они познакомились в Зютическом кружке за год до этого, так как в «Зютическом альбоме» есть стихи и рисунки Нуво, а вообразить, что он рисовал и писал в нем после распада кружка, довольно сложно. Нуво был другом Рауля Жинеста, Жана Ришпена, Леона Кладеля и Мориса Бушора. Он посещал также знаменитый салон Нины де Вильяр. Происшествие с Верленом сильно его поразило: узник монской тюрьмы был в его глазах своего рода героем, имевшим смелость бросить вызов року, который затем сразил его. Скорее всего, именно о Верлене и говорил Нуво с Артюром.
Делаэ, который хорошо знал обоих, подчеркивал контраст их внешности: Рембо — высокий блондин с голубыми глазами, хмурый и недовольный, Нуво — маленький, коренастый, темный, как испанец, кипящий от избытка чувств. Когда Рембо высказал Нуво свое отвращение к литературе и желание объехать весь мир, начав с Лондона, поскольку ему было необходимо хорошо выучить английский, Жермен живо отреагировал:
— Не могу ли я поехать с вами? Я тоже хочу путешествовать, а я не знаю ни слова по-английски.
Рембо, вспомнив о холодных туманах на Темзе, ответил, что отправится в путь только следующей весной.
— Ну что ж, договорились!
Успокоившись и примирившись с судьбой, Рембо возвратился 2 ноября в Рош, привезя с собой оставшиеся экземпляры. Его жизнь вот-вот должна была обрести новый смысл.
«Лето в аду» было теперь всего лишь далеким и неприятным воспоминанием. Что касается издателя, то он может, если хочет, оставить весь тираж у себя[141].
Литература? Какая глупая ошибка! Забудем о ней навсегда.
Г-жа Рембо не поверила своим глазам, когда увидела, как Артюр бросает в огонь книги, черновики, письма, бумаги. Он пощадил только свой дневник Ясновидца, содержащий поэмы в стихах, будущие «Озарения». Изабель, которой было тогда 13 лет, смотрела на огонь и не понимала, почему это очищающее пламя заставляет так радостно блестеть глаза брата. Г-жа Рембо была рада, что сын наконец-то излечился от своих безумств и стал рассудительным. Годы жизни, полные нищеты и страданий, в один миг превратились в пепел.
Рембо провел зиму в Роше, в тепле. В начале 1874 года он несколько раз съездил в Шарлевиль, где встречался со старыми друзьями: Эрнестом Делаэ, Луи Пьеркеном, Эрнестом Мило.
Пьеркен рассказывает: «После брюссельского дела обыватели, возмущенные поведением Рембо, начали распространять про него гнусные слухи; ни Делаэ, ни Мило, ни я — три его лучших (скажу даже: три единственных) друга — никогда не верили в эту клевету. Я всегда избегал расспрашивать его об этом, зная, как это его огорчает. Однажды он ждал меня в кафе Дютерма, сидя один за столом с кружкой пива, к которому, впрочем, не притрагивался. Он мог сидеть так целыми часами, молчаливый и задумчивый. Я подошел к нему и сказал:
— А как там наши отвратительные современники?
Не знаю, понял ли он, что я намекаю на Верлена и брюссельский процесс. Он поднял на меня полный грусти взгляд и только пожал плечами. Через некоторое время Мило, менее боязливый, чем я, коснулся этого вопроса в нескольких словах:
— Не копайся в грязном белье, — ответил ему Рембо, — это слишком низко!
Мило принял это к сведению».
Можно предположить, что в соответствии с обещанием, данным Нуво в октябре 1873 года, Рембо отправился в Париж в середине марта 1874-го.
26 марта Нуво сообщил Жану Ришпену, что ему пришлось покинуть Париж, когда он меньше всего этого ожидал, и что теперь он находится в Лондоне вместе с Рембо. Из этого следует, что Артюр приехал за ним внезапно; этот поспешный отъезд, пишет Ришпен, больше походил на бегство.
«Мы сняли, — уточняет Нуво, — комнату на Стемфорт-стрит. Молодой человек из семьи, в которой мы живем, знает немного французский и разговаривает с нами по часу каждый день. Рембо, судя по всему, улучшил свой английский — по крайней мере, его знаний хватает, чтобы доставать нам обоим все необходимое».
Затем Нуво описывает свои впечатления от Лондона: «Духота физическая и духовная, мерцающий свет, запах мускуса и угля на улицах, невыразительные лица англичан, оживленное движение, заглушающее человеческую речь. Что за прелесть эти кебы!»
Ундервуд уточняет, что их хозяйка, миссис Стефенс, прозванная Нуво «мадам Полишинель», жила на Стемфорт-стрит 178, около вокзала Ватерлоо, на южном берегу Темзы.
Как и во времена Верлена, друзья посвящали все свое время изучению английского языка, поискам учеников и прогулкам. Молодые люди скоро узнали, что в одном ресторанчике, которым владел француз-англоман, можно раздобыть «задарма» большую тарелку жареной картошки с рыбой. Изредка они ходили в кабаре «Лондонский павильон», где танцевали джигу и пели арии из «Мамаши Анго». Своих соотечественников они видели редко. У Рембо были все основания избегать эмигрантов-коммунаров.
Важнее всего было найти учеников, так как теперь не было г-жи Верлен, чтобы оплачивать их безделье. С этой целью они давали объявления в различных газетах («Таймс», «Эхо»). В ходе обстоятельного расследования, проведенного В. Ф. Ундервудом, выяснилось, что из уважения к хозяйке квартиры или из недоверия к политическим эмигрантам они скрыли свои имена и адреса. Возможно, инициалы Н. А. означают Нуво, Артюр. Точно известно, что Сильви — это Нуво (это фамилия его матери), тем более что этот Сильви предлагает уроки французской (древней, классической, современной) и провансальской литературы. Вот еще более точные сведения — в «Эхе» от 29 апреля 1874 года было помещено объявление:
«Два парижанина, один из которых сносно говорит по-английски, приглашают для бесед английского джентльмена. Таван, Нуво, 30, Арджайл-сквер, Юстон роуд». Можно предположить, что Рембо и Нуво воспользовались услугами агентства, так как по этому же адресу часто предлагал уроки некий г-н Даркур.
Что касается работы, отметим, что, по весьма смутным воспоминаниям Делаэ, наши два лондонца работали у какого-то г-на Драй Капа[142] на фабрике по производству картона в Голборне[143]. Возможно, так называлась сама фабрика. Еще Нуво якобы нашел место воспитателя, а Рембо стал классным надзирателем в пансионе. Впрочем, оттуда его выгнали, так как он порвал барабан, которым созывали учеников. Ундервуд доказал, что все это лишь мистификации, шутки или легенды.
Вернемся к вещам более серьезным. С самого начала Нуво понял, что литература — его стезя. 26 марта 1874 года он предложил Жану Ришпену несколько очерков для «Возрождения». «Это принесет мне немного денег, которые ты мне перешлешь, вычтя из них на почтовые расходы», — пишет он.
Любопытное совпадение: на следующий день, 27 марта, Верлен из тюрьмы обращается с подобной просьбой к своему другу Лепеллетье: «У меня есть для «Возрождения» (почему для них? потому что они ПЛАТЯТ!) восхитительная сказка Диккенса (ранее не переводилась)».
В номере от 1 апреля 1874 года «Новый мир» (директор — Анри Мерсье, главный редактор — Шарль Кро) опубликовал стихотворение Жермена Нуво «Монастырская мечта», которая напоминает одновременно «Первое причастие» и «Искательниц вшей» Рембо.
В это время Нуво еще не нашел свой стиль: когда-то он подражал «Галантным празднествам» Верлена, теперь испытывал влияние Рембо, которое еще более очевидно в его стихотворении «Гостьи».
Наконец, 4 апреля 1877 года Рембо и Нуво записались в Британский музей. Из любви к мистификациям они придумали себе новые имена: Жан Николя Жозеф Артюр и Жермен Мари Бернар Жорж.
Так понемногу они оба — считая, что писать легче, чем играть в учителей, — снова увлеклись литературой с главной целью добыть средства к существованию. Рембо в этом далеко опережал Нуво, ведь у него был настоящий клад — стихи в прозе, которые можно было бы издать и продать в Париже. Кажется весьма правдоподобным, что навел его на эту мысль его товарищ. Рембо дал согласие и в спешке, с помощью Нуво, на долю которого досталось начало «Городов» и конец «Метрополитена», переписал свои произведения начисто на белых и голубых листочках3.
Артюр в свою очередь переписал сонет Нуво «Потерянный яд», который долгое время приписывали Рембо.
Мы не знаем, был ли сборник стихотворений в прозе уже тогда назван «Озарения» (был также и подзаголовок, «Цветные картинки» или «Открытки» — об этом говорит Верлен), но точно известно, что он был готов к июню. Литературная лихорадка вновь охватила обоих.
А потом внезапно все рухнуло. Жермен Нуво, бросив все, вернулся в Париж. У него должны были быть на это серьезные причины. Что же произошло? Ведь они не ссорились и были полны надежд…
Нетрудно себе представить. Нуво снова сошелся с парижскими литераторами, которые ясно дали ему понять, что, пока он связывает свою судьбу с Рембо, ни одна газета или журнал не согласится с ним сотрудничать и он ни за что ничего не опубликует. Жан Ришпен недвусмысленно заявлял: «Мы уже похоронили Нуво как поэта, ведь он попал под влияние Рембо и уехал с ним в чужую страну». Хватит нам Верлена.
В то время с нравственностью не шутили. Через полтора года Верлен, выйдя из тюрьмы и осмелившись послать несколько стихов Лемерру (который издавал новый «Современный Парнас»), получил такой же отказ. «Автор недостоин», — так объяснил свой голос «против» один из членов жюри, Анатоль Франс.
Это предположение подтверждается тем, что с того момента Нуво не решался больше упоминать имя Рембо в своих письмах: он обозначает его «этот» и «красавец» или довольствуется заглавной буквой Р. Наконец, 27 января 1876 года Нуво в письме Верлену снял запрет, который наложил сам на себя: «Никаких новостей от Рембо (Почему я боюсь писать его имя полностью?)». Тогда опасность уже миновала, но этого нельзя сказать об июне 1874 года.
Можно понять Нуво, который в 23 года не хотел портить себе карьеру, не хотел, чтобы все презирали его, и, наконец, не хотел, чтобы его забыли.
Вполне естественно, что друзья Жермена беспокоились, так как тогда считалось, что именно Рембо увлек Верлена на путь разврата. Многие биографы даже подозревали, что Нуво заменил Верлена во втором «странном браке».
В этом вопросе нужно быть осторожным, так как мы не располагаем убедительными доказательствами. Нельзя же составить обвинительное заключение на основании безобидного «Потерянного яда»:
Мы не можем также вменять ему в вину другие шутки сомнительного свойства по этому поводу, какие встречаются иногда в его творчестве4. Кроме того, большая часть его стихов посвящена женщинам, к которым он был явно неравнодушен.
Что касается Рембо, то мы уже подчеркивали, что гомосексуализм был для него лишь ступенькой к Ясновидению. Он не хотел вести порочную жизнь ради ее самой. Если Артюр пошел на это, то сознательно, и неприятностей, обрушившихся на него (скандал, насмешки в Латинском квартале, а потом и в Лондоне, истории с Лепеллетье и Андриё, провал «Одного лета в аду» и т. д.), хватило, чтобы отбить у него желание вновь предаться разврату.
Как раз в это время, 24 апреля 1874 года, гражданский суд Сены вынес решение о разводе супругов Верлен. Объяснительная часть судебного постановления касалась и Рембо: «Мы объясняем наше решение тем, что, как следует из переписки Верлена, он покинул место жительства супругов и уехал в Брюссель, где предавался пьянству; а также тем, что из этой переписки следует, что Верлен находился в постыдной связи с молодым человеком, а 8 августа 1873 года был приговорен Исправительным судом Брюсселя к 2 годам заключения и к штрафу в размере 200 франков за тяжкие телесные повреждения, нанесенные означенному лицу в припадке ревности».
Отъезд Жермена Нуво поверг Рембо в полную растерянность. Литературная карьера была для него закрыта. Он даже не мог позволить себе общаться с людьми, чтобы их тут же не заподозрили во всех смертных грехах. Отныне он всегда будет один. Собравшись с духом, Артюр попытался встретить беду достойно и дал новые объявления в газеты.
В. Ф. Ундервуд нашел некоторые из них. Вот одно в «Таймс» от 8 июня 1874 года: «Француз 25 лет из хорошей семьи, с отличным образованием, имеющий французский диплом, хорошо знающий английский язык, ищет место личного секретаря, компаньона в путешествии или воспитателя. Отличные рекомендации. Адрес: А. Р., 25, Ленгам-стрит, Лондон, запад» (вероятно, это адрес художника Феликса Регаме).
Вот еще одно объявление, опубликованное в «Эхе» 9, 10 и 11 июня: «Молодой парижанин, сносно говорящий по-английски, приглашает английского джентльмена для бесед у себя на квартире, предпочтительно во второй половине дня — Рембо, 40, Лондон-стрит, Фицрой-сквер, запад».
Этот текст наводит на следующие мысли. Во-первых, он странным образом напоминает объявление, подписанное «Таван, Нуво» (см. выше). Во-вторых, очень возможно, что Рембо действительно проживал по адресу, который дал. В. Ф. Ундервуд предполагает, что это жилище было довольно скромным, подходящим для читателей общедоступного «Эха», но не для читателей «Таймс». Поэтому Артюр попросил Регаме одолжить ему свою мастерскую или одну комнату в квартире.
Весьма вероятно, что на объявления никто не откликнулся. Несчастный Рембо впал в отчаяние, убежденный, что его преследует рок. Депрессия заставила его поступить по примеру Верлена: письмом или телеграммой он на несколько дней вызвал к себе в Лондон мать.
Г-жа Рембо решила, что это ее долг, и пустилась в путь с Витали, которой было тогда 16 лет (Фредерик поступил добровольцем на военную службу).
Сведения об их путешествии и пребывании в Лондоне мы можем почерпнуть из первоисточников: дневника Витали, просмотренного и исправленного Изабель по возвращении5, и трех писем Витали сестре, оставшейся в Шарлевиле, датированных 7, 12 и 24 июля 1874 года6.
Путешествие длилось 27 дней: от отъезда из Шарлевиля на рассвете в воскресенье 15 июля до отъезда из Лондона в пятницу 31 июля. Оно было бы более коротким, если бы Артюр быстрее нашел работу, и более приятным, если бы в это время в Лондоне не стояла изнуряющая жара.
Сначала Витали воспринимала все довольно наивно. Она просто не поверила своим глазам, увидев железную дорогу «на домах» (она хотела сказать «возвышающуюся над домами»). Артюр встречал их на вокзале Черринг-Кросс («который в 12 раз больше, чем вокзал в Шарлевиле») в понедельник 6 июля в 10 часов 10 минут. Он отвез семью в подходящий отель («Там повсюду ковры», — отмечает Витали) по адресу Арджайл-сквер, 12 («под нашими окнами в тени огромных деревьев растет бесчисленное множество цветов»), где снял две комнаты. Все удивляет молодую девушку: садики перед домами, оживленное движение, шум, «американские омнибусы» (трамваи). Она была так взволнована во время первой прогулки, что приняла колонну Нельсона на Трафальгарской площади за «большой фонтан». В восемь вечера Артюр пригласил мать и сестру послушать проповедь на английском языке в протестантской церкви Святого Иоанна, а на следующий день отправил их на вечернюю службу в собор Святого Павла. Витали была поражена рвением верующих («Какими добрыми католиками они могли бы быть!»).
Артюр проводил большую часть времени в Британском музее. Витали, которой однажды разрешили сопровождать брата, долго любовалась доисторическими птицами и другими древностями. У брата минуты возбуждения сменялись приступами меланхолии. 11 июля ему предложили сразу три места, а потом снова наступила тишина. 18-го числа он опять дал объявления в газеты.
Пребывание в Лондоне слишком затянулось. Скука сменилась унынием, которое в свою очередь уступило место беспричинной тоске. Даже магазины больше не интересовали Витали («зачем туда ходить, если мы все равно ничего не покупаем»).
Они осмотрели все классические достопримечательности: Тауэр и его подземелья, доки, Парламент, Лестер-сквер, казармы королевской гвардии, дворец королевы. «Стены без скульптурных украшений потемнели от времени. Окна — обычные, только очень маленькие».
27 июля Артюр повел семью в Британский музей на выставку, посвященную эфиопскому императору Теводросу[145]. Там были выставлены его корона, парадная одежда, оружие, драгоценности; в витринах красовались рукописи и книги с миниатюрами, которые в каталоге назывались «Озарения».
Но пора было уезжать, так как погода становилась просто невыносимой. Витали все больше скучала по Шарлевилю, который казался ей теперь «райским уголком», а г-жа Рембо была мрачнее тучи. Наконец в среду, 29 июля, они получили радостное известие: Артюр, мрачный и нервный, заявил в 9 часов, что не вернется к обеду; однако через час вновь появился, чтобы объявить о своем отъезде, намеченном на завтра. Все вздохнули с облегчением и бросились покупать подарки и сувениры. Но пришлось ждать еще один день, так как прачка не принесла белье.
И наконец: «Пятница, 13, 7.30 утра. Артюр уехал в 4.30. Он был грустный».
Во второй половине дня г-жа Рембо с дочерью тоже покинула Лондон. Возвращение было печальным. «Я думаю об Артюре, о его грусти, — пишет Витали, — и о плачущей маме».
Артюр наметил для них маршрут: Фолкстон, Остенде, Брюгге, Алост, Брюссель, Намюр, Динан, Живе и Шарлевиль.
Куда отправился Рембо 31 июля 1874 года в 4.30 утра? В 1897 году его сестра Изабель заявила первым биографам брата: «Он поехал в Шотландию»7.
В своих последних объявлениях Рембо ищет «в Лондоне или любом другом городе место воспитателя или компаньона в путешествии».
В Шотландию? Энид Старки8 и В. Ф. Ундервуд провели целое расследование, изучая железнодорожное расписание, ведя розыски в школах Эдинбурга и Глазго, — но безрезультатно. Единственный заслуживающий внимания след ведет в Скарборо, порт и модный курорт в Йоркшире, в 380 километрах к северо-востоку от Лондона. Об этом месте упоминает сам Рембо в поэме «Мыс» («Озарения»), Любопытны некоторые детали: например, Рембо пишет Scarbro’ вместо Scarborough — специфически местное сокращение. Кроме того, текст великолепно соответствует местному пейзажу. Мы находим здесь «святилища», то есть римские храмы; здание округлой формы, возвышающееся над окрестностями. Также упоминаются «круговые фасады роскошных отелей». В Скарборо существовало два больших отеля — два дворца: десятиэтажный Роял-отель с комнатами, открытый в 1867 году, который соответствует колоссальным изящным конструкциям, описанным Рембо, и Гранд-отель, собственность француза Огюста Фрикура, у которого был округлый фасад, как это видно на гравюрах, воспроизведенных в работах Ундервуда, откуда мы заимствуем эти сведения. Может быть, этот Гранд-отель, построенный на мысе, и есть тот «Мыс-дворец» из последних строк стихотворения Рембо, где он также упоминает Эпир, Пелопоннес, Карфаген, Венецию, Германию, Японию, Бруклин, Италию, Америку, Азию (тем самым придавая стихотворению большую глубину).
Можно предположить, что поиски места воспитателя в богатой семье увенчались успехом, и Рембо отправился в Скарборо — возможно, на яхте, так как стихотворение начинается такими словами:
«Золотая заря и зябкое повечерье встречают наш бриг в открытом море, в виду этой виллы со всеми ее пристройками, которыми занят весь мыс — а он не уступит Эпиру и Пелопоннесу, или главному из Японских островов, а то и Аравии!»[146]
Пристройки, о которых идет речь, — это скорее всего виллы со ступенчатыми террасами, ярко освещенными и украшенными, где подавали выпивку и танцевали «береговую тарантеллу». Это место имело вполне светский вид.
Стихотворение «Мыс» — настолько точная фотография Скарборо, что невозможно себе вообразить, что Рембо написал его, не побывав там.
Что стало с ним потом? Перед нами разверзлась новая пропасть, в глубине которой сияет слабый свет. Этот свет — объявление, вчерне набросанное Рембо и кем-то поправленное (конечно же не Верленом, который по-прежнему томился в тюрьме). Этот документ был найден в 1937 году в бумагах художника Ф. О. Казальса, друга Верлена. Объявление обнаружено Старки в «Таймс» от 9 ноября 1874 года. В. Ф. Ундервуд нашел его также в номере от 7 ноября. Вот его текст:
«Парижанин (20 лет), хорошо знающий литературу и язык, умеющий поддержать беседу, хотел бы сопровождать джентльмена (предпочтительно человека творческого) или семью в путешествии по странам Юга или Востока. Хорошие рекомендации. А. Р., 165 Кингс-роуд, Рединг».
Черновик Рембо, как показывает Ундервуд, содержит много ошибок, и это доказывает, что его знание английского оставалось поверхностным.
Перенесемся в Рединг, маленький городок в шестидесяти километрах от Лондона, через который проходит дорога на Оксфорд. По адресу, данному в объявлении, проживал один француз, Камиль Леклер. Известно, что у него было высшее образование. 25 июля 1874 года Леклер открыл в прекрасном четырехэтажном здании Институт французского языка. Там давали уроки французского языка и литературы. Старки нашла в местных газетах («Рединг Меркури») рекламные объявления института Леклера.
Рембо дал адрес института — значит, он жил там и преподавал. Не тосковал ли он по роскоши и комфорту Скарборо? Плавание в южные страны — вот что было бы великолепно!
Но неожиданное происшествие поставило все под вопрос.
Примечания к разделу
1 Факсимиле в диссертации А. Буйана де Лакота, Rimbaud et la problème des Illuminations.
2 Полковник Годшот, Arthur Rimbaud ne varietur, том II, с. 274.
3 См. А. Буйан де Лакот, Rimbaud et la problème des Illuminations, и Андре Гюйо «L’écrivain et son scribe: Germain Nouveau copiant deux textes des Illuminations», Rimbaud vivant, № 10 (1976).
4 Приведем пример: стихотворение Нуво «Отказ» открывается следующими словами:
Заканчивается оно так:
5 Выдержки из дневника Витали были опубликованы А. Буйаном де Лакотом и А. Матарассо в Mercure de France от 15 мая 1938 г. (отдельный оттиск в 36 страниц). Издание l’édition de la Pléiade.
6 Эти письма, а также два письма Изабель (от 9 и 17 июля 1874 г., они представляют лишь незначительный интерес) опубликованы в издании l’édition de la Pléiade. Оригиналы хранятся в Музее Рембо в Шарлевиле — Мезьере.
7 Жан Бургиньон и Шарль Уэн, Revue d’Ardenne et d’Argonne, сентябрь-октябрь 1897 г.
8 «Sur les traces de Rimbaud», Mercure de France от 1 мая 1947 г.
Глава XII
РАЗРЫВ С ВЕРЛЕНОМ
«Этот месяц начался с важных событий», — отмечает Витали Рембо в своем дневнике напротив даты: вторник, 1 декабря 1874 года. Дневник также свидетельствует, что в это время Артюр регулярно переписывался с семьей.
Что же произошло? Артюра вызвали на жеребьевку для призыва на военную службу[148], так как ему исполнилось полных 20 лет. Это было серьезно. Он сразу же решил вернуться в Шарлевиль. Витали уточняет, что он приехал домой во вторник, 29 декабря в девять часов утра. Шел снег и было очень холодно. В девять вечера того же дня вернулся и Фредерик, чтобы провести отпуск в кругу семьи.
Артюр навел справки и узнал, что жребий за него тянул мэр Шарлевиля (вероятно, он вытянул несчастливый билет). Тогда он подал прошение, где указывал, что по статье 17 Закона о рекрутском наборе от 27 июля 1872 года он может быть освобожден от воинской повинности, так как его брат Фредерик подписал пятилетний контракт о добровольном поступлении на службу в армию. Однако в соответствии с тем же законом он был обязан пройти военную подготовку. Его прошение было удовлетворено, о чем свидетельствует запись в табеле переписи призывных 1874 года, хранящемся в архивах Шарлевиля — Мезьера:
«Рембо, Жан Николя Артюр, рост: 1,68 м, учитель французского языка в Англии. Освобожден по требованию. Умеет читать и считать. Номер жеребьевки — 24; жребий тянул г-н мэр» (следует подпись г-жи Рембо).
10 января Фредерик уехал обратно в свою часть.
Артюр же, разочарованный тем, что на его объявления никто не откликнулся, и полагая, что уже в достаточной мере овладел английским, решил больше не возвращаться в Англию. И потом, он вовсе не собирался всю жизнь преподавать. Чего он действительно хотел, так это заложить основу на будущее и восполнить отсутствие университетского образования изучением иностранных языков. Чтобы заниматься торговлей или работать на заводе в приличной должности, было необходимо знание немецкого. В Германию, вот куда бы ему отправиться!
Артюр подыскивал себе место гувернера (за питание и жилье) и нашел его у г-на Любнера, проживавшего в Штутгарте на улице Вагнерштрассе. Так по крайней мере утверждают его первые биографы, однако этот факт оспаривается в связи с тем, что г-н Любнер не значится ни в одном городском справочнике. Де Грааф предполагает, что это был некий Вильгельм Любке, преподаватель истории искусств в Политехническом институте в Штутгарте, и мы увидим позже, что его версия вполне правдоподобна1.
Г-жа Рембо, обрадованная тем, что сын наконец-то образумился и начал задумываться о серьезных вещах, согласилась ссудить ему денег на дорогу. Делаэ впоследствии весьма неосторожно написал, что Рембо «выклянчил» эти деньги; это вызвало яростный гнев Изабель.
Из дневника Витали следует, что после того, как все было улажено, в субботу, 13 февраля 1875 года, он отправился в Штутгарт, где сразу же с головой окунулся в изучение немецкого языка.
Выражалось это в том, что он буквально глотал газеты, книги и журналы (один такой толстый иллюстрированный журнал он послал Витали), копался в библиотеках, часами торчал в картинных галереях, переписывал целые столбцы немецких слов, посещал вечерние занятия, наконец старался как можно больше общаться с людьми, у которых жил. Но атмосфера, царившая в семье, ему не нравилась. Быть может, юному «Franzôse»[149] слишком часто напоминали, что его страна проиграла последнюю войну?
Он не знал о том, что 16 января в Бельгии, в Монсе произошло важное событие: после полутора лет заключения на свободу вышел Поль Верлен. Он стал совсем другим человеком, после того как в момент глубокого духовного кризиса на него снизошла Божья благодать (это случилось в июне 1874 года, когда начальник тюрьмы прочел ему решение суда о разводе). Проведя по возвращении несколько дней в семье матери, он отправился в Париж, чтобы поговорить с адвокатом жены и отстоять свое право видеться с сыном, но тот даже не пустил его на порог. Находясь в совершенной растерянности, он был вынужден искать пристанища в картезианском монастыре Нотр-Дам-де-Пре, недалеко от Монтрей-сюр-Мер. Когда он вернулся к матери в Аррас, там его ожидало письмо от Делаэ. «Недавно я видел Рембо в Шарлевиле, — писал тот, — но он снова уехал в Штутгарт».
Верный логике, которую вновь обрел, Верлен полагал, что раз Рембо был, как и он, крещен, то и его грехи Иисус Христос искупил на кресте, однако, подобно заброшенному, заросшему сорняками саду, его душа засорена грехами: тщеславием, неверием, эгоизмом и другими пороками. Наставить несчастного на путь истинный и показать ему настоящий свет, тот, что исходит свыше, — такой представлялась Верлену миссия, доверенная ему Богом. Вернув своей дружбе былую чистоту, они оба смогли бы продолжить прерванный путь, но на этот раз он вел бы их не к гибели, а к спасению. Верлен тут же поручил Делаэ передать Рембо письмо, над которым, по его словам, размышлял полгода. Оно было одновременно и категоричным и трогательным. Если верить Делаэ, его содержание сводилось к одной фразе: «Возлюбим друг друга во Христе».
Спустя несколько дней пришел ответ, полный насмешек и оскорблений в адрес «нового Лойолы».
— Жалкие мыслишки! — ехидничал Рембо.
Однако Верлен, предвидевший подобную реакцию, не терял надежды. Сознавая всю сложность задуманного, он понимал, сколько оскорблений предстояло ему вытерпеть, — но именно они стали бы искуплением его грехов и его добродетелью. Уверовав в сей новый «крестный путь», он потребовал от Делаэ адрес Рембо. Артюр в конце концов согласился:
— Мне все равно, если хочешь, можешь дать мой адрес этому Лойоле.
Через три дня Верлен был в Штутгарте.
Можно себе представить, каково было изумление Рембо при виде Поля, одетого в просторный плащ, придававший ему вид разбойника с большой дороги, и в особенности при виде произошедшей в нем перемены: вместо былой непринужденности в общении Верлен демонстрировал пугающую серьезность и набожность, достойную какого-нибудь прелата.
Они начали с литературы. Верлен зачитал товарищу свои новые произведения, в частности, стихотворение «О Господи, любовь Твоя, как меч», которое позднее было найдено в выгребной яме в Роше; Изабель считала, что это стихотворение ее брата2.
Взамен Рембо отдал ему свои «стихи в прозе», которые переписал набело в Лондоне, с просьбой отослать Жермену Нуво, находившемуся в тот момент в Брюсселе, чтобы тот по возможности напечатал их в Бельгии. Таким образом, первая встреча прошла мирно, хотя все эти разговоры ничего не говорили ни уму, ни сердцу. Верлен не за этим приехал. Как только он приступил к главному — к религии, — Рембо предложил прогуляться по городу и в каждой пивной ставил ему пиво, зная, что оно плохо влияет на Поля. Спустя некоторое время последний, раздраженный саркастическими репликами Артюра, в конце концов потерял терпение и начал горячиться. Рембо не переставал издеваться, и Верленом овладели прежние демоны: «святой» принялся браниться на чем свет стоит, стуча кулаком по столу и не замечая искры иронии в глазах друга. Чтобы слегка развеяться, они отправились подышать воздухом за город, в маленький лесок. Здесь беседа одновременно оживилась и накалилась. Верлен, едва стоя на ногах, докучал Рембо, умоляя его подумать о своей душе. Тогда тот одним движением руки столкнул его в канаву.
Верлен никогда не упоминал об этой сцене по той причине, что считал ее всего лишь незначительным происшествием. Однако многочисленные биографы сделали из мухи слона и рисовали романтическую картину столкновения ангела света с ангелом тьмы или же битву Иакова (Рембо) с божественным ангелом (Верленом) у брода через Иавок. К примеру, Делаэ вносит такую деталь: оказывается, всю ночь Верлен, как бревно, провалялся в канаве, а на следующий день его, бесчувственного, подобрали сердобольные крестьяне и отвели в свою хижину. Чистой воды выдумки, так как у Делаэ было подтверждение тому, что поэты расстались друзьями — это явствует из письма, посланного ему Рембо 5 марта 1875 года (по ошибке оно датировано пятым февраля, но на штемпеле стоит 6 марта):
На днях сюда приезжал Верлен с четками из клешней рака… Три часа спустя мы отвергли его бога и заново распяли Спасителя. Он пробыл здесь два с лишним дня, вел себя очень рассудительно и, как мне думается, возвратился в Париж, чтобы там на острове[150] закончить свое обучение.
Мне осталось всего неделю провести на Вагнерштрассе и мне жаль потраченных денег — я им платил, а они меня ненавидели — жаль всего того времени, что я потерял здесь. 15-го у меня появится Ein freundliches Zimmer[151] неважно где, к тому же я так усиленно штудирую язык, что вполне мог бы уложиться самое большее в два месяца,
Все здесь в общем-то неважно, исключая одно: Riessling[152], покал котороффо я опрокитыфаю, фоссетая напротифф холмофф, литсесреффших еффо роштение, са тфое неистошчимое сторофъе. Светит солнце, стоит мороз — все это удручает.
После 15 пиши «до востребования», Штутгарт.
Твой Ремб.
В верхнем левом углу письма — рисунок, отдаленно напоминающий дом профессора Любке, со следующей подписью: «Wagner verdamnt in Éwigkeit»[153]. Надо сказать, что великий музыкант порядком утомил Рембо, так как с 27 февраля по 5 марта в Штутгарте проходила так называемая Wagnerwoche[154], неделя, учрежденная Листом и посвященная автору «Кольца Нибелунга». В нижнем углу письма другой рисунок изображал штутгартский старый город: странный пейзаж, на котором можно видеть пузырьки, стаканы с различными надписями (Riessling, Fliegent Blatter[155] и т. д.), трамваи, человеческие фигурки и непристойности3.
Верлен, как только у него появилась возможность, отослал рукопись «Озарений» Жермену Нуво, вероятно, из Арраса («2.75 франков за отправку!» — уточняет он в письме Делаэ от 1 мая 1875 года), после чего отправился в Англию, где быстро нашел себе место учителя в частной школе «Грэмма скул» в деревне Стикни, неподалеку от Бостона[156].
17 марта Рембо сообщил матери и сестрам свой новый адрес: Маринштрассе, 2, 3 этаж.
Я живу в центре города в огромной меблированной комнате и плачу за нее 10 флоринов, что составляет 21 франк 50 центов, включая различные услуги; ежемесячно я получаю 60 флоринов пансиона, впрочем, я в них не нуждаюсь, так как постоянно прибегаю к маленьким ухищрениям и тем самым изрядно сокращаю свои расходы — заодно помогает такая штука, как привычка.
Итак, Рембо предпочел жить независимо и с этой целью продолжал давать платные уроки. И здесь открытие де Граафа вызывает интерес, так как де Грааф отмечает, что дом, где Рембо снимал комнату, находившийся в действительности по адресу Маринсбадштрассе (в настоящее время Урбанштрассе), 34, принадлежал профессору Любке; там располагался своего рода семейный пансион4.
В своем письме Рембо не скрывает, что его финансовое благополучие очень шатко: все, что у него осталось, — это 50 франков, и к 15 апреля ему необходимо где-то достать деньги. В заключение он пишет:
Я стараюсь адаптироваться к местным условиям всеми возможными способами, стараюсь узнавать местные обычаи и привычки, хотя, по правде говоря, их образ жизни доставляет мне массу неудобств. Привет вояке (Фредерику. — П.П.). Надеюсь, что Витали и Изабель здоровы, пишите, если вам что-нибудь отсюда нужно, преданный вам
А. Рембо.
В апреле, как он и ожидал, ситуация осложнилась, и, что еще хуже, он залез в долги (заказал визитные карточки). Тогда ему в голову пришла идея попросить денег у Верлена, который из христианского милосердия не откажет ему в помощи. Итак, он открытым текстом попросил у него через Делаэ «ссуду» в сто франков.
В то время их отношения еще не испортились. Поскольку Рембо жаловался на то, что скучает в Штутгарте, Верлен, используя Делаэ в качестве посредника, дал ему дружеский совет: «Отбрось свои черные мысли, развлекись, походи по кафе, да не забудь про театры…»5 Однако просьба о деньгах его возмутила. Ну нет, шутка уже и так затянулась! Рембо думает, что он всегда будет для него курицей, несущей золотые яйца? Опоздал, подохла эта курица! Верлен довольно сухо отказал, тем более что ему показалось, что Рембо намерен шантажировать его в случае отрицательного ответа. Вскоре он получил от Рембо письмо, где кроме ругательств были только знаки препинания, письмо было написано, как он скажет позднее, языком мертвецки пьяного человека.
Это был окончательный разрыв.
Верлену ничего не оставалось делать, как плакаться в жилетку Делаэ. 22 апреля 1875 года он пишет: «Прежде всего я не сержусь. Я жду извинений и не обещаю помириться, если их получу. Если он дуется, тем лучше! Пусть себе дуется! В конце концов, я не так много добра видел от этой любопытной Варвары!
В самом деле, подведем итоги: полтора года я провел в известном тебе месте[157], мои и без того скромные сбережения все растрачены, моя семья распалась, мои советы отвергнуты, и под конец я сталкиваюсь с неприкрытой наглостью. Премного благодарен!»
Далее он заявляет, что на самом деле сохранил к Рембо былую симпатию и что даже готов принять его, если тот решит вернуться (готов, конечно же, как христианин, подчеркивает он), и тут же, поддавшись охватившему его злопамятству, доходит до того, что рисует портрет Артюра в самых черных красках: «Когда человек принимает грубость за силу, злость — за политику и негодяйствование — это его собственное слово — за ловкость, еще бы! В сущности, он всего лишь грязный негодяй и воинствующий невежа — это чистая правда, сегодня я искренен — и к тридцати годам он превратится в злобного буржуа, вульгарнее которого — только сама вульгарность, если только не получит урок вроде моего… Кончено. И запомни хорошенько, что я тебе говорю. Вот увидишь, так оно и будет. Кстати, все это — строго между нами».
Это апрельское письмо — прозаическая версия стихотворения «Несчастный! все блага…», которое он напишет три месяца спустя.
Верлен настоятельно просил Делаэ — конфидента обоих поссорившихся друзей, разрывавшегося по этой причине между Стикни и Штутгартом, — никому не давать его адреса. Впрочем, Верлен просил об этом всех своих друзей: «очень серьезные причины», говорил он одному, «beware of the leeches»[158], рекомендовал другому. — Все указывает на то, что он боялся какого-нибудь демарша со стороны Рембо. Эта навязчивая мысль не даст ему покоя еще много лет.
Таким образом, для Рембо Верлен стал всего лишь скрягой, да притом еще и лицемером, с которого нечего было взять, кроме уроков морали.
— А ты ни на что не годен, — бросал ему в свою очередь Верлен. Словом, мнения их друг о друге не сильно различались. При этом Верлен еще долго будет внимательно следить за жизнью и деятельностью своего бывшего друга, без конца терзая Делаэ вопросами о «штутгартском штуденте», «штутгартской штучке» или же «пиявке».
Но о чем Верлен особенно сожалел, так это о том, что лишился рукописи «Озарений». Что же с ней произошло? Нашел ли Нуво издателя? Для очистки совести Верлен сделал все, чтобы найти адрес самого Нуво. «Можно ли доверять этому человеку?» — спрашивает он у Делаэ. Приложив массу усилий, он сумел узнать, что тот находится в Англии, и назначил ему встречу на вокзале Кингс-кросс в Лондоне. Надо полагать, что раз Верлен проделал 200 километров (13 шиллингов, 3 пенса), это было верное предприятие. 7 мая он написал об этом путешествии Делаэ: «Я воспользуюсь моим коротким пребыванием в Лондоне (еще день-два), чтобы завязать знакомство с Нуво: в сущности, он мне кажется приятным молодым человеком, к тому же он полагает, что Варвара наша доигралась; да ты и сам это знаешь!»6
Встреча поэтов состоялась около 20 мая. Предполагают, что Нуво пообещал вернуть рукопись, которой в тот момент у него с собой не было. Свое слово он сдержал лишь в 1877 году.
К тому времени Рембо уже покинул Штутгарт, где оставил о себе дурные воспоминания и, вероятно, некоторое количество долгов. Он отправился на юг — его звала в свои объятия Италия. Продав чемодан, он купил билет на поезд до Альтдорфа[159], а дальше путешествовал на своих двоих. Время года было вполне подходящим (конец апреля — начало мая), однако взять Сен-Готард[160] оказалось не так просто, как он думал. Мы не располагаем никакой информацией об этом путешествии, которое, по всей видимости, было очень тяжелым. В ноябре 1878 года он повторит этот подвиг в еще более ужасных условиях, но в своем подробном и потому очень живо написанном рассказе ни разу не намекнет на первое путешествие, разве что в конце, после озера Комо[161], поставит «знакомый маршрут». Останавливался ли он в знаменитом бенедиктинском монастыре Дисентис (ставшем позднее богадельней)? На эту мысль наталкивает рисунок Делаэ, изображающий бледного Рембо, одетого на итальянский манер, павшим ниц со слезами на глазах у ног пухлого, крепко сбитого монаха. Название «Развеселый капуцин» и подпись («либо это правда, либо — нет») намекают на некий инцидент, о котором Делаэ рассказывал Верлену7. Но тот факт, что монастырь расположен в долине Переднего Рейна, лишает эту гипотезу всяких оснований[162].
Кроме того, уже 5–6 мая Жермен Нуво сообщил Верлену, что Рембо находится в Милане и намеревается ехать в Испанию. Верлен тут же передал новость Делаэ: «Наш фрукт в Милане, ожидает денег для поездки в Испанию». Итак, роли переменились: теперь уже Верлен сообщал Делаэ новые сведения, не без гордости намекая на то, что у него тоже есть свои источники информации. Это письмо от 7 мая украшено наброском, изображающим Делаэ, Нуво и самого Верлена грозными университетскими профессорами в мантиях и шапочках, в то время как «фрукт», нахлобучив шляпу и повернувшись к наблюдателям спиной, с головой погрузился в свой «traduzione»8.
В Милане нашему путешественнику пришлось еще некоторое время скитаться. Изнуренный, не имея средств к существованию, он ждал какого-нибудь случая. И действительно, удача улыбнулась ему. «Некая милосердная дама, — пишет Делаэ, — заинтересовалась им и приютила его у себя на несколько дней. По его речи она распознала в нем образованного человека и, вероятно, принялась расспрашивать о том, что он написал, так как ее гость, у которого не было с собой ни одной рукописи, чтобы прочесть ей или дать почитать, вдруг вспомнил, что дал мне когда-то «Одно лето в аду», и попросил книгу обратно»9.
Надо думать, Верлен, узнав об этом, посмеялся над случившимся. В двух статьях в «Людях современной эпохи», а также в письме от 17 ноября 1883 года (Альберу Максу?) он упомянул эту «vedova molto civile», намекая, что у Рембо было небольшое амурное приключение. По всей видимости, на самом деле оно не вышло за рамки безличной жалости или же чистой благотворительности.
«Рассказывая мне эту историю, — добавляет Делаэ, — Рембо воздержался от подробностей, которыми обычно изобиловали его письма. Я спросил его, что это за женщина. Он ответил:
— Хорошая женщина.
— Молодая?
Он пожал плечами, как будто мой вопрос показался ему по меньшей мере странным:
— Ну… нет.
Я не настаивал»[163].
Отметим также, что Делаэ получил визитную карточку Рембо (сохранилась) с его миланским адресом, написанным от руки: «Пьяцца дель Дуомо, 39». Этот дом уже много лет как снесен, и мы никогда не узнаем, кто была та гостеприимная вдова.
Милан был всего лишь этапом. Рембо строил другие планы: завербоваться в ряды карлистов (идея, украденная у Верлена) или отправиться на Бриндизи[164] в Адриатику, чтобы затем попасть на острова Киклады (на Кею, Наксос или Сирое), где Анри Мерсье мог бы подыскать ему место рабочего на мыловаренном заводе, в который у него были вложены деньги10. Как бы то ни было, он пересек Ломбардию, останавливаясь в Александрии, Генуе и Ливорно в Тоскане. Но по пути из Ливорно в Сиену его сразил солнечный удар. Французский консул в Ливорно поместил Артюра в больницу и, как только он поправился, занялся его репатриацией через Марсель.
В консульском реестре можно прочесть11:
«1875, июнь, 15-е число. Репатриация г-на Рембо, Артюра, сына Фредерика и Катрин Кюиф, уроженца Шарлевиля (департамент Арденны). Возраст 20 лет.
На его отправку в Марсель
пароходом «Генерал Паоли»
и посадку на судно 12,50 фр.
Выдать денег 3,20 фр.
За 2 дня, проведенные г-ном
Рембо в Стелле 2 фр.
Итого: 17,70 фр.
Однако в Марселе еще не вполне выздоровевший Рембо снова очутился в больнице, где ему пришлось провести несколько недель. Очевидно, именно оттуда он послал Делаэ письмо, в котором рассказал о своих последних приключениях. Тот тут же поделился новостью с Верленом: «В настоящий момент Ремб в Марселе, и, по всей видимости, прежде чем там очутиться, обошел пешком всю Лигурию. После всех мытарств консул в приказном порядке отправил его на родину. Как бы то ни было, он заявляет о своем намерении податься к карлистам (!) и изучать испанский, а также продолжает упражняться в надувательстве нескольких еще оставшихся у него друзей»12.
Верлен из Стикни поспешил передать это известие Жермену Нуво, который находился в Пурьере (департамент Вар), а тот в свою очередь рассказал все Жану Ришпену, который в то время был в Лондоне: «У меня известие от П. В. Вполне возможно, на днях ты встретишь его в Лондоне, он там будет проездом по пути во Францию. Рембо, должно быть, сейчас в Марселе. Но у меня нет его адреса, да и что с ним, я тоже не знаю; кажется, он вступает в ряды карлис-тов!» (Письмо от 27 июля 1875 года.)
Делаэ оставил нам два рассказа об этой попытке завербоваться к карлистам; они несколько отличаются друг от друга. Первая версия: «Он вербуется в отряды карлистов и возвращается в Париж весь в наградах»13. Вторая версия: «Тогда он собрался записаться в отряды к карлистам, которые формировались по ту сторону Пиренеев, но тут восстание закончилось, и вербовщики исчезли». Основываясь на первой версии, Шарль Морра пишет во «Французской газете» от 21 июля 1901 года: «Мой друг поэт Рауль Жинест повстречал Рембо в Марселе. Тот как раз записался в отряд карлистов»14.
Вернемся к Верлену и Делаэ. Последний работал в отделе актов гражданского состояния в мэрии Шарлевиля и продолжал вести переписку с первым. Поэт сообщает ему 1 июля о том, что взялся за изучение итальянского и испанского и помогают ему в этом Данте и Сервантес.
Потом пришла пора каникул. В августе Верлен пригласил Делаэ, получившего наконец степень бакалавра, провести вместе с ним несколько дней в доме его матери в Аррасе. Там в один прекрасный день, листая фотоальбом, он вдруг взял неприклеенную фотографию Рембо, поместил ее напротив портрета своей жены и закрыл альбом со словами: «Я соединил двух людей, из-за которых страдал больше всего». «Как ты можешь!» — воскликнул Делаэ. «Очень просто — это правда», — мрачно парировал Верлен15.
Надо сказать, что, по всей видимости, Рембо регулярно всплывал в их разговорах — и ничего хорошего они о нем не говорили.
Разумеется, когда через некоторое время Жермен Нуво покинул Париж, чтобы снова отправиться в Пурьер через Марсель, он получил задание разыскать там Артюра. В своем письме Верлену от 17 августа он докладывает, что поиски были безуспешны, й присовокупляет к посланию ряд рисунков: так, мы видим Нуво в Старом порту в час дня, он смотрит, как тень наползает на кафе с вывеской «Вермут», и задается вопросом: «Кто знает?»…
Тем временем в Пурьере его ожидало письмо от Форена, отрывок из которого он приводит Верлену: «Если верить Форену, Рембо в Париже, живет с Мерсье и Кабанером».
О пребывании Артюра в Париже нам известно немного. Лишь некоторые отрывочные сведения сообщает Делаэ в письме Верлену: «Этот несчастный хвастается с несвойственной для него болтливостью тем, что дал пинок под зад всему свету»16.
Со своей стороны Изабель рассказала П. Берришону о том, что ее мать, сестра Витали и она сама жили в Париже в июне, июле и августе 1875 года, куда ездили по совету врача для лечения синовита[165]; через шесть месяцев ее младшая сестра умерла от этой болезни. Они выехали из Шарлевиля в среду 14 июля в четыре утра. Вот что говорится об этом в дневнике Витали, хранящемся в музее Рембо в Шарлеви-ле — Мезьере: «Вторник, 13 (июля). Завтра мы едем в Париж. Сколько радости и волнений!.. В прошлом году мы были в столице Англии, в этом году — в столице Франции. (…) Сейчас 8 вечера, а завтра в 4 утра мы уезжаем. Сколько всяких мыслей! Да уж всяких!!!»
Увы, на этих словах дневник заканчивается. Изабель рассказала Берришону кое-что еще: «Когда мы его покидали (Артюра в Париже. — П. П.), он как раз получил место репетитора в Мезон-Альфор»17. Было ли это во время каникул? Какое значение придавал этой работе Рембо? Тайна, покрытая мраком.
24 августа Верлен послал Делаэ (несохранившееся) письмо для Рембо: «Посылаю тебе письмо для Рембо, передай ему, если он здесь, пошли, если он уехал. Думаю, я делаю то, что нужно. Хотя — как знать?» К письму прилагалась «коппейка» под названием «Ultissima verba»[166] с иллюстрацией в виде рисунка, где был изображен Рембо, рухнувший на стол, заставленный бутылками и стаканами:
Скорее всего, Рембо на письмо не ответил, хотя и собирался это сделать, так как некоторое время спустя Делаэ спрашивает у Верлена:
«Ты получил долгожданное послание от знатока испанской грамматики? Он задел тебя за живое? Если соберешься перерезать ему горло в какой-нибудь таверне, не мучай его слишком долго»19.
Относительно испанского заметим, что в бумагах Казальса нашли список испанских слов, написанных рукой Рембо. Список этот ему передал Верлен; сказать, каким именно образом он попал к последнему, довольно трудно20.
Делаэ пытался дать Верлену хоть какую-то надежду: «Но знаешь, я все-таки еще питаю иллюзию, что в конце концов наша пиявка перестанет дуться». Верлен, который все это время пребывал в состоянии тревожного ожидания, 3 сентября ответил ему из Арраса: «Что слышно о пиявке? Она перестала дуться?»
Однако к этому моменту Делаэ уехал преподавать в Суассон к великой досаде Верлена, который потерял свой единственный источник информации. Тогда он решил написать самому Рембо в Шарлевиль до востребования, дав на выбор два адреса: один в Париже — Лионская улица, 12, для г-на Истаса, другой в Лондоне, до востребования.
Около 6 октября Рембо снова появился в родном городе и обнаружил на почте письма Верлена. Он вышел из себя. Как? «Лойола» снова посмел докучать ему? Чтобы покончить с этим раз и навсегда, он решил написать Верлену (Делаэ нарисовал его, занятого сочинением этого письма в кабачке) и выбрал парижский адрес на Лионской улице21. К несчастью, письмо не было отослано или же затерялось, и обеспокоенный Верлен попросил Делаэ: «Постарайся узнать, из чего состояли сласти, адресованные на Лионскую улицу». Сласти были изрядно приправлены уксусом, в этом можно не сомневаться.
Затем Рембо написал Делаэ в Суассон, и здесь нам повезло больше, так как письмо сохранилось:
Милый друг!
8 дней назад я получил открытку и письмо от П. В. Чтобы упростить дело, я попросил на почте, чтобы все, что приходит до востребования, мне пересылали, так что ты можешь писать до востребования. Яне комментирую последние грубости Лойолы, не испытываю ни малейшего желания сейчас о нем говорить!
В этом же письме он просит Делаэ отослать ему обратно с оказией письма от «Лойолы», которые могут ему пригодиться, и просит рассказать об экзамене на степень бакалавра естественных наук (часть классическая и часть математическая).
Мне хотелось бы, чтобы ты указал точные названия учебников, поскольку я намерен вскоре купить их. Видишь ли, имея военную подготовку и «бакалавра», я мог бы замечательно провести 2–3 сезона! Нет, конечно, в гробу я видал этот «славный тяжкий труд». Но все же — будь так добр и расскажи мне, как лучше всего получить эту чертову степень.
Помимо того, Верлен должен был прислать ему газеты (католические?), так как в постскриптуме читаем: «Переписка «по цепочке» дошла до того, что Немери[170] отдал газеты «Лойолы» какому-то полицейскому, чтобы тот передал их мне».
Делаэ уволился из коллежа в Суассоне, посчитав, что ему мало платят, и вернулся в Шарлевиль; он был приятно удивлен, когда 18 октября на одной из улиц родного города встретил Рембо. Он нарисовал эту встречу, состоявшуюся у входа в бакалейную лавку Юдро: высокий Рембо в вычищенном мундире с отложным воротничком дотрагивается указательным пальцем до тучного Делаэ22. На обороте рисунка можно прочесть отрывок из письма, в котором Делаэ рассказывал Верлену, как дела у «пиявки»: «…хотелось бы, чтобы он кончил — помнишь, мы говорили об этом там[171] — в какой-нибудь психиатрической лечебнице. У меня такое впечатление, что он уже движется в этом направлении. Все просто — алкоголь».
Чтобы доставить удовольствие Верлену, Делаэ как может чернит Рембо, встрече с которым в действительности был очень рад. Он продолжает: «Но заметь, поведение Нуво внушает ему беспокойство и недоверие. Артюру известно, что тот вернулся, и он собирается ему написать и потребовать объяснений. Ты хорошо сделаешь, если предупредишь Нуво». Чем все это было вызвано? Тем, что в начале октября Нуво приехал в Шарлевиль, чтобы под именем г-на Жермена занять место репетитора в частной школе Барбадо (бывшей школе Росса), и Рембо не понравилось, что тот не захотел с ним встретиться. Впрочем, очень скоро Нуво выгнали оттуда за эксцентричное поведение23. Верлену, предупредившему его, он ответил 20 октября: «Полное неведение относительно того, чем вызван гнев Рембо. В Париж он совсем не пишет».
А Делаэ продолжает: «Что до тебя, то он считает, что ты всего лишь скряга, твое поведение — «свинство или проявление неприязни». Он был у твоей матери в Париже. Портье сказал ему, что она в Бельгии. Ему (красавцу нашему) известно, что ты поехал в Бостон, но он думает, что в данный момент ты уже вернулся в Лондон. Разумеется, я ничего не знаю, я тебя совсем потерял из виду».
Очень жаль, что мы располагаем только отрывком из письма Делаэ, в котором он, должно быть, описывал «мытарства» Рембо в Италии. В нем также затрагивался вопрос о здоровье последнего (уже в 1872 году он заявлял: «Здоровья у меня хватит на 5 лет»): климат Франции не шел ему на пользу, и он мечтал о теплых краях, об Африке или Азии. В этой связи ему в голову пришла необычная идея: завербоваться в ряды миссионеров, чтобы его послали в Китай или в какие-нибудь другие дальние страны. «А почему бы и нет, — добавляет Делаэ, — по меньшей мере, тебе оплачивают дорогу».
Верлен ответил двумя письмами. Первое было послано 20 ноября, сохранился лишь фрагмент: «Как он пришел к вере? Я поражен. Расскажи мне об этом таинственном событии!»24 К этому письму он приложил «коппейку» про Рембо, которая также не сохранилась. Второе письмо, датированное 27 ноября, сохранилось полностью. Тон очень злой. Первые строки — куплет угрожающего содержания на тему «возможных будущих делишек» Рембо (шантаж). Далее Верлен справляется о содержании письма Рембо на адрес г-на Истаса; письмо это его крайне интересует; потом он переходит к выражению собственного яростного (кстати, совершенно неоправданного) гнева по поводу того, что какие-то люди подбивают Артюра продолжать образование и поступить в Центральную или в Высшую политехническую школу: «Какой осел, которого даже ослы назвали бы ослом из ослов, посоветовал ему поступать в Политехническую?»
Заметим в скобках, что, говоря так, Верлен, без сомнения, дал маху, так как Делаэ как раз и был среди тех, кто толкал Рембо на эту стезю25. Кроме того, Верлену кажется странным, что Артюр живет на улице Святого Варфоломея, 31 — это вызывает у него новый приступ сварливости: «Он что, не живет с семьей? Значит, у какого-нибудь родственника». И Верлену уже представляется, как Рембо «приползает» домой по ночам и «заблевывает все вокруг (уж я-то знаю, как это бывает!)». Ему не было известно о том, что Рембо переехал вместе со всей семьей — как раз 25 июня, судя по дневнику Витали. Затем Верлен передает привет «мегере» («Что бы она на это сказала? Все еще винит во всем меня? Надо будет поговорить с «матерью Гракхов» с глазу на глаз о том, как проходил мой процесс»). В конце он просит Делаэ прислать ему копии старых стихов «красавца» — если они у него есть (сонеты, написанные белым стихом, которые ему предлагал Делаэ, на тот момент его не интересовали).
— Его стихи? — отвечал Делаэ. — Да у него давно уже нет вдохновения. Я даже думаю, что он уж и забыл о том, как оно выглядит26.
Да, невесело. Но Верлен не теряет надежды. «Расскажи мне, как дела у нашего испанца», — просит он по обыкновению своего корреспондента.
Рембо возобновил прогулки с Делаэ по окрестностям. Оба были без работы, оба были рады «вспомнить молодость». Сохранился рисунок Делаэ, на котором Рембо и двое его друзей взбираются на холм, на котором стоит кабак с вывеской «Джин»27.
В это время одной из страстей Рембо становится игра на фортепиано. Рассказывают, что, когда мать отказалась купить ему пианино или взять его на прокат, он изрезал стол в столовой на манер клавиатуры, чтобы тренировать пальцы (Луи Пьеркен утверждает, что это произошло гораздо раньше). Паренек Лефевр, сын хозяйки одной из квартир, где жил Рембо, впоследствии рассказывал: «Тогда (в конце 1875 года) я брал у Рембо уроки немецкого и помню, что нередко видел, как он отстукивал на столе сольфеджио… или партитуру, одновременно комментируя мне авторские пояснения, исправляя те или иные мои переводы (с французского на немецкий и наоборот)».
Кроме того, зимой он с неистовым рвением принялся за изучение иностранных языков: русского, арабского, хинди, амхарского[172] и т. д. «Чтобы его никто не беспокоил, — рассказывает Луи Пьеркен, — он закрывается на несколько замков в шкафу (этаком ископаемом мебельном мастодонте) и сидит там иногда по 24 часа без воды и еды, поглощенный своей работой»28. Анри Поффен, адвокат из Парижа, сообщил, что застал его в лесу, неподалеку от Шарлевиля, за изучением русского языка; помогал ему в этом старый греческо-русский словарь, страницы которого он разрезал на мелкие кусочки и таскал с собой в карманах.
В воскресенье, 12 декабря, Верлен, рассерженный тем, что не получил ни одного ответа на свои письма, решил отправить Артюру последнее послание. В нем нет ничего нового: «Я все тот же. По-прежнему строго чту религию, так как в ней одной еще остались мудрость и доброта. Все остальное — обман, злоба, глупость. Церковь создала современную цивилизацию, науку и литературу, именно она создала и саму Францию, но Франция порвала с ней и теперь умирает».
Далее он исповедуется в своих грехах и полагает, что уже «искупил наше с тобой постыдное поведение (Господи, да мы же тогда были самые настоящие сумасшедшие!) три года назад».
«Итак, я все тот же. Та же привязанность к тебе (хотя и видоизменившаяся). Я бы так хотел видеть тебя прозревшим, мыслящим. Мне очень горько знать, что ты занимаешься такими глупостями, ты — такой умный, такой способный (удивляешься? а это правда!). Я взываю к твоему отвращению ко всему и вся, к твоему гневу, перед которым ничто не устоит, — и это гнев праведный, хотя ты и не знаешь, почему это так».
Он не поддержит Рембо в его начинании и не поможет материально. «На что пошли бы мои деньги? На девочек, на кабаки! На уроки игры на фортепьяно? Какая «чушь»! Видать, мать не согласилась дать тебе на них деньги, а?»
Затем следует напоминание, что на всякую попытку шантажа Верлен ответит обращением в суд «с документами в руках». Конец письма довольно холоден:
Ну что же, счастливого пути! Прошу — сохрани в своей душе немного доброты (ну да!), немного уважения и немного тепла для того, кто всегда будет твоим другом, ты это знаешь.
Твой всем сердцем,
П. В.
Я еще изложу тебе свои планы (в них нет ничего особенного) и дам советы, которым, я очень надеюсь, ты последуешь. Речь идет не о религии, хотя, как только ты ответишь мне «properly» [173] через Делаэ, я стану настойчиво советовать тебе обратиться к ней.
P.S. — Нет смысла писать здесь till called for[174]. Завтра я отправляюсь в путешествие. Очень далеко…
Разумеется, Рембо, не ответил на столь неуклюжее письмо. Удивительно, что он не порвал его в клочки.
Должно быть, он получил его 14 декабря. Между тем через четыре дня, 18-го, умерла его обожаемая младшая сестра Витали. Ей было 17 с половиной лет, причиной смерти стал туберкулез, вызванный синовитом (гидроартрозом). Ее страдания и кончина потрясли Артюра (который сам умрет от похожей болезни). Она так была на него похожа! Те же голубые глаза, та же светло-русая копна волос, та же нежная кожа. Смерть сестры тяжело сказалась на нем, он заболел. «Это был страшный удар, — пишет Делаэ. — Думаю, именно из-за этого, а не из-за напряженной учебы у него начались эти ужасные мигрени. Он решил, что голова у него болит, потому что он носит слишком длинные волосы, и с ними он расправился в один момент: обрил себе череп… я имею в виду, обрил бритвой. На то, чтобы уговорить парикмахера, ушли долгие часы». И Рембо блистал на похоронах сестры лысым черепом. Другие приглашенные, стоявшие поодаль, переговаривались между собой: «Судя по прическе, брат покойной — дряхлый старик!..» Это героическое решение вызвало — стоит ли говорить об этом? — невероятный гнев его матери. Делаэ нарисовал профиль друга, имевший довольно забавный вид из-за выстриженного черепа, походившего на яйцо, и послал этот набросок под названием «Голова под машинку»29 Верлену, который собирался в конце года приехать во Францию и провести там отпуск.
Так в печали траура и горечи разрыва закончился 1875 год, столь щедрый на события.
Отныне судьба обоих друзей определилась: Рембо будет путешествовать и искать приключений, Верлен — стараться реабилитировать себя (ох, как это окажется непросто!) в парижских литературных кругах.
Примечания к разделу
1 См. Д.-А. де Грааф, Revue de Philologie et d’Histoire, t. 34 (1956), см. также Rimbaud vivant, № 11–12 (1977).
2 П. Берришон, la Vie de J.-A. Rimbaud.
3 В издании Edition Pierre Cailler, Genève, 1949, после «Письма барона Козопуха» помещен рисунок Рембо, на котором изображен штутгартский старый город, а также часть рисунка из его письма к Делаэ от 5 марта 1875 г.
4 Доклад Д.-А. де Граафа. См. Rimbaud vivant, № 11–12 (1977), где опубликована также гравюра с изображением дома доктора Любке.
5 См. Анри Гильемен «Connaissance de Rimbaud», Mercure de France, 1 октября 1954 г., c. 241.
6 См. В.-Ф. Ундервуд, Verlaine et Angleterre, c. 270.
7 Тетрадь Дусе, рис. 17.
8 Рисунок Верлена опубликован в Nos Ardennes (представлено Жюлем Муке), P. Cailler, éditeur à Genève, 1948.
9 Э. Делаэ, Rimbaud (1923).
10 Э. Делаэ, Rimbaud (1923), с. 61. Об Анри Мерсье см. Майкл Пеке-нем, Revue des Sciences humaines, июль — сентябрь 1963 г.
11 Впервые опубликовано в le Bateau ivre, 11 мая 1949 г.
12 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 71.
13 Les Entretiens politiques et littéraires, декабрь 1891 г.
14 Статья перепечатана в Barbarie et Poésie (1928).
15 Э. Делаэ, Verlaine (1919), с. 233.
16 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 17.
17 Ebauches de Rimbaud {Mercure de France), c. 208.
18 Об отношении Рембо к этому роману Гюго (полное название «Девяносто третий год») см. Э. Делаэ, Souvenirs familiers, с. 42. 3 сентября 1875 г. в письме к Делаэ Верлен повторяет свои слова: «Да, от «Девяносто третьего» просто разит, романчик вшивенький».
19 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 67.
20 Списки английских и испанских слов, составленные Рембо, опубликованы в Rimbaud et le problème des Illuminations A. Буйана де Лакота.
21 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 19.
22 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 17.
23 Делаэ писал Верлену (тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 31), что, по свидетельству бывшего ученика школы Барбадо, как-то раз Нуво «по примеру одной известной личности» (Рембо) приготовил в ночном горшке пунш для своих учеников, которые стояли вокруг него стенкой (в качестве доказательства приложен рисунок). Кроме того, он частенько сопровождал своих учеников в их ночных вылазках.
24 Заимствовано из каталога к аукциону автографов 12 марта 1936 г. (эксперт — Блазио). Ср. Oeuvres poétiques de Verlaine, édition de la Pléiade (1951), c. 1197.
25 Э. Делаэ, Rimbaud (1906), c. 173, прим.
26 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 68.
27 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 89.
28 Луи Пьеркен, «Sur Arthur Rimbaud», le Courrier des Ardennes, 31 декабря 1893 г.
29 Тетрадь Дусе, рис. 2.
Глава XIII
ДАЛЬНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.
ОТКРЫТИЕ ВОСТОКА
В начале 1876 года дом Рембо наполнился музыкой: г-жа Рембо согласилась взять напрокат пианино, вероятно, надеясь удержать Артюра при себе.
«Как твои музыкальные успехи? — спрашивал Делаэ у Верлена, тоже засевшего за инструмент. — Наш красавчик заполучил наконец пианино и бренчит теперь с утра до вечера — какое достижение! Кстати, при этом случилось забавное происшествие, о котором я тебе расскажу в следующий раз»1. В другом письме Делаэ сообщает, что Рембо, устав ждать, в один прекрасный день отправился в город и взял пианино напрокат, оставив адрес своей матери, не предупредив ее об этом. Когда инструмент привезли, одна из квартиросъемщиц принялась протестовать: хозяин заверял ее, что пианино в его доме не появится никогда.
— Для кого это? — спросила она.
— Для г-жи Рембо.
Мать Артюра, услышав свою фамилию, выскочила на лестничную площадку и во всеуслышание заявила, что никто не помешает ей играть на пианино ни днем, ни ночью, если ей так вздумается2.
Луи Пьеркен добавляет такую деталь: пианино внесли с черного хода, взломав дверь. Когда грузчики закончили работу, г-жа Рембо выпроводила их, не дав ни гроша на чай.
Артюр взял несколько уроков у одного из своих сверстников, Луи Летранжа; он был председателем любительского хорового общества и играл на органе. Он был главным служащим у г-на Лефевра, торговца скобяным товаром3. Позже Луи Летранж женится на сестре Эрнеста Мило. Его сын, Эрнест Летранж, как сообщает де Грааф, нашел в торговой книге своего отца запись: «1875 год (…) «Самоучитель игры на фортепьяно» мадмуазель Карпентье для Рембо».
Верлен проиллюстрировал это музыкальное ученичество, нарисовав Рембо с «Самоучителем» Карпентье, терзающего несчастный инструмент. Его мать, «мегера», убегает в отчаянии и испуге, а домовладелец на первом этаже поднимает глаза ropé. Название этой карикатуры — «Музыка объединяет людей».
Всю зиму наш герой провел в занятиях музыкой и иностранными языками.
В феврале 1876 года произошло знаменательное событие: Делаэ уехал в Ретель, где получил место помощника учителя в коллеже Нотр-Дам. С этого времени в его письмах к Верлену появляются забавные рисунки. Они активно обсуждают Рембо. «Как поживает наш красавчик? — пишет он в конце февраля. — Я буду писать ему не переставая. Ты, наверное, знаешь, что здесь целый месяц льет дождь. А у вас? Можно не сомневаться, что нашей любопытной Варваре в такую погоду приходится сидеть дома. В общем, пока погода не улучшится, новостей никаких»4.
И действительно: как только в начале апреля погода стала сухой и солнечной, Рембо отложил в сторону словари, собрал вещи и умчался в Центральную Европу, намереваясь сесть в Варне[175] на корабль и отплыть на Ближний Восток.
Верлен, как только его известили об отъезде Артюра, сделал рисунок карандашом с подписью столь же афористичной, как и под рисунком с пианино: «Путешествия — лучшее образование для молодежи». На нем Рембо, направляясь к железнодорожному вокзалу, с развязным видом произносит: «Гори, мегера, синим огнем, я отваливаю в Вену!»5 Он элегантен, одет с иголочки, а на его шляпе в память о сестре приколота траурная лента.
У Артюра был с собой план австрийской столицы (хранится в Музее Рембо). Дегустируя местное пиво, он, по-видимому, выпил лишнего и заснул, катаясь по городу в пролетке, да так крепко, что извозчик стащил с него пальто вместе с бумажником и всеми деньгами. Некоторые биографы Рембо пишут, что после драки с этим грабителем он был подобран на мостовой в бесчувственном состоянии и отвезен в больницу, откуда якобы сообщил Делаэ об аресте извозчика и возвращении украденного; однако Делаэ, который был в курсе дела, не подтвердил эту версию. По его словам, Рембо, чтобы заработать на хлеб, пришлось сделаться уличным торговцем, что позволяло ему наблюдать за городскими извозчиками — однако своего обидчика он так и не встретил. Впрочем, в этой неопределенной ситуации он находился недолго. Повздорив с каким-то полицейским, Рембо попал в отделение, где выяснилось, что у него нет никаких документов; поэтому его как иностранца, не имеющего средств к существованию, выслали из страны. Он был препровожден через границу на территорию Баварии, потом высылался из одного немецкого государства в другое, пока в конце концов, побывав в Страсбурге и Монмеди, не вернулся в Шарлевиль. Делаэ блестяще изобразил Верлену бесславное возвращение «норого Вечного Жида». Рембо размашисто шагает от Шварцваальда в сторону Шарлевиля; его приветствуют офицеры, таможенники, австрийские и баварские крестьяне; на голове у него помятая шляпа, из кармана торчит «пасс-пор»[176], а перед ним летит «огромный, как слон, майский жук»[177]6.
Верлен тоже нарисовал картинку про эту венскую авантюру и изложил ее суть в стихах. Голый по пояс Рембо чешет в затылке посреди улицы с названием «Атамщуштрассе», а вдали удирает проклятый извозчик7. Рисунок поясняет следующая «коппейка»:
Под стихами подпись: «Франсуа Коппе». На полях пометка: «Читать с парижско-арденнским акцентом».
Неизвестно, успел ли Рембо в Шарлевиль к шестому мая 1876 года, когда сгорел его бывший коллеж.
Неужели это идиотское приключение испортит ему весну и лето? Ни за что! Несколько дней свободы только разожгли его аппетит, и больше он в Шарлевиле оставаться был не намерен. Едва успев вернуться, Артюр вновь отправляется, теперь уже пешком, в направлении Брюсселя и Роттердама. Если верить Изабель, он еще в Лондоне узнал, какие выгоды можно извлечь, завербовавшись в голландскую колониальную армию, в которой разрешалось служить иностранцам; возможно, он просто встретил в Бельгии какого-нибудь вербовщика или бывшего дезертира, расписавшего ему прелести морского плавания и очарование острова Ява — точно неизвестно, но, как бы то ни было, он направился через Утрехт в порт Хардервейк. Для него не имело значения, в какой армии служить наемником — в испанской или голландской, просто ему, как всегда, хотелось приключений.
18 мая он явился в Колониальное призывное бюро. Его приняли на довольствие, а на следующий день сообщили, что он зачислен сроком на шесть месяцев. Ему предстояло отправиться на остров Суматра, чтобы участвовать в подавлении восстания в бывшем султанате Аче. Ему выдали аванс в триста флоринов (600 франков золотом, целое состояние!) и обмундирование, состоявшее из синего саржевого мундира, серой шинели и кепи, обшитого оранжевой тесьмой.
Мармельштейн приводит выдержку из реестра Военного отдела в Бандунге[179], касающуюся Рембо. Его приметы описаны так: Лицо: овальное. Лоб, нос: обычные. Глаза: голубые. Подбородок: круглый. Волосы и брови: темно-русые. Рост в метрах: 1,77. Особые приметы: отсутствуют8.
Через несколько дней новобранцы, среди которых и Рембо, под грохот военного оркестра отправились пешим маршем через Утрехт в порт Хелдер под конвоем охранников с винтовками и с примкнутыми штыками.
В стихотворении «Демократия» («Озарения») наш поэт рисует эту сцену столь точно, что мы ограничимся цитатой:
Знамя ярче на грязи пейзажа, и наша брань заглушает барабанную дробь.
В столицах у нас расцветет самый наглый разврат. Мы потопим в крови любой осмысленный бунт.
Во влажные пряные страны! — на службу самым чудовищным военно-промышленным спрутам.
До встречи тут или там. Мы добровольцы, и наши заповеди жестоки; невежды в науке, в комфорте доки, грядущее пусть подохнет. Пробил наш час. Вперед, шагом марш![180]9
10 июня пароход «Принц Оранский», принадлежавший нидерландской почтовой компании, снялся с якоря в порту города Хелдера. На его борту находились четырнадцать офицеров под командованием капитана Окса, двенадцать унтер-офицеров, три капрала и сто девяносто четыре рядовых пехотинца, среди них шестеро французов. Мы можем проследить движение корабля по газетам того времени10. 11-го, в 10 часов вечера, он зашел в Саутгемптон, чтобы принять на борт груз свежего мяса, и тут же появился первый дезертир. Убежал один из французов, Луи-Жозеф Маре, проживавший до этого в Лондоне двадцативосьмилетний уроженец Парижа. Возможно, именно его пример подсказал Рембо эту лазейку. 13-го, в два часа пополудни, судно поднимает якорь и 17-го проходит вблизи города Сагриш (на мысу Сан-Висенти, на юге Португалии). «На борту все нормально», — сообщает капитан. 22-го, во второй половине дня, судно заходит в Неаполь и тем же вечером уходит. Через несколько дней, когда корабль находился уже в Красном море, побеги участились. По словам Делаэ, Рембо видел, как многие его товарищи бросались в воду и добирались до берега вплавь: 26-го — итальянец, 28-го — еще шесть (одного поймают), 2 июля — немец (считается, что он утонул). В Красном море раздают «тропическое» обмундирование: белые полотняные халаты, штаны в бело-голубую полоску и шотландские береты.
Всесторонние исследования г-на Ван Дама, голландского писателя, живущего в Индонезии, дают довольно точные сведения о жизни солдат голландской колониальной армии, так что мы легко можем представить себе, как Рембо проводил дни в этой плавучей казарме. Подъем был в пять часов утра; днем солдаты выполняли наряды, развлекались играми (карты, лото, домино), музыкой, просто отдыхали в шезлонгах на палубе. Военная подготовка занимала всего один час в день, после обеда. Алкогольные напитки были запрещены, только по субботам интендантская служба выдавала по стаканчику водки, а также чай и табак. В воскресенье меню включало свежее мясо и пирожные. Из этого можно заключить, что «солдаты» чувствовали себя пассажирами кругосветного круиза11.
В среду, 19 июля «Принц Оранский» наконец бросил якорь на рейде Паданга (Суматра), а 24 часа спустя судно взяло курс на Джакарту (тогда еще называвшуюся Батавией), на северном побережье острова Ява; там находился сборный пункт.
Последовали высадка на берег в пирогах, построение и марш с оркестром. С 1848 года казармы находились в военном городке под названием Местер Корнелис в десяти километрах от порта, к юго-востоку от города. В помещении казарм ранее находилась чайная фабрика.
Рембо определили в четвертую роту первого батальона. Он пробыл в казарме всего неделю, а затем — если верить Ван Даму — 30 июля вместе с полутора сотнями человек был отправлен на каботажном судне в Семаранг[181]. Оттуда поезд доставил их в Тун-Тан, что близ форта «Вильгельм I», после чего рота пешим маршем направилась в Салатигу. Город находился на высоте 600 метров над уровнем моря, в глубине острова.
Рембо ожидал только какого-нибудь благоприятного обстоятельства, например увольнения (очередные увольнительные должны были выдать 15 августа), чтобы вырваться на свободу. 3 августа умер один из французов, двадцативосьмилетний Огюст Мишодо. Это, вероятно, придало Артюру решимости, и 15 августа он не явился на поверку. Согласно уставу через 28 суток его объявили дезертиром и вычеркнули из списков личного состава. Интендантская служба реализовала оставленное обмундирование, а полученную сумму (1 флорин 81 цент) передала в приют для сирот в Салатиге. Вот перечень брошенных им вещей: одна пара аксельбантов с погонами, одна шинель, три галстука, две рубашки, одни подштанники, две пилотки, пара синих штанов, две гимнастерки, одно полотенце, один деревянный сундучок12. Оружие он забрал с собой.
Артюр, несомненно, тщательно разведал обстановку, подготавливая свой побег. Вероятнее всего, он направился туда же, откуда и приехал, то есть в Семаранг. Представления о том, что вместо этого он шатался по яванским джунглям, кишащим тиграми, удавами и орангутангами, явно относятся к разряду многочисленных фантастических легенд, связанных с именем нашего героя.
Более других, как кажется, заслуживают доверия слова Изабель, согласно которым Рембо провел на острове один месяц: «Целый месяц мы блуждали в обжигающем воздухе Явы» («Мой брат Артюр»).
В случае, если бы его поймали, ему угрожало не повешение, как пишут некоторые, а всего лишь несколько месяцев тюрьмы.
Все это время Верлену и Делаэ ничего не оставалось, кроме как обмениваться вопросами о судьбе путешественника: «Куда же это наш красавец запропастился?» Может быть, его занесло к дикарям в самое сердце Африки, предполагали они и поэтому называли его в письмах то сенегальцем, то готтентотом, то кафром и так далее; по той же причине Делаэ в письмах к Верлену рисует разные забавные картинки, на которых Рембо изображен то миссионером, то негром, то царем дикарей и т. д. В июле 1876 года Верлен по приглашению Делаэ приехал на несколько дней в Мезьер. Они могли только повторить друг другу свои вопросы: где, в какой части света теперь их приятель? Вскоре и Жермен Нуво добавил к «картинной галерее» несколько своих рисунков: Рембо, бегущий за шляпой на фоне «негритянского пейзажа», или его профиль в толще морской воды, намек на возможное кораблекрушение.
Начался учебный год. Молчание продолжалось. «О готтентоте, как прежде, никаких вестей, — пишет Делаэ Верлену. — Что же с ним сталось? может быть, его кости белеют теперь на какой-нибудь заколдованной пирамиде… Но, в конце концов, моей вины тут нет!»
К концу ноября они оба, должно быть, решили, что известий о Рембо не будет больше никогда, что он нашел вечный приют в джунглях, а может быть, в океане или пустыне. Артюр вернулся в Шарлевиль только 9 декабря 1876 года. Это известно из письма Делаэ к Эрнесту Мило от 28 января:
Дорогой друг!
Я заставил тебя ждать, и мне даже немного стыдно, что я узнал об этом раньше тебя, но в возмещение я сообщаю тебе великую новость:
ОН ВЕРНУЛСЯ!!!
из небольшого путешествия, так, пустячок. Вот маршрут: Брюссель, Роттердам, Хелдер, Саутгемптон, Гибралтар, Неаполь, Суэц, Аден, Суматра, Ява (с остановкой на два месяца), Кейптаун, остров Святой Елены, остров Вознесения, Азорские острова, Куинстаун[182], Корк (в Ирландии), Ливерпуль, Гавр, Париж, и в конце, как обычно… Шарлевилъ. Было бы слишком долго рассказывать тебе обо всех сногсшибательных историях, в которые ему довелось влипнуть, я ограничусь тем, что пририсую тебе здесь несколько человечков — они и красноречивее будут. Кстати — и это не делает ему чести — он находился в Шарлевиле с 9 декабря (никому об этом не говори!).
С другой стороны, это еще не конец, и мы, наверное, скоро услышим о множестве других авантюр. Это пока что все. Такая уйма рисунков, как здесь, лучше любых комментариев.
До скорого,
Твой друг Делаэ13.
Прилагавшиеся рисунки сохранились плохо. Три из них были опубликованы в «Альбоме Рембо»: Рембо на борту «Принца Оранского», Рембо пересекает яванские джунгли, и, наконец, Рембо сидит за столиком в каком-то саду вместе с Делаэ, который спрашивает его:
— Когда ты уезжаешь?
— Как только будет возможно, — отвечает он.
Над ним нарисован парусник, сражающийся с волнами. Подпись гласит: «Маленькая гроза, ничего серьезного». На самом деле это был ужасный шторм, корабль потерял бизань-мачту, брам-стеньги и весь такелаж. Волны бились о борт столь бешено, что, по словам Делаэ, моряки на глазах у Рембо становились на колени и читали молитвы.
Один из ранее не печатавшихся рисунков изображает Рембо перед удивленными полуголыми аборигенами, держащими в руках кухонную утварь (видимо, они собрались его зажарить); на другом — тот же Рембо в мэрии Явы, которую украшает бюст Тьера.
Перед нами встает вопрос, на каком корабле возвращался Рембо. Ответить на него не так-то просто. Во-первых, этот корабль должен быть зарегистрирован в Шотландии, так как Рембо в своем письме к консулу Соединенных Штатов в Бремене от 14 мая 1877 года (см. ниже) заявляет, что в течение четырех месяцев был матросом «на шотландском паруснике в плавании с о. Явы в Куинстаун, с августа по декабрь 1876 года». Во-вторых, он должен был заходить в те порты, которые указаны в процитированном выше письме Делаэ к Эрнесту Мило (их ему назвал сам Рембо). Необходимо, наконец, чтобы корабль к 30 августа 1876 года уже отплыл из Семаранга и чтобы Рембо имел при этом возможность оказаться в Шарлевиле к 9 декабря.
Старки, отвергнув «Лартингтон», «Сити оф Эксетер» и «Леонию», указывает на «Главаря», удивляясь тому, что имя Рембо не фигурирует в Центральном регистре плаваний и моряков, в каковой оно должно было быть занесено, если бы он отправился в плавание наемным матросом. Мы отводим это возражение: нетрудно догадаться, что Рембо знал, что его разыскивает нидерландская полиция, и остерегся назвать настоящее имя.
Парусник «Главарь» был зарегистрирован в шотландском городе Банф, экипаж в основном состоял из шотландцев. Под командованием капитана Брауна он отплыл 30 августа из Семаранга, направляясь с грузом сахара в Фалмут (графство Корнуолл). На один день, 23 октября, корабль зашел на остров Святой Елены, и это опровергает легенду, гласящую, что, поскольку капитан отказался остановиться на острове, Рембо бросился в воду, намереваясь добраться туда вплавь, и был выловлен из воды каким-то матросом.
В ирландский Куинстаун судно пришло 6 декабря. Но, так как «Главарь» не поплыл затем в Ливерпуль (а в письме Делаэ указано, что Рембо побывал в этом городе), Ундервуд не без основания предположил, что Рембо сошел с корабля в Куинстауне (что согласуется с его письмом от 14 мая 1877 года) и отправился в Корк на пароме (от Куинстауна до Корка двадцать одна минута). Там он, вероятно, сел на пароход, шедший в Ливерпуль, где, наверное, нашел какое-то каботажное судно, которое доставило его в Гавр14. Ступив на французскую землю с сэкономленными голландскими деньгами, он легко мог добраться до Парижа по железной дороге.
В столице, по словам Делаэ, Рембо видели одетым в форму английских моряков — видимо, поэтому Жермен Нуво называл его «Рембо-мореход», по аналогии с Синдбадом-мореходом15.
Наш путешественник благоразумно переждал зиму 1876/77 года в Шарлевиле, целиком погрузившись в изучение иностранных языков.
Верный своей привычке, он снова уехал, когда настала весна. Ему в голову пришла мысль: почему бы из новобранца не стать вербовщиком, нанявшись помощником к какому-нибудь голландскому агенту? Кто лучше него смог бы расхваливать сказочную Яву, намекая при этом, с какой легкостью оттуда можно удрать? Поэтому его видели в Кёльне, в мае 1877 года, где он пытался завлечь в ряды голландской колониальной армии молодых рейнландцев, жаждавших поиграть в героев и поглядеть на экзотические страны. Получив комиссионные за десяток жертв, он смог добраться до Гамбурга, ворот волшебного Востока. Ему хотелось найти работу в заморском филиале какой-нибудь торговой компании.
По дороге он остановился в Бремене, откуда 14 мая 1877 года написал весьма интересное письмо на английском языке (далеком, впрочем, от совершенства16), чтобы осведомиться об условиях найма в американский военный флот. Вот это письмо:
Я, нижеподписавшийся Артюр Рембо, родился в Шарлевиле (Франция). Возраст — 23 года, рост — 5 футов 6 дюймов, состояние здоровья — хорошее. В прошлом преподаватель иностранных языков и естественных наук. Дезертировал из 47 полка французской армии[183], в настоящий момент нахожусь в Бремене без средств к существованию, так как французский консул отказал мне в какой-либо помощи.
Прошу сообщить, на каких условиях можно в кратчайший срок заключить договор о найме в американский военный флот.
Пишу и говорю по-английски, по-немецки, по-французски, по-итальянски и по-испански.
Четыре месяца был матросом на шотландском паруснике в рейсе с о. Явы в Куинстаун, с августа по декабрь 1876 года.
Был бы весьма признателен и почел бы за честь получить ответ.
Джон Артюр Рембо17.
Консул ответил, что при всех отличных качествах, для того чтобы его просьбу можно было принять к рассмотрению, ему не хватает сущего пустяка: американского гражданства.
Поэтому Рембо отправился дальше. В Гамбурге, от нечего делать зайдя в казино, он, не успев оглянуться, проиграл все сбережения (следовательно, он отнюдь не был «без средств к существованию»).
Но на этот раз он не вернется в Шарлевиль, как после Вены! Его выручили газетные объявления. Передвижному цирку, отправлявшемуся в турне по Скандинавии, требовался кассир и билетер. Почему бы и нет? Это был цирк Луассе, руководил им Франсуа Луассе, весьма уважаемый в то время мастер верховой езды18.
Об этом его найме мы не имеем никаких известий, кроме свидетельства Делаэ; Изабель, не допуская мысли о том, что ее брат был бродячим акробатом, говорит о службе на каком-то лесопильном заводе в Швеции. Как бы то ни было, уезжая, он не сообщил, куда отправляется; поэтому Делаэ, приехав в июне в Шарлевиль и не найдя его там, не смог написать Верлену ничего, кроме: «О нашем чокнутом путешественнике новостей нет. Наверное, умчался далеко, очень далеко, так как я не видал его с моего прибытия сюда»19.
Он действительно был очень далеко — в конце июля он находился в Копенгагене, на обратном пути из Стокгольма. Это следует из письма Делаэ к Эрнесту Мило (сохранилось в плохом состоянии, опубликовано в 1951 году):
«Человека, которого (я знаю с) детства и которого ты видишь чокающимся с (белым медведем), ты с легкостью узнаешь (…) Я тебе говорю, что о нем сообщали в последний раз из Стокгольма, потом из Копенгагена, потом новостей не было. Наиболее авторитетные географы полагают, что он на 76 параллели[184], поэтому я скромно передаю их мнение…» Конец отсутствует.
На обратной стороне мы видим Рембо в эскимосской шубе, он чокается с полярным медведем и восклицает: «О-ля-ля! Не нужно мне больше никаких яванцев!»
Верлен получил те же сведения (письмо утеряно) и тот же рисунок (сохранился) 9 августа 1877 года. Как легко догадаться, ответом стала новая «коппейка»:
И если он покинул цирк Луассе, то причиной тому была по-военному суровая дисциплина. По слухам, его репатриировали (или просто помогли ему доехать домой, так как никаких документов о репатриации в консульстве Франции в Стокгольме не обнаружено). Секретарь мэрии Шарлевиля Эмери якобы подтвердил Делаэ, что ему присылали из Стокгольма запрос по поводу Рембо.
Надо полагать, что в Копенгаген он заехал по пути домой. Но возможно также, что он съездил и в Норвегию, как утверждает Верлен.
Конец лета Рембо провел в Шарлевиле. «Кроме присутствия нашего красавца, ничего нового, — сообщает Делаэ Верлену. — Только солнце, мостовые, которые им воняют, ручьи, которые им смердят…»20
Все это время Верлен, окончательно вернувшийся из Англии, отдыхал у матери в Аррасе. В сентябре он пригласил к себе на несколько дней Жермена Нуво, который и передал ему (это почти бесспорно) рукопись «Озарений». Легко представить, с какой жадностью, с каким энтузиазмом он впервые прочел стихи в прозе своего друга.
Кроме того, его мать после ареста Верлена привезла из Брюсселя стихи и песни 1872 года, переписанные Рембо по его просьбе, так как оригинальные рукописи остались в Париже. Копии выполнены в спешке — знаков препинания нет, названия зачастую пропущены; Рембо сделал их по памяти в Бельгии и в Лондоне в 1872 году.
Верлен, что вполне естественно, собрал в одну папку стихи и прозу своего друга. Он допустил неосторожность одолжить ее ненадолго Шарлю де Сиври, и она была на долгие годы конфискована Матильдой. Выйдя в 1886 году замуж во второй раз, она позволила Сиври распоряжаться рукописью, как ему будет угодно, запретив только возвращать ее Верлену. На этих условиях проза вперемешку со стихами была опубликована Гюставом Каном в журнале «Вог», и публика долгое время считала, что все это — единое произведение.
Вернемся же, однако, в Арденны.
Г-жа Рембо обосновалась, по-видимому, осенью 1877 года в принадлежавшем ей домике в Сен-Лоране, деревне в двух километрах от Мезьера.
Артюр часто наведывался в Шарлевиль. Здесь, со старыми друзьями, особенно с. Пьеркеном и Мило, он часто выпивал по кружке пива в кафе Дютерма или винном погребке под аркадой на Герцогской площади.
Луи Пьеркен пишет: «После каждого дальнего путешествия он возвращается, чтобы прикоснуться к родной земле. Однако контакты с друзьями для него разорваны. Они олицетворяют для него прошлое, литературу. Его отстраненность поражала нас задолго до его окончательного отъезда. Я представляю себе встречу с ним, говорил Мило, посреди Сахары, после долгих лет разлуки. Мы одни, идем навстречу друг другу:
— Здравствуй, как дела?
Он на мгновение останавливается:
— Хорошо. До встречи.
И идет дальше. Никаких эмоций, ни слова больше»…
Как сильно он изменился! Изабель, которой было уже восемнадцать, гордясь старшим братом, нарисовала его сидящим скрестив ноги, приветливого и серьезного; его можно было принять за того, кем он хотел быть: молодого инженера.
При первых же осенних холодах, опасаясь скверного арденнского климата, он решился попытать счастья в теплых странах и уехал в Египет.
Об этом приключении мы не знаем почти ничего. Изабель отныне — наш единственный источник, но так как она писала много позже этих событий и ее тенденциозность очевидна, наш рассказ становится менее достоверным — и менее живописным: в заметках Изабель нет ни рисунков, ни историй, ни стихов, они сухи, как история болезни.
Если верить ей, Артюр поехал в Марсель, сел на корабль, идущий в Александрию, но, пригвожденный к постели лихорадкой, покинул судно на остановке в Чивитавеккья. Корабельный врач поставил диагноз: воспаление стенок брюшной полости, вызванное длительными путешествиями пешком. По ее словам, Артюр, набравшись сил за несколько дней в госпитале, посетил Рим и вернулся домой через Марсель.
Зима прошла в тепле, среди словарей и иностранных грамматик. Появились также и книги по естественным наукам, учебники математики, различные издания по технике.
Мы не будем рассказывать здесь об обстоятельствах, воскресивших Рембо-поэта, о том, как были обнаружены его стихи и произведения, считавшиеся утерянными. Мы сделаем исключение лишь для первого знака этого воскресения— публикации в Лондоне, в январе 1878 года, в «Журнале джентльмена» «Завороженных» (под названием «Маленькие бедняки»), подписанного почему-то «Альфред Рембо». Неизвестно, кто предоставил этот текст в журнал. Возможно, Верлен передал его когда-то Камилю Барреру, работавшему в этом журнале. Не будем копать глубже, но запомним это знамение, этот первый распустившийся цветок…
Весной 1878 года его следы теряются; возможно, он ездил в Гамбург — по словам Ж. М. Карре, или в Швейцарию — по словам Изабель. Честнее будет сказать, что ничего не известно. Единственное свидетельство — и то очень недостоверное — это строчка из письма Делаэ к Верлену от 28 сентября 1878 года:
«Ремба видели в Париже, это совершенно точно. Один мой друг видел его в Латинском квартале на Пасху»21.
По поводу этих сведений высказывалась гипотеза, что ему захотелось посетить Всемирную выставку, проходившую в этот год в Париже и торжественно открывшуюся 1 мая. Такое вполне можно допустить22.
Делаэ ничего не знал об этом. В конце июля 1878 года он не мог сказать о Рембо вообще ничего. Верлену, который отработал свой первый год в Ретеле, он сообщает: «Наш вертопрах пропал — как в воду канул. О нем — абсолютно ничего»23.
В это время Рембо находился в Роше. Его мать решила переехать туда, когда от нее ушел последний арендатор — его попытки вести хозяйство на ферме окончились полным провалом; кроме того, вернулся Фредерик, отслужив свой срок по контракту. На этот раз Артюр сам вызвался помогать собирать урожай.
Как заявил первым биографам Рембо Луи Пьеркен, «именно в августе 1878 года мы его видели в последний раз. Насколько мы помним тогдашний наш разговор, всю вторую половину дня Рембо насмехался над нашими ужимками начинающих библиофилов».
Позже Пьеркен датировал эту встречу 1879 годом (наверное, по ошибке): «Однажды летом 1879 года Эрнест Мило пригласил меня отправиться вечерком в маленькое кафе на Герцогской площади, ставшее потом обычным местом наших встреч с Верленом, когда он возвращался в Арденны. «Рембо, — сказал мне Мило, — только что купил костюм, попросив портного отправить счет его матери. Это значит, что он уезжает». Он делал так перед каждым путешествием, не ставя никого в известность. Рембо появился в восемь. Он был довольно молчалив, но, когда Мило поздравлял меня с приобретением нескольких книг, вышедших в издательстве Лемерра, вдруг обрел дар речи и резко сказал мне: «Покупать книжки, да еще такие, совершеннейший идиотизм. У тебя на плечах есть штука, которая заменит тебе все книги на свете. А эта бумага, стоящая на полках, годится лишь на то, чтобы прикрывать плесень на стенах!» Всю остальную часть вечера он был безудержно весел какой-то бьющей через край веселостью и в одиннадцать вечера покинул нас навсегда».
Делаэ потерял след своего друга. В это время (конец лета 1878 года) он послал Верлену пять «коппеек» собственного сочинения и пригласил его приехать в Шарлевиль, не обмолвившись о Рембо ни словом. В октябре он уехал преподавать в Кенуа (департамент Нор).
Что же до Рембо, которого неотступно преследовали мечты о солнце, он уехал 20 октября 1878 года. Эту дату он называет сам в письме, посланном в декабре из Александрии — в нем он просит мать засвидетельствовать, что работал у нее на ферме.
О его путешествии до Генуи мы имеем документ из первых рук, длинное письмо, отправленное им домой в воскресенье 17 ноября 1878 года — в день кончины его отца в Дижоне, о которой он узнал много позже24. Вот его начало:
— Что же до поездки сюда, ее иногда осложняли холод и неподходящее время года. По пути из Арденн в Швецию мне хотелось пересесть в Ремиремонте на проходящий немецкий транспорт до Вессерлинга. Для этого мне пришлось проехать через Вогезы, сначала в дилижансе, после пешком, так как ни один дилижанс не мог преодолеть полуметровые снежные завалы, к тому же сообщали о буре. Но, как и предполагалось, настоящим подвигом оказался перевал Сен-Готард, в это время непроходимый.
Следует невероятно выразительный отрывок о переходе через знаменитый горный массив, об Альтдорфе, о пропастях под Чертовым мостом, о подъеме к Госпенталю:
Нет больше ни дороги, ни пропастей, ни ущелья, ни неба: ничего, кроме белизны, о которой можно думать, к которой можно прикасаться, которую можно видеть или не видеть, потому что нельзя оторвать глаз от белого просвета, который, вероятно, середина тропинки. Невозможно поднять нос — дует резкий северный ветер; ресницы и усы в сосульках, уши раздирает, горло саднит. Без тени от самого себя и телеграфных столбов, что идут вдоль дороги, заблудиться было так же легко, как дураку на ярмарке.
(…) Но дорога теряется. С какой же стороны столбы? (Они идут только с одной стороны дороги.) Чуть сойдешь с тропы — проваливаешься по пояс, почти по плечи… Бледная тень за траншеей: это приют Готард, чинное и гостеприимное заведение, уродливая постройка из дерева и камня, колоколенка. После звонка нас встречает косоглазый молодой человек, мы поднимаемся в низкую и неопрятную комнату, где нас угощают хлебом, сыром, супом и рюмочкой спиртного. Нам показывают больших красивых собак с желтоватой шерстью, прославившихся на весь мир. Вскоре являются и едва живые опоздавшие с окрестных гор. Вечером нас около тридцати, после ужина мы укладываемся на жестких матрасах под покрывалами не по размеру. Ночью слышно, как гости с молитвами признаются в своем желании обокрасть тех самых чиновников, что содержат это прибежище.
Через два дня после прибытия в Геную он нашел корабль, шедший в Александрию, но добрался до нее только через месяц. Здесь Артюру улыбнулась удача: ему предложили временную работу — он заменил французского инженера, проводившего какие-то работы недалеко от города. При этом у него был широкий выбор постоянных вакансий на будущее: в крупном земледельческом хозяйстве, на франко-египетской таможне или переводчиком при группе рабочих на каком-то заводе на Кипре. В конце концов, приняв последнее предложение, он подписал контракт с французской фирмой «Эрнест Жан и Тиаль Младший», расположенной в Ларнаке, главном порту острова, и приступил к исполнению обязанностей 16 декабря. Точность этой даты несомненна, так как 15 февраля Рембо написал своим: «Завтра, 16 февраля, будет ровно два месяца, как я здесь работаю».
Здесь необходимо сделать отступление. Эмиль Дешан, агент Морской почтовой компании, утверждал, что в конце 1879 года какой-то Рембо находился в Адене, откуда собирался отправиться с небольшой командой к мысу Гвардафуй (северо-восточная оконечность Сомали), чтобы ограбить судно, потерпевшее там крушение. Разумеется, это не может быть наш Рембо — времени с конца ноября до 16 декабря не могло хватить на путешествие в 800 километров туда и обратно. Объяснение мы найдем в постскриптуме к письму, отправленному Рембо (настоящим) домой 22 сентября 1880 года: «Правильно пишите мой адрес, потому что здесь, в Адене, есть еще один Рембо, агент Морской почтовой компании»25.
Вот наш Рембо надсмотрщик при группе рабочих в каменоломне близ моря, в двадцати четырех километрах от Ларнаки. Г-н Роже Милье, атташе по культуре при посольстве Франции в Никозии, разыскал это место, так называемый «Потамос», недалеко от деревни Ксилофагу26. Артюр отвечал за 60 человек, киприотов, греков, турок и арабов. Он намечал работу на день, распоряжался инструментом, писал отчеты в дирекцию, вел учет еды и всех прочих расходов, рассчитывался с рабочими. Его обязанности — скорее обязанности бригадира, а не надсмотрщика, так как он следил не только за выемкой камня, но и за его погрузкой на баржи. Однако положение его было не столь уж прочным: он мог потерять место, так как Кипр вот-вот должен был отойти англичанам. К тому же стояла невыносимая жара (все европейцы болели и некоторые умирали), блох же было видимо-невидимо. К этому добавлялись трудности с рабочими, среди которых были очень ленивые и вспыльчивые. Письмо без даты, где Рембо жаловался, что не получил высланных кинжала и палатки, несомненно, относится к этому времени, так как 24 апреля 1879 года он сообщил родным, что поссорился с рабочими и вынужден просить их прислать оружие.
Жизнь его вовсе не была безоблачной. Делаэ он рассказал такую историю. Однажды кто-то взломал кассу с зарплатой рабочих; виновного скоро обнаружили. Рембо, вместо строгого наказания, втолковал ему, какой ущерб он наносит своим товарищам, и сумел убедить вернуть украденные деньги. «Они меня очень зауважали», — заключал он.
Ему нравилась дикая жизнь на свежем воздухе, вдали от цивилизации, среди простых и грубых людей (среди них был даже один русский поп), учивших его новым языкам. Он спал в хижине на пляже или жил под открытым небом, переходя от одной команды к другой, лежа полураздевшись на солнце после обеда. Вечером он забавлялся вместе с рабочими, делавшими хлопушки из взрывчатого порошка.
Увы! Он болел лихорадкой и день ото дня худел. В конце мая 1879 года ему срочно пришлось вернуться в Рош, где врач поставил диагноз: брюшной тиф и прописал абсолютный покой. Но сельский воздух и врачебный уход быстро вернули ему силы: в конце июля он уже помогал при жатве. Рисунок Изабель на обложке бухгалтерской книги изображает Артюра в его новой ипостаси сельскохозяйственного рабочего, плохо одетого, небритого, с взъерошенными волосами, с каким-то земледельческим инструментом в руках (внизу слева — силуэт г-жи Рембо со спины).
В сентябре Делаэ выразил желание повидаться с Рембо и был приглашен на несколько дней в Рош. Это было их последнее свидание.
Рембо, как рассказывает его друг, сам открыл ему неструганую калитку фермы. «Сначала я узнал лишь фантастически красивые глаза! — со светло-голубой радужной оболочкой, окруженной более темным, чуть сиреневым кольцом. Щеки, бывшие раньше круглыми, ввалились, скулы заострились. Нежно-телесный, как у английского ребенка, оттенок кожи сменился за эти два года темным загаром кабила[186], и, что меня позабавило, на этой коричневой коже вилась бледно-рыжая борода, которая у него долго не прорастала, как это, думается, бывает у людей с хорошей наследственностью. Другое проявление полного физического возмужания — его голос потерял знакомый мне нервный оттенок и стал низким, глубоким, полным спокойной силы»27.
Он только что вышел из амбара с таким видом, будто всю жизнь только и занимался, что сбором урожая. Когда утихли первые эмоции, он рассказал, что делал на Кипре, и с гордостью (ему ведь часто повторяли, что он ни на что не годен) вынул свидетельство от своих работодателей, датированное 27 мая 1879 года: «Мы удостоверяем, что г-н Артюр Рембо работал у нас в должности начальника выработки в течение шести месяцев. Мы полностью удовлетворены его услугами и свидетельствуем, что он свободен от обязательств перед фирмой».
Делаэ продолжает: «Вечером после обеда я рискнул спросить у него, думает ли он еще… о литературе. Он засмеялся, покачав головой, полуобиженно-полунасмешливо, как будто я спросил его: «Ты еще играешь в лошадки?» и ответил только: «Я этим больше не занимаюсь».
В том, как он выделил словечко «это» и в том, как на меня смотрел, было что-то иронично-издевательское, раздраженное; он как будто хотел сказать: «Я был бы рад полагать, что ты понимаешь, что не стоит меня больше об этом спрашивать»28.
Они несколько раз прогулялись по окрестностям. Рембо заявил, что может жить только в какой-нибудь теплой стране, на берегах Средиземного моря, в Африке… или в Америке! В данный момент он собирался вновь отправиться на Кипр через Александрию.
На дороге Аттиньи — Шесн, рассказывает Делаэ, Рембо внезапно покинул его, произнеся:
— Лихорадка! Сейчас у меня начнется приступ!
Тем временем Верлен, два года проработав учителем в Ретеле, вновь уехал в Англию вместе со своим любимым учеником Люсьеном Летинуа и нашел место в школе в Лимингтоне, городке напротив острова Уайт. Именно здесь из письма Делаэ он узнал, что Рембо ведет крестьянскую жизнь в Роше. Верлен немедленно, чтобы не расслабляться, сочинил новую «коппейку», но его смех уже больше походил на оскал:
Через некоторое время после визита Делаэ Рембо вновь собрался и уехал в Александрию, но ему пришлось прервать свое путешествие в Марселе: жесточайший приступ лихорадки заставил его спешно вернуться домой.
Мало-помалу он становился все молчаливее и раздражительнее, умереннее — до аскетизма — в еде. Только лежа на теплом сеновале с книжками по прикладным наукам, сообщает Изабель, он чувствовал себя хорошо. Это было настолько невыносимо, что и два года спустя он не мог забыть тех тяжелых дней. «Я не хочу второго издания зимы 1879/80 года, — пишет он семье 15 февраля 1881 года, — я слишком хорошо ее помню».
В марте 1880-го, не в силах больше ждать возвращения тепла, он опять — на этот раз окончательно — уехал в Александрию.
Осенью 1880 года Делаэ, узнав, что Верлен поселился в Куйоме, в шести километрах от Роша, шутки ради нарисовал случайную встречу двух старых друзей, изобразив обоих крестьянами, в деревянных башмаках и хлопковых колпаках. Верлен, возделывающий поле, кричит «Ба!», окликая идущего по дороге Рембо, а тот отвечает традиционным «Черт побери!»29. Очевидно, что это шутка, иначе бы Верлен не написал Франциску Виеле-Гриффену 5 января 1882 года: «В мою последнюю встречу с Рембо, то есть в феврале 1875-го».
В Александрии Артюр не нашел подходящей работы и уехал на Кипр. Фирма «Эрнест Жан и Тиаль Младший» обанкротилась. Остров был сдан турками англичанам в июне 1878 года, как раз тогда, когда Рембо его покидал. Однако именно благодаря этому он смог найти место бригадира. На этот раз нужно было не добывать камень, а укладывать его. Британская администрация сооружала на горе Троодос, высшей точке острова (2100 метров над уровнем моря), резиденцию генерал-губернатора. Рембо вновь стал начальником группы рабочих; ее снабжение требовало частых разъездов верхом. Ему платили всего двести франков в месяц, но в мае оплата увеличилась. «Идет дождь, град, ветер такой, что на ногах стоять невозможно», — писал он домой в это время; его здоровье (начавшаяся аритмия) причиняло ему беспокойство. Другая забота — дворец губернатора должны были сдать в сентябре. В сложившейся ситуации он просил, чтобы ему прислали две книги, одну на английском, «Справочник по лесопромышленным и сельскохозяйственным лесопилкам», другую на французском, «Карманную книгу плотника». В конце письма он спрашивал о папаше Мишеле, батраке из Люксембурга, работавшем у г-жи Рембо, и о «Гашыне» (кобыла Графиня — так ее называл папаша Мишель).
С наступлением весны все, казалось бы, уладилось. К 20 июня Артюр уволился, так как нашел работу получше, на предприятии, поставлявшем строительный камень и известь, с которым он, наверное, и до того имел дело каждый день. Немного позже между ним, главным бухгалтером и инженером, под началом которого он работал, возникли трения, и ему пришлось уйти. «Если бы я остался, я мог бы 276 достигнуть неплохого положения, — писал он 17 августа 1880 года. — Но я могу еще туда и вернуться». Эта фраза при условии, что она правдива, как будто опровергает воспоминания итальянского коммерсанта Отторино Роза, которому Рембо якобы признался в Хараре, что в порыве гнева бросил камнем в рабочего и убил его30. Этим объяснялось бы его поспешное бегство в Африку, а также довольно неожиданные заявления, сделанные им своему новому работодателю в Адене, Пьеру Барде. Однако, за недостатком доказательств, трудно сказать что-либо определенное.
Когда Рембо уплыл на африканский континент, у него было 400 франков сбережений, чем он был очень горд. Перед ним открывалась новая жизнь, полная возможностей и надежд: арабские страны, Эфиопия, Судан, Занзибар… какими красивыми выглядели эти края на карте!
Рембо сплетет целую паутину между Аденом и Джибути, между Сайлой и Хараром, и сам же в ней запутается. И когда вырвется из этого ада, на нем уже будет лежать печать смерти.
Примечания к разделу
1 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 105.
2 Э. Делаэ, Rimbaud (1923), с. 63, прим.
3 См. воспоминания Эрнеста Летранжа (сына Луи) в la Grive, № 83, октябрь 1954 г.
4 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 64 (рисунок относится к выборам 20 февраля 1876 г.)
5 Рисунок впервые опубликован в la Revue blanche от 15 апреля 1897 г.
6 Тетрадь Дусе, рис. 12.
7 Тетрадь Дусе, рис. 10.
8 Выдержка из реестра Военного отдела была опубликована Мармельштейном в Bulletin des Amis de Rimbaud (прил. к la Grive, № 37, июль 1937). В книге Д.-А. де Граафа Rimbaud et la durée de son activité littéraire на c. 136 опубликована фотография страницы из реестра Бандунга (прочесть на ней невозможно ни слова). Сам реестр погиб во время последней войны.
9 Предполагается, что на эту вещь Артюра вдохновил текст листовки, призывавшей записываться добровольцами в экспедиционный корпус в Алжире.
10 См. Utrechtsh Dagsblad за июнь-июль 1976 г.
11 Ван Дам, «Le légionnaire Rimbaud— Episodes d’une vie aventureuse», de Fakkel, Djakarta, февраль 1941 г.; см. также. Серж Гай Люк, «France-Asie», июнь 1946 г., Мохаммед Сиах, Indonésia, № 10, октябрь 1954 г., и Луи-Шарль Демо, «Arthur Rimbaud à Java», Bulletin de la Société d’études indochinoises, 1967, t. XLII, № 4, c. 337–349.
12 См. Мармелыптейн, Mercure de France, 15 июля 1922 г.
13 Письмо опубликовано Д.-А. де Граафом в la Revue des sciences humaines, c октября по декабрь 1951 г.
14 См. В.-Ф. Ундервуд, «Rimbald le marin», Mercure de France, декабрь 1960 г. и Rimbaud et l’Angleterre, c. 201–215.
15 Э. Делаэ, Les Illuminations et Une saison en enfer de Rimbaud, c. 16, прим.
16 В.-Ф. Ундервуд, Rimbaud et l’Angleterre, c. 217.
17 Письмо впервые опубликовано в le Figaro littéraire от 20 мая 1961 г. Факсимиле в Г Album Rimbaud.
18 См. Анри Тетар, «Arthur Rimbaud et le cirque», Revue des deux mondes, 1 декабря 1948 г.
19 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 18, на котором изображен Делаэ, собирающий с каким-то своим другом (или учеником) цветы.
20 Написано на оборотной стороне рисунка, на котором изображен огорченный Рембо, — он не смог найти Шаналя, своего старого учителя риторики из шарлевильского коллежа (хранится в Bibliothèque littéraire Jacques Doucet).
21 Письмо хранится в Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
22 См. Д.-А. де Грааф, Revue des Sciences humaines, апрель — июнь 1955 г. Если Рембо посещал Выставку 1878 г., он мог там встретить Верлена (см. Verlaine [Julliard], с. 244).
23 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 78.
24 Рембо единственный раз упоминает о смерти отца — в письме матери от 24 апреля 1879 г.: «Только сегодня я получил подтверждение из канцелярии». Об отношениях Рембо с семьей наши данные крайне скудны: ни одно его письмо, где он или излишне откровенен, или говорит о своих близких, не было опубликовано, а те, что попали в печать, прошли «цензуру» Изабель и П. Берри-шона.
25 Указано у Ж.-М. Карре, Lettres de la vie littéraire d’Arthur Rimbaud.
Противоположное мнение высказывает А. Гильемен в Mercure de France, 1 июня 1953 г.
26 См. В.-Ф. Ундервуд, Rimbaud et l’Angleterre (с. 223); там цитируется работа Р. Милье «Le premier séjour d’Arthur Rimbaud à Chypre», опубликованная в Kupriakai Spoudai (Nicosie) в 1965 г. Фотографии этих мест — в Figaro от 18 сентября 1954 г.
27 Э. Делаэ, Rimbaud (1906), с. 185.
28 Э. Делаэ, Rimbaud (1906), с. 186.
29 Впервые рисунок опубликован Шарлем Донуа в Verlaine intime (1898).
30 См. Лидия Херлинг Крое, «Rimbaud à Chypre, à Aden et au Harar, documents inédits», Etudes rimbaldiennes, т. III (1972).
Глава XIV
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С АФРИКОЙ
В каждом порту на Красном море, где останавливался его корабль — будь то Суакин в Египте[188], аравийская Джидда, Массауа в Эритрее[189] или йеменская Ходейда, — Рембо безуспешно пытался найти работу. По пути он собирал сведения о возможностях торговли с внутренними районами Египта, Судана, Аравии и Абиссинии[190]. В Ходейде он заболел от жары и оказался на несколько дней в больнице, куда его любезно устроил г-н Требюше из марсельского торгового дома «Моран и Фабр». В конце концов ему удалось добраться до Адена. Рембо думал, что в таком крупном порту сумеет неплохо устроиться, но, приехав, опять заболел, не перенеся ужасной жары.
Незадолго до этого в Адене открыла свой новый филиал лионская компания «Мазеран, Вианне, Барде и К°» (к тому времени уже действовали филиалы фирмы в Бербере и Сай-ле). К ее управляющему, г-ну Дюбару, полковнику пятого ронского легиона в отставке, и пришел Артюр, имея при себе рекомендательное письмо г-на Требюше. Президент, Альфред Барде, находился в отъезде, изучая рынки сбыта в королевстве Менелика II (Абиссиния), и вскоре кандидатура Артюра была утверждена. Дюбара поразили абсолютно седая голова двадцатишестилетнего соискателя и его волевое лицо. Новоприбывший выглядел человеком весьма неглупым и полным решимости работать, а потому сразу был зачислен в штат.
Новичок представился Артюром Рембо и сообщил, что родился в Доле (департамент Юра) и только что прибыл с Кипра, где был бригадиром в каменоломне. Остров он покинул якобы из-за того, что нанявшая его на работу компания обанкротилась. Можно ли заключить на основании этих отрывочных и недостаточно достоверных заявлений, что Артюра мучила совесть и что он скрывался? Точно этого утверждать нельзя. Любопытно, однако, что он умолчал о настоящем месте своего рождения.
Г-ну Дюбару и Пьеру Барде, брату Альфреда, он показался надежным малым. Альфред Барде сообщает также, что он постоянно и совсем не к месту сопровождал свои немногословные высказывания короткими и резкими взмахами правой руки. Обо всем этом говорится в его воспоминаниях об Аравии и Африке, изданных под названием «Ваrr Adjam»[191]; на эту книгу мы довольно часто будем ссылаться1.
Артюру доверили пост смотрителя цехов по взвешиванию и сортировке кофе, так называемых «харим», которые предоставляли работу по большей части женам индийских солдат из смешанного индийского подразделения, расквартированного в Адене. Работа Артюру очень нравилась. Для этой должности его познаний в арабском вполне хватало. Подчиненные оценили его по достоинству, но тем не менее сразу же окрестили его «Карани», что означало «злой» — обыкновенное прозвище бригадиров.
Здание филиала, в котором разместили в том числе и Артюра, находилось напротив отделения городского суда и представляло собой большое одноэтажное сооружение с шестью высокими аркадами на фасаде, довольно приятное на вид; на его единственном этаже находились одновременно и жилые комнаты, и служебные помещения.
И все было бы как нельзя лучше, если бы не два обстоятельства: во-первых, ничтожное жалованье (в пересчете на французские деньги 5–6 франков в день на все — питание и проживание), а во-вторых — невыносимая, удушающая жара. «Аден стоит на голой скале, — писал он домой 25 августа 1880 года, — здесь не найдешь ни травинки, ни капли чистой воды, мы пьем опресненную морскую воду; жара невыносимая, особенно в июне и сентябре, когда температура поднимается выше всего. Обычная же температура в «прохладном» и постоянно проветриваемом кабинете ни днем, ни ночью не опускается ниже 35 градусов. Все очень дорого, и я чувствую себя пленником — совершенно ясно, что мне придется просидеть тут как минимум три месяца, прежде чем я встану на ноги или подыщу место получше».
Рембо потребовал жалованье в 200 франков в месяц — в случае отказа он грозился немедленно уехать (например, в Занзибар или еще куда-нибудь), потому что ему совсем не хотелось оставаться в Адене, о котором он со свойственным ему черным юмором как-то сказал, что Аден «вам кажется наискучнейшим местом на свете, уступающим лишь тому, в котором вы сами в данный момент находитесь».
Удерживала его только надежда на то, что ему доверят управление одним из африканских филиалов.
В своем письме в Рош от 22 сентября 1880 года Рембо сообщал, что женится еще нескоро, потому что у него нет денег. Артюр совсем не хотел брать пример с брата Фредерика, который собрался жениться на бедной девушке, не имея ни гроша за душой. В случае Фредерика речь шла, по слухам, о мадемуазель Жермен, чью семью страстно ненавидела г-жа Рембо. Она раздула из этого такой скандал, что Жермены были вынуждены покинуть родной город. Г-жа Рембо вроде бы даже планировала выкупить их дом, чтобы, по ее словам, доставить себе удовольствие «выжечь это осиное гнездо»2.
В это время Альфред Барде в сопровождении Люсро (некоего молодого человека, убитого позже туземцами), Д. Пиншара, авантюриста по натуре, о котором мы еще будем говорить, юноши-абиссинца по имени Хедж Афи, а также шести арабов, выполнявших обязанности носильщиков и слуг, изучал перспективы торговли с высокогорными плато Абиссинии.
Он тотчас же решил открыть филиал в Хараре[192] — местность радовала глаз зеленой растительностью и производила прекрасный кофе «Бербера»; там же находились рынки, торговля на которых шла бойко; климат показался вполне здоровым, а местное население было настроено радушно.
Пьер Барде и г-н Дюбар, которых держали в курсе всех этих приятных новостей, не торопились развеять надежды Рембо на то, что ему могут предложить возглавить харарский филиал. Но когда Альфред Барде вернулся в Аден с образцами абиссинской продукции, Артюра постигло горькое разочарование: место было обещано Пиншару, который остался там, чтобы все подготовить.
Этот Пиншар, выйдя в отставку в чине унтер-офицера пехотных войск, долгое время жил в Алжире и бегло говорил по-арабски; забияка и драчун, он был к тому же членом шайки, промышлявшей грабежом на затонувших у мыса Гвардафуй судах.
Несмотря на неудачу, Рембо был в восторге от того, что его прикомандировали к филиалу в Хараре, потому что главным для него было как можно скорее покинуть аденское пекло. Почти сразу же, 2 ноября, через сестру и мать он заказывает в парижских книжных магазинах внушительное количество технической литературы по металлургии, гидравлике, навигации, строительным работам, литейному делу, лесопильному и дубильному производству, тканям и т. д. — даже учебник по производству свечей. Он уже видел себя главным инженером, имеющим в своем распоряжении неограниченные финансовые возможности и рабочую силу для выполнения всего, что бы ни пришло ему в голову, будь то, например, постройка медпунктов по всей провинции или сооружение дамб, строительство заводов и промышленных комплексов.
И снова надежды его не оправдались. На самом деле, ему вполне могло хватить одной-единственной книги — «Самоучителя мастера на все руки». Ж. М. Карре, один из биографов Рембо, всегда противопоставлял в нем искателя вымышленных приключений и искателя приключений реальных, поэта и путешественника. На самом деле, вся его жизнь была сплошной погоней за мечтой.
Договор с Артюром был заключен 10 ноября 1880 года сроком на три года, считая с 1 ноября 1880-го, и подписан г-ном Дюбаром. Положенное жалованье— 150 рупий (или 330 франков) в месяц, бесплатное питание и проживание плюс около 1 % чистой прибыли филиала — было довольно значительным улучшением по сравнению с тем, сколько он зарабатывал в Адене.
Примерно 20 ноября Рембо отбывает в западном направлении — сначала по морю на бутре[193] до Сайлы, а затем через сомалийскую пустыню. Артюра сопровождал один грек по имени Константин Ригас, сотрудник фирмы Барде. Они ехали в составе ведомого арабами каравана, который вез на продажу хлопчатобумажные ткани и другие товары.
Приключения продолжались.
Харар, как и всякий город, свято хранящий исламские традиции, был довольно закрытым, и мало кто из европейцев когда-либо туда проникал. Он находился на высоте 1700 метров над уровнем моря на вершине плато и был опоясан красно-бурой стеной трехметровой толщины с пятью воротами. Население в тот момент насчитывало 35–40 тысяч жителей. В 1875 году Харар был захвачен египтянами и с тех пор там находился постоянный гарнизон численностью около пяти тысяч человек.
«Путешественник только что пересек живописные плантации кофе и роскошные банановые рощи; и вот перед ним предстает этот огненно-красный, пламенеющий город, рыжевато-коричневая краска и монотонные горизонтальные линии его домов, глаз отдыхает лишь на бликах с крыш трех минаретов да на нескольких жалких смоковницах. Все это придает городу волшебный и в высшей степени фантастический облик, город зачаровывает», — писал итальянский путешественник Робекки-Брикетти в 1888 году3.
Странное перемещение во времени и в пространстве — это были Африка и Средневековье одновременно.
Филиал фирмы Барде находился на центральной площади города, около главной мечети, в одном из нехарактерных для города в целом двухэтажных сооружений, так называемом «гуэби», дворце, ранее принадлежавшем первому египетскому губернатору города Рауф-паше.
На первом этаже находился «диван», в прошлом4 приемный покой дворца, обставленный небольшими диванчиками с подушками на них. Несколько дверей вели в другие комнаты, приспособленные под склады.
Окна комнат, где жили Рембо и Константин Ригас, выходили на площадь. За домом находился небольшой садик с парой цитрусовых деревьев.
В остальном не было даже намека на комфорт: здание находилось в весьма плачевном состоянии как снаружи, так и изнутри. Потолки из тростника были обмазаны землей, которая сохла и постепенно рассыпалась, все кишело тараканами, уховертками, серыми муравьями и другими насекомыми.
Поначалу все шло хорошо. Рембо был доволен. «Климат у нас, — писал он домой 13 декабря 1880 года, — здоровый и прохладный», и добавлял (в письме от 15 января 1881-го), что «местность не лишена приятности». Он обещал даже прислать фотографии, как только прибудет заказанный им фотоаппарат. Свою работу Артюр пытался, по его собственным словам, сделать интересной и прибыльной, продолжая по привычке заказывать специальные каталоги по астрономии, оптике, электричеству, метеорологии, механике и т. д.
И внезапно — кризис, «черная полоса». Письма излучают глубочайший пессимизм: «Я не нашел того, что ожидал найти, и жизнь моя протекает скучно и совершенно бесполезно. Как только накоплю тысячи полторы-две франков, непременно уеду и буду этому весьма рад. (…) Я был бы счастлив уехать прямо сейчас».
Что же произошло?
Во-первых, Артюр не смог приспособиться к окружавшей его жизни: Харар, грязный и зловонный, с улицами, которые кишели нищими, больными и калеками, был мало похож на земной рай. По вечерам из-за комендантского часа запрещалось выходить на улицу, двери домов запирались, и только бездомные собаки устраивали бесконечные драки с гиенами за кусок гнилого мяса или объедки, валявшиеся повсюду.
Кроме того, условия работы также оставляли желать лучшего. Огромная часть времени уходила на крайне сложные бухгалтерские записи, потому что таможенники — «свора псов и негодяев», по словам Рембо, — вели себя просто невыносимо, держали европейцев за свиней и всегда находили, к чему придираться. О том, сколько сил тратилось на договоры о тарифах, транзите, курсах валют и тому подобных вещах, просто умолчим.
Местные жители всеми силами пытались обмануть и обокрасть любого европейца во время бесконечных palabras[194]. Нужно было также остерегаться конкуренции со стороны греков и армян, готовых в любую минуту захватить себе лучшую часть товара у поставщиков. Еще ужаснее одиночество — никого, кто бы мог поддержать интересный разговор.
И наконец, венцом всему стало признание в письме домой, что он «подцепил одну болезнь, не очень-то опасную, если бы не этот климат, благоприятствующий всяким болячкам». Рембо заразился сифилисом, который был здесь весьма распространен; это ужасно его раздражало. Короче говоря, дела шли хуже некуда.
«Я говорю вам «до свиданья» в надежде на лучшие времена и на менее дурацкую работу, а если вам кажется, что я живу, как шейх, то я-то знаю, что живу весьма скучно и отвратительно». Как никогда ему хочется уехать: «В Хараре я ужасно скучаю, и пока что нет совершенно никакой возможности делать здесь то, о чем я мечтал». Мысль о Занзибаре не отпускает его; он готов отправиться куда угодно и «торговать в любых неразведанных районах» (письмо от 4 мая).
В условиях такого ухудшения ситуации — Пиншар тоже заболел — Альфред Барде решил выехать на место вместе с братом своего компаньона, Пьером Мазераном, чтобы навести порядок и наладить работу в филиале.
Накануне отъезда к ним присоединились его высокопреосвященство г-н Торен-Кань, пятидесятилетний епископ галласов, и еще пять монахов-капуцинов, в том числе преподобный Луиджи Гонзага, отец Эрнест и отец Жюльен. Рембо знал, что они должны были приехать — об этом он сообщает в письме от 15 января 1881 года: «В наш город приедет католический епископ. Весьма вероятно, что это единственный католический священник в этих краях».
Итак, небольшим отрядом они вышли в путь 15 марта. На берегу их встретил Хедж Афи, наняв предварительно мулов и верблюдов для перехода по пустыне; из Харара прибыл страдающий от малярии Пиншар. Весьма вероятно, что этот последний подал прошение об отставке; поговаривали также, что он отправился в Египет5 — так или иначе, больше о нем никто ничего не слышал.
Альфред Барде не без удовольствия обнаружил, что дела в новом филиале идут хорошо. Работой Рембо он также был очень доволен: этот работяга старался изо всех сил и бухгалтерские книги содержались в образцовом порядке. «Он отвечал за сохранность склада со всеми товарами, которые закупал для фирмы, — писал Альфред Барде Берришону 1.6 июля 1897 года, — включая шкуры животных, которые выделывали в окрестностях Харара, и спал рядом со всем этим товаром — более или менее он не рисковал ничем заразиться на складе. Надо признать, что он действительно подцепил сифилис — чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на его рот. Он предпринимал самые серьезные меры предосторожности, чтобы не заразить нас через посуду — ведь ею пользовались все. Конечно, я пытался лечить его, хотя, может быть, и не всегда так, как мне того хотелось — во время болезни Рембо становился особенно раздражительным, — но вылечить мне его не удалось, несмотря на то, что в Хараре на тот момент находились доктора египетской оккупационной армии и в нашем распоряжении была довольно хорошая армейская аптека»6.
И в самом деле, болезнь наводила Рембо на мрачные мысли. В одном из писем домой (от 25 мая 1881 года) он заявляет: «Увы! Я вовсе не дорожу жизнью, но вынужден буду продолжать мучить себя в будущем, как и сейчас, терзаться и страдать от глупой, но оттого не менее острой боли. Я боюсь, что в этом ужасном климате я сам невольно сокращаю срок своей жизни…(…) А впрочем, разве смогли бы мы в этой жизни хоть несколько лет наслаждаться покоем и тишиной? Счастье еще, что живем один раз, уж в этом можно быть уверенным — чур меня, чтобы такое повторилось».
Альфред Барде и Пьер Мазеран взяли в свои руки управление филиалом, весь персонал которого составляли четыре человека: Рембо, грек по имени Сотирос, Константин Ригас и Хедж Афи.
В июне Рембо смог немного передохнуть и вскоре почти совсем поправился.
Желая, чтобы простили его плохое настроение, Артюр предложил своим патронам отправить его в Бубассу, местечко в пятидесяти километрах от Харара, где, как сообщали, скопились большие запасы козьих и бычьих шкур, которые местные жители не решались вывозить, так как на дорогах было неспокойно — египетская армия, надо сказать, никогда не покидала своих казарм.
«Я уезжаю через несколько дней, — сообщает он в письме от 2 июля, — в область, где не ступала нога европейца, и когда нам наконец удастся выехать, нам предстоит полуторамесячное путешествие, полное невзгод и опасностей, но которое, быть может, принесет немалую выгоду». Для этих целей был собран караван верблюдов, несших тюки с хлопчатобумажной тканью и разнообразными товарами, предназначенными для туземцев.
«Перед тем как отправиться в путь, — рассказывает Альфред Барде, — Рембо обвязал себе голову полотенцем на манер тюрбана, а поверх своего обычного костюма завернулся в красное покрывало — ему хотелось, чтобы его принимали за мусульманина. Этот костюм, который у нас вызывал смех, должен был показаться гораздо менее смешным туземцам, наготу которых едва прикрывали крашеные козьи шкуры или оборванные накидки, такие же грязные, как наши штаны и куртки».
«Рембо вместе с нами потешался над своим нелепым видом, понимая при этом, что красное покрывало, которое придавало восточный колорит его европейскому костюму, могло послужить хорошей приманкой для какой-нибудь шайки грабителей, но ради престижа фирмы ему нужно было, чтобы его приняли за богатого мусульманского купца».
Деревенька Бубасса, состоявшая приблизительно из шестидесяти круглых домов-хижин, была местом бойкой торговли семенами и кожей.
Рембо закупил там огромное количество кож — гораздо больше, чем мог увезти, — и поэтому лишнее на обратном пути пришлось оставить на специальных складах, куда затем надо было вернуться.
Об этом путешествии, мало похожем на увеселительную прогулку, мы имеем довольно скудные сведения: туземцы оказали дружеский прием, чего не скажешь о местных львах — жертвой одного из них пала лошадь Сотироса, так что ему пришлось возвращаться домой верхом на муле, говорит Альфред Барде.
Рембо отнюдь не собирался сокращать сроки поездки из-за лихорадки, которая по возвращении опять приковала бы его к постели. Он не в духе; своим он пишет: «Что еще вы хотите узнать о моей здешней работе, которая у меня в печенках сидит, и о стране, от которой я в ужасе, и т. д. и т. п.? Ну расскажу я вам, что все мои нечеловеческие усилия имели своим результатом только лихорадку, которая мучает меня вот уже две недели так же, как два года назад в Роше? И что? Теперь я готов ко всему и ничего не боюсь».
Некоторое время спустя Альфред Барде в сопровождении Сотироса и Хеджа Афи — все трое вооруженные до зубов — отправился с караваном в Бубассу, чтобы попытаться пройти по разведанному Рембо пути, а заодно забрать с собой шкуры, которые оставались на складах. Предприятие обошлось без серьезных происшествий, но оказалось совершенно бесполезным: не было никакой возможности установить прочный контакт с Бубассой, настолько многочисленными были банды грабителей, рыскавшие вокруг Харара.
После двух этих экспедиций филиал вернулся к привычному ритму работы: закупка и доставка на побережье сырья, прием и продажа тканей и промышленных товаров — все это делалось с восточной неторопливостью. Монотонная жизнь время от времени прерывалась праздниками и развлечениями, каковыми были, например, торжественный отъезд налоговых агентов, направлявшихся на сбор налогов «натурой» (быками, баранами, козами), или шаманские танцы с тамтамами — попытка предотвратить возможную угрозу налета саранчи.
Так или иначе, общее положение дел было отнюдь не блестящим: многие местные жители голодали и нуждались в помощи; свирепствовали чума, тиф и холера (что, впрочем, довольно характерно для тех краев). Альфред Барде рассказывает, что каждое утро на главную площадь города, около фактории, стаскивали по два десятка трупов.
С приближением осени Альфред Барде начал подумывать о возвращении в Аден, и в связи с этим был поставлен вопрос о том, чтобы его брат Пьер, руководивший агентством в Сайле, приехал возглавить харарский филиал.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Вскоре после отъезда Альфреда некто Пьер Лабатю, постоянно проживавший в Анкобере (в этом городе находилась резиденция короля Менелика), предложил ему некую сделку, по его словам, страшно выгодную, которая состояла в том, чтобы закупить партию оружия и продать ее Менелику, который испытывал в нем постоянную нужду. Несмотря на кругленькую сумму, которую сулила операция, Альфред наотрез отказался: игра была слишком опасной. В конце концов, в один прекрасный день эти ружья окажутся у бандитов, а европейцам в таком случае не останется ничего другого, кроме как убраться подобру-поздорову. Мы еще увидим, как Рембо, согласившись на подобную сделку, потерпит самый настоящий финансовый крах.
Естественно, Артюр был очень задет и обижен тем, что не ему поручили возглавить филиал. Прозябать всю жизнь простым служащим, как Сотирос или Константин Ригас, — эта мысль была для него невыносима. И вот, после «малоприятных ссор с начальством и всеми остальными», Рембо подает в отставку (письмо от 2 сентября 1881 года). Альфреду Барде, обеспокоенному состоянием здоровья г-на Дюба-ра, только этого не хватало. Он попросил Рембо повременить с уходом, пока не приедет его брат, которого срочно вызвали из Сайлы.
3 декабря 1881 года Пьер Барде с видом римского полководца вступил в Харар.
— Да это рай земной! — провозгласил он.
Итак, Рембо мог быть свободен. Сохранив тем не менее остатки здравого смысла, бросать работу в фирме Барде он не захотел, и в итоге договорились, что он продолжит работать в Адене.
Обманутый, озлобленный, постаревший — как мало он походил теперь, по возвращении, на того Рембо, который впервые прибыл в Аден! Запас терпения, и без того довольно скудный, был растрачен в бесконечных ожиданиях — приходилось ждать караваны, передвигавшиеся с черепашьей скоростью, ждать книг, заказанных в Роше (арабский дневник отца, техническую литературу, каталоги и т. д.), ждать лекарств из Адена, ждать необходимого для работы инвентаря… Ничто не приходило вовремя, он вынужден был снова и снова просить, напоминать, твердить одно и то же — и все зря.
А тут еще в конце года на его голову свалилось новое несчастье: поступило сообщение, что 16 января 1882 года Рембо должен прибыть в расположение соответствующей воинской части для прохождения четырехнедельных сборов. Это было уже слишком! Правда, жандармы вряд ли могли прийти за ним, но все равно нужно было хлопотать, обращаться во французское консульство в Адене, просить письменное свидетельство от г-на Барде, ходатайствовать об отсрочке в мезьерской комендатуре, а тут — в довершение всего — оказалось, что Артюр потерял военный билет!
15 декабря Рембо уезжает в Аден, рассчитывая найти там другую работу или вовсе уехать, твердо решив, что в этот проклятый Харар он больше ни ногой.
У братьев Барде осталось о нем такое мнение: «Парень сообразительный, но характер у него совершенно невыносимый».
Рембо же думал о них следующее: «Эти люди — скряги и мошенники, способные лишь на то, чтобы наживаться и вытягивать из своих подчиненных последние соки».
Примечания к разделу
1 Воспоминания Альфреда Барде Barr Adjam, опубликованы Жозефом Тюбиана в 1981 г. (Centre national de la Recherche scientifique). Для книги Etudes rimbaldiennes (т. 1, 1969) мы отобрали оттуда отрывки, касающиеся Рембо.
2 Робер Гоффен, Verlaine et Rimbaud vivants.
3 Л. Робекки-Брикетти, «Rimbaud — Ricordo di uno soggiomo nelf Harar», Bollettino della Societa geografica italiana, серия 3, т. 4, 1891, с. 23–24.
4 См. А. Провост, «Sur les traces africaines de Rimbaud, Aden, Ethiopie», Revue de France 1 ноября 1928 г. Подлинная фотография здания, где располагался филиал фирмы Барде, была опубликована в Illustration 21 сентября 1940 г. и перепечатана в l'Album Rimbaud, с. 243. В Хараре показывают «дом, в котором жил Рембо», двухэтажное здание с галереей, на которую можно попасть по внешней лестнице; на самом деле оно построено в 1900 г., соответственно, после смерти Рембо.
5 Письмо А. Барде к П. Берришону от 21 марта 1901 г., Revue d’Ardenne et d’Argonne, июль 1901 г.
6 Mercure de France, 15 мая 1939 г.
Глава XV
ЖИЗНЬ В АДЕНЕ.
НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА В ХАРАРЕ
В Адене неприятности продолжали его преследовать. Так, в августе 1881 года ему пришла в голову мысль поместить свои сбережения во Франции, так как здесь он практически ничего не тратил, а иметь при себе деньги было опасно. Конечно, он мог открыть счет в местном банке, однако он не доверял всему и вся. Он решил переслать деньги в Рош почтовым переводом, общая сумма составляла 1165 с небольшим рупий (2478 франков золотом), сюда входили его зарплата и комиссионные с 1 декабря 1880-го по 30 июля 1881 года. Его матушка, наверное, сумеет выгодно вложить эти деньги в какой-нибудь банк. Но и через три месяца эти деньги еще не пришли в Рош! Когда же, наконец, это произошло, из-за ошибки при обмене валюты г-жа Рембо получила всего лишь 2250 франков[195]. Подобное мошенничество возмутило его до глубины души, и он направил гневные послания в главный офис фирмы Барде в Лионе и французское консульство в Адене.
Однако еще большее разочарование ему принесло известие о том, что его матери с ее крестьянским умом не пришло в голову ничего лучше, чем вложить полученные деньги в приобретение земель! Подтверждение этому нашел полковник Годшот в кадастровых книгах Шюффи-льи-Роша: в 1882 году у некого г-на де Лаписса из Парижа был приобретен участок земли площадью 37,7 ара; сделка была совершена от имени «Жана Николя Артюра Рембо, преподавателя в Хазаре (sic) (Аравия)». Его имя даже было занесено в списки избирателей местной общины.
«Ну какого черта я буду делать с землей?» — возмущался Артюр в письме к матери от 7 ноября 1881 года, узнав, как поступили с его деньгами.
Впрочем, следует признать, что Артюр был не только вспыльчивым и нетерпеливым, но и добросердечным. Высказав свое недовольство, он добавляет: «Если нужно, возьмите себе то, что вы приобрели для меня: это принадлежит вам. Мне же не о ком заботиться, кроме себя самого, а я ни в чем не нуждаюсь».
В дальнейшем, однако, он больше не посылал денег домой, а помещал их в Аденскую сберегательную кассу под 4,5 % годовых.
Альфред Барде не стал предлагать Артюру вернуться в отдел по сортировке кофе; он заслуживал большего, и был назначен, сказали бы мы, помощником управляющего (Альфред Барде заявлял, что головным филиалом в Адене руководил он сам, а Рембо был его «заместителем»).
Что же касается самого Артюра, то он после некоторых размышлений пришел к выводу, что не создан для коммерческой деятельности, а его истинное призвание — быть путешественником и писателем.
Здесь нам следует вернуться немного назад. В конце 1881 года Верлен, все еще «фермер» в Жюнивиле, решил вновь вернуться в литературу и начал собирать стихотворения Рембо; у его парижских друзей сохранилось немало списков стихов Артюра, а у него в то время уже ничего не было. Такое положение дел заставило его вспомнить о самом авторе. Поль ничего не слышал о нем вот уже два с половиной года. Где он теперь? Что с ним сталось? И Верлен поручил верному Делаэ разузнать, как и что. Так как Эрнест не знал, что Артюр уехал в Африку, он написал ему в Рош. Вот что он сам об этом рассказывает:
«Г-жа Рембо вскрыла конверт и написала мне в ответ миленькое послание, в котором и раскрыла мне тайну, что «бедняга Артюр» находится в данный момент в Харате или в Хараре — у нее такой почерк, я не разобрал. Сегодня я пошлю ей другое письмо и попрошу переслать ему мои каракули, если она знает адрес нашего вертопраха» (письмо к Верлену от 31 декабря 1881 года1).
Рембо ответил на послание друга 18 января 1882 года:
Мой дорогой Делаэ!
Я был рад получить твое письмо.
Без лишних слов скажу, что, коль скоро ты в Париже, ты мог бы оказать мне одну большую услугу.
Я собираюсь написать работу, которая будет посвящена Харару и галласам. Я тщательно изучил этот город и этот народ. Я представлю ее затем в Географическое общество.
Его мечтой было написать настоящий научный труд, непревзойденный по полноте охвата материала, дополненный иллюстрациями; для этого ему требовались точные измерительные приборы: дорожный теодолит или хороший секстант и «самый современный компас для ориентировки»; кроме того, он просил прислать около трехсот образцов минералов, карманный барометр-анероид, рулетку, а также «математический набор», куда входили линейка, угольник и циркуль; список необходимого дополняли книги по топографии, геодезии, гидрографии, промышленной химии и такие издания, как «Учебник путешественника», «Ежегодник Бюро долгот»[196] за 1882 год и т. д. Пусть любезный друг поскорее все это раздобудет, а по поводу возмещения расходов ему следует обращаться в Рош.
Конец письма так же сух, как и начало:
Тщательно запакуй. Подробности — со следующей почтой, через три дня. Ты же, тем временем, поторопись. С сердечным приветом.
Рембо.
Это письмо обнаружено в бумагах семьи Рембо. Это, вероятно, означает, что г-жа Рембо не переслала его Делаэ.
Итак, Рембо, подобно лафонтеновской молочнице, создал себе очередную иллюзию: Географическое общество будет оплачивать ему его восхитительные путешествия. Теперь в Рош поступало еще больше заказов: ему требовались подзорная труба, специальное ружье для охоты на слонов… Артюр буквально грезил наяву: местом его подвигов станут Абиссиния или Занзибар. Более того, узнав о том, что г-н Дюбар поддерживает хорошие отношения с французским консулом в Занзибаре г-ном Леду, Артюр обратился к нему с просьбой направить последнему рекомендательное письмо. Дюбар написал его 6 марта 1882 года; письмо содержало благосклонные отзывы г-на Дюбара о своем «друге и сотруднике» Рембо, который, как мы видим, значительно вырос в глазах руководителей.
Однако 3 ноября 1882 года наш герой сообщил родным, что в январе 1883-го отправляется обратно в Харар, где ему поручено руководить филиалом фирмы, в которой он работал. Сама фирма переживала трудные времена: ей была необходима финансовая поддержка, к тому же намечалась внутренняя реорганизация. Г-н Дюбар собирался выйти в отставку и вернуться во Францию. Его место должен был занять Пьер Барде, освободив тем самым руководящий пост в Хараре. Рембо внимательно следил за всеми этими слухами и некоторое время даже тешил себя надеждой, что его вместо г-на Дюбара назначат уполномоченным по делам Африки и Аравии; работа в этой должности приносила бы ему 10 000 франков ежегодного дохода. Увы, его иллюзии вскоре развеялись.
Помимо этого, также обсуждался дополнительный вопрос о необходимости открытия нового филиала в провинции Шоа, где правил король Менелик. Воображение Артюра снова разыгралось: он уже представлял себе, как, получив щедрую субсидию от Географического общества, будет гарцевать на лошади по огромным девственным просторам неизведанных стран, а за ним целое стадо мулов будет везти совершенно новенькие измерительные приборы.
Поскольку г-н Дюбар направлялся в Лион, Рембо поручил ему купить хороший фотоаппарат (тот, что он когда-то заказывал, так и не дошел), не сомневаясь, что в скором времени это приобретение поможет ему сколотить «небольшой капитал». Не беда, что покупка обойдется недешево (1850 франков — в аппарате были детали из золота и серебра), у его матери достаточно денег; она получит от фирмы чек на 1000 франков, а остальное снимет со своего банковского счета в Роше.
В том же письме от 3 ноября 1882 года Артюр неосторожно добавляет: «Когда это будет сделано, я попрошу вас еще кое-что купить, если останутся деньги».
Ну, нет! Это было уже слишком! Прихоти и противоречивые распоряжения сына вывели г-жу Рембо из себя: аравийское солнце, должно быть, свело его с ума! У нее есть и другие дела, кроме как переписываться с владельцами парижских книжных магазинов и торговцами научными приборами и ходить каждый божий день на почту, чтобы оплачивать и получать посылки! К тому же такие расходы совершенно неоправданны: нужно быть не в своем уме, чтобы заплатить 1850 франков за фотоаппарат, который вполне можно приобрести за 200–300 франков!
Она решительно заявила «бедняге Артюру», что отныне отказывается заниматься его делами.
Ее решение повергло его в отчаяние. «Ваши действия, — заявляет он в письме к матери от 8 декабря, — не лучший способ помочь человеку, который находится за тысячи лье от дома, путешествует среди диких племен и которому практически некому писать в родной стране! Мне хотелось бы надеяться, что вы измените свое немилосердное решение. Если я не могу обратиться за помощью к собственной семье, к кому ж мне тогда, дьявол меня дери, обращаться?»
Без необходимых ему книг и инструментов Рембо чувствовал бы себя совершенно беспомощным. В этом же письме он просит прислать ему новые книги: полный справочник по железным дорогам и «Трактат по механике» Шалонского института.
Резкий и внезапный отказ семьи помогать ему поверг его в самое мрачное отчаяние.
28 января 1883 года он дал пощечину кладовщику по имени Али Шеммак за то, что тот якобы слишком дерзко ответил на его вопрос. Присутствовавшие при этом арабы, грузчики и носильщики бросились к нему и схватили за руки, позволив тем самым Али Шеммаку ударить своего обидчика по лицу и разорвать на нем одежду. Вот это скандал и, главное, какое оскорбление! Позже Али заявил на него в муниципальную полицию, пожаловавшись на нанесенные побои и раны; в его пользу также выступили лжесвидетели, утверждавшие, будто видели, как Рембо доставал кинжал.
Артюр лично уведомил о случившемся французское консульство в Адене, рассчитывая получить от него помощь в суде. Дело могло принять дурной оборот, ему грозил серьезный приговор, а возможно, и депортация.
Выпутаться из этой передряги ему помог Альфред Барде, который выступил в качестве поручителя Рембо. Правда, «из солидарности» ему пришлось уволить Али Шеммака, что он сделал не без некоторого сожаления, поскольку тот был одним из старейших кладовщиков фирмы2.
По всей видимости, этот инцидент ускорил отъезд Рембо.
После резкого поступка матери его отношения с семьей снова наладились: он получил несколько ящиков с книгами, а также фотоаппарат, заказанный в Лионе. Более того, Артюра, возможно, посетит Изабель! Его двадцатидвухлетняя сестренка мечтала увидеть Африку…
«Забудь об этой глупости, — пишет ей Артюр 15 января 1883 года, — тебе ни к чему приезжать в эту страну. Какой интерес смотреть, как в самом настоящем жерле вулкана, на земле, лишенной всякой растительности, живут люди! Сейчас здесь всего лишь 30 в тени, и лично мне нравится такая погода».
«Самое важное и самое необходимое для меня, — признается Рембо в письме от 16 ноября 1882 года, — это быть независимым, неважно где».
Вскоре судьба преподнесла ему щедрый подарок. 20 марта 1883 года с ним был подписан новый контракт сроком до конца 1885 года, его жалованье теперь составляло 160 рупий в месяц плюс обещанное участие в прибыли агентства (около 5000 франков в год), а также оплата жилья и питания.
22 марта 1883 года Рембо выехал в Харар; на сей раз он задумал долгосрочную программу действий. «Мне бы хотелось быстро, за четыре-пять лет, заработать тысяч пятьдесят франков, тогда я мог бы жениться», — сообщает он матери за три дня до отъезда.
За последние год и четыре месяца ситуация в Хараре значительно ухудшилась. Восстание под предводительством мусульманского фанатика Мохаммеда Ахмета, прозванного Махди (то есть «мессия»), охватило в 1881 году египетскую часть Судана и теперь грозило перекинуться на Абиссинию. Эти события вызвали ослабление центральной власти; местные племена постоянно бунтовали, резко возросла их ненависть к иностранцам — такая обстановка совсем не благоприятствовала путешествиям и исследованиям. К тому же картину омрачали политические разногласия и международные осложнения. На территорию провинции Харар одновременно претендовали король Шоа Менелик и король Тигре Йоханнес IV, который теоретически считался императором Эфиопии, сюзереном — и одновременно соперником — Менелика. Обосновавшиеся на границах империи англичане поддерживали Йоханнеса и равнодушно наблюдали за местными волнениями, грабежами и беспорядками; вскоре внутренние районы страны превратились в настоящее пекло.
И в этой неспокойной обстановке Рембо, подобно ребенку, которому подарили новую игрушку, увлеченно занимается фотографией!
Здесь все хотят, чтобы их сфотографировали, — писал он в мае 1883 года, — некоторые даже готовы заплатить за фотографию (…) Посылаю вам две [Рембо ошибается— в действительности он посылает три. — П.П.] мои фотографии, которые я сам сделал (…) На одной я стою на террасе дома, на другой — в саду у кафе, на третьей — я изображен в банановой роще, стою, скрестив руки. Снимки несколько поблекли из-за воды, которой приходится пользоваться для промывания. Однако надеюсь, что в дальнейшем у меня будут получаться более качественные работы. Эти же я высылаю вам лишь для того, чтобы напомнить о себе; заодно вы сможете составить себе представление о местном пейзаже.
Три вышеупомянутых автопортрета были впоследствии опубликованы3. Первое, что бросается в глаза и что, должно быть, поразило его мать и сестру — лицо Артюра выражает глубокую печаль и покорность судьбе. Поль Клодель с большим волнением отзывался о втором из представленных портретов, на котором, по его словам, изображен «человек, совершенно черный от загара, с непокрытой головой и босыми ногами, в одежде каторжанина; а ведь еще недавно она выглядела так, что ей можно было восхищаться». Огюстен Бернар, один из знакомых Рембо в Хараре, пожалуй, был прав, утверждая, что Артюр напоминал скорее нищего армянина или грека, чем француза4.
На многочисленных снимках, сделанных тем самым фотоаппаратом из Лиона (большинство из которых хранится в музее Рембо в Шарлевиле — Мезьере), можно увидеть также здание филиала фирмы Барде в Хараре, абиссинскую хижину, весовую, местный рынок, сцену охоты на слона (где сам слон, впрочем, отсутствует) и несколько портретов, в частности, служащего фирмы грека Константина Сотироса, красавца-здоровяка, и начальника генерального штаба в Хараре Ахмеда Уадди Бея…
Окрыленный успехом, Рембо отправил несколько фотографий в Аден Пьеру Барде, который в свою очередь переслал их своему брату Альфреду, проходившему тогда курс лечения в Виши. 24 июля оттуда пришел ответ:
Дорогой господин Рембо!
Я получил от брата фотографии, которые вы ему любезно передали для меня.
(…) Некоторые из снимков оказались несколько блеклыми, однако прогресс налицо, поскольку немало таких, которые можно было бы назвать превосходными.
Я хотел бы отблагодарить вас за внимание, но, зная ваш непредсказуемый характер, не могу решить, какие именно слова доставили бы вам удовольствие.
Увы, даже фотография не помогла Артюру избавиться от глубокой и неизлечимой тоски:
Изабель не следует отказываться от возможности выйти замуж, если какой-нибудь серьезный, с положением в обществе мужчина, с хорошей перспективой на будущее, будет просить ее руки. Жизнь есть жизнь, а одиночество — весьма скверная штука в нашем мире. Что до меня, то я, как представитель торговой фирмы в этой далекой стране, обречен отныне на вечные странствия, и с каждым днем мне все меньше нравятся европейский климат, европейский образ жизни и даже европейские языки. Увы! к чему все эти тяготы, все эти скитания среди чужих народов, их наречия, которые выучиваешь сам того не желая, эти страдания, описать которые не под силу человеческому языку, если когда-нибудь потом, после долгих лет, мне не суждено обрести покой в каком-нибудь приятном месте, создать семью и посвятить остаток жизни воспитанию сына, которому я дал бы самое лучшее образование и который, возможно, стал бы знаменитым инженером, ученым, уважаемым человеком?! Но кто знает, сколько мне еще осталось жить в этой пустыне? Возможно, мне суждено погибнуть в этой стране, так что ни одна живая душа не будет знать об этом — ищи меня потом на этих бесчисленных разноплеменных кладбищах!
Как мы видим, досада в его душе сменилась печалью, покорностью судьбе и мечтами о далеком счастье, которого ему никогда не испытать. К этому же времени относится увлечение Рембо исламом: так, 7 октября 1883 года он заказал Коран на арабском и французском языках в издательстве «Ашетт». «Подобно мусульманам, — признается Артюр, — я знаю, что то, что происходит, происходит, и все».
Впрочем, его смирение не добавило ему любезности в общении с руководителями фирмы. В письме от 25 августа 1883 года, сообщив о снижении активности на рынке в Хараре, Рембо дает выход своему гневу:
Нам ставят невыполнимые условия, но мы не протестуем против этого. Мы лишь заявляем, что отказываемся нести ответственность за понесенные убытки. Мы в последний раз настоятельно советуем поставлять заказываемые нами товары в требуемом количестве и соответствующего качества. Мы требуем, чтобы оба эти пункта выполнялись. Если никому нет до этого дела, все останется по-прежнему.
Сквозь сдержанный стиль здесь прорываются оскорбительные нотки. 26 августа Рембо получил от Пьера Мазера-на, сопровождавшего Альфреда Барде летом 1881 года в инспекционной поездке, записку, в которой сообщалось о его намерении вернуться в Харар в октябре; в ответ Артюр написал Альфреду Барде следующее:
Надеюсь, нам не будут навязывать новых расходов и не станут способствовать ухудшению ситуации, прислав сюда человека, который способен лишь разбазаривать наши товары да без конца вставать на нашем пути и высмеивать нас; он знает тысячу способов развалить дело и пользуется всеми сразу. Мы готовы безропотно переносить любые лишения и не выказывать нетерпения из-за неприятностей, однако мы не будем терпеть общество этого (далее неразборчиво — сумасшедшего?).
В августе 1883 года Рембо поручил Сотиросу вести караван с товарами и подарками в провинцию Огаден[197]. Это была разведывательная миссия: обширная территория этой провинции располагалась между Хараром и Сомали и была еще плохо изучена, впервые там побывал немец Хаггенмахер в 1875 году.
Вероятно, организовать эту экспедицию приказал Пьер Барде, поскольку он особенно ценил деловые качества Сотироса (еще когда Пьер руководил филиалом в Хараре, он писал брату: «Сотирос держит под железным контролем местные рынки; он кажется мне прекрасным сотрудником»). Пьер Барде считал, что Сотирос должен путешествовать по стране и торговать, а директор филиала должен сидеть в Хараре. Такое положение никак не устраивало Рембо, который томился от скуки в фактории и горел желанием лично заняться исследованием местности.
Он не замедлил выразить свой протест: «Мы сожалеем, что вынуждены отпускать наших служащих для совершения бесполезных поездок, в то время как мы здесь остро нуждаемся в их помощи» (25 августа). Но приказ есть приказ.
К тому же подобная экспедиция была сопряжена с большой опасностью: племена, населявшие Огаден, не любили белых и жили в основном за счет грабежа. Так, итальянский путешественник Пьер Саккони и его трое слуг были убиты 11 августа из-за глупой ссоры проводников в Карнаготе (200 километров от Харара), неподалеку от поселения, где находился Сотирос5. Впрочем, по мнению Рембо, Саккони сам был виноват в случившемся. Его караван был плохо организован, выбранный маршрут — исключительно опасен, и, главное, он просто шокировал туземцев своим поведением: «Г-н Саккони путешествовал в европейском костюме, заставлял одеваться по-христиански даже своих слуг, питался ветчиной, позволял себе пропустить рюмочку в присутствии шейхов, проводил подозрительные геодезические исследования и доставал свой секстант и другие приборы при каждом удобном случае» (письмо в Аден от 25 августа).
Хотя Сотирос был одет как мусульманин и называл себя Хаджи-Абдаллах, ему с трудом удалось избегнуть участи Саккони. Он был захвачен в плен в селении Галда в провинции Амаден одним из местных племен под предводительством некоего Омара Хусейна; освободить его удалось только после личного обращения Рембо к вождю племени.
Сотиросу удалось отойти от Харара на расстояние ста сорока километров. Его путешествие было успешно как в плане исследований, так и в плане торговли. Он показал себя человеком весьма опытным: проявил твердость в переговорах и щедрость — в подношении подарков; Рембо был вынужден отдать должное его уму и дипломатическим способностям. 296
Эта крупная «вылазка» пробудила в душе Рембо новые надежды. По возвращении Сотироса он организовал еще три похода: один — в направлении Иту Джардар, вдоль реки Аваш, два других — в долину Уаби, в Огаден. Он лично принимал участие в одном из них, воспользовавшись приглашением и поддержкой Омара Хуссейна, что позволило ему на месте удостовериться в правильности сведений, собранных Сотиросом.
Вернувшись, Рембо представил г-ну Барде общий доклад по провинции Огаден. Этот текст отличается ясностью и последовательностью изложения, затрагивает проблемы географии, и особенно этнографии, подробно освещает вопросы, касающиеся ресурсов исследованной местности.
Приведем пример его стиля, который поражает приятной легкостью:
Жители Огадена, по крайней мере, те, с которыми мы встречались, довольно высокого роста, их можно назвать скорее краснокожими, чем черными; у них короткие волосы и обычно они ходят с непокрытой головой, одеваются достаточно чисто, носят на бедре саблю и флягу для омовений, в руке же держат палку, большое и маленькое копье, а на ногах у них сандалии.
Их основным занятием являются ежедневные собрания где-нибудь неподалеку от лагеря в тени деревьев; усевшись на корточки, с оружием в руках, они до бесконечности обсуждают свои пастушеские проблемы. Помимо этого они совершают также конные разъезды во время водопоя и набеги на соседей; больше они ничем не занимаются. Женщины и дети заботятся о животных, возводят хижины, снаряжают в путь караваны. Из предметов хозяйства у них есть вазы для молока, подобные тем, что делают в Сомали; материалом для домов во временных поселениях служат циновки из верблюжьей шерсти, натянутые на жерди.
В племенах есть несколько кузнецов, которые, кочуя с места на место, куют копья и кинжалы.
Жителям Огадена неизвестно о наличии какой-либо руды в их местности.
Альфред Барде нашел эти заметки настолько интересными, что отправил их в Географическое общество, членом которого являлся. 1 февраля 1884 года Общество рассмотрело работу, а затем напечатало в своем бюллетене, где она привлекла внимание других ученых: так, например, знаменитый австрийский географ-путешественник Филипп Пауличке заявил, что она «имеет очень большое значение и ценность, несмотря на некоторую сухость стиля».
Более того, Географическое общество обратилось к Рембо с просьбой прислать краткую биографическую справку и фотографию, чтобы включить сведения о нем в книгу (подготавливаемую Обществом к печати), где будут представлены лица, «прославившиеся как видные географы и путешественники».
Конечно, Рембо не мог принять оказанную ему честь, это означало бы присвоить себе заслуги Сотироса: он всего лишь руководил исследованиями своего подчиненного и составил о них письменный отчет. Рембо решил не отвечать. Однако Артюр был счастлив, ведь он наконец-то обрел себя: он сделается первооткрывателем Восточной Африки, станет членом Географического общества, его имя будет напечатано в книге. Он стремился попасть в нее так же сильно, как в 1870 году стремился оказаться на страницах «Современного Парнаса».
Увы! В очередной раз ему не повезло. Подвела политическая ситуация. Египетская армия, потерпев в ноябре 1883 года поражение от дервишей-махдистов, собиралась покинуть Харар: нужно было уезжать. С другой стороны, вследствие неудачных сделок в Марселе, Индии, Греции и Алжире общество «Мазеран, Вианне и Барде» подлежало закрытию, долги фирмы составляли около миллиона франков. Несмотря на свою успешную деятельность, филиалы в Адене, Сайле и Хараре должны были также быть ликвидированы.
В январе 1884 года Альфред Барде вернулся из Марселя с относительно хорошими новостями и приказал Рембо снарядить последний караван в Сайлу, чтобы затем закрыть местный филиал фирмы (возглавлял его Шарль Коттон).
Человек, находившийся в то время в Хараре, мог подумать, что началась революция: египетские войска покинули город, их заменило местное ополчение. Все ждали прихода англичан.
Рембо пора было убираться.
Он выехал в марте и 23 апреля после шести недель путешествия по пустыне прибыл в Аден. Несмотря на то, что работы для него не было, жалованье ему выплачивали вплоть до конца июля.
Не без удовлетворения Артюр прочел следующее письмо весьма лестного содержания:
Уважаемый господин Рембо!
События, которые вынуждают нас закрыть нашу компанию, ставят нас перед необходимостью отказаться от Ваших ценных услуг.
Настоящим письмом мы хотим поблагодарить Вас за Вашу работу, ум, честность и преданность, которые Вы всегда употребляли для защиты наших интересов, какую бы должность Вы ни занимали в течение этих четырех лет, особенно во время руководства нашим филиалом в Хараре.
С благодарностью и наилучшими пожеланиями.
Мазеран, Вианне, Барде,
Аден, 23 апреля 1884 года.
Обратимся теперь к несколько иной области; предметом нашего разговора будет не торговля, а литература.
Среди корреспондентов газеты «Время» был некий человек по имени Поль Бурд. Он был также литературным критиком, весьма сведущим в авангарде, который недавно вошел в моду благодаря юным декадентам. Эти последние единогласно признавали Рембо своим кумиром: их гимном был сонет «Гласные».
Летом 1883 года война в Тонкине[198] была в самом разгаре. В июле-августе, отправляясь в Тонкин, Поль Бурд встретил на борту судна Морской почтовой компании[199] Альфреда Барде, который, пройдя курс лечения в Виши, возвращался в Аден. Они разговорились, и Барде, должно быть, рассказал о том, что, хотя у компании в целом дела складываются не слишком благополучно, отделение, которое находится под его началом, работает вполне успешно, и в качестве примера привел филиал фирмы в Хараре, руководство которым столь замечательно осуществляет некий Рембо.
— Рембо? — воскликнул Бурд. — Я знавал одного Рембо, когда учился в коллеже в Шарлевиле в 1870 году. Как он выглядит, ваш Рембо?
Все совпадало: имя, возраст, внешний вид. Оказалось, что этот скрытный молодой человек со странным характером и методичным отношением к работе был поэтом, о котором до сих пор помнят в Париже. Когда Барде снова встретился с Артюром в Адене, он рассказал ему об этой удивительной встрече и передал визитную карточку Бурда.
Рембо смутился, покраснел и пробормотал:
— Абсурдно… смешно… отвратительно! (Из письма г-на Барде П. Берришону от 16 июля 1897 года.)
И это еще не все. Осенью 1883 года Верлен собрал, наконец, достаточно стихов Рембо, чтобы закончить работу, посвященную творчеству Артюра и еще нескольких «проклятых поэтов», которую он намеревался опубликовать в одной маленькой газете Латинского квартала под названием «Лютеция», а затем и отдельной книгой.
Сомнительно, что он не попросил разрешения на публикацию стихов у самого Рембо. Во-первых, он должен был сделать это из предосторожности: нельзя печатать произведения другого человека, не заручившись его согласием, а во-вторых, из сохранившегося еще дружеского чувства; ведь, в конце концов, он открывал ему путь к славе!
Можно предположить, что Верлен так или иначе связался с Рембо. Альфред Барде как-то заявил арденнскому писателю Жану-Полю Вайану, что однажды Рембо писал Верлену. Его письмо, короткое и решительное, сводилось к следующему: «Отстаньте (или отстань) от меня!» Барде утверждает, что этот эпизод имел место в 1885 году.
Конечно, Верлену был нужен адрес Рембо; от кого еще он мог его получить, как не от Делаэ? Однако более чем вероятно, что Делаэ так и не получил письмо Рембо от 18 января 1882 года, которое Артюр пересылал через Рош. Во всем этом есть какая-то тайна, которую невозможно разрешить на основании одних только текстов. Остается предположить, что Верлен намеренно солгал, утверждая в «Проклятых поэтах»: «Вздумай мы спросить совета у г-на Рембо (адрес которого нам неизвестен), он, видимо, стал бы нас отговаривать от задуманной работы, по крайней мере, в той части, которая касается лично его». Можно подозревать, что Верлен, употребляя здесь сослагательное наклонение, имел в виду изъявительное; такое за ним водилось.
Вернемся снова к Рембо, который был вынужден прозябать в Адене, не находя себе достойного занятия.
По всей видимости, Артюр пережил тогда очередной приступ отчаяния, отголоски которого можно найти в письмах к родным:
Какое же жалкое существование я влачу в этом сумасшедшем климате, в этих нечеловеческих условиях! […] Так что вы видите, моя жизнь здесь — сущий кошмар. Не думайте, что я легко все это переношу. Совсем наоборот — я понимаю, и всегда понимал, что невозможно жить мучительнее, чем живу я.
К нему приходит осознание, что в свои 30 лет ему не удалось ничего достигнуть и что по возвращении во Францию, которая давно стала ему чужой, он вряд ли найдет работу (письмо от 5 мая 1884 года).
Вскоре Рембо получил телеграмму от братьев Барде, которая предписывала ему оставаться на месте. Неужели хорошие новости, которые он уже слышал краем уха, но в которые не смел поверить, окажутся правдой?
Однако время шло, и его нетерпение возрастало: если он не поторопится вернуться в страну, писал он в Рош 29 мая, его примут «как старика», и невесту ему придется выбирать среди вдов.
Наконец, в июне Альфред Барде вернулся в Аден. Благодаря капиталовложениям марсельской и лионской компании «Улисс Пила и К0» ему удалось совместно со своим братом организовать новую фирму — «Барде и К°».
С Рембо был подписан новый контракт сроком на полгода, с 1 июля 1881 года по 31 декабря того же года, на тех же условиях, что и раньше. Предполагалось, что деятельность фирмы должна возобновиться, но трудно было сказать, как бы это могло произойти. В Абиссинии орудовали банды религиозных и национальных фанатиков, Англия проводила анти-египетскую политику; в такой обстановке торговать с внутренними районами страны не представлялось возможным.
Вскоре Рембо понял, что его одурачили. «Дела идут плохо», — сообщает он семье 10 сентября. Он собирается уезжать.
Я слишком быстро состарюсь, занимаясь этой дурацкой работой и общаясь с дикарями и тупицами […] И более чем вероятно, что мне нечем будет обеспечить себе спокойную жизнь. Что ж, как говорят мусульмане: так предначертано! — Такова жизнь. И это не смешно.
Вдобавок, Рембо очень обеспокоило следующее происшествие. Фредерик, по-прежнему враждовавший с матерью из-за своего намерения жениться, окончательно порвал с семьей. Ему стало известно, что Артюр разделяет мнение г-жи Рембо (глупо жениться, не имея ни гроша за душой).
И он принялся твердить всем и каждому:
— Артюр заделался моралистом. Чья бы корова мычала!
Вы не знаете, как он в двадцать лет, не заработав ни су, жил за счет Верлена и его друзей?!
Откуда ему стало это известно? Уж, конечно, не от матушки или Изабель, да и сам Артюр не особенно распространялся о своем прошлом. Любопытно отметить, что Верлен в ту пору жил в Куломе, в шести километрах от Роша, а Фредерик работал кучером в одной из гостиниц Аттиньи и имел, таким образом, возможность видеться с большим числом людей. Поэтому кажется вполне правдоподобным, что Верлен мог случайно встретиться с Фредериком за столиком в кафе в какой-нибудь гостинице.
Дерзкие речи достигли ушей г-жи Рембо, которая не преминула передать их Артюру. 7 октября он в ярости пишет ответ:
Мои дорогие!
Я получил ваше письмо от 23 сентября, ваши новости опечалили меня, то, что рассказывают о Фредерике — весьма неприятно и к тому же может нанести мне большой вред. Мне совершенно ни к чему, чтобы знали, что подобный тип приходится мне братом. Впрочем, я нисколько не удивлен: наш Фредерик — настоящий идиот, мы всегда это знали и можем только поражаться его непроходимой тупости.
Нет никакой надобности просить меня не вступать с ним в переписку. Что же касается того, чтобы выделить ему какую-нибудь часть, то заработанные здесь деньги стоят мне слишком большого труда, чтобы просто так дарить их этому бедуину, который, я уверен, физически крепче меня. Надеюсь, однако, что, к нашему общему облегчению, он, в конце концов, перестанет ломать эту комедию.
А если он что и болтает на мой счет, мое поведение известно всем и каждому. Я мог бы представить вам свидетельство исключительного удовлетворения, выраженного ныне не существующей компанией Мазеран за четыре года службы с 1880 по 1884 год; я пользуюсь здесь приличной репутацией, что позволяет мне достойно зарабатывать на жизнь. Если когда-то я и попадал в неприятные истории, то все же никогда не пытался жить за чужой счет или тем более жить пороком.
На этом инцидент был исчерпан: о Фредерике с тех пор больше не говорили. Через год (11 августа 1885 года) он, несмотря ни на что, женился; к этому времени его дочке уже исполнился месяц.
Из Харара Рембо вернулся не один, с ним была молодая женщина из местных жителей. «Именно в Адене завязалась его связь с абиссинкой, длившаяся с 1884 по 1886 год, — написал Альфред Барде П. Берришону 10 июля 1897 года. — Их отношения были весьма близкими, и Рембо, живший обычно у нас, на этот раз снял отдельный дом, где и поселился вместе со своей подругой и проводил с ней почти все время (разумеется, когда не был занят на службе)».
Действительно, начиная с 5 мая 1884 года он время от времени указывает на конверте адрес в Кэмп-Адене (в пяти километрах от города).
В дальнейшем выяснится, что, по словам самого Рембо, эта женщина была вывезена из Шоа, где он сам никогда не был. Значит ли это, что она была уроженкой этой местности? С другой стороны, если он приехал с ней в Аден, то, по всей видимости, уже в Хараре они жили вместе. Об этом свидетельствует городской епископ; в 1930 году, в разговоре с Ивлином Во, он утверждал, что Рембо жил с туземкой, но родом она была не из Харара и детей у них не было.
Не будем останавливаться на легендах, согласно которым эта связь служила лишь прикрытием для его гомосексуальных наклонностей6. В этом отношении Альфред Барде категоричен. «Я никогда не верил обвинениям в содомии», — заявляет он П. Берришону.
Вместе с тем некий служащий, проводивший опрос относительно Рембо в Обоке[200] и Джибути в период с 1906 по 1925 год, пишет: «Что касается женщин, Рембо поддерживал отношения с местными жительницами. В 1884 году он имел связь с абиссинкой. Говорят, что у него была женщина из племени аргобба, и у них было много детей, но об их судьбе ничего не известно». Племя аргобба входило в состав племени амхара; они были мусульмане, их селение находилось километрах в двадцати от Харара. Они считали себя потомками португальцев, участвовавших в войне с исламом на стороне короля Эфиопии.
Об отношениях с женщиной из племени аргобба сообщает и Отторино Роза, итальянец, друг Рембо, о котором мы уже упоминали, однако полностью полагаться на его свидетельство нельзя (он утверждает, что эта связь имела место в Адене в 1882 году); также не имеется никаких доказательств, что на фотографии с подписью Donna Abissina[201], помещенной в его работе «L’Imperо di Leone di Giuda»[202] (Breschia, Lenghi, 1913), действительно изображена подруга Рембо7.
Все эти сведения слишком разрозненны, однако вполне возможно, что женщина из племени аргобба действительно жила в Шоа и общалась с европейцами, которые были вхожи в королевский дворец, и что Рембо познакомился с ней через какого-то своего друга из Анкобера[203]. Ее внешний вид, насколько мы можем судить о нем на основании следующего свидетельства, подтверждает такое предположение.
В 1897 году Берришон, заинтригованный откровениями Альфреда Барде, добывает у него адрес его бывшей служанки Франсуазы Гризар; она работала у Барде восемь лет и некоторое время прислуживала и Рембо. Впоследствии она сделалась прачкой и вышла замуж за кочегара-машиниста из Морской почтовой компании. Эта женщина была хорошо знакома с той самой абиссинкой: в свое время она учила ее шить. На ее свидетельство можно полагаться, ведь ей ни к чему было что-либо опровергать или скрывать:
Марсель, 22 июля 1897 года.
Уважаемый господин!
С большим удовольствием отвечаю на ваше письмо. Я действительно каждое воскресенье после ужина заходила к г-ну Рембо; я была даже удивлена, что он позволял мне навещать его. Думаю, что кроме меня к нему никто не ходил. Разговаривал он очень мало; мне показалось, что он был добр к этой женщине. Он хотел дать ей образование; он говорил мне, что желал бы поместить ее на некоторое время к сестрам в миссию, под опеку преподобного Франсуа, также он упоминал о возможной женитьбе, поскольку он намеревался отправиться в Абиссинию; во Францию же он предполагал вернуться только, если ему удастся составить внушительный капитал, в противном же случае он никогда туда не вернется.
(…) Что же касается этой женщины, то она была весьма милой, но так плохо говорила по-французски, что нам практически не удавалось поболтать. Она была высокой и очень худой, с правильными чертами лица и не слишком темной кожей. Я плохо знаю, как выглядят абиссинцы, но она, по моему мнению, вполне походила на европейку. Она была католичкой. Имени ее я не помню. Какое-то время с ней жила ее сестра. Она выходила из дома только под вечер, всегда в сопровождении г-на Рембо; она одевалась в европейское платье, но в доме у них поддерживался порядок в соответствии с местными традициями. Она очень любила курить сигареты.
Не знаю, о чем еще вам рассказать. С тех пор прошло уже четырнадцать лет, к тому же я не слишком вникала в их отношения. Сожалею, что не могу предоставить вам более подробных сведений.
Как мы видим, избранница Рембо вовсе не была какой-нибудь дикаркой.
Политическое положение ухудшалось день ото дня. В сентябре 1884 года выяснилось, что Египет должен сдать Харар: город находился под управлением местного ополчения во главе с пашой Радуаном, которому помогал некий английский офицер, не облеченный полномочиями, по имени Пейтон; он жил в здании филиала компании Барде. Его высокопреосвященству г-ну Торен-Каню казалось, что христиан готовы отдать на растерзание диким зверям, поскольку в массах нарастало чувство слепой и фанатичной религиозной нетерпимости. Он обратился — в очень вежливой форме — к майору Хантеру и просил его решить этот вопрос; но майор был не в силах что-либо изменить, хотя и не одобрял политику своей страны. В конце концов губернатором провинции Харар был назначен эмир Абделлаи. Этот последний мечтал только о том, чтобы прекратить сношения города с побережьем и перебить всех местных христиан, белых и черных.
В связи с обострившейся ситуацией его высокопреосвященство г-н Торен-Кань принял решение уехать вместе с последним отбывавшим полком египетской армии.
Равнодушие англичан к разгоревшейся исламской революции и судьбе прибрежных французских (в Обоке и Джибути) и итальянских (в Ассабе[204] и Массауа) компаний возмутило всех. Более того, английское правительство командировало генерала Гордона[205] с целью подготовить переезд военных и государственных служащих, а также гражданского населения в Судан.
Рембо кипел от ярости.
Именно англичане и их нелепая политика, — писал он домой 30 декабря 1884 года, — виноваты в обвале местных рынков. Они захотели провести здесь передел и нанесли еще больший вред, чем египтяне и турки, которых они победили. Их Гордон — идиот, а Вулсли[206]— осел. Все их действия не что иное, как сплошная череда нелепостей и грабежей. Что касается новостей из Судана, то нам известно не более того, что знают во Франции. Выехать из Африки невозможно. Кругом — полный беспорядок, а английская администрация в Адене заинтересована лишь в том, чтобы сообщать заведомую ложь.
(…) Я полагаю, что ни одно государство не проводит более несуразной колониальной политики, чем Франция. Если Англия совершает ошибки и сорит деньгами, то она, по крайней мере, преследует серьезные цели и рассчитывает на солидную перспективу. Я хочу сказать, что ни одно правительство не умеет в таких огромных количествах вкладывать деньги в неподходящих местах, как это делает правительство Франции, соответственно, неся колоссальные убытки.
Ясно, что в интересах Франции в тот момент было вступить в переговоры с абиссинскими властями. В обмен на ввод французских войск (под видом гарантий безопасности) Эфиопия получила бы выход к Красному морю; Менелик был согласен. Но всем не хватало элементарного здравого смысла, и поэтому лучше всего было смириться с ситуацией и ожидать наступления более благоприятных времен.
Рембо без малейшего воодушевления был вынужден «продлить контракт» еще на год с 1 января по 31 декабря 1885 года на тех же условиях, что и раньше: 150 рупий в месяц плюс еда и жилье. Контрактом было предусмотрено, что если г-н Барде уволит Рембо, то ему причитается жалованье за три месяца вперед, однако, если Артюр сам решит уехать, он должен уведомить о своем намерении за три месяца.
Никогда еще бездеятельность так не угнетала Артюра.
Если бы я мог путешествовать, не имея необходимости работать и добывать средства на жизнь, я бы никогда не оставался на одном месте дольше двух месяцев. Мир так велик и полон чудесных стран, что жизней тысячи людей не хватит на то, чтобы объездить его весь. В то же время я не желаю скитаться в полной нищете, мне хотелось бы иметь несколько тысяч франков дохода, что позволило бы мне в год посещать две или три страны, где я жил бы достаточно скромно и занимался бы мелкой торговлей для оплаты собственных расходов. Жизнь в одном и том же месте слишком несносна (15 января 1885 года).
Увы! Он был всего лишь мелким служащим, страдал от болезни желудка, возникшей вследствие злоупотребления слишком острой пищей, жил на широкую ногу (плата за дом составляла 40 франков в месяц!) и ничем не питал свой интеллект: «Здесь не получают никаких газет, нет ни одной библиотеки; единственные европейцы, которых можно здесь встретить, — несколько торговых служащих, непроходимых тупиц, которые тратят все свое жалованье на бильярд, а затем уезжают из этих мест, проклиная их на чем свет стоит» (письмо от 14 апреля 1885 года). Он пренебрежительно называл их «выпивохами», как признается Альфред Барде Ж.-П. Вайану. Барде при этом опровергает свидетельство Рембо (письмо к П. Берришону от 20 января 1898 года): «Мы всегда заботились о духовной жизни наших служащих. Кроме серьезных газет, мы выписывали также развлекательные и иллюстрированные журналы». Другой свидетель утверждает, что всегда имел возможность читать «Призыв» и «Фонарь».
Письма Рембо в этот период напоминают ту часть «Божественной комедии» Данте, где поэт описывает круги ада: «На улице стоит весенняя духота, пот льет по телу ручьями, желудок сводит от боли, мозги плавятся, дела идут хуже некуда, новости приходят плохие» (письмо от 26 мая 1885 года). В другом письме (от 28 сентября): «Кой черт понес меня в эту проклятую страну! Кой черт дернул меня заняться торговлей в этом аду! Кроме местных бедуинов, здесь и поговорить не с кем, и за этими разговорами года не пройдет, как станешь тупее самой тупой болванки».
Ради того, чтобы выбраться, Рембо был готов на все, на любое безумство…
Примечания к разделу
1 Тетрадь Дусе, на оборотной стороне рис. 36.
2 Письмо Рембо французскому консулу в Адене от 28 января 1883 г. (Edition de la Pléiade) и письмо А. Барде к П. Берришону от 20 января 1898 г. (Mercure de France, 15 мая 1939 г.).
3 Фотография на террасе опубликована Ф. Рюшоном (Rimbaud, documents iconographiques) в 1946 г., фотография «в кафе в саду» есть в издании «Одного лета в аду» (Banderole 1922), фотография в саду под банановым деревом опубликована в Etudes rimbaldiennes, т. Ill (1972).
4 М.-И. Мелера, Résonances autour de Rimbaud.
5 Альфред Барде сохранил письмо, рассказывающее о его смерти и отпевании в Хараре (состоялось 31 августа в католической миссии). См. Ж.-П. Вайан, Rimbaud tel qu’il fut и Альфред Барде, Barr Adjam.
6 Об этом существует «свидетельство, сделанное через пятьдесят восемь лет после смерти Рембо каким-то капуцином американскому представителю в Аддис-Абебе» (см. А. Гильемен, la Table ronde, сентябрь 1953).
7 Фотография приводится в Etudes rimbaldiennes, т. III (1972).
Глава XVI
АВАНТЮРА В ШОА
В сентябре 1885 года Рембо познакомился с Пьером Лабатю, французом из Гаскони, который предложил ему участвовать в «фантастически выгодном деле» — ввозе оружия в Шоа, абиссинскую провинцию, где правил король Менелик. Лабатю утверждал, что получил от короля и нескольких его сановников, в частности от раса[207] Гованы, крупный заказ на оружие; в Шоа готовились к военным действиям.
Этот Лабатю был корреспондентом братьев Барде в Шоа и был очень известен в европейских коммерческих кругах. Поль Солейе, коммерсант и путешественник, рисует его таким: «Г-н Пьер Лабатю работал разносчиком во Франции и Италии, подрядчиком в Египте, потом, около десяти лет назад, приехал в Шоа, и там, благодаря таким качествам, как приветливость, искренность и преданность, сумел завоевать доверие короля, уважение великих и любовь малых. Г-н Лабатю— единственный европейский коммерсант, укрепившийся в Присредиземноморской Эфиопии, он ведет довольно крупную торговлю между Шоа и Аденом» (Путешествие в Эфиопию, Руан, 1884). Лабатю был женат на абиссинке и вел привычную для местных жителей жизнь, окруженный своими лошадьми, мулами, домашней птицей и слугами. Он казался серьезным партнером, ведь он был дружен с королем.
Рембо очень заинтересовался планом Лабатю. Он состоял в том, чтобы закупить в Льеже устаревшие пистонные ружья по семь-восемь франков за штуку и перепродать их Менелику, который остро в них нуждался. Король заплатит натурой (слоновой костью, мускусом, золотом), в денежном выражении — 40 франков за ружье. Перепродажа этих товаров в Адене принесет дополнительный доход. Разумеется, предприятие было связано с большими опасностями, но на бумаге выглядело очень выгодным: предположим, они вкладывают от пятнадцати до двадцати тысяч франков — это две тысячи ружей — а получают шестьдесят тысяч, не считая прибыли от продажи товаров, полученных в качестве оплаты. Игра стоила свеч. И потом, вступить в игру означало начать наконец что-то делать.
Лабатю немедленно (5 октября) дал письменное обязательство уплатить Рембо пять тысяч талеров Марии-Терезии[208] (21 500 франков) в течение года и взять на себя все расходы по сделке. Несколько позже, 23 ноября, Лабатю занял у него 800 талеров Марии-Терезии (3 440 франков) на один год.
Ружья были заказаны.
Наконец-то Рембо улыбнулась удача.
Чтобы успешно провернуть дело, нужно было развязать себе руки — и для этого, в первую очередь, отослать абиссинку, что и было сделано.
Аугусто Франзой, итальянский журналист и путешественник, корреспондент «Туринской газеты», ждал в Таджура[209] разрешения отправиться в Шоа с научной экспедицией. Он, вероятно, послал Рембо письмо, в котором спрашивал, намеревается ли тот взять женщину с собой, потому что мы располагаем следующим ответом Артюра:
Дорогой господин Франзой!
Извините, но я отослал эту женщину навсегда.
Я дал ей несколько талеров, и она отправится в Разали, чтобы сесть там на бутр, который привезет ее в Обок, а там пусть идет, куда хочет.
Мне давно надоел этот маскарад.
Если я был не таким уж глупцом, когда вывез ее из Шоа, то буду им вполне, если привезу ее туда снова.
Искренне ваш, Рембо.
Во-вторых, необходимо было освободиться от рабской зависимости от Барде.
Едва Артюр заговорил об увольнении, Альфред Барде оборвал его:
— Не очень-то хорошо вот так уходить от нас. Прежде чем принимать решение, вам следовало посоветоваться с нами. Но здесь все обо всем знают. Нам известны ваши планы. Вы свободны — то есть будете свободны через три месяца, как это записано в контракте.
Раздосадованный тем, что с ним так поступают, Рембо дал волю гневу: ему надоело, что его эксплуатируют, ему так много наобещали, но ничего не исполнили, все четыре года он оставался лишь подчиненным. Что же, они думают, что смогут вечно держать его в этом унизительном положении? Что до контракта, то разве они сами не расторгли в одностороннем порядке один такой контракт с ним в 1884 году? Рембо требовал, чтобы ему позволили уехать немедленно.
В ответ он услышал следующее:
— Вы уезжаете, решено, мы не будем чинить вам препятствий. Но будьте очень осторожны. Ваши дела в Шоа могут принять дурной оборот. Я сам три года назад отказался провернуть такого рода дело с Лабатю, хотя он мне его описывал как очень выгодное. Поверьте моему опыту, вы лезете в осиное гнездо и вы все потеряете.
Он едва не полез на своего начальника с кулаками.
Хотя Рембо и ответил, что предпочитает разорение рабству, его уверенность была поколеблена, ведь Альфред Барде знал, что говорит.
22 октября он написал своим близким о случившемся:
Я ушел со своего места в Адене после резкого разговора с этими подлыми хамами, которые хотели вечно пользоваться мной, словно бессловесной скотиной. Я оказал очень много услуг этим людям; им казалось, что для того, чтобы доставить им удовольствие, я останусь с ними на всю жизнь. Они все сделали, чтобы меня удержать, но я послал их к черту с их преимуществами, с их торговлей, с их фирмой и с их вонючим городишком!
В кармане у Рембо лежало свидетельство, датированное 14 октября 1885 года. «Я, нижеподписавшийся Альфред Барде, заявляю, что г-н Артюр Рембо состоял у меня на службе в качестве агента и закупщика с 30 апреля 1884 г. по ноябрь 1885 г. Я остался доволен его услугами и порядочностью. Он свободен от всех обязательств передо мной».
В одном письме Рембо говорит: «Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Надейтесь на это вместе со мной; мне это очень нужно». Тот факт, что он обратился за моральной поддержкой к семье, указывает на то, что дурные предчувствия взяли верх над оптимизмом.,
Рембо было известно, что ружья придется везти через безводные пустыни, где на путешественников нападают банды жестоких грабителей. Ну что ж! Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Перед отъездом он благоразумно помирился с Барде, обещал им «Амхарский словарь» г-на Аббади (книга будет идти к ним полгода) и заказал у них походное снаряжение для войск короля (кружки, железные пластинки для жарения галет и т. д.).
Ожидая, пока Лабатю выполнит свои обещания, Рембо вложил почти все свои деньги в предприятие, оплатив покупку ружей.
Рембо планировал сразу же отплыть на данакильский[210] берег, в Таджура (французская колония Обок), куда должен был прийти груз, но ряд осложнений вынудили его задержаться. Тогда он поселился в Кэмп-Аден, в Гранд-Отель де л’Юнивер, великолепной — вывеска была три метра в высоту — гостинице, владельцем которой был Жюль Сюэль — родственник г-на Дюбара, человек лет шестидесяти, высокий и подвижный; он уже давно работал с братьями Барде, которые планировали доверить ему управление филиалом в Адене.
Наконец, в начале декабря Рембо приступил к работе. «Таджура, — пишет он 3 декабря, — маленькая данакильская деревня, несколько мечетей и несколько пальм. Здесь есть укрепление, когда-то давно построенное египтянами, где сейчас скучают шестеро французских солдат под началом сержанта (он и командует фортом)». Рембо окружали враждебно настроенные люди. Эти бедуины были в большинстве своем работорговцы. «Только не думайте, что я занялся торговлей рабами», — пишет Рембо в Рош.
В начале 1886 года он все еще оставался в Таджура в полном бездействии: «Дела продвигаются очень медленно, но я надеюсь, что положение изменится к лучшему. В этом краю нужно обладать сверхчеловеческим терпением». Если выполнение плана задержится еще, то возможность вернуться во Францию появится у него только весной 1887 года.
В это время с Рембо виделся итальянский путешественник Уго Ферранди: «Караван Солейе и караван Франзоя расположились в пальмовой роще за пределами данакильской деревни, а Рембо поселился в хижине в самой деревне. Это был высокий, худой человек, с седеющими висками, одетый на европейский манер, но очень небрежно. На нем были широкие брюки, вязаная фуфайка, просторная куртка серо-зеленого цвета, а на голове он носил только тюбетейку, тоже серую. Он бросал вызов знойному солнцу афаров, как будто сам родился тут»1.
Один исследователь получил такое — не слишком лестное — свидетельство от содержателей гостиниц и торговцев в Обоке: «Рембо был человек довольно стройный, выше среднего роста, скорее худой. Лицо у него было малоприятное, скорее уродливое; хозяйка гостиницы, в которой он жил, глядя на него, говорила: «Этот человек не украсит ту великолепную коллекцию французов, которой обладает Абиссиния». Говорили также, что он травил себя алкоголем, табаком, гашишем, даже опиумом — чтобы избавиться от тоски — и что, приходя в себя, он был «осунувшийся, рассеянный, угрюмый, ел совсем мало, зато много пил». Если это правда, значит, он очень изменился: 14 апреля 1885 года Рембо писал, что пьет «исключительно» воду и совсем не курит.
Ходили слухи, что для путешествия во внутренние районы невозможно найти ни верблюдов, ни погонщиков, потому что местные жители, недовольные тем, что великие державы чинят препятствия работорговле, бастуют.
Неужели все провалится?
«Все плохо», — пишет Рембо домой 6 января 1886 года. Он снова становится пессимистом: «Человек планирует провести три четверти жизни в страданиях, чтобы отдохнуть в последнюю четверть; но чаще всего он подыхает в нищете, не зная, в каком месте плана остановился».
Наконец груз оружия прибыл: 2040 пистонных ружей, 60 000 патронов «Ремингтон» и многое другое. Все было сложено в хижине Рембо и тщательно охранялось.
Помимо каравана Рембо, другие караваны — Солейе, Савуре, Франзоя — ожидали в Таджура официального разрешения отправиться в направлении Шоа. Это разрешение выдавали губернатор Обока и местный султан; обычно это была простая формальность.
В феврале, рассмотрев прошение Солейе (его оружие было провезено транзитом в Аден и на сомалийский берег), английский губернатор напомнил французскому консулу в Адене, что по условиям франко-английского соглашения от 1884 года ввоз оружия во внутренние районы страны запрещен из опасения, что это оружие попадет в руки банд грабителей и обратится против белого населения, а также потому, что, как говорили, под прикрытием торговли оружием процветает торговля рабами (Рембо отрицал это). Наконец — эту причину держали в тайне — Англия, враждебно настроенная к королю Менелику, опасалась, что он расширит свое королевство и усилит свою власть. Однако для Солейе было сделано последнее исключение.
12 апреля 1886 года Рембо узнал, что губернатор Обока и султан Таджура воспротивились отправлению каравана!
Рембо оставалось только зарыть ружья в песок, чтобы избежать конфискации, и подать вместе с Лабатю протест в министерство иностранных дел в Париже (15 апреля): «Мы задействовали в этом предприятии все наши капиталы, всю нашу собственность, наших служащих и все наше время и поставили на карту само наше существование». Если французское правительство не снимет свое вето, оно будет должно двум компаньонам 258 000 франков.
Доводы, которыми оправдывали запрет на ввоз оружия, были, разумеется, безосновательны, так как было хорошо известно, что данакильские бандиты не любят огнестрельного оружия, им хватает копий; они доказали это, когда разгромили караван француза Барраля, возвращавшегося из Анкобера. Известие об этом событии ошеломило европейцев, живших в Таджура. «Здесь произошли печальные события, — пишет Рембо своим близким 9 июля. — На побережье все спокойно — разбойники напали на один караван в пути и перебили людей, но случилось это только потому, что караван плохо охранялся».
Протест Рембо и Лабатю с пояснительной запиской был передан 24 мая министру военно-морских сил и колоний. Документ представлял собой прошение о расследовании по приведенным фактам, а также размышление о том, что назрела острая необходимость выработать ясную и последовательную политику в отношении торговли оружием, ввиду того, что нынешняя неопределенность только поощряет англичан и итальянцев действовать в ущерб Франции.
В конце концов всем все надоело. Франзой заявил о намерении отправиться на свой страх и риск с французским караваном. Министр военно-морских сил, который узнал об этом решении от губернатора Обока, Лагарда, 10 июня 1886 года, ответил, что может оказать посредничество итальянской миссии и французскому каравану.
Рембо большего и не желал. Он мог наконец выехать. Все было готово: в мае он из предосторожности оставил во французском консульстве в Адене на хранение свой контракт с Лабатю (утерян).
Увы! У Лабатю обнаружили рак горла, и он не смог отправиться в путь. Он должен был в срочном порядке вернуться во Францию, чтобы проконсультироваться со специалистом.
Настало лето. Франзой уехал, Рембо продолжал ждать. К концу августа начали приходить тревожные известия о Лабатю, вскоре стало ясно, что его дни сочтены.
В смятении Рембо подумывал о том, чтобы присоединить свой караван к каравану Солейе, который стоял там же, в Таджура. Идея была хорошая — Солейе был стреляный воробей, знал Шоа как никто. Лучшего проводника было не найти.
Пришла беда — отворяй ворота! 9 сентября Поль Солейе умер от кровоизлияния в мозг прямо на улице в Адене.
Несчастье за несчастьем обрушиваются на Рембо. Скре-пя сердце, он решает отправиться один. 15 сентября Рембо объявил о своем намерении близким: он тронется в путь в конце месяца.
Мое путешествие продлится не меньше года.
Я напишу вам перед отъездом. Я чувствую себя превосходно.
Доброго вам здоровья и всего хорошего.
Когда Лабатю, наконец, умрет, его смерть будет лишь небольшим осложнением, которое не может уже ничему помешать. «У вас будет время все уладить; не волнуйтесь о наследниках, они, вероятно узнают о его смерти еще не скоро», — заверяет Жюль Сюэль в письме к Рембо из Адена от 16 сентября. Но о чем-о чем, а об этом Рембо не беспокоился.
Его караван состоял примерно из пятидесяти верблюдов, и охраняли его 34 абиссинца.
Перед самым отъездом Рембо сообщили о смерти Лабатю.
В отъезде, которого так ждали, больше не было ничего победного. Это было скорее «отступление вперед».
Он выехал, ни на что уже не рассчитывая, ожидая «многих опасностей и неописуемых неприятностей». Но его не оставляла надежда. Дорога к Шоа, так называемая Гобадская[211] дорога, была одной из самых плохих дорог в мире. Она проходила через голые плоскогорья, «усыпанные железистыми камешками, раскаленными на солнце»2. Нередко термометр показывал больше 72°. Можно себе представить, сколько Рембо вынес, ведь шел он большую часть времени пешком, рядом со своим мулом.
Сначала караван спустился к озеру Ассаль, берега которого, как бахромой, украшены полосами голубых кристаллов соли. Но Рембо смотрел на окружавшее его скорее как экономист, чем как турист: перевозка соли по дороге Дековиль на побережье не была бы выгодна, рассудил он. Это было бы «грабительски дорого» (письмо к Альфреду Барде от 26 августа 1887 года). На пути от Ассаля к Харару через Гобад (23 этапа) они пересекли вулканическую пустыню — «вид ее ужасен; так, должно быть, выглядит луна». Путешествовать там было небезопасно из-за набегов племен дебне, которые испокон веку вели здесь войну с соседями. Чтобы пройти от Харара к реке Аваш, нужно было еще восемь или девять дней. Рембо осознал, как глупы были проекты устройства каналов на этом водном пути. «У бедного Солейе, — пишет Рембо Барде 26 августа 1887 года, — строилось для этого в Нанте специальное небольшое судно!» Аваш — это «сточная канава с извилистым руслом, перегороженным деревьями и заваленным каменными глыбами».
Наконец он достиг Фарре, на границе Шоа. В тот момент, когда он въезжал на главную площадь поселка со своими верблюдами, ему навстречу откуда ни возьмись появился караван с бочками, принадлежавший Азагу[212] (министру-администратору короля). После традиционных приветствий важный сановник заявил, что «frangui» (Лабатю), которого представлял Рембо, должен ему крупную сумму денег. «У него был такой вид, будто он хочет получить весь мой караван в залог, — пишет Рембо. — Я на время охладил его пыл, отдав ему свою подзорную трубу и две баночки драже Мортон[213]. Потом я отдал ему все, что, как я считал, ему причиталось. Он был крайне разочарован и с этих пор враждебно ко мне относился; среди прочего, он помешал другому мошеннику, абуне[214], оплатить изюм, который я привез для изготовления вина для причастия».
Хорошенькое начало!
Дальнейший путь Рембо проходил по более зеленым местностям. 7 февраля 1887 года караван прибыл в Анкобер, столицу Шоа[215], жалкую деревеньку с лачугами из прутьев.
И снова неудача: Менелика в Шоа не было.
Несчастный Рембо! Он оказался в Анкобере в исторический момент. Шла война с эмиром Харара, Абделлаи. Король, устав от бесконечных стычек на границе, решил перейти в наступление и уничтожить противника. Менелик сам возглавил свою армию, 6 января 1887 года разбил эмира при Чаланко[216] и захватил значительное количество оружия. Через несколько дней король с триумфом вошел в Харар и поставил там нового правителя, дядю побежденного эмира Али Абу Бекра; Маконнен[217] вскоре сместил его и переправил, закованного в цепи, Менелику.
Путешественник Жюль Борелли пишет в своем «Дневнике» (среда, 9 февраля 1887 года):
«Анкобер. — Выехали в 6 часов. Г-н Рембо, французский торговец, едет из Таджура со своим караваном. В пути он не избежал неприятностей. Все время одно и то же: дурное поведение, алчность и предательство людей, мелкие и крупные пакости (засады) афаров, нехватка воды, погонщики мулов, которые постоянно требуют денег. Наш соотечественник некоторое время жил в Хараре. Он знает арабский и говорит на амхарском и оромо[218]. Он неутомим. Его способности к языкам, сильная воля и терпение во всех испытаниях делают его образцовым путешественником»3.
Рембо со своей стороны был очень рад познакомиться с Борелли: наконец-то хоть один образованный человек!
Сразу же по приезде в Анкобер Рембо написал Менелику. Король ответил ему:
От короля Менелика.
Г-ну Рембо.
Как ты поживаешь? Я, хвала Господу, поживаю хорошо.
До меня дошло твое письмо. Я приехал в Фель Уа. Мне будет достаточно пяти дней, чтобы увидеть товары. Потом ты сможешь уехать.
Писано 3 февраля 1887 года4.
В Анкобере Рембо не ведал покоя. Сначала он поругался с погонщиками: каждому из них он обязался выплатить 15 талеров, сверх того — плату за два месяца, которую был должен. Но выведенный из себя их наглыми требованиями Рембо разорвал контракт, и это стоило ему судебного процесса с Азагом. Второй процесс, по совету некоего француза по имени Энон, возбудила против него вдова Лабатю. Энон, бывший кавалерийский офицер, был интриган, выдававший себя за посла Французской республики при дворе Менелика. «После неприятной беседы, в которой то я, то они брали верх, — пишет Рембо, — Азаз отдал мне разрешение на арест имущества покойного. Но вдова уже давно припрятала товары, вещи и редкие предметы, оставшиеся от него (на общую сумму в несколько сот талеров), и когда я, несмотря на сопротивление, вошел в его дом с тем, чтобы наложить арест, я нашел там лишь несколько старых кальсон, которые вдова выхватила у меня с рыданиями, гильзы и дюжину беременных рабынь. От всего этого я отказался». (Письмо к г-ну де Гаспари, вице-консулу Франции в Адене, от 9 ноября 1887 года.) Однако Артюр сумел отыскать счета Лабатю — 34 записные книжки. В одной из них он нашел расписку Азага о поставке слоновой кости на общую сумму в 300 талеров и решил их вернуть, но дальше решимости дело не пошло, и под громкие «вопли» вдовы записные книжки полетели в огонь. Среди сожженных бумаг были, кажется, документы невосполнимые, в частности о правах на собственность.
Тогда вдова Лабатю подала жалобу, и Азаг, «ошеломленный, предоставил решать это дело французам, которые тогда находились в Анкобере».
«Суд» под председательством г-на Бремона, главы французской общины, вынес решение об отмене конфискации и возвращении г-же Лабатю земель, садов и скота. Было также решено, что все европейцы, находящиеся в Анкобере, соберут 100 талеров для вдовы своего покойного коллеги (это решение, однако, не было исполнено).
Когда все было кончено, Рембо узнал, что Менелик остановился по пути домой в Энтотто, в ста двадцати километрах от Анкобера. Он отправился со своим грузом в этот город, который представлял собой, в сущности, еще одно скопление жалких лачуг.
Там его ждало новое разочарование: он узнал, что король, занятый преследованием взбунтовавшихся племен, еще не прибыл. Это новое вынужденное ожидание дало возможность Рембо познакомиться со швейцарским инженером, Альфредом Илгом, советником Менелика. Альфред Илг родился в 1854 году, а с 1879 года жил в Шоа. Это был высокий, крупный человек. На него иногда нападало дурное расположение духа, но в общем он был сама сердечность и искренность. Илг был прост и прямолинеен — именно такие люди нравились Рембо.
6 марта 1887 года король торжественно въехал в славный город Энтотто. Рембо присутствовал при въезде, и вот как он об этом рассказывал: «Сначала шли музыканты, они во всю мочь трубили в египетские трубы из Харара, потом ехал сам король, а за ним следовало войско, нагруженное военными трофеями, среди которых, в частности, было две крупповских[219] пушки, каждую тащили восемьдесят человек». (Письмо директору «Египетского Босфора» от 20 августа 1887 года.)
Через несколько дней Рембо наконец смог отправиться в сопровождении Илга в королевское «гуэби». Они пришли в большую круглую хижину, разделенную на три части. Стены были обтянуты грубой тканью, на которой висело различное оружие.
Негус[220] был красавец-мужчина в полном расцвете сил, с лицом, покрытым оспинами. «У него были живые и умные глаза, — пишет Энид Старки, — по ним было видно, что король — человек скрытный. В сущности, его лицо выражало искреннее плутовство, без ложной скромности. Он принял Рембо в своем обычном одеянии: огромная расшитая накидка поверх бесформенной массы белья; этот костюм дополняла черная квакерская шляпа с широкими полями, надетая поверх повязанного на голову шелкового платка» («Рембо в Абиссинии», с. 125).
Король не выразил энтузиазма, когда Рембо предложил ему ружья. Он только что вывез из Харара очень много оружия и ждал новых поступлений из Ассаба. Кроме того, ему продали «ремингтоны», намного превосходящие устаревшую модель, которую предлагал Рембо. Однако, подумав о будущих войнах на юге, Менелик решил в конце концов согласиться на сделку и предложил за все про все 14 000 талеров. Рембо был возмущен, но Менелик ответил, что это его последнее слово и что, если торговца это не устраивает, ему остается только вернуться на побережье. История (или легенда) добавляет, что это жестокое решение было принято не без участия королевы Уэизено Таиту и что можно было добиться гораздо большего, стоило только найти к ней подход и поднести богатые подарки. Но разве можно было требовать этого от Артюра!
На жалобы Рембо вице-консул Франции в Адене ответил чуть позже (8 ноября 1887 года):
«Ваши потери были бы гораздо менее значительными, если бы вы, как другие коммерсанты, торгующие с абиссинскими властями, смогли приноровиться к особым требованиям, которые предъявляют эти страны и их главы».
— К тому же, — продолжал Менелик, — Лабатю должен был мне много денег…
«Дело было в субботу, — рассказывает Рембо, — и Менелик заявил, что еще должен свериться со счетами. В понедельник он объявил, что в архивах указано, что Лабатю должен ему примерно три с половиной тысячи талеров, каковую сумму он удерживает из выплаты по нашему договору. Король также добавил, что, помимо прочего, все состояние Лабатю должно перейти к нему; все это было сказано тоном, не допускающим возражений. Я стал говорить о том, что европейские банки дали мне кредит, и, под давлением г-на Илга, король лицемерно согласился отказаться от трех восьмых того, что считал принадлежащим себе по праву». (Письмо г-ну де Гаспари от 9 ноября 1887 года.)
Но вскоре король возместил потери, которые понес из-за такого проявления благородства: сначала он потребовал 2500 талеров за содержание каравана, которые нужно было уплатить Азагу, потом еще 3000 на оплату различных счетов Лабатю и т. д.
В конце концов Рембо вынужден был признать очевидным факт, что у Менелика нет денег — или, по крайней мере, он вообще не хочет платить. Может быть, тогда получить плату в слоновой кости? Это оказалось неприемлемым, так как стоимость предложенного в обмен товара была слишком завышена.
Наконец было найдено компромиссное решение: Рембо получит чек на 9866 талеров. По этому чеку заплатит в Хараре двоюродный брат короля, рас Маконнен.
Напомнило ли все это Рембо о мрачных предсказаниях Альфреда Барде? Во всяком случае, переписка между Артюром и его матерью и сестрой стала менее регулярной, письма становились лаконичнее: «Я надеюсь вернуться в Аден к октябрю — в этой ужасной стране все делается смертельно медленно» (7 апреля 1887 года).
Но это был еще не конец. Когда на следующий день Рембо пришел в сопровождении Илга за обещанным чеком, он с ужасом заметил г-на Энона и за ним — «бурнус безутешной вдовы». Пока Рембо томился в ожидании приема, его противники, которым удалось опередить его, старались добиться от короля Менелика, чтобы тот добавил к долгу Артюра 100 талеров, обещанных госпоже Лабатю, потому что, конечно же, деньги для нее никто собирать не стал. Король заявил, что у него нет намерения переносить дружеские чувства, которые он испытывал к Пьеру Лабатю, на его наследников, в доказательство чего тут же лишил заплаканную вдову права владения землями, которое когда-то было дано ее покойному мужу.
С быстротой молнии распространилась новость о том, что «француз» оплачивает все долги Лабатю. Отовсюду начали приходить толпы так называемых кредиторов. «Их мольбы или угрозы заставляют меня бледнеть», — замечает Рембо. Приходили вдовы слуг, которые умерли на службе у Лабатю, люди, которым покойный обещал ружье или кусок ткани, и, наконец, люди, которые просто требовали денег. «Поскольку все это честные люди, их просьбы трогали меня, и я платил, — признается Артюр. — Так, у меня потребовал 20 талеров некий господин Дюбуа, я убедился, что он имеет на это право, и отдал ему деньги, прибавив в качестве процентов пару своих ботинок, потому что бедняга жаловался, что ему приходится ходить босиком».
Действиями Рембо руководило своеобразное сочетание милосердия и нетерпения: по своей природе он не был склонен к словесным баталиям и одним платил из жалости, а другим — из нежелания спорить. Даже когда Рембо уединялся в своей хижине, это не спасало его от навязчивых посетителей:
Вот, например, пришел ко мне какой-то господин, сел, чтобы выпить моего теджа[221], расхваливая благородные качества друга (покойного Лабатю) и выражая надежду открыть во мне те же добродетели. Увидев мула, который щиплет траву на лужайке, он вдруг завопил: «Так это тот самый мул, которого я дал Лабатю (он не сказал, что бурнус, который на нем надет, принадлежал Лабатю!)!» «К тому же, — добавил этот человек, — Лабатю остался мне должен 70 талеров (или 50, или 60 и т. д.!)». И он так настаивал на этом своем требовании, что мне пришлось его спровадить, сказав на прощание: «Идите к королю!» Это почти все равно что сказать: «Идите к черту!»
Рембо вел тщательный учет своих «несчастий»: «Различные долги местным жителям и европейцам, заплаченные мной за Лабатю, составили примерно 120 талеров».
Если бы Рембо продлил свое пребывание в Энтотто, он был бы совершенно разорен; поэтому он постарался как можно быстрее получить от короля охранное свидетельство, чтобы вернуться в Харар по самому короткому пути. Когда Артюр получил это свидетельство, к нему обратился Жюль Борелли; его очень интересовал маршрут, по которому Рембо собирался отправиться, и он попросил разрешения сопровождать его. Артюр согласился.
Они выехали 1 мая 1887 года. «Я помню, что в утро моего отъезда, — пишет Рембо, — когда мы уже ехали в направлении север-северо-запад, я увидел, как из кустов вылез посланец жены одного из друзей Лабатю и потребовал у меня именем Девы Марии 19 талеров. Чуть позже со скалы слезло какое-то существо в накидке из бараньей кожи. Оно спросило, заплатил ли я 12 талеров его брату, которые у того когда-то занял Лабатю и т. д. Всем этим людям я кричал, что время выплат прошло». (Из письма г-ну де Гаспари от 9 ноября 1887 года.)
О так называемой Королевской дороге из Энтотто в Харар (500 км) было мало что известно; только один европеец проехал по ней за год до этого — это был итальянский врач Винченцо Рагацци, который сопровождал армию Менелика. Рембо рискнул воспользоваться ею, когда ехал из Харара, но не смог далеко уехать. Вся долина Минджара и земли за Карейу и Иту были совершенно не исследованы. Таким образом, у Артюра появился исключительный шанс получить заслуженное вознаграждение за все свалившиеся на него неприятности, а для Борелли, бывалого путешественника по восточной Африке, большой удачей представлялось путешествовать в компании Рембо, которого он очень ценил. («Наш любезный и утонченный соотечественник», — говорил Борелли о Рембо.)
Эта дорога насчитывает восемь этапов по 25–30 километров до реки Аваш и еще десять этапов до Харара. Эти сведения почерпнуты из описания маршрута, составленного Рембо и отосланного впоследствии Альфреду Барде. В этом кратком и сухом документе мы не найдем описаний. Рембо лаконичен, но не упускает из виду ни одной подробности: возделанное плато, разные сорта хлопка, кустарник, заросли мимозы, большие леса и горы, на которые открывается прекрасный вид, кофейные деревья и т. д.
Если же вы хотите от рассказа об этом пути больше жизни и красок, вам следует обратиться к «Дневнику» Борелли. Поэтом в том путешествии был Борелли, в то время как Рембо олицетворял ученого. Вот отрывок из «Дневника»: «Порой кажется, что мы попали в настоящий земной рай! Повсюду кусты жасмина, шиповника, целые леса смоковниц. Лианы сплетаются и зелеными гирляндами висят на ветвях вековых оливковых, тутовых деревьев и молочая колоссальных размеров».
Все события, приятные и неприятные, произошедшие по пути, аккуратно записаны: бегства погонщиков мулов и проводников, приемы у знатных особ, нередкие ссоры с местными жителями, не слишком обрадованными посещением чужаков. 20 мая Рембо и Борелли пересекли поле битвы в Чаланко, где одержал победу король Менелик и где теперь лежали человеческие скелеты, оставленные уже даже гиенами. Немного дальше, в Варра-Белле, они видели дерево, к которому прислонили француза Люсро после его убийства.
Рембо спешил покончить со всем этим. В субботу 21 мая Борелли записал в своем дневнике: «Арро. — Ранним утром мы отправляемся в путь. Г-н Рембо меня обогнал. Он хочет уже сегодня вечером прибыть в Харар».
Харар неприятно поразил обоих путешественников: город превратился в настоящую «клоаку» (это слово употребляют и Рембо, и Борелли), где свирепствовали голод, чума и всевозможные преступники, — немой и зловонный город, где, запершись в своих домах, дрожали от страха несколько греков и армян. Помимо прочего, Рембо в Хараре ждало еще одно бедствие — кредиторы Лабатю, которые и там не давали ему покоя.
Жюль Борелли не мешкая вернулся в Энтотто, где ему удалось получить от короля разрешение на исследование южных провинций. Рембо же пришлось ждать — как всегда! — целый месяц, пока ему заплатят по чеку (и это еще была «ускоренная процедура»).
Артюр оценил утонченность и изысканность двоюродного брата короля, раса Маконнена. Принцу тогда было тридцать пять лет, рядом с ним Менелик казался неотесанным мужланом.
Как только Рембо получил свои деньги, он сразу же уехал. Конечно, он не поехал по Северной дороге. Он отправился по хорошо знакомой ему дороге в Сайлу и, проехав две недели по пустыне, прибыл в Аден 25 июля 1887 года.
Одной из первых забот Рембо было представить отчет о своих действиях французскому вице-консулу в Адене. Действительно, было необходимо, чтобы состояние его счетов было безупречно — он взял на себя обязанность сделать в Шоа несколько выплат от имени разных людей. В письме от 30 июля он подводит итог: «Я выхожу из этого пропащего дела, потеряв 60 % капитала, не говоря уже о без малого двух годах жизни».
Жара стала невыносимой: каждый день 50–60°. Надо полагать, Рембо, ослабленный семью годами жизни в тяжелейших условиях и, по его собственным словам, «в самых невыносимых лишениях», почувствовал, что пора сменить обстановку.
Однако Артюр не захотел вернуться в старушку Европу, и в начале августа 1887 года покинул Аден, чтобы несколько месяцев отдохнуть в Египте. В Обоке он сел на корабль Национальной компании со своим слугой Джами Вадаи, шестнадцати-семнадцати лет от роду, которого вывез некогда из Харара, чтобы спасти от голода. В Массауа, итальянском (с 1884 года) владении, где Рембо высадился на берег, карабинеры потребовали у него документы. Новоприбывший не стал сопротивляться; карабинеры получили возможность поглядеть на несколько доверенностей, подписанных подателем и неким Лабатю, а также на два переводных векселя на общую сумму 7500 талеров к итальянским и индийским торговцам. Артюра препроводили к французскому консулу, Александру Мерсинье, который был вынужден навести о нем справки у своего коллеги в Адене (5 августа): «Некий г-н Рембо, ведущий, по его словам, торговую деятельность в Хараре и Адене, прибыл в Массауа на почтовом корабле, который каждую неделю приходит из Адена. Это высокий, худой человек с серыми глазами и небольшими светлыми усами. Ко мне его доставили карабинеры. (…) Я был бы Вам очень обязан, г-н консул, если бы Вы сообщили мне сведения об этом человеке, поскольку мне он кажется подозрительной личностью».
Очень скоро г-н де Гаспари успокоил своего коллегу, и Рембо, получив в консульстве Массауа паспорт установленного образца, смог продолжать путь.
Чтобы исправить свою оплошность, Александр Мерсинье рекомендовал Артюра маркизу де Гримальди-Регюссу, адвокату в апелляционном суде Каира: «Мне очень приятно напомнить Вам о себе и особенно рекомендовать Вам г-на Артюра Рембо, очень достойного человека, одновременно торговца и исследователя из Шоа и Харара. Он знает эти края в совершенстве, так как прожил там более девяти лет. Г-н Рембо едет в Египет, чтобы немного отдохнуть от своей тяжелой жизни. Он расскажет Вам, как идут дела у брата г-на Борелли бея, которого он встретил в Шоа».
По пути Рембо остановился в Суакине и Суэце, где познакомился с Люсьеном Лабоссом, вице-консулом Франции, а 20 августа прибыл в Каир.
Жюль Борелли дал ему адрес своего брата Октава (по прозвищу Борелли бей), богатого каирского адвоката и сотрудника «Египетского Босфора», ежедневной газеты, которой руководил некто Баррьер бей.
Рембо снова охватила страсть к журналистике, которая владела им в юности, и он сразу же завязал контакты с «Босфором». 22 августа в газете появилась следующая заметка:
«Г-н Рембо, французский путешественник и коммерсант из Шоа, приехал в Египет несколько дней назад. По нашим сведениям, г-н Рембо не собирается задерживаться здесь и готовится отбыть в Судан».
О пребывании Рембо в Каире известно только то, что он остановился в отеле «Европа» и много писал.
Для начала он рассказал матери и сестре о своих злоключениях в Шоа: «Если бы мой компаньон не умер, у меня сейчас было бы порядка тридцати тысяч франков, вместо тех пятнадцати, которые были у меня и так. И это после двух лет труда! Я устал.
Мне не везет!»
Он сообщал о своем здоровье, состояние которого вызывало опасения. Он очень ослаб и страдал ревматическими болями в левом колене, спине и правом плече. «Я, — писал Рембо, — совсем поседел. Мне кажется, что моя жизнь близится к концу».
Попробовав снова включиться в цивилизованную жизнь, Рембо быстро понял, что никогда не сможет к ней привыкнуть и что он приговорен остаться навеки в своем аду: «Видимо, мне суждено провести остаток своих дней в треволнениях и лишениях, имея перед собой одну перспективу — умереть за работой» (письмо от 23 августа). «Тут все слишком дорого; мне скучно здесь» (письмо от 25 августа).
Поскольку Рембо все время носил зашитыми в пояс около 16 000 франков в золотых монетах (8 кг), он решил, что будет удобнее поместить свой капитал на полгода в банк «Лионский кредит» под четыре процента. Банковская расписка сохранилась5.
Будущее представлялось Рембо туманным: «Я не могу вернуться в Европу по целому ряду причин; прежде всего зима убьет меня».
В какую страну ему направиться? В Аравию? В Абиссинию? В Занзибар, куда у него есть рекомендации? В Китай, Японию? Может быть, он бы и в самом деле сел на пароход, отправлявшийся в Занзибар 15–18 сентября, если бы мать вовремя выслала ему 500 франков (они были необходимы Артюру, чтобы ничего не снимать с банковского счета). Но нужная сумма прибыла слишком поздно — или вообще не прибыла.
Рембо был рад увидеть в номерах от 25, 26 и 27 августа 1887 года свое письмо к главному редактору «Египетского Босфора», где рассказывалось о его путешествии в Шоа. Это обзор политики, географии и экономики, представляющий большой интерес. Автор письма не распространяется о неприятностях, которые ему довелось испытать, а излагает авторитетное мнение о возможностях проникновения в Шоа. Он подчеркивает, что по дороге, которую открыли он, Рембо, и Жюль Борелли, «наш любезный и отважный соотечественник», можно всего за месяц с небольшим добраться от побережья до этой провинции, исключительно богатой плодородной землей; все эти земли «пригодны для европейской колонизации».
При чтении отчета складывается впечатление, что человек, его писавший, проницателен, уверен в себе и очень хорошо знает особенности жизни в Африке. Рембо был одним из первых, кто понял, что Джибути ожидает экономический рост, если оттуда провести в Шоа железную дорогу. Строгий стиль Рембо идеально подходит к затрагиваемой теме; это стиль практика, а не теоретика… и не поэта.
«Египетский Босфор» — это, конечно, хорошо, но Рембо метил выше: 26 августа он направил в Географическое общество просьбу разрешить ему переслать подробное исследование о дороге из Энтотто в Харар. Размер вознаграждения за эту работу Рембо определил сам. В тот же день Рембо отправил Альфреду Барде план, коротко описывающий 18 этапов пути. Говоря в сопроводительной записке, очень любезной, о результатах своей деятельности, он ограничивается следующим: «Мое предприятие было столь безуспешным, потому что я взял в компаньоны этого идиота Лабатю, который, в довершение всего, умер, повесив мне на шею свою семью в Шоа и всех своих кредиторов». Конец удивляет: «Я к Вашим услугам в любом деле, где мог бы быть Вам полезен. Я не могу оставаться здесь, потому что привык к свободной жизни. Будьте так добры подумать обо мне».
Путь из Энтотто в Харар живо заинтересовал Альфреда Барде; вспомнив о том, что он — член-корреспондент Географического общества, 22 сентября Барде отправил туда копию плана Рембо. План был обсужден на заседании Общества 4 ноября 1887 года и опубликован в ученых записках.
Именно тогда генеральный секретарь, Шарль Монуар, вспомнил о письме Рембо и ответил ему 4 октября, что сожалеет, что вынужден отвергнуть его просьбу «из-за режима экономии, вот уже несколько месяцев действующего в министерствах». Возможно, Рембо воспользовался бы предложением генерального секретаря испросить в министерстве народного образования официальную миссию… если бы не режим экономии. Поэтому Рембо отверг предложение Монуара.
Итог этой истории следующий: автор ценного доклада, присланного в Общество Альфредом Барде, требовал слишком высокую цену; Общество решило денег автору не высылать, так что вышло, что оно получило этот доклад бесплатно.
Барде едва не присвоил себе заслугу открытия пути из Энтотто в Харар. В 1898 году в своих «Заметках о Хараре»6 он писал: «Этот путь был впервые пройден г-ном Артюром Рембо, моим служащим (а не директором филиала! — 7Z.77.) в Хараре». В этой же книге он оказал Рембо следующую медвежью услугу, добавив: «Речь идет о хорошо известном поэте-декаденте».
Сообщение Рембо наделало шума в научных кругах. Географы писали о нем в Германии («Peterman’s Geographische Mitteilungen», 1887), в Австрии («Das Ausland», 1888), в Англии («Proceedings of the Royal Geographical Society», 1888), в Италии («Bolletino della Societa Geografica Italiana», 1888)… но вполне возможно, что сам он не подозревал о своей популярности; такая уж у него была судьба — слава все время была рядом, но он никак не мог с ней встретиться.
В конце сентября 1887 года Рембо наконец принял решение. Он поедет в Сирию выполнять заказ короля Менелика. Нужно было купить четырех крупных жеребцов-производителей, потому что мулы в Шоа были слишком маленькие. Для выполнения этого заказа Рембо выписал из французского консульства в Бейруте паспорт на въезд в Сирию (сохранился7). Этот документ интересен тем, что в нем указаны приметы Рембо (рост: 1 м 80 см), а также тем, что он подтверждает присутствие в Каире Джами.
Несмотря на то что из письма консула следовало, что, по его мнению, выполнить такой заказ вполне можно и даже выгодно, Артюр, получив паспорт, отправился не в Бейрут[222], а в Аден.
Примечания к разделу
1 Уго Ферранди, письмо к Оттону Шанцеру, опубликовано Бенджаменом Кремье в Nouvelles littéraires от 20 октября 1923 г.
2 Леме, цит. Сюзанной Брие, Rimbaud notre prochain.
3 Жюль Борелли, L’Ethiopie méridionale. Journal de mon voyage aux pays Amhara, Oromo et Sidama (septembre 1885 à novembre 1888), Paris, ancienne Maison Quantin, 1890.
4 См. Г. Дегерен, Figures coloniales françaises et étrangères, Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, 1931 (письмо не включено в издание l’éaition de la Pléiade).
5 Эта расписка хранится в Музее Рембо в Шарлевиле — Мезьере, напечатана в le Goéland, № 96, июнь-июль 1949 г.
6 Отдельный оттиск Bulletin de géographie historique et descriptive, № 1, 1897, Imprimerie nationale.
7 См. Ф. Рюшоп, Rimbaud, documents iconographiques, рис. 74.
Глава XVII
РЕМБО ОТКРЫВАЕТ СВОЕ ДЕЛО В ХАРАРЕ
Почему же Рембо отправился в Аден?
Во-первых, потому, что сирийское дело еще не было начато, и к тому же он не собирался возвращаться в Шоа через пустыню, рискуя жизнью ради того, чтобы привести Менелику четырех ослов. Во-вторых, он рассчитывал, что его вновь возьмут на работу в компанию Барде.
По приезде его ждал сюрприз. Некто А. Дешан обратился 28 октября 1887 года с официальной жалобой во Французское консульство в Адене. Речь опять шла о деле Лабатю. Покойный Лабатю должен был заплатить 1810 талеров некоему г-ну Одону, агенту Дешана в Шоа. Рембо, однако, оплатил этот долг. Вице-консул г-н де Гаспари попросил Артюра объясниться и предоставить полный отчет о проведенных сделках и доказательства их совершения. 3 ноября Рембо передал ему все бумаги, за исключением бухгалтерских счетов. Среди представленных документов была следующая запись: «Переведено на имя г-на Одона в счет долга Лабатю: талеры 1088». Но это ничего не доказывало, так как г-н Одон продолжал утверждать, что ничего не получал. 4 ноября Рембо сообщил о происходящем его высокопреосвященству г-ну Торен-Каню и попросил его о помощи, каковую тот согласился предоставить. А произошло вот что. Рембо перед отъездом из Шоа остался практически без средств, так как Менелик — будем называть вещи своими именами — откровенно ограбил его. Поэтому Артюр решил соответственно сократить свои долги третьим лицам; в то время действовал некий подзаконный акт о порядке расчетов между кредитором и несостоятельным должником, позволявший ему так поступить. Но так как г-н Одон не считал, что у Артюра было такое право, Рембо обратился к Маконнену, с которым у него были кое-какие счеты, с просьбой выплатить Одону 866 талеров (47 % долга г-ну Дешану). Маконнен прислал Артюру квитанцию об «уплате г-ну Одону 866 талеров». На деле же последний опять ничего не получил.
С этого момента Рембо заподозрил, что Маконнен обманул его заодно с г-ном Одоном и присвоил деньги себе.
Артюр обратился к консулу в Адене с жалобой, что был вынужден отдать две трети своих активов за долги различным кредиторам.
— Вы сами совершили ошибку, — был ответ (8 ноября 1887 года), — поэтому сами и разбирайтесь.
После этого Рембо взялся за перо, с воодушевлением рассказывая в письме от 9 ноября, на которое мы уже ссылались, про свои неурядицы с кредиторами (иногда самозванными).
Все это было очень забавно, но проблема оставалась неразрешимой.
Рембо считал, что с делом покончено, но в 1890 году, когда он вернулся в Харар, вновь возникли неприятности, связанные с долгами Лабатю.
8 января 1890 года Менелик приказал задержать его товар на складе Илга в Энтотто в связи с тем, что он якобы должен 100 талеров наследникам Лабатю. Дешан сразу послал в Харар свое доверенное лицо, Шефне, с поручением пронаблюдать за тем, что товар действительно арестован. Рембо показал ему квитанцию Маконнена и доказал таким образом, что в целом выплатил г-ну Одону 80 % долга Дешану. Расследование показало, что Маконнен использовал деньги на погашение долга покойного Лабатю в пользу раса Гованы, так как не знал, кому передать эту сумму. Бесконечные разбирательства ни к чему не привели, и Дешан, желая поставить наконец точку в этом деле, которое тянулось уже пять лет, в срочном порядке направил на место брата Шефне по имени Тейар. Рембо пришлось подчиниться требованиям последнего, но он сократил сумму выплат до 600 талеров (плюс 100 талеров наследникам Лабатю — от этого ему не удалось отвертеться). 19 февраля 1891 года Дешан вручил ему расписку, в которой значилось, что больше он не имеет претензий к Рембо.
Вернемся к осени 1887 года.
Поскольку единственным перспективным товаром было оружие («Если вы не будете поставлять мне оружие, — говорил европейцам Менелик, — я запрещу вам торговать здесь»), Рембо решил заняться импортом материалов для производства ружей и патронов. Почему бы не стать промышленником в Анкобере? Если удастся привлечь к этому 328 делу солидных инвесторов, он мог бы возглавить производство. Но реализация этого проекта полностью зависела от разрешения на ввоз оружия. В этом вопросе, казалось, наметились сдвиги. Доказательством тому мог служить факт, что ружья Солейе, пролежавшие довольно долго на складе в Таджура, в конце концов были доставлены в Шоа. На самом же деле ничего не изменилось: франко-английское соглашение от 16 ноября 1886 года о запрещении ввоза в Эфиопию каких бы то ни было видов оружия оставалось в силе, исключения делались лишь в особых случаях. Однако Франция, кажется, подходила к этому не столь категорично.
Ни на что не надеясь, Рембо при поддержке депутата от Вузьера г-на Фаго обратился с официальной просьбой к министру военно-морских сил и колоний, г-ну Феликсу Фору. Он подчеркивал, что речь идет о поставке в Шоа, «край христиан и друзей европейцев», сырья для изготовления оружия и боеприпасов; контроль над производством будут осуществлять исключительно французы.
Отрицательный ответ, полученный 18 января 1888 года, был сух и краток: это противоречит соглашению.
Рембо не очень удивился: он никогда не питал больших надежд на подобные обращения к министрам. «Писать чиновникам — только зря бумагу переводить», — говорил он.
Дальнейшие события показывают, сколь непостоянной на самом деле являлась официальная точка зрения. 2 мая 1888 года Рембо получил противоположный приказ, разрешавший поставки, который был в свою очередь отменен 15 мая, то есть двумя неделями позже.
Однако все это уже не интересовало Рембо, он решил заняться другим делом. А его идею с оружейным заводом подхватит Илг и наладит, хотя и не без трудностей, серийное производство патронов в Анкобере.
Итак, к концу 1887 года Рембо по-прежнему оставался в Адене, «не занятый ничем»; он негодовал, но ничего не мог поделать.
Праздность заставила его взяться за перо. «Я составил описание моего путешествия по Абиссинии для Французского Географического общества, — говорит он в письме домой 15 декабря. — Я послал статьи во «Время», в «Фигаро» и другие издания. Также я собираюсь послать несколько интересных рассказов о моих поездках в Восточную Африку в «Арденнский курьер». Думаю, это будет полезно для меня». Но его статьи не были опубликованы. Знакомые в Европе посмеивались над ним. «В Адене Рембо занимается тем, что пишет всякие глупости для прессы», — замечает Савуре в письме Илгу от 13 февраля 1888 года.
Относительно сотрудничества со «Временем» Берришон уточняет, что Рембо обратился туда, имея рекомендацию своего старого товарища по шарлевильскому коллежу, Поля Бурда, о котором мы уже рассказывали. Но предложенные условия оказались столь невыгодными, что Артюр отказался от этой затеи. Берришон упоминает письмо Поля Бурда к Рембо (недатированное), в котором тот, чтобы утешить последнего, убеждает его, что о нем говорят в Париже и что имя его чуть ли не овеяно славой. «Там образовался поэтический кружок; его члены называют Вас своим учителем, и хотя они не знают, где Вы и что Вы, они верят, что в один прекрасный день Вы появитесь неизвестно откуда и вырвете их из тьмы безвестности».
Подлинность этого письма сомнительна (бывшие соученики обычно обращаются друг к другу на «ты»).
Экономический упадок, скорее даже полный застой, был следствием политической анархии; любой человек, обладавший хотя бы минимальной властью, жил по принципу «каждый за себя», и по этой причине в стране ничего не менялось. Не хватало продуктов питания, нависла угроза голода и войны (назревал итало-эфиопский кризис). «Виной всему — массовое нашествие европейцев, — пишет Рембо домой 25 января 1888 года. — Англичане в Египте, итальянцы в Массауа, французы в Обоке, англичане в Бербере и так далее. Поговаривают, что испанцы тоже собираются захватить несколько портов в проливе. Правительства всех стран пришли сюда, рассчитывали выдоить из этих земель миллионы и даже миллиарды, а обнаружили богом забытые пустынные края, где самый жестокий климат на планете, где местные жители месяцами скитаются без пищи и воды».
Наконец на горизонте возникло выгодное дело: речь шла о сопровождении очень большого каравана (более двухсот верблюдов) с грузом товаров и оружия по поручению Андре Савуре от побережья до Харара (естественно, оттуда кто-то другой должен был повести караван до Шоа). Плата за сопровождение грузов составляла 2000 франков плюс надбавка за перепродажу «ремингтонов».
Рембо отправился в путь 14 февраля 1888 года, а не в конце марта, как пишет Старки на основании письма Савуре от 27 января, в котором тот сообщал Рембо, что бутр будет ждать его между Дорале и Амбаду начиная с 15 марта. Все произошло на месяц раньше.
Караван, следуя указаниям слуги Савуре, Али Фара, шел по одной из тайных «рабских дорог».
14 марта Рембо вернулся в Аден. В письме Илгу от 29 марта он излагает все подробности этого путешествия, прошедшего без осложнений:
Вернувшись в Аден две недели назад, я получил ваше дружеское письмо. Благодарю вас.
Я действительно был в Хараре. Поездка длилась месяц: 6 дней туда, 5 — обратно, неделю — там, плюс дней десять на борту бутров и пароходов (самая долгая и скучная часть пути).
Кампания была проведена блестяще и результаты полностью удовлетворили Савуре. «У Вас все всегда идет как по маслу, что случается крайне редко в этой части Африки», — напишет Илг Рембо 27 апреля 1888 года.
Что же дальше? Рембо не собирался сидеть без дела в Адене или проводить все время в седле на лошади или муле, изматывая себя путешествиями к черту на рога ради горстки талеров. И он действовал — терпеливо творил свое собственное будущее. Он был обречен снова — на этот раз как полностью независимый коммерсант, полномочный представитель известного торговца Сезара Тиана — поселиться в Хараре.
В это время Савуре обратился к нему с новым поручением. На этот раз речь шла только о том, чтобы, договорившись с неким Маконелем, подобрать верблюдов для большого каравана с грузом оружия (3000 ружей и 5000 патронов), который должен был повести Мохаммед Абу Бекр. Строгое предписание, данное Артюру — не сопровождать караван, — официально объяснялось плохими отношениями с итальянцами; в действительности же дело заключалось в том, что Бекры вели очень активную торговлю рабами и не желали раскрывать свои секретные маршруты.
Это поручение ничуть не интересовало Рембо, и он, получив задаток 2000 франков, не сделал ровным счетом ничего. Поэтому вполне обоснованы упреки Савуре в письме от 26 апреля 1888 года: «Я считаю, что Вы не справились с поручением, во-первых, потому что Вы недостаточно поработали, а во-вторых, потому что Вы не доверяли мне».
Рембо, разумеется, не хотел запятнать свою репутацию, оказавшись замешанным в таком подозрительном деле. Кроме того, когда Савуре писал ему это письмо, он был уже совсем рядом с Хараром.
А тем временем в обратном направлении, из Шоа и Харара, внутренних районов на побережье, шел другой караван с грузом слоновой кости и рабами. Караван вел брат Мохаммеда Ибрагим Абу Бекр.
В секретном докладе итальянского генерального консула в Адене г-на Чекки на имя министра иностранных дел г-на Криспи от 22 мая 1888 года сообщается: «Как мне стало известно из конфиденциальных сообщений губернатора данной местности (Адена) и других источников непосредственно в Сайле, 10 числа текущего месяца (мая) в Амбос прибыл большой караван, который привел Ибрагим Абу Бекр (один из многочисленных сыновей ныне покойного Абу Бекра, эмира, а затем паши Лейлаха). Караван сопровождал коммерсант г-н Рембо, один из наиболее образованных и активных агентов французского правительства в этом регионе»1.
Естественно, английский губернатор в Адене обратился 16 июня 1888 года со сходным по содержанию докладом в министерство иностранных дел Великобритании (там, однако, уже не указывается число (10 мая) и речь идет о «г-не Рембане» вместо «Рембо»[223]). Старки обнаружила этот доклад и на его основании в своей книге «Рембо в Абиссинии» заключает, что экс-поэт сошелся с гнуснейшими бандитами на всем побережье Красного моря и занялся работорговлей и другим делами, не делающими чести его репутации.
Сведения были ложными, но это «открытие» стало сенсацией — и продолжало ею оставаться до момента, пока Марио Матуччи не удалось установить истину2.
Нас не должно удивлять плохое отношение к Рембо в английском докладе, поскольку, как мы могли убедиться, он не очень-то жаловал политику Англии. Любая сплетня, способная запятнать его честь или дискредитировать его, становилось оружием в своеобразной франко-английской войне за сферы влияния в этой части земного шара.
Остается задаться вопросом, что за злополучная прихоть, внезапно зародившаяся в мозгу Рембо, толкнула его на то, чтобы вмешаться в такое грязное дело, ведь если бы об этом узнали, Менелик отлучил бы его от своего двора. В самом деле, ни один европеец еще не был замешан в торговле рабами, монополии семьи Абу Бекр (после смерти главы семейства в 1885 году у него осталось И сыновей!).
Они не потерпели бы вмешательства в свои тайные операции.
Если проследить хронологию, становится очевидным вся лживость обвинения англичан.
У нас есть неоспоримое свидетельство о поездке Рембо из Адена в Харар — это дневник Уго Ферранди, его спутника в этом путешествии.
— 13 апреля. Среда. — Сегодня мы отправляемся в путь на пароходе, построенном в Англии, водоизмещением, на мой взгляд, не более 200 тонн (…). Среди пассажиров до Сайлы кроме меня также г-н Рембо, два брата Ригаса и молодой чернобородый грек Христос Муссайа[224].
— 14 апреля. Суббота. — Мы приплыли в Берберу. Рембо, Димитрий Ригас и я отправились на берег в поселок туземцев, где в большой хижине выпили очень вкусного чая, приготовленного турком, хозяином заведения.
— 17 апреля. Вторник (в Бейла). — Вечером я общался с г-дами Сотиросом и Рембо.
— 24 апреля. Вторник. — Сомалиец принес письмо Рембо из Энсы. Он пишет, что все хорошо3.
Приплыв в Харар, Рембо сразу пишет письмо Альфреду Барде. Тот в свою очередь сообщает Географическому обществу следующее (письмо от 4 июня):
Я получил из Харара письмо г-на Рембо, датированное третьим мая, где говорится: «Я только что прибыл в Харар. В этом году дожди необычайно сильны, и в течение всей поездки мне сопутствовали циклоны. Но через два месяца дожди на побережье прекратятся. Его сиятельство г-н Маконнен скоро возвращается из похода. Он мало сделал и мало заработал, поэтому очень зол».
Письмо домой от 15 мая, в котором Рембо сообщает, что «вновь и надолго обосновался здесь», ясно свидетельствует о том, что через пять дней он не мог оказаться на побережье с караваном рабов Ибрагима Абу Бекра.
Итак, Рембо снова в Хараре. Он снимает маленький домик (сохранились фотографии этого дома, сам же он разрушен) и живет только со слугой Джами Вадаи (у Сотироса собственное дело в Сайле, как и у братьев Ригас, Димитрия и Афанасия). Слуга вскоре женится. Вообще, кажется, у Артюра никогда не было постоянной прислуги. Он нанимает людей только в случае необходимости. Он один и ни от кого не зависит. Он практически не общается с Сезаром Тианом, своим начальником в Адене. Этот человек, с белой бородой святого отца, спокойный, немного медлительный, но честный и надежный, очень устраивал Рембо. Их отношения всегда складывались замечательно: не было ни жесткого контроля, ни строгих приказов, ни недоверчивости. К тому же Тиан никуда не ездил, и Рембо это очень устраивало. Какое отличие от братьев Барде, людей столь же честных, но не допускавших никаких замечаний и регулярно напоминавших, кто в фирме хозяин. Это доказывает, что когда с Рембо вели себя действительно порядочно, с ним можно было ладить. Впрочем, он не был злопамятен: несмотря на прошлые конфликты, он, когда сам того хотел, переписывался и сотрудничал с братьями Барде.
В течение трех лет его деятельность в Хараре, перевалочном пункте между Шоа и побережьем, будет иметь первостепенное значение. Он и один священник из Католической миссии были там единственными французами. Рембо поддерживал постоянные деловые отношения с двадцатью европейцами, постоянно жившими в этом регионе. Также он общался с путешественниками, которые приезжали разведать экономическую, географическую или политическую ситуацию, купить что-нибудь в Адене, с тем чтобы перепродать потом в столице или наоборот; он выступал то в роли вкладчика, то в роли посредника, то в роли банкира. «Сюда привозят шелка, хлопчатобумажные изделия, деньги и кое-что еще, — пишет Артюр 4 августа 1888 года. — Отсюда вывозится кофе, резина, духи, слоновая кость, золото (не местное, его добывают достаточно далеко отсюда)».
Перечень этот далеко не полон. В «кое-что еще» входила самая разнообразная продукция: скобяные товары (кастрюли, кубки, различная утварь), ювелирные украшения (жемчуг, колье, бижутерия), измерительные приборы (весы). На экспорт шла также козья и обезьянья кожа. Вывозилось и сырье для производства парфюмерии, в первую очередь мускус и цибетин.
Рембо занимался получением и учетом товаров, поставляемых из Адена и Сайлы, а также их перепродажей, чаще не в Хараре, а в Анкобере, где был крупный заказчик — король. Илг был основным покупателем его продукции. Рембо скупал кофе и слоновую кость в Хараре и его окрестностях, снаряжал караваны на побережье, но не сопровождал их; для этого он использовал «аббанов» (погонщиков из местного населения).
Он постоянно жаловался на одиночество, как если бы жил отшельником. «Пустыни, населенные тупыми неграми, бездорожье, отсутствие почты и приезжих: о чем писать? О том, что ты тоскуешь, глупеешь, скучаешь; что тебе все надоело, но конца этому не видно и так далее и тому подобное. Вот все, о чем можно рассказать; а так как это никому не интересно, лучше уж молчать».
Но он вовсе не был одинок и каждый день получал послания или принимал гостей. Все предприниматели по пути с побережья или обратно останавливались у него. Он принимал как французов, так и иностранцев. По нескольку дней или недель у него жили Борелли, Савуре, Илг (в конце 1888 года), несколько итальянцев.
Он входил в состав Европейской общины, очень деятельной и очень сплоченной: против беззакония Менелика и его чиновников нужно было выступать единым фронтом.
Информация поступала к нему быстро и он был всегда в курсе событий, как если бы имел телефон или телеграф.
Его лучшим другом был Альфред Илг, швейцарский инженер, который впоследствии займет пост премьер-министра у Менелика. Его открытость и радушие очень нравились Рембо и давали возможность отдохнуть и отвлечься от хитрых абиссинцев или скрытных европейцев, с которыми ему приходилось ежедневно общаться.
Однажды, получив от Рембо груз различных товаров на продажу, Илг написал ему:
Я только что осмотрел все то, что Вы мне прислали. Такое ощущение, что Вы хотите отнять у меня последние гроши, как это теперь принято. Сейчас — когда его высокопреосвященство строго приказал преподобному отцу Иоакиму вернуться в Харар — продавать четки, кресты и распятия еще более опасно, чем путешествовать по пустыне. Я даже не решусь преподнести что-либо из присланного Вами в качестве подарка, так как абиссинцы сразу примут меня за переодетого капуцина. (…) Продавать блокноты по талеру за штуку людям, которые не только не умеют писать, но даже не знают, что вообще можно делать с бумагой! Вы слишком многого от меня хотите. Жаль, что Вы не могли мне послать сотню-другую вещиц из резного перламутра или рожки для обуви. (…) В общем, дорогой мой г-н Рембо, будьте умницей и присылайте мне то, что можно продать. В противном случае я целиком вышлю весь Ваш хлам назад, и за его сохранность будете отвечать Вы сами (19 сентября 1888 года).
В другой раз он упрекает Рембо за мрачный пессимизм:
Мы здесь совершенно ничего не знаем о «великом пррррредприятии» Маконнена[225]. Я жду от Вас пикантных подробностей, ведь Вы так замечательно рассказываете, когда хотите. Но, кажется, обилие дел лишило Вас даже той малой доли хорошего настроения, которая у Вас еще оставалась. Слушайте, милый мой г-н Рембо, мы живем только один раз. Воспользуйтесь же этим и пошлите к черту всех Ваших наследников. Если у нас больше ничего не получится, то решено: мы с Вами объединимся и будем портить кровь другим, чтобы не портить ее себе. Сейчас здесь нечего есть, и при наличии механического парового плуга можно быстро разбогатеть. Так что подумайте об этом и приезжайте сюда отдыхать и наслаждаться чудесами техники.
Заметно, что в письмах, адресованных Илгу, Рембо более образен, а также более язвителен, чего нет в письмах другим адресатам. Только Илгу он полностью доверяет в делах.
Напротив, его переписка с Арманом Савуре была строго официальной: никаких шуток и ничего личного. Как-то между ними даже возник конфликт из-за истории с кофейными зернами, которые, видимо, Рембо купил — с большим трудом — с тем, чтобы расплатиться ими за партию товара. Но Савуре не согласился принять их, требуя, чтобы ему заплатили талерами, привезенными из Адена. Сохранился черновик письма Артюра Савуре на розовой бумаге. Было ли отправлено само письмо или нет, неизвестно, но найденный отрывок свидетельствует о крайнем раздражении автора («На кой черт мне сдался ваш мерзкий кофе…»). Этот выпад совсем не задел Савуре. 4 мая 1890 года он пишет Рембо: «Относительно Вашего письма, спасибо за совет. Я знаю, что, даже учитывая Вашу склонность к преувеличению, Вы в чем-то правы. Но Вы бы сделали, как я просил, если бы знали, что я задумал, если, конечно, мне удастся совершить что-либо значительное прежде, чем эти бандиты заставят меня уехать отсюда».
Среди корреспондентов Рембо, помимо Борелли, назовем также:
Антуана Бремона, главу французской общины в Абиссинии, добропорядочного и рассудительного человека;
Элоя Пино, бывшего капитана дальнего плавания, обосновавшегося в Анкобере в качестве представителя марсельского торгового дома Трамье-Лафарж и советника раса Гованы;
Леона Шефне, который, прежде чем стать представителем Дешана в Адене, работал на Солейе;
Е. Лаффинера — он приехал в Абиссинию из Фекана для приобретения коллекционного оружия и остался там, обнаружив в себе способности к коммерции;
Бидо, объект нескончаемых насмешек («Он только и делает, что строит воздушные замки», — говорит о нем Рембо Борелли 25 февраля 1889 года.); в июне 1889 года у него начались крупные неприятности, и он бесследно исчез;
г-на Эрнеста Циммермана и г-на Аппенцеллера, соответственно столяра и механика при королевском дворе, соотечественников Илга.
Разъезжали по стране и другие торговцы, переодетые политические агенты, инженеры и географы из Италии; назовем, среди прочих, Уго Ферранди, Сезара Незарино, Луиджи Робекки-Брикетти, Отторино Роза, Армандо Рондали, Науфраджио и Траверси.
Как видим, довольно многие люди делили с Рембо его «одиночество».
Поначалу дела шли хорошо. «Торговая ситуация в Шоа очень неплоха, — пишет Рембо Илгу 25 января 1888 года. — Спрос на оружие велик как никогда. Сообщение с Шоа достаточно активное, а дороги отсюда в Сайлу вполне приличные». Но так будет не всегда. 3 декабря 1889 года возле Энсы между Сайлой и Хараром подвергся нападению караван, перевозивший товары и деньги на сумму 25 000 талеров. Два капуцина-француза (монах Амброзий Кириерский и монах Этьен д’Этуаль) и с ними двое греков и несколько людей из сопровождения были зверски убиты в палатках во время отдыха. Сезар Тиан, опасаясь, что г-жа Рембо прочитает об этом в газетах, предупредил ее 8 января 1890 года, что с ее сыном все в порядке.
Вскоре безоблачное небо обложило черными тучами.
Сначала обрисуем политическую ситуацию.
В январе 1887 года итальянцы объявили войну императору Эфиопии Йоханнесу. Этот шаг должен был ускорить развитие событий и положить конец соперничеству между императором и королем Менеликом. Последний с жадностью принимал подарки и оружие от итальянцев, но не предлагал взамен своей дружбы. Подобное лавирование раздражало императора, который поддерживал идею общенационального восстания против экспансии итальянцев. К тому же он обвинял Менелика в том, что тот настроил против него короля провинции Годжам. Несмотря на уверения в дружбе с обеих сторон, все ждали столкновения. Именно в этот момент, очень своевременно для Менелика, произошло восстание интегристов (махдистов). Император отправился подавлять его и, уже практически держа в руках победу, был смертельно ранен в сражении при Матаме[226], а на следующий день, 10 мая 1889 года, скончался.
Вот что пишет Рембо домой 18 мая:
Должно быть, вы читали в газетах о смерти императора Жана (какой был император!) от рук махдистов. Мы в некоторой степени зависели от него. Точнее мы зависим, непосредственно от Менелика, короля Шоа, а он в свою очередь платил пошлину императору Жану. Прошлый год Менелик не хотел подчиняться и уже назревала ссора, но тут Жан решил сначала нанести удар по махдистам со стороны Матамы. Там он и остался… Ну и черт с ним!
Хотя законным наследником «Жана» являлся рас Мангата, Менелику удалось завладеть троном и 3 ноября 1889 года в соборе Энтотто он был коронован и получил титул «негус, король королей, Иудейский Лев».
Вскоре, чтобы ограничить бешеную активность итальянцев ему пришлось применить всю силу власти. В особенности это касалось северных провинций (Эритреи). 2 мая 1889 года он и граф Антонелли подписали Уччиальский договор, крайне лицемерный по содержанию, который не обязывал ни к чему Менелика, но содержал определенные требования к другой стороне. Вместе с тем у всех сохранялось ощущение, что в любой момент может разразиться война (на самом деле она началась лишь в 1896 году).
Естественно, все эти события катастрофически отразились на внутренней торговле. Гордый Менелик ненавидел белых, но скрывал это под маской патриотизма и вел себя крайне авторитарно и подозрительно, отказываясь идти на любые контакты. Он отдавал предпочтение итальянцам. Те засыпали его подарками и выгодными предложениями. Другим европейцам оставалось только платить огромные и к тому же постоянно растущие налоги.
Кроме того, чиновники в Хараре требовали все больше и больше. В отсутствие Маконнена, уехавшего в Италию, они установили новые таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров.
И наконец, в сентябре 1889 года Менелик решил ввести новый специальный налог для всех европейцев и заставил их подписаться на обязательный заём.
7 сентября 1889 года Рембо пишет Илгу о невыносимом самоуправстве властей: «Уже месяц людей ограничивают во всем, избивают палками, отнимают собственность, сажают в тюрьму, чтобы отобрать у них как можно больше денег. Каждый горожанин платил налог уже три или четыре раза. Этим налогом облагаются все европейцы, так как они приравнены к мусульманам. Я заплатил 100 талеров из требуемых двухсот, и еще меня вынудили, кажется, совершенно беззаконно и грабительски, предоставить ссуду в размере 4000 талеров. Это происшествие стало причиной письма, которое я прилагаю к этому посланию. И я был бы тебе очень благодарен, если бы ты передал его от моего имени королю».
Напрасные старания!
Ситуация сложилась действительно угрожающая. Королевские чиновники под угрозой расправы вымогали деньги, не выдавали расписок, не предоставляли никаких гарантий, не определяли сроков выплат по займам. «Все это очень меня удручает, — пишет Рембо, — если так будет продолжаться, я не выдержу».
Среди этих бурь и сложностей, непредвиденных и малоприятных, он все же старался крепиться.
Все считали его человеком честным, щепетильным, методичным, одинаково требовательным к другим и к себе. Его счета были в полном порядке, и, вероятно, только бесконечные изменения курса в Адене, Хараре или Обоке и рост таможенных пошлин вносили в них некоторую путаницу.
Как мы видим, он был аккуратный коммерсант, к тому же аскет. Его высокопреосвященство г-н Жароссо рассказывал братьям Таро: «Он жил очень просто. Много раз я встречал его с караванами мулов и ослов. Весь запас провизии, горсть сухого проса, он нес в кармане»4. Он же сообщал Анри д’Акремону: «Можно сказать, он жил в целомудрии и воздержании. Если здесь уместно такое сравнение, он жил как монах-бенедиктинец»5.
Он был честным предпринимателем. По словам Жюля Борелли, даже абиссинские чиновники уважали его за прямоту характера.
И вдруг в письме Илгу 20 декабря 1889 года в списке заказов и уведомлений о получении товаров мы находим фразу, послужившую в свое время поводом к большому числу дискуссий:
«Я напоминаю о своей просьбе достать мне хорошего мула и двух мальчиков-рабов».
В письме 23 августа 1890 года Илг ответил ему категорическим отказом. «Я нашел Вам хорошего мула (…) Что касается рабов, простите, я не могу этим заниматься, я никогда не покупал рабов и не хочу ввязываться в это. Я уверен в порядочности Ваших намерений, но я никогда этого не сделаю, даже для себя».
Снова Рембо обвиняют в торговле людьми — теперь, кажется, он пойман «с поличным». Черт возьми, начнут злословить некоторые, он покупал и продавал рабов кому угодно. Так можно говорить только не зная, что работорговля в Абиссинии была нелегальной. Отношение всех европейцев к ней было таким же, как у Илга. Лишь очень немногие, стремясь найти дешевую прислугу, покупали рабов. Г-н Е. Эммануэлли рассказывал, что у Аугусто Франзоя было три раба, которым он платил, как обычной прислуге из местного населения.
Добавим, что рабство в Шоа не имело ничего общего с древнеримским: в точности было неизвестно, кто свободен, а кто нет. Телесных наказаний не существовало. «Раб свободен, — писал 28 марта 1939 года Жюль Борелли Андре Тиану, сыну Сезара, — он работает в меру и у него всегда есть еда, так как его хозяин не имеет права уволить его».
Таким образом, не стоит делать из мухи слона; Рембо просто была нужна прислуга.
Второе, в чем его упрекал Илг (8 октября 1888 года), когда Рембо еще был жив, — это плачевное состояние его караванов. Животные приходили оголодавшими и больными. Рембо отвечал, что этого не может быть, и ссылался на свою, известную всем, щедрость. Но, вероятно, он и не был виноват; должно быть, его погонщики экономили на содержании доверенных им животных. Это больше похоже на правду, чем жалкие и глупые обвинения в «скаредности».
Он обладал практически всеми чертами, необходимыми руководителю фирмы: строгостью, методичностью, умением предугадать ситуацию, хорошим отношением к людям. Ему не хватало одного — уравновешенного характера. Ему мешали его частые «перепады настроения».
Хорошее настроение обычно проявлялось в иронических насмешках. «Можно добавить, — пишет. Альфред Барде П. Берришону, — что своим острым языком он нажил себе много врагов. Он всегда старался казаться злым и язвительным. Но это была лишь маска, под которой скрывалась его истинная душа. Его шутки задевали, но сам он не делал никому зла. Возможно, впрочем, что ему мстили за них, и вот тогда он уже отвечал по-настоящему — некоторые путешественники, появлявшиеся в те времена в Хараре и Шоа, до сих пор хранят исключительно неприятные воспоминания о его насмешках» (7 июля 1897 года).
Артюр был желанным гостем и веселил своим остроумием одних в ущерб другим. «Вы нас очень позабавили Вашими рассказами о Бидо, — пишет ему Илг 16 июня 1889 года, — и жаль, что я не могу написать с Вашей помощью его портрет. Он несомненно мог бы иметь успех».
Арман Савуре рассказывал о его «уморительных» посланиях: «Люди собирались вместе и развлекались чтением его писем. Но сам он почти не смеялся. Я редко видел его веселым. При этом он обладал удивительным талантом рассказывать веселые истории и анекдоты столь забавно, что невольно возникал вопрос, где он находит такие смешные слова»6.
Исследователь Луиджи Робекки-Брикетти опубликовал в 1896 году свое произведение («Nell’Harrar»), в котором шутливо пишет, что Рембо оставил перо во Франции и затем «попал как кур в ощип» в Африке (лишившись тем самым всего «оперения»), но тем не менее не утратил воображения и «истинно французского остроумия».
В нем осталось какое-то ребячество. Увольняя бедуина, он насмешливо смотрел на него или показывал язык ему вслед7.
Можно привести еще много высказываний Луиджи Робекки-Брикетти на его счет. Ограничимся следующим отрывком из письма другу (31 декабря 1888 года):
«Мы встретили Рождество в очень милой и веселой компании. Ко мне пришли инженер Илг, приехавший накануне, отец Иоаким из миссии и г-да Рембо и Бидо, последний — фотограф, а первый — опытный коммерсант, а кроме того, путешественник и выдающийся писатель; также двое итальянцев: некий Роза, представитель фирмы Биененфельд в Адене, и Ферранди, симпатичный и необычный человек, который занимается здесь мелким бизнесом»8.
Подобные празднества, видимо, происходили также в 1889 году на Пасху, так как Рембо пишет Уго Ферранди 30 апреля: «Здесь все по-старому: оргии пасхальной недели закончились».
Но когда настроение Рембо ухудшалось, он, по воспоминаниям Альфреда Барде (письмо от 9 декабря 1897 года), становился раздражительным, был постоянно всем недоволен, жаловался на судьбу, говорил, что все окружающие гнусны и омерзительны.
Тот же Барде ответил отказом на просьбу Берришона написать предисловие к «Африканским письмам» Рембо, мотивируя это следующим образом: «Я не хочу, чтобы Рембо снился мне в кошмарных снах. Он и при жизни был достаточно надоедлив (зачеркнуто: гадок)» (в письме от 9 декабря).
Арман Савуре, знавший Артюра довольно хорошо, 10 декабря 1889 года написал ему: «У меня есть недостаток, который является полной противоположностью Вашему. Вы уверены, что все люди мерзавцы, а я столь же безоговорочно почитаю всех порядочными». В этом «отвращении ко всему и вся» и «озлобленности на каждую мелочь» упрекал его и Верлен (письмо от 12 декабря 1875 года).
Можно привести великое множество примеров его неуживчивости.
Однажды он согласился принять участие в охоте вместе с несколькими европейцами, но вечером на стоянке его не оказалось; никого не предупредив, он вернулся домой один (сообщение Г. Л. Гиньони, агента Савуре, в пересказе Пьера Рипера9).
В другой раз, когда у него остановился Жюль Борелли, Рембо хотел заставить того подмести в доме, так как его мулы были уже навьючены и он уезжал в отпуск. Борелли не захотел исполнить приказание, которое вовсе не было шуткой, и обратился к хозяину «неподобающе», за что позднее извинялся в письме от 26 июля 1888 года.
Но самый большой шум наделала история с отравленными собаками.
Собаки бегали тут и там, метили территорию и портили таким образом шкуры, которые Рембо раскладывал для просушки. Поэтому Артюр их травил и очень преуспел в этом деле. Говорят также, что от яда погибли несколько баранов, а заодно и те, кто их потом съел, «гиены и греки» (Г. Л. Гиньони).
Конечно, это преувеличение. Однако, кажется, он даже попал в тюрьму.
Над историей много смеялись, а так как подобные сплетни горячо обсуждались от Харара до Шоа, то вскоре о них стали говорить и с самим героем:
«Мы поговорим об этом с Вами при встрече, — пишет Бремон Артюру 10 февраля 1889 года, — и посмотрим, можно ли что-то предпринять вместе, но при условии, что Вы прекратите травить собак в Хараре, а следовательно, гиен, баранов и греков. Последним, впрочем, Вы, а следовательно и я, уже довольно отомстили (так что дерите с них три шкуры с чистой совестью)».
Савуре в письме от 11 апреля 1889 года более резок:
«Что это за история с ядом? Кажется, Вас теперь называют Рембо Собачья погибель».
Здесь нужно отметить, что тот жестокий образ Рембо, который, быть может, сложился у нас по прочтении этих строк — в известной мере иллюзия. В его поведении проявлялась вовсе не злоба или жестокость, а скорее живость характера. На самом деле он любил делать добро тем, кто его окружал; об этом нужно сказать потому, что это действительно было так. Однако следует также избегать и другой крайности и видеть в нем ангела или святого.
Альфред Барде писал П. Берришону: «Он умел проявлять сострадание и всегда был готов помочь, особенно эмигрантам из Франции. Они приехали сюда в поисках приключений и в надежде быстро нажить состояние, но не нашли ничего, пережили горькие несчастья и разорились и желали лишь поскорее вернуться на родину; и вот для таких его сердце было всегда открыто. Сострадание, очень сдержанное, но вместе с тем не знающее границ — пожалуй, единственное из проявлений его чувств, не сопровождавшееся ухмылкой или безумными криками» (10 июля 1897 года).
Он был просто добр и человечен и понимал, что людям нужна помощь.
Я чувствую уважение к себе в этой стране, и в Хараре, и везде. Меня уважают за мое отношение к людям, — пишет он своей семье 25 февраля 1890 года. — Я никогда никому не делал плохого. Напротив, мне всегда доставляет удовольствие сделать что-то хорошее, если у меня есть такая возможность. Моя единственная радость — это помогать другим.
Вокруг него была нищета, нищета еще более ужасная и нетерпимая, чем та, какую он видел в Европе. Поэтому возможностью «доставить себе удовольствие» — дать одному несколько рупий (одна рупия — 2 франка золотом), другому— немного жареного проса, третьему — рубаху — он пользовался не так уж редко.
Возможно, на эти поступки его подвигли визиты в католическую миссию — там он видел живые примеры религиозного самопожертвования, и это оказало на него гораздо большее воздействие, чем проповеди, от которых его тошнило.
Миссия, организованная в апреле 1881 года, занимала двухэтажный дом из дерева и глины10, смешанной с соломой. В нем располагались часовня, зал для собраний, школа и поликлиника. Миссия владела подсобными помещениями и земельным наделом. Миссионеры были люди небогатые, их было десять человек — священники и монахи-капуцины итальянского, испанского или французского происхождения, отцы Иоаким, Сезер, Фердинанд, Жюльен, Эрнест, Луиджи Гонзага, будущий его высокопреосвященство Лассерр и вместе с ними несколько монахинь.
Наиболее заметной фигурой в этом сообществе был отец Андре (Жароссо), который в 1900 году стал епископом галласов, приняв этот титул после его высокопреосвященства г-на Торен-Каня11.
Деятельность миссии состояла в том, чтобы преподавать основы веры двум десяткам детей, в особенности выходцам из коптских провинций, так как преобладающая часть населения Харара исповедовала мусульманство. Также миссионеры лечили больных и вообще старались оказать любую посильную помощь, когда это было нужно.
Отношения Рембо с миссией складывались «по-добрососедски». «Время от времени, — рассказывал его высокопреосвященство г-н Жароссо Генриетте Селарье, — он приходил к нам. Зная нашу бедность, он приносил нам пробы золота и серебра, которые получал из Франции в качестве образцов. Наши сестры делали из них украшения для алтаря. Мы говорили ему, что церковь — это его призвание, что он должен был стать монахом траппистом, или картезианцем»[227]12.
Обе стороны тщательно избегали разговоров о вере и Боге. Беседы касались более земных и насущных вещей — европейцам нужно было демонстрировать свою солидарность перед лицом капризного Менелика и его чиновников и иметь возможность выступать против них единым фронтом.
Все, о чем говорилось выше, касается отношений Рембо с христианством; но в его жизни был и Коран.
Мы уже говорили о том, что Рембо очень стремился обрести духовное равновесие и веру в судьбу, столь свойственные мусульманам, хотя, вероятно, полностью достичь этого не сумел. Заказав в октябре 1883 года Коран в издательстве «Ашетт», он прочитал его и нашел много близких себе идей. Более того, он стал своего рода «мусульманским миссионером». Говорят, что этим он обеспечивал себе более благосклонный прием у своих клиентов, продавцов кофе, и возможно, это действительно так. Собираясь в Бубассу, он переодевался мусульманином. Он перенял также многие привычки мусульман, например, садился на корточки, чтобы помочиться. «Мне он советовал делать то же самое», — пишет У го Ферранди.
Г-н Лагард, который был в то время губернатором в Обоке, рассказывал, что Рембо даже делился своим пониманием Корана с мусульманами, с которыми ему случалось общаться. «Подобные попытки могли обернуться плохо для него, — считает Анри д’Акремон. — Его личное понимание некоторых положений Корана провоцировало на гневные выпады против него. В один прекрасный день где-то в окрестностях Харара на него, кажется, напала группа религиозных фанатиков. Его избили. И если он остался жив, то только потому, что мусульмане не убивают безумцев. После этого происшествия он долго приходил в себя».
Изабель Рембо в «Воспоминаниях» подтвердила факт нападения, равно как Уго Ферранди и следователь в Обоке.
Другое доказательство обращения Рембо в ислам — его печать (г-жа Рембо скрепила ею письмо от 13 марта 1897 года, адресованное Эрнесту Делаэ, в котором она просила рассказать о человеке по имени Пьер Дюфур, который просил руки ее дочери). На печати есть несколько слов на арабском языке:
…………………………….(?)
NAQQUALLUBA (?)
(A)BDOH RINB(O)
ПОСТАВЩИК ЛАДАНА13 (?)
«Abdoh» — сокращение от «Abdallah», «служитель Аллаха» (формула из Корана).
Впрочем, это надо понимать как своего рода пароль. Ведь и к Сотиросу, православному греку, когда он ездил в Огаден, обращались «Хаджи Абдаллах». Успех торговца в этих краях напрямую зависел от его религиозных убеждений.
Возможно, именно обращение в ислам заставляло его чувствовать себя совершенно чужим среди европейцев. Новые убеждения усилили его неразговорчивость, но первопричины ее были гораздо более основательны. Активная жизнь, богатая делами, сделала его скупым на слова.
Когда говорят, что Рембо молчал, прежде всего имеют в виду, что он молчал как поэт. Но в Африке он молчал и о своем прошлом, о своей родине, о семье, а также о Верлене и парнасцах.
Впрочем, что он мог рассказать о своем кратком пребывании на поэтическом Олимпе? Что сначала его довольно хорошо приняли в Париже, а потом стали избегать, как зачумленного; что единственное произведение, которое он опубликовал, на прилавки не попало, а тираж был уничтожен; что в те дни он нищенствовал, лгал и предавался пороку. Конечно же, он хранил молчание: неудачами не хвастают.
Все, кто был знаком с ним в Африке, описывали его как человека молчаливого, скрытного и крайне необщительного. Он и не располагал к общению. Абсолютно замкнутый, он был «далек от всего, что происходило вокруг» (его высокопреосвященство г-н Жароссо).
Поэтому свидетельства об обратном, исходящие от людей, которые знали Рембо лишь понаслышке, можно a priori считать подозрительными. Например, это позднее откровение следователя из Обока:
«Чтобы произвести впечатление на своих приятелей, или же ради большей известности, Рембо вступил как-то раз в Обоке в беседу с одним очень образованным греческим священником, который нашел, что спорить с ним чрезвычайно трудно; беседа велась на древнегреческом, и впоследствии этот священнослужитель оценивал своего собеседника как человека, «значительно превосходящего его по знаниям».
К этому добавляется еще и шутка, пущенная для того, чтобы сделать из Рембо, автора множества стихотворений и новых «Озарений», сенсационного поэта Африки.
Точно известно, что писал он много. На этот счет существует множество свидетельств: «Я вам уже говорил, там никто из нас не знал, что Артюр был талантливым поэтом. Днем и ночью он постоянно что-то писал, но мы были в полном неведении относительно того, что именно он делал». (Письмо А. Савуре Ж. Мореверу от 23 апреля 1930 года.) Или еще: «Писал он много, говорил, что это будут прекрасные произведения. Я узнала, уже не помню, от кого, что все его книги и бумаги хранились у отца Франсуа. Должна вам признаться, с некоторых пор память изменяет мне». (Письмо Франсуазы Гризар к П. Берришону от 22 июля 1897 года.) Отец Франсуа, испанец по национальности, на список вопросов, которые ему прислал П. Берришон, ответил в письме от 10 августа 1897 года, что Рембо никогда не доверял ему ни свои книги, ни свои бумаги14.
Много времени он отдавал ведению бухгалтерского учета и переписке. Но могли существовать и другие занятия: Альфред Барде рассказал как-то Ж.-П. Вайану, что однажды, когда в присутствии Рембо обсуждали книгу о галласах, которую писал его высокопреосвященство г-н Торен-Кань, поэт гордо сообщил: «Я тоже собираюсь написать нечто в этом роде и таким образом перебежать дорогу его высокопреосвященству»15.
Из всего вышесказанного ясно, что поэт разделил свою жизнь в Европе и в Африке непреодолимой стеной, и лишь Полю Бурду удалось — впрочем, в этом нет четкой уверенности — дважды преодолеть ее.
Существуют ли другие примеры?
Альфред Барде рассказал Ж.-П. Вайану, что как-то в порыве откровенности Рембо поделился с ним кое-какими воспоминаниями о своей жизни в Латинском квартале. Там ему якобы доводилось встречаться с художниками, писателями и актерами, «но не с музыкантами» (он позабыл о Кабане-ре). Однако вскоре оборвал беседу, как это было ему свойственно, сказав, что «достаточно изучил всех этих типчиков».
В завуалированных выражениях Рембо рассказал ему также о пребывании в Лондоне, которое он вспоминал, как период беспробудного пьянства16.
Вот другие свидетельства. 10 декабря 1889 года Савуре сообщил Рембо: «К вам придет очаровательный молодой человек, г-н Жорж Ришар. Он лучше моего осведомлен о том, что происходило на Выставке, которую мне довелось увидеть лишь мельком. Он расскажет вам о ней много чудесного. К тому же, мне кажется, он дружен с людьми, которые прежде были и вашими друзьями». О ком идет речь? Эту тайну не раскрыть никогда.
Есть более достоверное свидетельство Мориса Риеса, который с сентября 1889 года был доверенным лицом Сезара Тиана и поэтому регулярно переписывался и беседовал с Рембо. Однажды последний признался ему, что в молодости писал стихи, и прибавил следующее:
— Помои! Это были самые настоящие помои!
Эти слова, известные в изложении Андре Тиана, сына Сезара, звучат вполне в духе Рембо17.
Но вот что самое удивительное: среди бумаг поэта было найдено письмо из редакции марсельской газеты «Современная Франция»[228], освещавшей вопросы литературы, науки и искусства. Письмо датировано 17 июля 1890 года и адресовано французскому консульству в Адене:
Дражайший господин поэт!
Мне довелось прочесть кое-что из ваших прекрасных стихотворений. Буду горд, если глава символистской и декадентской школы[229] согласится сотрудничать с Современной Францией, владельцем которой я являюсь.
Присоединяйтесь к нам.
С благодарностью и искренним восхищением
Лоран де Гавоти.
Ответил ли Рембо? Не исключено. В номере газеты за 19 февраля — 4 марта 1891 года было напечатано: «На этот раз он попался! Мы знаем, где находится Артюр Рембо, настоящий Рембо, автор «Озарений». И это вовсе не очередная декадентская мистификация. Мы утверждаем, что нам на самом деле известно, где прячется пропавшая знаменитость».
Можно, однако, предполагать, что адрес Рембо стал известен редакции из ответа французского консула в Адене, который, получив от редакции запрос о судьбе письма г-на де Гавоти, подтвердил, что его переслали в Харар, где проживает адресат.
Тон письма изумителен, однако еще более изумительно то, что Рембо не изорвал его в клочки.
В начале 1891 года Рембо почувствовал, что как никогда устал и пал духом. Торговля в Шоа шла все хуже. Илг больше ничем не торговал, и Рембо жаловался ему, что влип в скверную историю. Тот же «жуткий маразм» царил и в Адене. Курс постоянно «прыгал», а талер постоянно падал. Будущее представало в трагическом свете. «Через несколько месяцев здесь начнется страшный голод», — пишет Рембо Илгу 5 февраля 1891 года (так оно и случилось). Политические новости были не лучше: разрыв между Менеликом и итальянцами означал, что скоро начнется война. Все указывало на конец эпохи мира и процветания. Рембо это чувствовал, понимал, что надвигается катастрофа, и подумывал «переменить профессию», то есть все распродать и уехать.
Ему снова пришла в голову мысль о возвращении во Францию и женитьбе. Но он понимал, что это мечты, ведь ему нужна была жена, которая согласилась бы сопровождать его в его бесконечных скитаниях. К тому же он старел. 21 апреля 1890 года в письме к матери и сестре он сетует: «Я седею не по дням, а по часам».
Рембо был на грани разорения, положение его с каждым днем ухудшалось. Он чувствовал, что стоит на краю пропасти.
Примечания к разделу
1 Текст в книге Марио Матуччи Le dernier visage de Rimbaud en Afrique.
2 Там же.
3 Выдержки из дневника У го Ферранди опубликованы в la Table ronde в январе 1950 г. Полная копия дневника хранится в la Bibliothèque de Novare.
4 Жан и Жером Торо, Le passant d’Ethiopie.
5 Revue hebdomadaire, 27 августа 1932 г.
6 Les Nouvelles littéraires, 16 января 1947 г.
7 Письмо Жюля Борелли П. Берришону, опубликовано в la Vie de J.-A. Rimbaud, c. 184. Свидетельство A. Барде цитирует Э. Делаэ в Les Illuminations et Une saison en enfer de Rimbaud, c. 70, прим.
8 Письмо опубликовано Карло Загги в Nuova Antologia, 16 августа 1940 г., с. 405.
9 См. Пьер Рипер, Marseille, № 52, июль — сентябрь 1952 г.
10 Фотография напечатана в книге Андре Дотеля Vie de Rimbaud. Там указано, что это дом Рембо. Это очевидная ошибка — Рембо ни за что не стал бы жить в доме с крестом над крышей!
11 О его высокопреосвященстве Жароссо см. книгу Гаэтана Бернонвиля Mgr Jarosseau и книгу Омера Дениса Mgr Marie-Elie Jarosseau, Toulouse, éditions du Clocher, 1951 г.
12 Г. Селарье, «A propos de Rimbaud, souvenirs d’Ethiopie», le Temps, 10 июня 1933 г.
13 См. le Figaro littéraire, статьи Жана-Поля Вайана (16 октября 1954) и Р. Этьембля (23 октября).
14 Документ хранится в Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
15 Ж.-П. Вайан, Rimbaud tel qu’il fut.
16 Письмо Альфреда Барде от 15 февраля 1923 г., опубликовано в Carrefour 2 ноября 1949 г.
17 См. Андре Бильи, le Figaro littéraire от 24 декабря 1940 г. Об Андре Тиане см. Mercure de France, 1 октября 1954 г.
Глава XVIII
АМПУТАЦИЯ.
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОЛГОФУ
В письме от 20 февраля 1891 года Рембо сообщает родным, что болезнь, которая медленно и неумолимо одолевала его, прогрессирует.
Дела мои плохи. На правой ноге варикозное расширение вен, у меня сильные боли — вот какова награда за упорный труд в этой унылой стране. К тому же расширение вен осложнилось ревматизмом, и не из-за холодной погоды: виной всему — здешний климат. Вот уже две недели как я ни на минуту не смыкаю глаз по ночам от боли в этой проклятой ноге.
Рембо собирается перебраться в Аден, где он заказал, впрочем, не надеясь, что это поможет, эластичный чулок для больной ноги, но пока не решается на переезд, так как в Хараре у него много должников.
Редкий случай — сохранился ответ г-жи Рембо на это письмо, датированный 27 марта 1891 года. К нему были приложены мазь для ног и пара эластичных чулок, выписанных из Парижа. В ее советах нет ничего особенного; под этими словами подписалась бы любая мать:
К этому письму я прилагаю рецепт и рекомендации доктора. Прочти внимательно и в точности выполняй то, что он велит. Прежде всего, тебе нужен отдых, даже больше — постельный режим: исходя из того, что ты сообщил в письме, доктор заключил, что твой недуг достиг опасной стадии и угрожает твоей жизни […]
Изабель уже лучше, но ненамного. У нас все еще зима, стоят сильные холода. Мы и так разорены, а еще потеряли всю пшеницу, ничего не осталось. Что будет с нами, известно одному Господу.
До свиданья, Артюр.
Самое главное, береги себя и напиши мне, как только получишь мою посылку.
В другом письме, датированном 15 июля и адресованном Изабель, несчастный сообщает новые подробности возникновения и быстрого распространения своей болезни; причины он называет те же: климат, переутомление, отсутствие ухода.
По привычке я ходил почти раздетым, на мне были лишь простые полотняные брюки и хлопковая рубашка. В таком виде мне приходилось пешком покрывать расстояния от 15 до 40 километров в день, в безумии метаться верхом туда-сюда по здешним горам.
Говорили о падении с лошади, об уколе о шип зонтичной мимозы, о несчастном случае во время охоты с братьями Ри-гас и многое другое1. Ни одно из этих свидетельств нельзя назвать абсолютно достоверным, однако неудивительно, что все стремились травмой объяснить внезапное обострение болезни.
Описание боли, терзающей его колено, «будто зажатое в тиски», производит ошеломляющее впечатление:
Я работал и ходил по-прежнему много, больше, чем когда-либо, думая, что это обычная простуда. Потом боль в колене усилилась. При ходьбе создавалось впечатление, будто сбоку в ногу загнали гвоздь. Однако я продолжал ходить, хоть это и стоило мне тяжких усилий. Стал больше ездить верхом, но, слезая с лошади, с каждым разом чувствовал себя все большим калекой. Затем нога выше колена раздулась, сустав опух, подколенная впадина тоже, кровообращение стало болезненным, боль пронизывала нервные окончания от лодыжки до поясницы. Теперь я мог ходить лишь сильно хромая, чувствовал себя все хуже. Но по-прежнему мне необходимо было много работать. Я принялся бинтовать ногу сверху до низу, растирать, делать припарки — безрезультатно. Постепенно пропадал аппетит, началась постоянная бессонница. Я сильно ослабел и похудел. Где-то около 15 марта я согласился с необходимостью соблюдать постельный режим, по крайней мере решил сохранять горизонтальное положение; установил свою кровать между кассой, бухгалтерией и окном, откуда мог наблюдать за весами, установленными в глубине двора.
Вскоре отек увеличился, особенно с внутренней стороны колена, сустав утратил подвижность. Бедро в верхней части сильно похудело и высохло. На уровне колена появилось шарообразное уплотнение, твердое, как камень. Силы Рембо быстро таяли, он впал в отчаяние: такая опухоль никогда не рассосется сама по себе.
В конце марта он мужественно решается уехать. Все его имущество было распродано в спешке и с убытками.
Какова же была природа этой смертоносной болезни?
Все дети в семье Рембо были подвержены гидроартрозу, наследственному заболеванию, в ходе которого в суставах скапливается серозная, или синовиальная жидкость. Витали умерла от синовита, осложнившегося туберкулезом костей. От подобного недуга умрет и Изабель. Что касается Артюра, то, скорее всего, обострению его болезни способствовал еще и застарелый сифилис. Очень быстро ревматизм развился в воспаление синовиальной оболочки, а затем в саркому[230], переродившуюся в карциному[231].
Возможно, Рембо был обречен, уже когда покидал Харар: развивающаяся болезнь не встречала никакого сопротивления и легко завоевывала ослабленный организм изможденного, полуголодного человека.
Чтобы добраться до побережья, он заказал крытые кожей носилки (был найден эскиз, сделанный его рукой) и нанял 16 носильщиков, заплатив каждому 15 талеров.
Заметки, сделанные им в записной книжке в течение этого мучительного (добавим к состоянию Артюра начавшийся сезон дождей) путешествия, — документ уникальный. В первый и последний раз Рембо вел дневник. Между строк ясно читаются страх и сознание неотвратимости страданий.
Вот описание двух переходов этого крестного пути протяженностью в триста километров, дополненное двумя отрывками из писем к матери и сестре.
Вторник, 7 апреля.
6 часов утра — покинули Харар. В половине десятого прибыли в Дегадаллал. Завязли в Эгоне. В Верхнем Эгоне были в полдень, в форте Баллауа — в 3 пополудни. Спуск из Эгона в Баллауа был мучителен как для носильщиков, спотыкавшихся о каждый булыжник, так и для меня — я каждую секунду боялся, что носилки опрокинутся. Носилки наполовину разломаны, люди устали до предела. Я попытался ехать верхом на муле, привязав ногу к стремени, но через несколько минут вынужден был спешиться и вернуться в носилки, которые отстали уже на километр. Прибыли в Баллауа. Всю ночь шел дождь и дул неистовый ветер.
Следующие несколько дней прошли более однообразно, было прохладно, несколько раз караван застигала гроза. В четверг 9 апреля в Буссе Рембо останавливается на ночлег вместе с неким англичанином г-ном Дональдом, путешествующим с женой и двумя детьми. На следующий день ожидалось прибытие каравана верблюдов, но те объявились лишь одиннадцатого, в субботу, как и носильщики с провиантом. Без еды путешественники провели 30 часов, из них 16 под дождем.
(…) Вторник, 14.
Поднялись в половине шестого. Носильщики идут очень плохо. В половине десятого устроили привал в Арруйне. Меня уронили, когда опускали. Я наложил 4 т. штрафа: Мунед-Суин — 1 т.; Абдуллаи — 1 т.; Абдулла — 1 т.; Бакер — 1 т. Снялись с места в 2 часа. В половине шестого прибыли в Самадо.
Следующими этапами были Ласман, Комбаворан, Энса, Дудуасса, Дадап. Дневник заканчивается словами: «В половине десятого покинули Дадап, в половине пятого прибыли в Варамбот». Варамбот находится в десяти километрах от Сайлы.
К чему рассказывать вам об ужасных страданиях, которые мне довелось испытать в дороге? Я не мог сделать ни шагу из носилок; колено распухало на глазах, боль усиливалась постоянно (письмо к матери от 30 апреля 1891 года).
В пути я не вставал с носилок. Тент растягивали прямо надо мной, над тем местом, где меня опускали. У края носилок я руками выкапывал ямку, с огромным трудом немного приподнимался и справлял в нее нужду, а потом засыпал землей. Утром тент сворачивали и поднимали меня. Когда мы, наконец, прибыли в Сайлу, я был измучен до предела, практически парализован. Лишь четыре часа удалось отдохнуть перед отплытием в Аден. Лежа на палубе на матрасе (а меня еще надо было втащить на борт на носилках), я все три дня нашего путешествия по морю мучился болями и ничего не ел (письмо к сестре, 15 июля 1891 года).
Прибыв 24 апреля в Аден, Рембо приказал отнести себя в дом г-на Тиана. Несколько дней он оставался там и переписывал набело различные счета, прежде чем его отвезли в Европейский госпиталь, где был поставлен диагноз: воспаление синовиальной оболочки, достигшее критической стадии. Доктор Нокс, английский врач, поначалу настаивал на операции (ампутация ноги), но затем согласился положить больного на обследование. Если не появится никаких улучшений, нужно будет возвращаться во Францию. Однако не стоило терять надежду. Чтобы наступило улучшение, необходимы три месяца отдыха и ухода.
Артюр оставался в полном сознании.
Я лежу, нога забинтована, обвязана, перевязана, опутана так, что невозможно ею пошевелить. Я превратился в скелет. На меня страшно смотреть. Ободрал всю спину о жесткий матрац. Не могу заснуть ни на минуту. К тому же здесь ужасно жарко.
И хотя он добавил: «Вы не пугайтесь, настанут лучшие дни», — все же не смог удержаться от горького вздоха: «Какое жалкое вознаграждение за все труды, тяготы и лишения. Увы! Как же ничтожна наша жизнь!» (Из письма к матери от 30 апреля 1891 года.)
Так как боли несколько утихли, Рембо смог принять г-на Тиана и в несколько приемов заключить с ним соглашение о передаче дел. При этом возникли существенные затруднения, поскольку одними делами Артюр занимался сам, а другими — при участии третьих лиц. Тиан с большим удивлением обнаружил, что Артюр был прекрасно осведомлен о разногласиях между ним и Морисом Риесом, его доверенным лицом.
Все, за исключением чрезвычайно запутанных дел в Хараре, было улажено к 6 мая, и Рембо получил, наконец, переводной вексель на сумму 37 450 франков. Этот вексель был выдан марсельским филиалом Национального учетного банка Парижа и подлежал оплате в Париже в течение десяти дней.
Смехотворный результат! Какого напряжения, каких тяжелейших трудов, каких лишений стоил ему этот вексель, а он даже не мог получить по нему деньги! И ради этой бумажки он сгубил свою жизнь!
Через две недели доктор Нокс посоветовал Рембо вернуться во Францию, что означало: «Пусть парень едет домой, там ему спокойней будет умереть…»
Дальневосточное судно Морской почтовой компании «Амазонка» стояло на рейде в Адене и готовилось к скорому отплытию в Марсель. 9 мая Рембо был поднят на его борт. Десятидневное путешествие в условиях, о которых можно лишь догадываться, еще больше ослабило его, и в марсельскую клинику Непорочного Зачатия он прибыл совершенно обессиленный и разбитый, дрожа от лихорадки.
Была найдена больничная карта Рембо. В ней содержатся следующие данные:
Офицерская палата[232] — 20 мая, Рембо, Артюр, возраст — тридцать шесть лет.
Профессия — коммерсант.
Место рождения: Шарлевилъ, департамент Арденны; в Марселе находится проездом.
Заболевание: неоплазма бедра.
Врач: П. Улье (?)
Регистрационный номер: 1427.
В письме родным, которое он отправил на следующий день, в четверг 21 мая (а не 23-го, как указано в письме), Артюр так описывает свое плачевное состояние:
Я приехал вчера. Боль не прекращалась тринадцать дней. Так как по прибытии меня сочли слишком слабым и так как я все время мерз, мне пришлось лечь сюда, в клинику Непорочного Зачатия; за пребывание здесь я плачу 10 франков в день, включая услуги врача.
Я очень, очень плох, боли в левой ноге[233] превратили меня в скелет. Она невероятно распухла и напоминает огромную тыкву — это все из-за болезни суставов и костей, синовита, гидроартроза и проч.
Должно быть, все это будет длиться очень долго, если осложнения не вынудят отрезать ногу. В любом случае я останусь калекой, однако сомневаюсь, что доживу до этого. Жизнь для меня невыносима. Как я несчастен, как же я несчастен!
«…Однако сомневаюсь, что доживу до этого…» Мысль о самоубийстве неотвязно преследовала его.
Невозможность получить по векселю в Национальном учетном банке доводит страдания Рембо до предела. Он одинок, беспомощен и вдобавок разорен. Из Харара от некого Фельтера, представителя аденского торгового дома «В. Биненфельд и К°» пришло просто смехотворное письмо: «Примите мои поздравления в связи с удачным путешествием и пожелания наискорейшего выздоровления. С нетерпением жду Вашего возвращения и дружески жму Вам руку».
На следующий день, 22 мая, после осмотра, главный врач, доктор Трастур, принимает окончательное решение: немедленная ампутация больной ноги выше бедра.
Около полудня Рембо попросил отправить в Рош телеграмму следующего содержания:
Ты или Изабель, приезжайте сегодня экспрессом Марсель. Понедельник утром мне ампутируют ногу. Возможен смертельный исход. Необходимо уладить важные дела. Клиника Непорочного Зачатия. Ответьте.
Вечером того же дня г-жа Рембо получила эту депешу и успела приехать в Аттиньи до закрытия почтового отделения, откуда в шесть часов тридцать пять минут отправила ответную телеграмму:
Выезжаю. Буду завтра вечером. Успокойся и мужайся.
В. Рембо.
Сразу по прибытии в Марсель, 23 мая, она поспешила в клинику. Легко представить шок, который она испытала, увидев своего любимца после двенадцатилетней разлуки в столь плачевном состоянии. Своим присутствием, своей стойкостью перед лицом несчастий и непоколебимой верой в Бога она удержала сына на краю бездны отчаяния и приготовила его с мужеством перенести самое страшное испытание в его жизни.
Ногу отняли в понедельник, 25 мая, как было намечено. Оперировал хирург Е. Плюйетт, ассистировали его интерн[234] Бельтрами и экстерн-доброволец Луи Террас. Этими сведениями мы обязаны г-ну Пьеру Риперу из Марселя; он, в свою очередь, узнал их от доктора Поля Сепе, который в подробностях исследовал этот вопрос. Он также сообщает, что г-жа Рембо и Морис Риес сменяли друг друга у изголовья больного, но проверить это невозможно, так как больничный архив погиб. По версии П. Берришона, Рембо оперировал доктор Анри Николя. В коллекции Матарассо имеется его письмо, датированное 1 октября и адресованное П. Бер-ришону. Вполне возможно, что доктор Анри Николя — в то время интерн или экстерн? — действительно присутствовал при операции.
«Рана его необыкновенно быстро зарубцевалась, — отмечает Изабель. — Это обстоятельство чрезвычайно удивило хирургов и других врачей. Они говорили, что им еще никогда не приходилось иметь дело с организмом столь здоровым и крепким»2.
Врачи в самом деле были настроены оптимистично. Рембо, полагая, что выкрутился, послал 30 мая расу Маконнену такое письмецо:
Пишу вам из Марселя, из Франции. Я нахожусь в клинике. Шесть дней назад мне отрезали ногу. Сейчас мне уже лучше, и дней через двадцать я буду совсем здоров. Через несколько месяцев рассчитываю вернуться в Харар и снова, как прежде, заняться торговлей. С искренним приветом
Рембо.
Десять дней г-жа Рембо провела у кровати любимого сына. Пришла пора подумать об отъезде. Изабель тоже была больна, к тому же нужно было работать. Ее присутствие было теперь не так необходимо, ведь физическое состояние Артюра было вполне удовлетворительным; но состояние душевное вызывало жалость.
Мои вещи упакованы, — пишет г-жа Рембо 8 июня дочери. — Я рассчитываю выехать в среду, то есть завтра, в два пополудни, значит, в Рош на Вонкский вокзал я приеду не раньше, чем в четверг вечером. Не надо меня встречать: мне больше нравится добираться до дома в одиночестве. Я хотела уехать сегодня, но слезы Артюра поколебали мою решимость. Тем не менее, если оставаться, то еще на месяц, а это невозможно. Я стараюсь все сделать как лучше, и да свершится воля Господня! Не пиши мне сюда больше.
Твоя В. Рембо.
Ее отъезд был для калеки ударом. Оставшись в одиночестве, он был не в состоянии взять себя в руки; он считал, что его бросили, как какую-нибудь рухлядь. Напрасно он умолял мать повременить с отъездом: она выполнила свой долг, бесполезно было требовать от нее большего. Рембо расстался с ней со слезами горькой обиды.
Изабель была потрясена рассказом матери и решила, что отныне ее долг — полностью посвятить себя старшему брату, которым она восхищалась и гордилась (он сумел выбиться в люди, тогда как этот бездельник Фредерик…), но знала лишь по письмам из Аравии и Африки (они были довольно сухими и равнодушными). Когда Рембо решил искать счастья за морем, Изабель едва исполнилось девятнадцать лет. Теперь же ей был уже 31.0 браке больше не могло быть и речи, она никогда не была влюблена, и ее преданность и нерастраченная нежность обратились на брата. Она догадывалась, что Артюр остро нуждается в доверии и любви. Что ж, она станет его наперсницей, внимательным другом, духовным наставником: привести его к вере также было частью миссии Изабель. Короче говоря, при ее стремлении к самопожертвованию любовь к вновь обретенному брату пришлась кстати.
С середины июня их переписка становится очень активной. В его письмах к ней чередовались душевные взлеты и погружения в пучину отчаяния. За ними следовало умиротворение, но уныние и грусть все же преобладали.
В письме от 17 июня Рембо просит прощения за то, что так рассердился на мать из-за ее отъезда, он ведь не знал, что Изабель больна. Явно забывшись, он старается утешить ее следующими словами: «Все болезни можно вылечить со временем и при должном уходе. В любом случае нужно терпеть и не отчаиваться». Что до него самого, он держится лишь тем, что один врач сказал ему, что уже через месяц, поначалу очень медленно, он сможет начинать ходить.
Но через несколько дней тоска снова овладевает им. 23 июля он пишет: «Я плачу день и ночь. Я конченый человек, меня искалечили на всю жизнь.
(…) Я совершенно не знаю, что делать. Эти неприятности сводят меня с ума. Не могу заснуть ни на минуту.
Как убога наша жизнь, полная нужды и страданий! Так зачем же, зачем мы вообще существуем?»
Тем временем случилась еще одна беда: Изабель сообщила Артюру, что в Рош приезжали жандармы и выясняли, каково отношение Рембо к воинской повинности, говорили об уклонении от военной службы, о расследовании и трибунале.
Это известие доконало его: «Попасть в тюрьму после того, что я только что перенес! Лучше умереть!»
Нужно отметить, что Изабель и г-жа Рембо действовали достаточно неловко: вместо того чтобы сказать правду и на основании медицинского заключения потребовать окончательного освобождения от службы, они оставили тайной и то, что Артюр вернулся во Францию, и то, что ему ампутировали ногу. Некоему адвокату было поручено проверить дело Рембо в главном интендантском управлении в городе Шалон-сюр-Марн, но тот ничего не выяснил.
Хуже всего было пребывать в неизвестности. «Мы не можем ничего разузнать, ведь тогда тебя обнаружат!» — пишет брату Изабель. Рембо казалось, что его преследуют, разыскивают, как преступника. Вернуться в Рош, чтобы тут же угодить зверю в пасть? Ну нет! При малейшей тревоге он первым же кораблем отправится в Африку.
«Не выдавайте меня! — умоляет он родных. — Чтобы не привлекать внимания на почтовых отделениях Роша и Аттиньи, посылайте письма не так часто и не пишите на конверте имя, только фамилию».
В конце концов, Изабель и г-жа Рембо обратились с ходатайством к коменданту призывного пункта в Мезьере. Заключение об отношении Рембо к воинской повинности, которое Изабель, полагая, что «дело улажено», переслала Артюру, гласило: «Рембо, Ж.-Н. Артюр с 16 января 1882 года находится в Аравии, вследствие чего его отношение к военной повинности легально; до возвращения во Францию ему предоставляется повторная отсрочка от военной службы».
Но в действительности ничего улажено не было, ведь Рембо находился во Франции!
Его страх быть пойманным превратился в навязчивую идею. Несчастному казалось, что за ним постоянно шпионят: «Рядом со мной за столом сидит больной инспектор полиции, который постоянно разыгрывает меня и действует на нервы рассказами о службе».
В конце концов — хотя именно с этого следовало бы начать — Рембо послал коменданту призывного пункта Марселя письмо, составленное Изабель. В нем было указано все: пребывание на чужбине, разрешение на отсрочку от военной службы, возвращение во Францию и ампутация, в силу чего он имел право требовать пожизненного увольнения от военной службы. Но сам он не был уверен в успехе: «Военные способны засадить в тюрьму даже калеку прямиком из больницы» (письмо от 15 июля).
К июню-июлю 1891 года относятся самые патетические письма Рембо. Каждое из них — вопль, они исходят тоской и мукой. Помимо страха перед санкциями со стороны военных, в них преобладают две темы: сожаление, что он позволил ампутировать себе ногу, и убеждение в том, что он не сможет пользоваться ни костылями, ни протезом.
«Никогда не соглашайтесь на ампутацию. Пусть вас режут, кромсают, рвут на куски, но ни в коем случае не лишают вас руки или ноги. И если вы умрете, все-таки это лучше, чем жить без конечности (…). Лучше год жить в ожидании смерти, чем перенести подобную операцию» (письмо от 15 июля). К тому же давно известно, что врачи способны лишь орудовать скальпелем; больные для них суть подопытные кролики. Доказательством тому служит то, что после операции больше никому до него нет дела. И в заключение: «гораздо лучше было бы уже давным-давно умереть».
Что касается костылей, деревянных или механических протезов, то все это ерунда, они ни на что не годятся. Рембо попытался однажды, в качестве эксперимента, опробовать одну такую деревянную ногу, стоившую ему пятьдесят франков, «очень легкую, лакированную, с мягкой прокладкой, изготовленную весьма качественно»; но приладить ее к распухшей и воспаленной культе не удалось.
Оставались костыли, но и от них было мало проку, ни подняться с ними, ни спуститься: «Вся эта зверская гимнастика просто ужас что такое!»
«И вот результат: в основном я сижу, но время от времени встаю и, проковыляв на костылях около сотни шагов, сажусь снова. Мои руки не в силах что-либо удержать. При ходьбе на костылях я совершенно не могу поворачиваться. Голова и плечи наклоняются вперед, сам весь скрючиваешься, как горбун, и дрожишь от страха натолкнуться на окружающие предметы или снующих вокруг людей и сломать вторую ногу. Все смеются, глядя, как ты подпрыгиваешь на костылях. Когда снова садишься, появляется ощущение, что дрожащие руки того гляди отвалятся; чувствуешь себя полным идиотом».
Изабель ободряла брата, на все лады расхваливала костыли, но в ответ на ее красноречие он лишь пожимал плечами. Она уверяла, что вполне можно жить и с одной ногой, что она знает нескольких одноногих, которые передвигались с поразительным проворством (письмо от 13 июля), — все это ложь. Правда же была в том, что Рембо вовсе не чувствовал себя лучше, недуг не отпускал его. Уцелевшая нога была слаба, покраснение и отек не спадали, что не предвещало ничего хорошего: вероятно, болезнь затронула уже другие кости, и ему суждено потерять вторую ногу (письмо от 2 июля). Он со страхом ожидает новой «вспышки», ухудшения. Что делать ему, немощному и неизлечимо больному? Возвращаться в Африку? Но там постоянно нужно перемещаться, без конца метаться туда-сюда. Ведь его жизнь сильно отличалась от жизни какого-нибудь лавочника, не выходящего из-за своего прилавка. Вернуться в Рош, как настоятельно уговаривала его Изабель? «Приезжай, — писала она ему, — возьми одноместное купе, а мы встретим тебя на Вонкском вокзале. Займешь комнату на первом этаже или на втором, как захочешь. Приезжай, перемена обстановки пойдет тебе на пользу…»
На этот призыв Артюр ответил горькой иронией: «Я как раз этим летом собирался вернуться во Францию, чтобы жениться! А что я теперь? Неподвижный обрубок; я распростился даже с мыслью о браке, о семье».
К счастью, из Адена, Сайлы, Харара приходили письма, полные ободрения и дружеского участия, например от Сотироса; его вести умерили печаль Рембо по поводу невозможности вернуться в Харар: там свирепствовал жесточайший голод («Маконнен велел расстреливать галласов — они поедали своих детей и соплеменников»). Сотирос, как всегда, чуток и предупредителен: «Получил Ваше дружеское послание от 26 июня. Сердце болит, когда думаю о Вас, однако за все надо благодарить Бога. Я Вам тоже писал, пока был в Адене. Господь велик, и мы надеемся, что с помощью друзей нам удастся найти для Вас какую-нибудь должность в Сайле или в Адене. Г-н Тиан подумывает о Вас. Не бойтесь! У Вас нет родителей, зато есть добрые друзья» (письмо от 10 июля). Сезар Тиан в самом деле размышлял о возможном сотрудничестве в будущем.
Было письмо (датировано 13 июля) от Фельтера, представителя аденской фирмы «Биненфельд»: «Я узнала (sic) прискорбные новости, чрезвычайно меня расстроившие. К счастью, я знаю Вас как человека сильного духом, как философа, который поймет, что беда прошла и что дело не в потере ноги — разве может она помешать Вам продолжить свой жизненный путь… Ваш слуга Джами теперь работает на меня».
Сам рас Маконнен соблаговолил составить дружеское письмецо: «Как Вы себя чувствуете? Что до меня, то я, слава Богу, в порядке. С удивлением и грустью узнал, что Вам вынуждены были отнять ногу. Судя по тому, что Вы мне сообщили, операция прошла успешно, хвала Господу.
Меня порадовало сообщение о том, что Вы намереваетесь вернуться в Харар и возобновить торговлю. Да, возвращайтесь поскорее и в добром здравии. Всегда Ваш друг» (письмо от 12 июля).
Пришло письмо и от Димитрия Ригаса: «Толька сиводня я палучил ваше письмо от 30 мая и 17 июня в катором вы мне расказали, што вам зделали апирацию, тоесь, што вам атрезали ногу, и меня это очень растроило, и всех здесь тоже. Лутше бы атрезали ногу мне чем вам. Жылаю вам быстрой попрафки».
Что ж, мир не без добрых людей. Но вместо того чтобы подбодрить Рембо, эта мысль лишь удвоила его страдания.
23 июля он внезапно требует выписки; он хочет покинуть клинику, где ему грозит опасность в любой момент заразиться «оспой, тифом или еще какой-нибудь заразой, которые там гнездятся». У главного врача не нашлось возражений, и Рембо сам, как мог, добрался до Вонкского вокзала (в пути еще нужно было сделать пересадки в Париже и Амани), где его ждал экипаж. Об этом путешествии нам ничего неизвестно; вероятно, оно тяжело далось Артюру.
По его просьбе ему устроили жилье на втором этаже. Попав в комнату, которую Изабель украсила цветами, он с восхищением прошептал:
— Да здесь у вас как в Версале!
Лихорадку и бессонницу Рембо относил поначалу к усталости от поездки, но они продолжали его изводить. Изабель ухаживала за ним, как за ребенком, кормила, поддерживала при ходьбе, почти ни на минуту не оставляла одного. Ее жажда самопожертвования была удовлетворена; она бодрствовала у его изголовья, беседовала с ним, читала ему газеты, журналы или просто сидела рядом, заняв руки вышивкой. Несмотря на скверную погоду и плохие дороги, они катались в открытой коляске, хотя от этих «прыжков по колдобинам» Артюр болезненно морщился. На рынке, ярмарках или праздниках он с интересом разглядывал толпу, молча, с жадностью наблюдал за жизнью здоровых людей.
Ездили ли они в Шарлевиль? Изабель об этом не упоминает, но некий врач, Эмиль Бодуэн, убежден, что встречал Рембо (ему самому было тогда семнадцать лет).
«Это был еще молодой человек, высокий, поджарый, тощий; голова небольшая, волосы коротко острижены. На нем был костюм жемчужно-серого цвета, а на голове надет черный котелок. Он передвигался медленно, осторожно, опираясь на трость и чуть волоча ногу. Он часто останавливался, чтобы передохнуть, и внимательно осматривался, изучая ближайшие дома». Встреча произошла 31 июля 1891 года на улице Пти-Буа неподалеку от Герцогской площади, около двух часов пополудни, спустя несколько часов после окончания церемонии вручения премий в коллеже. «Именно тогда, — продолжает рассказчик, — его заметил М.Л.М. и закричал:
— Глядите-ка, да это же знаменитый Рембо!
Мой отец спросил:
— Какой-такой Рембо?
— Да внук старика Кюифа, бродяга, коммунар, вертопрах…
Тот господин на мгновение остановился, потом двинулся по направлению к Герцогской площади и исчез за углом книжной лавки Жоли-Мельфе. «Я не знаю, уж не взбрело ли Рембо в голову 31 июля повидать родной город и поприсутствовать инкогнито при вручении премий в коллеже, где он когда-то учился», — заключает доктор Бодуэн.
Это свидетельство встречает два возражения: прежде всего, вряд ли возможно, чтобы Рембо был способен ходить, опираясь лишь на палку и при этом «чуть приволакивая ногу» (в то время еще не было трости с подлокотником). И второе, трудно представить, чтобы Изабель отпустила его прогуливаться в одиночестве. Возможно, тому прохожему просто почудилось, что он видел нашего героя; нечто подобное приключилось и с самой г-жой Рембо: увидев однажды в церкви молодого человека с короткими усами, спустя восемь лет после смерти младшего сына, она подумала: «Боже, неужели это мой несчастный Артюр пришел за мной?» (Письмо к Изабель от 9 июня 1899 г.)
Рембо часто рассказывал о своей былой жизни, о жизни в Африке, к которой ему не терпелось вернуться. Но сможет ли он ходить и ездить верхом? О женитьбе не могло больше быть и речи, говорил он с горькой улыбкой, разве только за него согласится выйти сирота или абиссинка. Изабель вспоминает, что он охотно шутил над бывшими знакомыми из Роша и Шарлевиля, да и над собой подшутить не забывал. Но эти вспышки веселости продолжались недолго; вскоре он снова впадал в состояние отрешенности, которое становилось для него все более и более обычным.
Рембо заказал себе искусственную ногу на шарнире, но культя по-прежнему сильно болела, и, как в прошлый раз, ему не удалось привыкнуть к протезу. Он предпочитал часами сидеть во дворе в тени орешника. Г-жа Лефевр из Роша рассказывала, что, когда Рембо становилось совсем худо, его относили в комнату на втором этаже. Соседи говорили меж собой, что он теперь «совершенно безобиден». Другой уроженец Роша, отец Бертран, восьмидесятилетний старец, поведал Роберу Гоффену, что ему часто случалось во дворе фермы помогать Артюру перебинтовывать ногу: «Он бранился, как извозчик, и насмехался надо мной из-за того, что я хожу к мессе».
Было холодно, шли дожди. Никогда еще Рош — это «волчье логово»3 — не внушал Рембо такого ужаса: он был убежден, что этот климат убивает его. Медленно, но верно его состояние ухудшалось, культя опухала, правая рука и плечо постепенно утрачивали подвижность, левая нога в свою очередь тоже отекла и побагровела. Неужели придется отрезать все конечности одну за другой?
Врач из Аттиньи, доктор Анри Бодье, поставил диагноз — туберкулез костей; все, что он мог сделать — это прописать обезболивающее. Он поделился своими воспоминаниями с Робером Гоффеном: «Я все еще вижу его, как он сидит на кухне, положив здоровую ногу на стул, и испытующе на меня смотрит пронзительным взглядом своих стальных глаз. Он нарушал свое упрямое молчание только чтобы крепко выругаться, когда я предпринимал попытки помочь ему».
Когда доктор Бодье заикнулся о возможном в будущем новом хирургическом вмешательстве, Рембо ответил прямо, что ему на это наплевать — будь что будет.
«Во время нашей беседы, — продолжает доктор, — г-жа Рембо заглядывала через приоткрытую дверь; Артюр каждый раз менялся в лице, стервенел и один раз даже выставил ее, послав ко всем чертям»4.
Все это кажется весьма достоверным. Гораздо менее убедительны слова самого доктора Бодье (когда он лечил Рембо, ему было тридцать девять лет). Он утверждал впоследствии, что якобы поинтересовался у пациента, занимается ли тот по-прежнему литературой, на что последний якобы ответил: «К черту поэзию!» На самом же деле в то время известность поэта не выходила за пределы Латинского квартала. В Роше и Шарлевиле никто, за исключением лишь нескольких человек, не знал, что Рембо — автор стихотворений, достойных того, чтобы остаться в истории. Даже Изабель была на этот счет в полном неведении. Приходится сомневаться в достоверности таких свидетельств a posteriori.
Все лекарства больному заменили успокаивающее и настойка из маков, которую Изабель готовила сама. Эти средства погружали его в состояние подавленности и дремотного оцепенения; он приходил в себя весь в поту, покрасневший. После окончания действия лекарства его лихорадило. Однажды ночью Артюру приснился кошмар, и он упал с кровати, чем сильно всех перепугал. Врач заставил его отказаться от успокоительного.
Боли возобновились и вернулось отчаяние. Рембо плакал, говорил, что пропал, раздражался, когда ему возражали, и сразу же жалел о своей горячности, находил ласковое слово для кроткой Изабель и улыбался ей; и тогда она сама принималась плакать. И так каждый день.
Рембо больше не выходил на улицу. В комнате с закрытыми ставнями он тихо бредил под звуки старой шарманки. Мысль о солнечном тепле, о Марселе превратилась в навязчивую идею: там найдется хороший хирург, а при малейшем улучшении можно будет на корабле отправиться в Аден.
Поток писем оттуда, взволнованных или ободряющих, полных дружеской теплоты, не прекращался. Сезар Тиан писал: «Г-н Хельдер переслал мне расписку в получении 504 т. Он просил меня уточнить время вашего возвращения в Харар. Я собираюсь написать ему, что это произойдет где-то в конце сентября — начале октября, но к тому времени вы лучше сами все сообщите ему.
(…) Как вы пишете, мы сможем обсудить это дело, когда вы приедете сюда» (письмо от 23 июля).
«Всегда помните, что здесь есть человек, который говорит о вас только хорошее, который хорошо знает вас и верит, что вы сможете вернуть свое состояние, если Бог даст вам здоровье», — пишет Сотирос 25 июля. Еще одно письмо от него же: «Дорогой друг Рембо, я получил ваше письмо от 30 июля. Очень рад, что вы живете дома, с матерью. Кажется, вы счастливы. Старайтесь поступать так, как вам советует ваша матушка, ведь в мире нет ничего сильнее материнской любви! Ее молитвами счастье возвратится к вам. Не думаю, чтобы вы привыкли ее слушаться, но это неважно. Нужно с уважением относиться к советам матери — она желает вам лишь добра» (письмо от 14 августа).
Пришло письмо и от Савуре: «Надеюсь, вы скоро поправитесь и вернетесь сюда. Рас только о вас и говорит, известие об операции, которую вам пришлось перенести, произвело на него сильное впечатление, он нам двадцать раз о ней рассказывал, приговаривая, что вы его «друг настоящий» (…) Удачи вам, быстрее выздоравливайте и приезжайте. Надеюсь увидеться месяца через два, самое большее через три. Дружески жму вашу руку». И в качестве постскриптума: «Все наши знакомые уже обзавелись семьей, лишь вы да я еще холостяки» (письмо от 15 августа).
10 августа разразилась необычайно сильная буря, все деревья облетели и покрылись инеем. Это происшествие заставило Рембо принять окончательное решение: близилась зима, и отъезд стал вопросом жизни и смерти.
Итак, спустя месяц после возвращения из больницы Изабель вновь везет его в Марсель.
Примечания к разделу
1 См. М.-И. Мелера, Rimbaud и Генриетта Селарье, le Temps, 10 июня 1933 г.
2 Изабель Рембо в Ebauches d’Arthur Rimbaud, с. 177.
3 Выражение «волчье логово» действительно принадлежит Рембо; оно появляется в письме Мориса Риеса к Эмилю Дешану от 15 марта 1929 г. (Edition de la Pléiade, c. 815). Изабель употребляла выражение «волчья земля».
4 Воспоминания доктора Анри Бодье опубликованы в Bulletin des Amis de Rimbaud (la Grive, январь 1933). См. Робер Гоффен, Rimbaud vivant, c. 56.
Глава XIX
ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАРСЕЛЬ.
СМЕРТЬ
Всего лишь одно свидетельство мы имеем об этом путешествии — трогательный рассказ сестры Артюра; правдивый и детальный, он поможет нам проследить за последним отчаянным бегством несчастного страдальца1. Перед нами печальная реальность, лишенная каких бы то ни было писательских прикрас.
23 августа в три часа утра Артюр потребовал, чтобы его одели: надо было не пропустить поезд, который в 6.30 отправлялся из Вонка. Но слуга замешкался, запрягая не в меру норовистую лошадь, и экипаж, несмотря на сумасшедшую скорость (Артюр снял пояс и пользовался им как кнутом, сопровождая все это изрядным количеством крепких выражений), прибыл на вокзал через две минуты после отхода поезда. Что же делать? Он было решил подождать до 12.40, когда отходил следующий поезд, но вскоре сырой утренний туман и мольбы Изабель заставили его изменить решение. По возвращении домой он, не раздеваясь, упал на кровать в своей комнате, задремал и, проснувшись в 9 часов, собрался немедленно уезжать. До вокзала было всего три километра, до поезда — три с лишним часа; выезжать настолько загодя не казалось Артюру странным.
Что поделаешь с упрямцем, которого к тому же мучают навязчивые идеи? Чем дальше, тем больше росло его нетерпение. В последнюю минуту он все же не смог удержаться от слез, прекрасно понимая, что прощается навсегда, что никогда больше ему не доведется увидеть ни мать, ни этот «проклятый Рош»; здесь он оставлял часть самого себя.
— Оставайся, мы будем ухаживать за тобой, — говорила ему г-жа Рембо.
— Нет. Нужно попытаться выздороветь.
Артюру казалось, что единственным его шансом на спасение был сухой климат, то есть юг Франции или Африка; остаться в Роше означало подписать себе смертный приговор. Когда они приехали на вокзал, веселые искорки засверкали в его глазах: он перехватил завистливые взгляды двух слуг, сопровождавших его, которые те бросали на склянку с бромной настойкой, откуда он пил небольшими глотками — эти мужланы надеялись, что им тоже что-нибудь перепадет. При виде жалкого садика начальника вокзала Артюр разразился потоком колких и остроумных выражений.
Наконец, после долгих минут ожидания, в облаках пара появился пассажирский поезд, отчаянно скрипя и будто бы страдая от одышки. Изабель помогла Артюру войти в вагон и удобно устроила на заранее припасенных подушках, но дорожная тряска мало-помалу разбудила боль, которая вскоре стала просто невыносимой.
— Как больно, как мне больно, — стонал он беспрестанно.
Боль будто в тисках сжимала все тело — спину, поясницу, плечи, ноги…
В Амани, где надо было выходить, люди из вокзального персонала помогли Изабель перенести его на кресле в зал ожидания. Когда он останавливался здесь на пути из Марселя, он даже мог передвигаться самостоятельно, хоть и на костылях, — сейчас же это было просто разбитое и страдающее тело, совершенно неподвижное.
Ему перехватывало горло, но он овладевал собой и даже пытался улыбаться сестре — только бы она не отказывала себе во всем, только бы могла чуть-чуть подумать о себе самой…
Вокзальному персоналу с самим начальником во главе еле-еле удалось устроить Артюра в вагоне парижского экспресса.
— Мне отрежут всю ногу целиком, это уж точно, — говорил он.
Видимо, возбудитель болезни, какой-нибудь микроб, остался и его нужно удалить.
В Ретеле и в Реймсе в вагон сели новые пассажиры — сперва молодая пара, потом семья с детьми. Поначалу Артюр еще наблюдал за жизнью вокруг, и глаза его как-то странно сверкали, но очень скоро оживленное любопытство сменилось скукой и безразличием.
Все вокруг так и сияло: было воскресенье, погода была великолепной, молодые дамы в ярких нарядах катались на лодках по Марне, из поезда можно было даже услышать музыку, доносившуюся из кабачков. Но Артюр был уже далеко. Он лежал неподвижно, и глаза его были полузакрыты.
В шесть тридцать вечера поезд прибыл в Париж. Скольких новых мучений стоило выйти из вагона, пройти через вокзал и пересесть в фиакр! Правда, спокойная ночь в какой-нибудь гостинице в тихом квартале, думала Изабель, должна вернуть ему силы, которые потребуются вскоре при грозных испытаниях на последнем этапе пути в Марсель.
Вдруг прогремел гром, и улицы, за минуту до того пестревшие шумной толпой, тотчас опустели. Дождь неистово хлестал в окна фиакра. Пустынные улицы, блестящие от воды мостовые, внезапный холодок в воздухе — все это было выше человеческих сил. И вот ни с того ни с сего он приказывает кучеру ехать на Лионский вокзал. Никакие мольбы Изабель не могли убедить его не уезжать немедленно, не подождав хотя бы до утра.
Будучи в чрезвычайно подавленном состоянии, — пишет Изабель, — Артюр с нетерпением ждал отправления марсельского экспресса, сидя на бархатных подушках в P. L. M. Он с самого утра ничего не ел, он хотел было позавтракать, но еда вызывала лишь отвращение. Нервное возбуждение и лихорадка довели его почти до исступления. Случайно увидев какого-то офицера в мундире, он вдруг впал в безумное, безудержное веселье, от которого хотелось зарыдать еще сильнее. Потом отправил человека за снотворным. Когда минуты лихорадочного возбуждения сменялись у него периодами глубочайшего безразличия ко всему окружающему, он превращался в совершенно неподвижное тело. К 11 часам вечера — времени отхода поезда — несчастного путешественника с величайшей заботой перенесли в купе и уложили на кровать.
Еще неизвестно, для кого этот переезд был большим кошмаром — для Артюра, который, весь в жару от лихорадки, никак не мог устроиться, чтобы хоть как-то успокоить постоянную боль, или для Изабель, которая, сжавшись в комок, тихо плакала в своем углу. Артюр едва дышал, пот катился с него градом, его жалобные стоны то и дело сменялись неистовыми криками в бреду. Казалось, его страдания достигли предела того, что может вынести человеческое существо. Каждое мгновение малейшее сотрясение наполняли его тело страданием; беспощадная, неотвратимая пытка продолжалась.
На рассвете, когда подъезжали к Лиону, он наконец ненадолго забылся сном. Время тянулось нестерпимо долго, только во второй половине дня показался Камарг. В купе было душно, как в склепе.
Придя в себя, Артюр понял, что тело больше не слушается его. А еще надо добраться до больницы…
Вокзальный персонал демонстрировал чудеса аккуратности, поднимая Артюра, перенося его из вагона через весь вокзал, устраивая в фиакре. Какой вздох облегчения должен был вырваться у Изабель, когда она увидела его лежащим на узкой больничной койке!
Артюр велел записать его под именем Жана Рембо — пусть смехотворная, но все-таки предосторожность на случай, если его еще ищут военные.
В течение месяца после этого мы не имеем никаких сведений о его состоянии — первое письмо Изабель к матери датировано 22 сентября. Все врачи, с которыми она консультировалась, в один голос твердили, что дни ее брата сочтены, что ему осталось несколько дней или недель.
— Останьтесь с ним, — советовал доктор Трастур, — если вы уедете, это будет для него настоящий удар.
Конечно, в его присутствии все говорили о возможном и даже весьма вероятном выздоровлении, о том, что нужно лишь иметь терпение и т. д. Дошло до того, что Изабель, видя, что Артюр немного успокоился, что приступы мучают его меньше, что аппетит вернулся, спрашивала себя, а не лгут ли ей врачи? Но ремиссия длилась недолго. Артюр слабел с каждым днем и понимал это. Ах! если бы нашли какое-нибудь средство, все равно какое (вот, говорят, электричество помогает), которое бы вернуло ему правую руку, дало бы возможность ходить на протезе! Но стоило ему лишь заикнуться об этом, как он сам тотчас осознавал всю беспочвенность своих надежд. Снова начинались рыдания, он молил сестру не покидать его.
Изабель была в отчаянии: от матери писем не было. «Я тебя на коленях умоляю написать мне, — взывала она. — Что у тебя стряслось?» Существует мнение, что холодность г-жи Рембо объясняется тем, что Артюр в свое время отсоветовал сестре выходить замуж за одного богатого рошско-го фермера. Однако все это попахивает плохим романом. Скорее можно себе представить, что она была недовольна тем, что дочь не писала о том, когда вернется.
Невозможно, чтобы ей было абсолютно плевать на бедного страдальца, который то призывал к себе смерть, крича во весь голос, то угрожал повеситься или покончить с собой как-нибудь еще, если сестра уедет. «Он так страдает, — добавляет Изабель, — что я и впрямь начинаю думать, что он способен на то, о чем говорит» (в письме от 3 октября). Состояние несчастного больного — корчащегося от боли, вечно чем-то взволнованного и расстроенного — требовало постоянной заботы и внимания. Чтобы доказать необходимость своего присутствия в больнице, Изабель в письме от 5 октября приводит распорядок их дня:
Воскресенье, 4 октября. Я вошла к Артюру в 7 часов утра. Он спал с открытыми глазами, часто дыша — такой тощий, мертвенно-бледный, с черными кругами под глазами, ввалившимися от боли. Я наблюдала за ним, пока он спал, повторяя себе, что вид его слишком ужасен и что такие страдания не могут продолжаться долго. Не прошло и пяти минут, как он со стоном проснулся, как всегда жалуясь на то, что не сомкнул глаз и ужасно мучился всю ночь, что и сейчас ему больно.
Как обычно, он сказал мне «доброе утро», спросил, как я, хорошо ли мне спалось и т. д. Я ответила ему, что у меня все хорошо. К чему говорить, что лихорадка, кашель, а главное, постоянное беспокойство не дают мне уснуть — ему вполне хватает собственных страданий!
Тогда он принимается рассказывать о своих ночных галлюцинациях, о странных вещах, которые творятся в больнице. Обвиняет сиделок и даже медсестер в таких отвратительных поступках, которые и представить себе нельзя. Я говорю ему, что, наверное, все это ему привиделось, но он упорно стоит на своем, обзывает меня дурой и тупицей.
Потом надо переменить постель, не трогая при этом Артюра, — сделать это не получается, не причинив ему боли, так как он не переносит даже маленькой складочки на постели под собой. Его правая рука лежит на ватном валике, а левая, почти полностью парализованная, обвязана фланелью.
7.30. — В это время медсестра приносит кофе. Потом — ручной и электрический массаж тела. Все остается без изменений: левая нога по-прежнему холодная и постоянно дрожит, причиняя особенную боль. Левый глаз наполовину закрыт. Время от времени его мучают сердечные колики. Артюр говорит, что, чуть проснувшись, сразу чувствует, как горят огнем голова и сердце, как болит левая сторона груди и спины.
Потом Изабель идет в церковь к мессе.
Я спешу вернуться, потому что Артюр всякий раз заявляет, что когда меня нет рядом, ему кажется, что он уже в гробу.
В этот день принесли — третий по счету — протез ноги, заказанный давным-давно, но он даже не смог его опробовать.
В одиннадцать принесли завтрак, к которому он не притронулся: любая еда вызывала у него отвращение. Потом пришел почтальон. Увидев два письма, Изабель сначала заплакала, а потом принялась целовать их. Она протянула брату то, которое было адресовано ему, но читать его он отказался.
Изабель продолжает:
Мне нужно постоянно что-то придумывать, чтобы он не натворил кучу глупостей. К счастью, я имею некоторое влияние на него. Теперь его «идея фикс» — покинуть Марсель и уехать туда, где климат потеплее — в Алжир, Аден или Обок. Здесь его удерживает лишь боязнь того, что я не поеду за ним дальше, а без меня он обойтись уже не может.
Когда Артюр просыпается и видит, как за окном на ясном небе светит яркое южное солнце, его душат рыдания, и он говорит, что никогда уже больше не выйдет на улицу: «Я уйду в землю, а ты будешь купаться в солнечных лучах!» И так весь день — бесконечные жалобы и полная безысходность.
Потом — обед, к которому бедняга не притрагивается; оставив десерт сестре, он отсылает назад остальное; дневной обход с неизменными ободряющими словами врачей, которые Артюр слушает «с неким подобием надежды» — он хочет им верить, несмотря ни на что.
В половине шестого в комнате уже совсем темно, пора зажигать свечи. Время до девяти вечера тратится на массаж, смену белья, перестилание постели и тому подобное. Всеми возможными и невозможными способами он оттягивает мой уход, а потом прощается так, как если мне не суждено больше застать его в живых. И так каждый вечер2.
Многие из друзей приходили навестить его. Морис Риес, будто бы не замечая серьезности положения, писал ему (8 сентября 1890 года): «Вы можете, когда захотите, переправить через Джибути любую нужную Вам партию оружия, главное сохранить все это в тайне, чтобы не привлечь внимания итальянцев»3.
Альфред Барде тоже не раз приезжал. «Когда он увидел Рембо, — пишет Жан-Поль Вайан, — тот, будучи в полном отчаянии и плача, показал ему то, что осталось от ноги. Потом начались воспоминания, и г-н Барде стал утешать Артюра, уверяя его, что есть специальные ножные протезы, предложил приехать выздоравливать к нему в деревню. Рембо был очень тронут и плакал, как ребенок». Навещал его в клинике Непорочного Зачатия и Огюстен Бернар, коммерсант из Адена (об этом он рассказывал Мелера).
Сохранились несколько портретов Артюра, относящихся к этому периоду, — три рисунка Изабель, репродукции которых есть в «Album Rimbaud». Первый представляет его ужасно исхудавшим, с полузакрытыми глазами на изможденном лице; второй портрет производит более сильное впечатление, на нем Артюр изображен в белом чепце со страшно ввалившимися глазами; наконец, на третьем (это эскиз) он изображен лежащим, с распухшей от массивной повязки правой рукой.
Нам остается только рассказать о памятном дне 25 октября.
На этот счет мы имеем в своем распоряжении только одно свидетельство — письмо Изабель к матери от 28 октября; в свое время оно было предметом продолжительных литературных споров, но подлинность его несомненна. Это настоящий благодарственный молебен. Артюр уверовал в Бога! На Артюра снизошла Божья благодать! «Это праведник, святой, мученик, это избранник Господень!»
«Я думаю, что еще ничей уход из жизни не был большим назиданием для потомков», — напишет набожная сестра Луи Пьеркену 17 декабря 1892 года.
Основываясь на этом, многие «правоверные католики», от Клоделя до Мориака, сочинили настоящую «евангельскую историю» о возвращении блудного сына. «В духовном плане Рембо подобен мотыльку, — пишет г-жа Брие, — которым Богу в конце концов удалось пополнить свою коллекцию».
Но давайте спустимся с небес на землю и задумаемся, как же в действительности обстояло дело.
Во-первых, не следует упускать из виду то, что одной из причин присутствия Изабель — и, пожалуй, единственной, не считая, конечно, сострадания к ближнему — было желание уговорить брата умереть христианином — она и сама об этом говорила. Во-вторых, можно с уверенностью утверждать, что до 25 октября 1891 года никаких изменений в его душе не происходило: веским аргументом в пользу этого являются его обвинения в адрес персонала больницы. Он ругался как извозчик, заявляет Морис Риес.
Священники, приглашенные Изабель, — каноник А. Шо-лье и отец Ф. Сюш4 — два раза пытались наладить отношения с умирающим, но обоим он оказывал такой холодный прием, что они не осмелились говорить с ним о серьезных вещах. Рембо оставался таким, каким был всегда — чуждым и враждебно настроенным по отношению к любой религии.
И вот, 25 октября, после высокой мессы, один из священников пришел проведать Артюра, побеседовал с ним и выслушал его исповедь. Выйдя из палаты, он подошел к Изабель: «Что Вы скажете, дитя мое, на то, что Ваш брат верует? Он верует, и я еще ни в ком не видел такой веры».
Изабель, просияв от радости, ринулась в палату к Артюру, ожидая увидеть на лице брата благодать Господню — но не тут-то было. На его лице была печать «смиренной задумчивости».
Последовал следующий диалог:
ОН: Сестра, в наших жилах течет одна кровь. Скажи мне, веришь ли ты, веришь ли? (Странный, казалось бы, вопрос: ведь, ей-богу, он знал, что она верит, она давно успела ему надоесть своей набожностью и вечными призывами разделить с ней ее веру. На самом деле он имел в виду следующее: «Есть ли в тебе помимо этого жеманства настоящая, искренняя и глубокая вера?»)
ОНА: Я верую. Многие гораздо более сведущие люди верили и верят, а к тому же сейчас у меня есть доказательство этого.
ОН: Да, но они говорят, что верят, делают вид, что обращены в веру, а на деле все это лишь спекуляция с целью заставить всех читать то, что они пишут!
ОНА: Нет, они бы заработали больше денег, богохульствуя.
ОН (пытаясь поцеловать ее): Да, не зря мы с тобой слеплены из одного теста — мы и правда можем быть во всем единодушны. Так, значит, ты веруешь?
ОНА: Да, верую. Надо верить.
«Надо верить». Значит, битва еще не выиграна — когда цель достигнута, о ней перестают говорить. Генералу-победителю не говорят, что нужно побеждать.
Человек, связанный предрассудками и враждебно относящийся к Артюру, делает из этого вывод, что ничего не было, что Изабель приняла желаемое за действительное или по меньшей мере сильно приукрасила смысл нескольких слов священника, который не очень уловила, или вообще просто-напросто солгала.
Этот человек ошибается. Что-то действительно произошло этим воскресным днем 25 октября. Артюр перестал быть тем, кем был раньше, но и не стал таким, каким его мечтала увидеть Изабель.
До того момента Бог для Рембо был лишь предметом постоянных и едких насмешек — и вдруг он уверовал в него и молит о спасении. Он обращается к Богу Изабель, но точно так же он обращался бы к Богу евреев или мусульман. Он понял и увидел на примере сестры, что вера дает верующему какое-то особое невозмутимое спокойствие, и это доказательство подействовало на него сильнее любых призывов (которые к тому же он просто проигнорировал бы). Если вера существует, может быть, есть и Бог, а если Он есть, значит, Он может меня исцелить. И Артюр готов был потратить последние силы, цепляясь за эту соломинку.
«С этого момента, — отмечает Изабель, — он больше не богохульствует; с распятием в руках он призывает Христа и молится, молится — он, Артюр!»
Он также повторял: «Аллах керим!» — «Да свершится воля Божья!»
Но дальше по пути спасения души Артюр не продвинулся ни на шаг. Он только попросил сестру привести комнату в порядок (священник должен был вот-вот вернуться, чтобы причастить его): «Вот увидишь, как меня окружат свечами да кружевами!» Но священник не пришел, и поэтому весьма вероятно, что Артюра не причащали и не соборовали5. Объяснения, которые приводит Изабель, выглядят не очень-то убедительно: «мы боялись слишком разволновать его, он мог нечаянно выплюнуть облатку и т. д.» — все это плохо соотносится с тем, что она говорила о его утреннем спокойствии.
Ни о чем другом он не просил. «Считая, что о нем забыли, — продолжает Изабель, — он заметно погрустнел, но ни на что не жаловался».
Напрашивается вывод: Рембо не уверовал в полном смысле слова; путь веры был закрыт для него — в своем неверии он зашел слишком далеко.
Болезнь тем временем прогрессировала с ужасающей быстротой: культя ужасно распухла и огромная опухоль постепенно дошла до самого паха, ниже все стало твердым, чувствительность была потеряна. Боль переместилась в руки, в другую ногу, дошла до головы. Пришлось снова прибегнуть к морфию. С этого момента Артюр больше не выходил из коматозного состояния, прерывавшегося только кошмарами и бредом. При этом он говорил тихо, но очень отчетливо — врачи были в изумлении. Ему все казалось, что он в Хараре, сестру он принимал за Джами, подгонял ее, говоря, что нужно поскорее набрать верблюдов и нагрузить караван, чтобы ехать в Аден. Почему его не будят? Его ведь ждут, он может опоздать… И слезы текли у него из глаз.
Вот последнее, что мы знаем о состоянии умирающего.
Изабель пишет: «Артюр практически ничего не ел; то немногое, что нам удавалось уговорить его съесть, вызывало у него отвращение. Он ужасно отощал, был похож на скелет, а по цвету лица его трудно было бы отличить от трупа. А это несчастное тело с парализованными и искалеченными членами! О Боже, как его было жаль!»
9 ноября он из последних сил диктует сестре письмо к директору Морской почтовой компании. Письму предшествовал перечень слоновых бивней:
Лот № 1: один бивень.
Лот № 2: два бивня.
Лот № 3: три бивня.
Лот № 4: четыре бивня.
Лот № 5: два бивня.
Господин директор!
Я хочу спросить Вас, не остался ли я Вам должен. Я бы хотел пересесть с этого корабля на другой; мне даже неизвестно его название, но кажется, что принадлежит он Афина-ру. Все его корабли здесь, а я ничего не могу с собой поделать, ничего не могу найти сам, любой Вам это подтвердит.
Пришлите мне, пожалуйста, расценки Афинара на переезд по морю в Суэц. Я полностью парализован, поэтому я хотел бы прибыть на борт загодя. Сообщите, к какому часу я должен быть на борту…
Но ему уже не суждено было подняться на борт какого-либо судна Морской почтовой компании. Как сказали бы римляне, его ждал челн мрачного Харона, перевозчика душ в царстве мертвых. Рембо умер через сутки, во вторник, 10 ноября, в десять часов утра.
Так осуществилось предсказание Верлена, который в 1889 году, когда по Парижу прошел слух о смерти Рембо, написал трогательный сонет, который оканчивался такими словами:
Rimbaud! Pax tecum sit, Dominus sit tecum[235]!
Он тихо ушел в мир иной.
Ему было немногим более тридцати семи лет.
Книга записей марсельской больницы гласит:
«Рембо, Жан-Николя, коммерсант, родом из Шарлевиля, проездом в Марселе, скончался 10 ноября 1891 года, в десять часов утра.
Диагноз: распространенная карцинома».
Свидетельство о смерти выписано 11 ноября на основании заявления двух врачей и подписано Эрнестом Марнери, помощником мэра Марселя.
Тело было перенесено в больничную церковь, о чем имеется соответствующая запись в церковной книге:
«№ 854 — года тысяча восемьсот девяносто первого, ноября одиннадцатого числа в эту церковь было перенесено тело Рембо, Жана-Николя, холостяка, скончавшегося в клинике в возрасте тридцати семи лет, сына покойного Жана Фредерика Рембо и Мари Рембо, урожденной Кюиф, и предано земле по христианскому обычаю[236].
Подпись: А. Шолье».
В этот же день пришло разрешение на перевоз тела в Шарлевиль.
В пустой церкви горели свечи, и у простого гроба молились несколько монахинь. Изабель — подавленная, удрученная, одна-одинешенька в своем невыносимом горе — молилась вместе с ними.
Скончался еще один больной. Для отчетности похоронного бюро один из городских чиновников составил смету расходов, которые должны были возместить «наследники Рембо, Жана, 37 лет, скончавшегося вчера в клинике Непорочного Зачатия»:
Похоронные услуги шестого класса;
Дубовый гроб, обитый свинцом: 212,60 франка.
Медная табличка, креп и т. д.
Итого: 458 франков 11 сантимов.
«Коммерсант» Жан Рембо покинул больницу 12 ноября 1891 года. Поэт Артюр Рембо вернулся туда 57 лет спустя, когда во дворе больницы была открыта мемориальная доска:
ЗДЕСЬ
10 НОЯБРЯ 1891 ГОДА,
ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ ИЗ АДЕНА,
ЗАВЕРШИЛ
СВОЙ ЗЕМНОЙ ПУТЬ
ПОЭТ
ЖАН АРТЮР РЕМБО6
Больше ничего не сохранилось. Комната в Офицерской палате, где был установлен гроб с телом покойного для прощания с ним, была разрушена, на ее месте располагается клиническая лаборатория Ремюза.
Итак, 13 или 14 ноября Рембо вернулся в родные Арденны.
Мать, которую известили телеграммой, незамедлительно отдала распоряжение привести в порядок могилу, то есть освободить место в семейном склепе между ее отцом и дочерью Витали. Рабочие укрепили цементом новый отсек. «Когда каменщики закончили работу, — рассказывает Луи Пьеркен, — она сама спустилась в склеп, чтобы убедиться, что все выполнено так, как она заказывала и что работа «проделана хорошо».
Рабочие наблюдали за этой сценой с открытыми ртами»7.
Достоверно известно, что Рембо завещал похоронить себя не в Шарлевиле, а в Хараре или Адене. Об этом упоминает Изабель: «Он бы предпочел быть похороненным там, в Адене, потому что кладбище расположено на берегу моря, недалеко от здания, в котором помещалась его компания. И я бы непременно перевезла его гроб туда, если бы он того потребовал. Артюр отказался от этого только потому, что понял, с какими препятствиями мне придется столкнуться»8.
Своеволие г-жи Рембо продолжало тиранить Артюра и после смерти. И все-таки Изабель исполнила последнюю волю брата. «В особенности, — написала она матери в письме от 3 октября 1891 года, — он просил меня не покидать его до момента его смерти и проследить за выполнением последней воли, особенно что касается его захоронения».
«Разрешение на ввоз тела», полученное в комиссариате полиции Шарлевиля, датировано четырнадцатым ноября. В этот день, около 9 часов утра, как рассказывает Луи Пьеркен, г-жа Рембо и Изабель были у отца Жиле, епископа Шарлевиля, и заказали ему на десять часов службу «по высшему разряду».
Отец Жиле, — продолжает наш рассказчик, — на это заметил, что одного часа слишком мало, что подобные церемонии не совершают на скорую руку, и добавил, что он был преподавателем Закона божия у Артюра и сохранил о нем наилучшие воспоминания, а потому был бы очень рад, если бы можно было пригласить на похороны кого-нибудь из прежних друзей Артюра и товарищей по учебе. Тоном, не допускавшим возражений, г-жа Рембо ответила, что «это не нужно, не извольте беспокоиться». Погребение состоялось в 10 часов утра того же дня, похоронная процессия была организована «по высшему разряду», но гроб сопровождали всего два человека: г-жа Рембо и Изабель.
Смета похоронных расходов, хранящаяся в Музее Рембо, действительно сообщает о присутствии пяти певчих, двадцати девочек-сирот, которые несли свечи, и хора из восьми мальчиков. За все было уплачено 528 франков 15 сантимов. Можно представить себе, в какой суматохе и спешке были собраны все эти люди. Сестра Эрнеста Мило, г-жа Летранж, рассказывала Вайану, что органист, ее муж, играл Dies irae. Церемония была назначена на половину одиннадцатого, а предупредили их об этом в девять утра. «Люди еде-еле успели одеться, — замечает он. — Мы спрашивали себя, кто же мог так рано уйти из жизни в семье г-жи Рембо?»
Точно так же, видя, что за пышным катафалком, продвигавшимся к кладбищу по Фландрской улице, почти никто не идет, прохожие гадали, чья же кончина могла быть обставлена так значительно и одновременно так скромно. Газеты не сообщили ничего ни в этот день, ни на следующий.
Священник произнес над могилой последние слова, и обе женщины, не сказав ни слова, развернулись и пошли домой. Изабель оплакивала брата, которого так любила; она оплакивала и себя саму — ее жизнь потеряла смысл. Г-жа Рембо плакала меньше, но и у нее болело сердце. Она любила его, своего Артюра, она любила его всегда, больше всех остальных детей. Он был своенравным и взбалмошным, но в конце концов его безукоризненная честность и верность данному слову, уважение к мнению другого и желание собственным трудом достичь достойного положения в обществе были унаследованы им именно от матери.
Много лет спустя она напишет свое прощальное слово о нем. Этот маленький текст очень показателен — он объясняет то удивление и оторопь, которую вызвало у нее известие о том, что на Вокзальной площади Шарлевиля началось сооружение памятника ее сыну. Не будучи уверенной в том, что все это не злая шутка, она отказалась присутствовать на церемонии открытия памятника в июле 1901 года. Другой причиной, по-видимому, было то, что на этой церемонии, возглавляемой мэром Шарлевиля, щеголял как на балу Фредерик, с которым она была в ссоре. Вот этот небольшой отрывок из ее письма к Изабель от 1 июня 1900 года:
Я выполнила свой долг. Мой бедный Артюр, который никогда ничего у меня не просил и который своим собственным трудом, блестящими способностями и примерным поведением нажил себе состояние, никогда никого не обманывал. Скорее наоборот, из-за своей честности он часто проигрывал в деньгах, и многие по сию пору должны ему — мой милый мальчик был щедрым, это уж известно всякому.
Он покоится недалеко от кладбищенских ворот под обыкновенной каменной плитой. Мать присоединилась к нему в 1907 году («Пусть мой гроб будет стоять по левую руку от моего бедного Артюра и по правую от моего милого отца и дочери Витали», — завещала она.), а Изабель — в 1922-м.
С тех пор к могиле, к двум одинаковым, как братья-близнецы, плитам, на которых выбиты имена Артюра и его родственников, идут люди, приехавшие издалека, и несут цветы…
Рядом высится огромный тис, и ветер, колышущий его ветви, рассказывает поэту о своих скитаниях.
Изабель обещала Артюру выплатить по завещанию 750 талеров его слуге Джами, испросив необходимую сумму у Сезара Тиана, с которым у него были счеты. Она знала, что Джами перешел на службу к г-ну Фельтеру, агенту аденского торгового дома «Бинснфсльд и К0», о котором Изабель пишет, что это был «молодой человек 22–23 лет, совершенно неграмотный и с трудом понимающий по-французски отдельные слова». Она неоднократно писала и Сезару Тиану, и во французское представительство в Адене, и его высокопреосвященству г-ну Торен-Каню, требуя выслать ей подтверждение, что деньги получены адресатом. В ответ ей пришло письмо от раса Маконнена; оно разочаровало Изабель:
«Харар, 7 июня 1893 года.
Полученная его высокопреосвященством г-ном Торен-Канем, епископом галласов, сумма в семьсот пятьдесят талеров Марии-Терезии, причитающаяся по завещанию г-на Рембо его слуге Джами Вадаи, передана по приказу раса наследникам Джами».
На полях приписано рукой раса: «Подтверждаю, что наследники Джами получили сумму в семьсот пятьдесят талеров»9.
Подтверждения от его высокопреосвященства г-на Торен-Каня Изабель пришлось ждать еще год — она получила его 12 октября 1894 года.
Таким образом, бедный Джами ненадолго пережил своего господина — вероятно, он умер в Хараре во время страшного голода 1891 года (в ноябре того же года от голода умер Димитрий Ригас).
«Как я поняла из послания г-на Маконнена, — говорится в письме Изабель к его высокопреосвященству г-ну Торен-Каню от 12 марта 1895 года, — Джами не довелось самому оценить щедрость своего господина, так как деньги по завещанию были вручены его наследникам. Я была очень расстроена, узнав о смерти бедного Джами — брат говорил мне о нем, как о человеке в высшей степени верном и преданном. К тому же, кажется, ему не было и двадцати лет. Я часто спрашиваю себя, кем могут быть его наследники, потому что совершенно уверена в том, что если бы брат мог предвидеть смерть своего слуги, он вряд ли выделил бы что-либо его семье. Но Вы, Ваше высокопреосвященство, должно быть, знали, достойна ли эта семья того подарка, который получила; мне хочется надеяться, что, если бы это было не так, Вы не дали бы ей возможности им воспользоваться».
Если бы это письмо писала г-жа Рембо, мы, несомненно, прочли бы в нем те же самые слова.
Примечания к разделу
1 Изабель Рембо, «Le dernier voyage de Rimbaud», la Revue blanche, 15 октября 1897 г., статья перепечатана в Reliques d’Arthur Rimbaud (1922).
2 Изабель Рембо, «Rimbaud mourant», Mercure de France, 15 апреля 1920 г., перепечатано в Reliques.
3 Неопубликованное письмо, хранится в Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
4 Эти имена приводит в своей статье в журнале Marseille (июль — сентябрь 1952) Пьер Рипер. Каноник Шолье, расписавшийся в церковной книге, когда в церковь доставили тело Рембо, умер, по утверждению Пьера Арну (Rimbaud, 1955, с. 496) в 1904 г. В 1891 г. ему было больше шестидесяти. Его портрет опубликован в l'Album Rimbaud. Отец Сюш был моложе, но больше о нем ничего неизвестно.
5 Изабель писала П. Берришону 30 декабря 1896 г., что ее брат потребовал, чтобы его исповедовали второй раз, кроме того, его соборовали. Можно ли верить ее утверждениям?
6 Доска была открыта по инициативе группы литераторов под названием «Друзья Ариона» 10 октября 1946 г., особые усилия к этому приложил поэт Турский. На церемонии присутствовал префект департамента Буш-дю-Рон и другие известные личности. Доска сначала висела во дворе больницы, затем, в 1987 г., была перенесена внутрь самого здания.
7 См. воспоминания Луи Пьеркена. Г-жа Рембо наблюдала также и за работами по подготовке места в склепе для себя самой (ее письмо к Изабель от 1 июня 1900 г.).
8 Ebauches de Rimbaud, сборник под редакцией М.-И. Мелера, 1937, с. 180.
9 Этот документ хранится в Музее Рембо в Шарлевиле — Мезьере.
ЭПИЛОГ
Крайнее удивление отразилось на лице Изабель, когда через две недели после похорон брата, открыв свою любимую газету «Арденнский курьер» (номера от 29 и 30 ноября 1891 года1), она увидела посвященную ему заметку; статья располагалась на двух с половиной колонках, автором ее был некто Л. П.
АРТЮР РЕМБО
Артюр Рембо, поэт из той знаменитой плеяды стихотворцев, которые в 1872 году образовали «Современный Парнас», несколько дней назад был похоронен на кладбище в Шарлевиле.
В течение последних пятнадцати лет мы не имели о нем никаких сведений. Это и немудрено — за Рембо всегда было трудно угнаться, его скитальческая натура и вечно ищущий дух забрасывали его в самые отдаленные уголки Европы. И хотя он свободно разговаривал на всех европейских языках, пристанища своему мятежному духу найти нигде не смог, став воплощенным «бодлеровским лунатиком».
Далее следовал рассказ о последней встрече автора с покойным поэтом.
Друзей, перед которыми Рембо раскрывал свою душу, в Шарлевиле можно было пересчитать по пальцам, и поэтому, когда в Париже поклонники его таланта из кружка, где он так блистал, Теодор де Банвилъ и Поль Верлен, умоляли его издать свои стихотворения, которыми он разбрасывался с поразительной легкостью, Рембо отвечал им отказом, и не было такого человека, который мог бы его переубедить. Все, что нам известно из его творчества, уместилось в одну маленькую брошюрку, изданную в Брюсселе в 1869 (sic) году (быть может, даже без его ведома), и название которой, к сожалению, мне вспомнить не удалось. И хотя довольно большое число стихотворений мне приходилось видеть и читать в рукописи, мне и в голову не приходило снимать с них копии, так что в настоящее время приходится констатировать, что они потеряны для нас навсегда.
Больше повезло Полю Верлену, который смог сохранить то немногое, что осталось, и опубликовать это в своем сборнике «Проклятые поэты». Мы отсылаем читателя к этой книге, треть которой посвящена Рембо. Этот обзор дает возможность составить точное и достаточно полное представление о нем.
Творчество Рембо, как и большинства парнасцев, представлено произведениями, совершенными по форме и замечательными по стройности, но в остальном настолько загадочными, что создается впечатление, что смысл в них полностью подчинен гармонии формы.
В качестве примера приводятся «Завороженные», а также в связи с рассказом про шарлевильскую Публичную библиотеку упоминаются «Сидящие».
Рембо писал также и в другом жанре, но мы не будем здесь о нем распространяться; жанр этот слишком туманный, наш разум может уловить лишь едва слышную мелодию, которую поэт вплел в свои произведения.
Весьма вероятно, что в поэзии форма играет большую роль, но без идеи она — ничто, ее существование не оправдано, а усилия, положенные на ее создание, идут прахом. Ища встречи с миром иным и всю жизнь терзаясь от этого стремления, Рембо в конце концов добился того, что его ищущий разум заблудился в этом тумане. Тем не менее у него были и почитатели. Вместе с Верленом они создали настоящую литературную школу; их творчество послужило основой для поэзии декадентов, которая, в свою очередь, служит источником вдохновения для массы неспособных дилетантов, возомнивших себя поэтами.
Рембо умер, когда ему было 37 лет. Его тело перевезено из Марселя на родину и предано земле в нашем городе; он покоится недалеко от Эрнеста Мило, который был добрым другом Артюра и лучшим другом автора настоящей статьи.
Л. П.
Изабель побледнела от волнения. Как? Ее дорогой Артюр был не просто честным коммерсантом и неутомимым искателем приключений, он был, оказывается, одним из крупнейших поэтов своей эпохи! О нем помнили, у него были почитатели, а к тому же — и это самое главное — его неотступно преследовало стремление к «встрече с миром иным»!
И, возблагодарив небеса, она устремилась на поиски загадочного Л. П., которым оказался Луи Пьеркен.
Она смутно припоминала, что как-то раз брат сжег на ее глазах несколько экземпляров той брошюры, которая упоминалась в «Арденнском курьере» — но ей было тогда всего тринадцать, с тех пор минуло восемнадцать лет.
Конечно, она прекрасно знала о блестящих успехах Артюра в коллеже и о том, что до приезда в Африку он много путешествовал. Как ей хотелось знать его получше! Увы! в родных стенах он всегда бывал очень недолго — едва приехав, он уже мечтал о том, как бы снова исчезнуть. Когда-то она слышала и о г-не Верлене, причем в очень плохом смысле, но точно сказать, кто это, она не могла, в этом можно быть уверенным; наверное, думала она, это «какой-то парижский бумагомаратель».
Все это было очень неожиданно и похоже на чудо. Артюр воскрес, он не умрет теперь никогда!
В тот же момент она ясно поняла, в чем заключается теперь ее святой долг — посвятить всю свою жизнь, отдать все силы во имя славы своего великого брата.
Первым делом надо было узнать побольше о том, чего Луи Пьеркен лишь коснулся в своей заметке, прочитать те чудесные стихи, которые г-н Верлен поместил в своем сборнике (название — «Проклятые поэты» — ей не очень понравилось: ее брату уготовано место в раю, а никак не среди проклятых), и наконец, попытаться отыскать загадочную брошюру — рукописи не горят…
Она и не подозревала, что ждет ее на этом пути.
15 декабря ей показали статью в «Пти Арденнэ», газетке левого толка, куда она никогда не заглядывала. Это была перепечатка ряда заметок, недавно опубликованных в «Политических и литературных беседах», автором которых был некто г-н Д (Делаэ). В них рассказывалось о различных мерзких и отвратительных эпизодах из жизни Артюра.
Громом среди ясного неба прозвучало для нее известие о том, что его «Озарения» были, оказывается, опубликованы в 1886 году без согласия автора; следующий удар — появление «Реликвария», скандально известной книги стихов ее брата с предисловием некоего Рудольфа Дарзанса, в котором снова говорилось о том, каким гадким и отвратительным был Артюр Рембо.
Но самую большую боль ей пришлось испытать, читая стихи самого Артюра; некоторые из них — «Первое причастие», «Приседания», «Зло» — были, казалось, откровением не Бога, но дьявола. Не оставалось никаких сомнений в антирелигиозности автора.
И она решила объявить войну всему свету и открыть всем «одной ей известную истину». Оказывается, никто не знал ее брата так, как она, а значит, никто не имеет права говорить о нем. Главному редактору «Пти Арденнэ» и его коллеге из «Арденнского курьера» были адресованы пространные гневные письма, которые сейчас невозможно читать без улыбки. В них утверждалось и подчеркивалось, что Артюр Рембо с детства поражал всех своей незаурядностью, а в коллеже делал «самые блестящие успехи».
«Один из преподавателей коллежа привез его в Париж и представил г-дам Теодору де Банвилю и Верлену, которые были потрясены умом этого пятнадцатилетнего мальчика и предложили ему написать несколько стихотворений, которые можно прямо назвать шедеврами, — но никогда Артюру Рембо не приходило в голову публиковать свои стихотворения, ни тем более делать это ради денег или дешевой популярности».
Его взятие под стражу в Мазасе и пребывание в Париже во время Коммуны — не более чем легенды. «Он продолжал обучение, но уже не в коллеже, а под руководством разных преподавателей, переезжая из города в город». Никогда он не был на службе у голландцев и не дезертировал из армии на Яве. А в Африке он торговал вовсе не хлопком и кожей — Боже упаси! — а был весьма уважаемым негоциантом и занимался торговлей кофе, слоновой костью, ладаном и другими благовониями, золотом в слитках. За честность, доброту, чистоту нравов и помыслов его уважали все — и туземцы, и белые. Он умер как святой.
Так появился на свет «миф о Рембо», в который никто никогда не верил; но тем не менее один выдающийся сор-382 боннский профессор приложил поистине титанические усилия, чтобы уничтожить этот миф, посвятив этому более трех тысяч страниц своих книг.
С тех пор Изабель отгородилась от всех и решила запретить публикацию произведений своего брата, память которого предали, а жизнь извратили. Лучше уж пожертвовать славой — молчание заставит всех забыть о скандале, а Изабель предпочла бы умереть, чем стать виновницей скандала.
Впрочем, Верлену, который в тот момент готовил издание поэтического наследия своего старого друга, было на это абсолютно наплевать.
Изабель четыре года не разрешала публикацию; но в конце концов поняла, что жизнь слишком быстро движется вперед, чтобы ее можно было удержать. Она сняла свое вето и в 1895 году позволила издать Полное собрание стихотворных произведений своего брата с предисловием Верлена.
С тех пор поток литературы о Рембо не иссякал. Он признан одним из самых великих французских поэтов и его произведения комментируются и изучаются во всем мире.
А наивная агиография Изабель, которую она, при активном участии своего мужа Патерна Берришона, писала вплоть до 1914 года, уже давно принадлежит к юмористическим страницам истории французской литературы.
Итак, мы видим, что жизнь Рембо-поэта начинается в момент смерти Рембо-человека. Быть может, самой судьбой ему было назначено умереть в клинике Зачатия (забудем на секунду о непорочности) — ведь это слово означает начало формирования нового существа, которому предстоит пройти свой, особый жизненный путь.
Андре Жид сказал, что Рембо — как очень далекие от нас звезды: они, быть может, давно погасли, но тем не менее продолжают светить нам и будут светить еще много столетий.
С той минуты, как Артюр Рембо покинул этот мир, звезда его гения, звезда поистине первой величины, не перестает сиять на небосклоне французской поэзии.
Примечания к разделу
1 Газета Le Petit Ardennais опубликовала 8 февраля 1890 г. статью, посвященную поэту Артюру Рембо, за подписью некоего Пьера Арденнского (псевдоним Марселя Кулона?), см. le Bateau ivre, № 20, 1966. Но Изабель этого не знала, так как никогда не читала эту газету.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ
АРТЮРА РЕМБО[237]
1854, 20 октября — В Шарлевиле, в семье Фредерика и Витали Рембо, родился Жан Николя Артюр Рембо. Годом раньше родился его старший брат Фредерик.
1858 — Родилась сестра Рембо Витали.
1860 — Родилась сестра Рембо Изабель.
1862 — Рембо поступает в частную школу Росса.
1865 — После окончания пасхальных каникул Рембо поступает в 7-й класс Шарлевильского коллежа, в октябре переходит в 6-й класс. Первое причастие Рембо.
1866 — Рембо «перепрыгивает» через год и переводится в 4-й класс.
1868 — Рембо посылает письмо со стихами на латыни наследнику пре стола.
1869 — «Бюллетень Академии Дуэ» публикует работы Рембо по стихосложению, среди них стихотворение «Югурта». Рембо получает первую премию Академии Дуэ.
1870, 14 января — На кафедру риторики Шарлевильского коллежа назначается Жорж Изамбар.
1870, 24 мая — Рембо посылает свои стихи Теодору де Банвилю, надеясь, что тот опубликует их в «Современном Парнасе».
1870, 15 июня — Объявлена война между Францией и Пруссией.
1870, 29 августа — Первый побег Рембо из Шарлевиля по маршруту Шарлевиль — Шарлеруа — Париж — тюрьма Мазас. Изамбар вызволяет его из тюрьмы. Рембо живет некоторое время у теток Изамбара, сестер Жендр.
1870, 7 октября — Второй побег Рембо. Он пытается получить работу в газете в Шарлеруа. Получив отказ, он отправляется в Брюссель, затем в Дуэ, к Изамбару.
1870, 20–30 октября — Рембо в гостях у Изамбара переписывает свои стихи для Поля Демени.
1870, 1 ноября — По требованию г-жи Рембо полицейские власти отправляют Рембо домой.
1871, 1 января — Бомбардировка Мезьера. Прусская армия оккупирует Шарлевиль и Мезьер.
1871, 25 февраля — Третий побег Рембо. Некоторое время он находится в Париже без средств к существованию и 10 марта пешком возвращается в Шарлевиль.
1871, 18 марта — Парижская коммуна.
1871, конец апреля — Четвертый побег Рембо. Рембо в Париже среди коммунаров в Вавилонской казарме.
1871, 13 мая — Письмо Рембо Изамбару с изложением его теории «ясновидения».
1871, 15 августа — Рембо посылает Банвилю стихотворение «Что говорят поэту о цветах».
1871, конец августа — По предложению Бретаня Рембо посылает письмо и свои стихи Полю Верлену. Верлен приглашает его в Париж.
1871, середина — Рембо, написав «Пьяный корабль», отправляется в Париж.
1871, октябрь — декабрь — Рембо меняет один за другим места жительства — дом Верлена, дом Шарля Кро, дом Банвиля и т. д.
Рисунки и стихи Рембо в «Зютическом альбоме». Ужины «Озорных чудаков».
1872, январь — март — начало романа Верлена и Рембо. Беспорядочное шатание друзей по парижским кафе. Скандалы между Верленом и его женой.
1872, март — Рембо по просьбе Верлена возвращается в Арденны, чтобы Верлен мог примириться со своей женой.
1872, май — Рембо возвращается в Париж.
1872, 7 июля — Верлен бежит вместе с Рембо в Бельгию.
1872, 4 сентября — Верлен и Рембо прибывают в Англию, бродят по Лондону. Средства друзей к существованию постепенно тают.
1872, декабрь — Рембо на три недели возвращается в Шарлевиль.
1873, январь — Верлен заболевает и вызывает к себе мать. Г-жа Верлен и Рембо прибывают в Лондон.
1873, 11 апреля — Рембо уезжает домой на Рошскую ферму и начинает писать «Одно лето в аду».
1873, 24 мая — Рембо по просьбе Верлена, получив необходимую сумму от его матери, возвращается в Лондон. Ссоры Верлена и Рембо.
1873, 4 июля — После очередной ссоры Верлен покидает Лондон и направляется в Брюссель, куда к нему через несколько дней приезжают Рембо и его мать.
1873, 10 июля — Верлен, потерпев неудачу, пытаясь уговорить Рембо не ехать вместе с ним в Париж, стреляет в него из револьвера. Суд приговаривает Верлена к штрафу и двум годам лишения свободы.
1873, 20 июля — Рембо возвращается в Рош. К августу он заканчивает работу над «Одним летом в аду».
1874, январь — март — Рембо уезжает. вместе с Жерменом Нуво в Англию.
1874, июль — Г-жа Рембо и сестра Артюра Витали по его просьбе приезжают в Лондон. Рембо ищет работу и 31 июля отправляется в Шотландию.
1875, январь — Рембо возвращается в Шарлевиль.
1875, февраль — Рембо уезжает в Штутгарт, намереваясь выучить там немецкий.
1875, конец февраля — Верлен, выйдя из тюрьмы, навещает Рембо в Штутгарте.
1875, май — Рембо пешком отправляется из Штутгарта в Италию. Французский консул в Ливорно возвращает его на родину.
1875, октябрь — декабрь — Рембо возвращается в Шарлевиль и учит языки.
1875, 18 декабря — Умирает сестра Рембо Витали.
1876, апрель — Рембо отправляется в Австрию. В Вене его грабят, затем австрийские власти его депортируют.
1876, 19 мая — Рембо записывается добровольцем в голландскую колониальную армию. На корабле его отправляют в Индонезию, откуда он дезертирует, и к декабрю возвращается в Шарлевиль.
1877 — Рембо устраивается в цирк к Луассе и путешествует вместе с цирком по Скандинавии. Французский консул в Стокгольме возвращает его на родину.
1877, сентябрь — Рембо отправляется в Александрию, но по дороге заболевает и возвращается в Шарлевиль.
1878, октябрь — Рембо покидает Шарлевиль и направляется через Геную в Александрию. Он находит работу надсмотрщика над каменоломней на Кипре.
1879, июнь — Рембо заболевает и возвращается в Шарлевиль, где помогает родственникам собирать урожай. Последняя встреча Рембо и Делаэ.
1880 — Рембо возвращается на Кипр, откуда направляется через Египет в Аден, где находит работу в торговом доме братьев Барде. Барде направляют его в свое представительство в Хараре.
1882 — Экспедиция Рембо в Огаден.
1883, 10 декабря — Рембо отсылает Географическому обществу свой отчет, который Общество публикует.
1886, октябрь — Рембо отправляется в Шоа с грузом оружия для Менелика II.
1887 — Бесславное окончание «авантюры» в Шоа. Рембо возвращается в Харар, затем в Аден, берет отпуск и уезжает в Каир.
1888 — Рембо управляет в Хараре факторией от имени Сезара Тиана.
1891, 20 февраля — Рембо жалуется на боли в правой ноге.
1891, 15 марта — Рембо не может больше вставать. На носилках его перевозят в Сайлу, затем в Аден. 3 мая он отправляется из Адена на лечение во Францию.
1891, 20 мая — Рембо прибывает в Марсель и ложится в больницу.
1891, 25 мая — Рембо ампутируют ногу.
1891, июль — Рембо возвращается в Рош. Его состояние, бывшее некоторое время стабильным, начинает ухудшаться.
1891, 23 августа — Рембо, сопровождаемый сестрой Изабель, отправляется обратно в Марсель, в клинику Непорочного Зачатия. Состояние его ухудшается.
1891, 28 октября — Изабель пишет домой матери, что Артюр согласился исповедаться и причаститься.
1891, 10 ноября — Рембо умирает в возрасте 37 лет.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ[238]
Poésies complètes, préface de Paul Verlaine, Paris, Léon Vanier, 1895.
Lettres (Egypte, Arabie, Ethiopie), réunis par Paterne Berrichon, Paris, Mercure de France, 1912.
Oeuvres complètes, édition établie par Antoine Adam, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1972.
Ранние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. — М.; Наука, 1981 (полное собрание сочинений, сер. «Литературные памятники»).
Произведения/Oeuvres. — М.: Радуга, 1988 (параллельные тексты на русском и французском).
Стихотворения. — М.: Художеств, лит., 1980.
Bardey, Alfred, Barr Adjam, souvernirs d’Afrique orientale (1880–1887), préface de Joseph Tubiana, Centre National de la Recherche Scientifique, 1981.
Berrichon, Paterne, La vie de Jean Arthur Rimbaud, Paris, Mercure de France, 1897.
Berrichon, Paterne, Jean Arthur Rimbaud, le poète (1854–1873), Paris, Mercure de France, 1912.
Bonnefois, Yves, Rimbaud par lui-même, Paris, Le Seuil, 1961.
Briet, Suzanne, Rimbaud notre prochain, Paris, Nouvelles éditions latines, 1956.
Carré, Jean-Marie, La Vie aventureuse de Jean-Arthue Rimbaud, Paris, Plon, 1920. Переиздания 1943,1949, пер. на рус. Б. Лившица: Карре Ж.-М. Жизнь и приключения Артюра Рембо. — Л., 1929.
Delahaye, Ernest, Rimbaud, Paris-Reims, Editons de la Revue de Paris et de Champagne, 1906.
Delahaye, Ernest, Souvenirs familiers à propos de Rimbaud, Verlaine et Germain Nouveau, Paris, Messein, 1925.
Godchot, colonel, Arthur Rimbaud ne varietur, Nice, Tome I, 1936 (1854–1871), Tome II, 1937 (1871–1873).
Izambard, Georges, Rimbaud tel que je l’ai connu, Paris, Mercure de France, 1946.
Matarasso, Henri, Petitfils, Piérre, Vie d’Arthur Rimbaud, préface de Jean Cocteau, Paris, Hachette, 1962.
Matarasso, Henri, Petitfils, Piérre, Album Rimbaud, Paris, Gallimard, 1967, Bibliothèque de la Pléiade (фотодокументы о Рембо, его друзьях и эпохе).
Petitfils, Pierre, Verlaine, Paris, Julliard, 1981.
Petitfils, Pierre, Rimbaud, Paris, Julliard, 1983 (оригинал настоящего перевода).
Rimbaud, Isabelle, Mon frère Arthur, Paris, Camille Bloch, 1920.
Underwood, Vernon Philip, Rimbaud et l’Angleterre, Paris, Nizet, 1976.
Zech, Paul, J.-A. Rimbaud, Ein Querchnitt durch sein Leben und Werk, Ebda, 1927, переиздание 1947.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ
ОДНО ЛЕТО В АДУ. НЕРАЗУМНАЯ ДЕВА
ИНФЕРНАЛЬНЫЙ СУПРУГ
Послушаем исповедь одной из обитательниц ада:
«О божественный Супруг, мой Господь, не отвергай эту исповедь самой грустной твоей служанки. Я погибла. Пьяна. Нечиста. О, какая жизнь!
Прощенья, боже, прощенья! Я молю о прощенье! Сколько слез! Сколько слез потом еще будет!
Потом я познаю божественного Супруга. Я родилась покорной Ему. — Пусть тот, другой, теперь меня избивает!
Теперь я на самом дне жизни. О мои подруги! Нет, не надо подруг… Никто не знал такого мученья, такого безумья! Как глупо!
О, я страдаю, я плачу. Неподдельны мои страданья. Однако все мне дозволено, потому что я бремя несу, бремя презрения самых презренных сердец.
Пусть услышат наконец-то это признание — такое мрачное, такое ничтожное, — но которое я готова повторять бесконечно.
Я рабыня инфернального Супруга, того, кто обрекает на гибель неразумную деву. Он — демон. Не привидение и не призрак. Но меня, утратившую свое целомудрие, проклятую и умершую для мира — меня не убьют! Как описать все это? Я в трауре, я в слезах, я в страхе. Немного свежего воздуха, Господи, если только тебе это будет угодно!
Я вдова… — Я была вдовой… — в самом деле, я была когда-то серьезной и родилась не для того, чтобы превратиться в скелет… — Он был еще почти ребенок… Меня пленила его таинственная утонченность, я забыла свой долг и пошла за ним. Какая жизнь! Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира. Я иду туда, куда он идет; так надо. И часто я, несчастная душа, накликаю на себя его гнев. Демон! Ты же знаешь, Господи, это не человек, это Демон.
Он говорит: «Я не люблю женщин. Любовь должна быть придумана заново, это известно. Теперь они желают лишь одного — обеспеченного положения. Когда оно достигнуто — прочь сердце и красота: остается только холодное презрение, продукт современного брака. Или я вижу женщин со знаками счастья, женщин, которых я мог бы сделать своими друзьями, — но предварительно их сожрали звери, чувствительные, как костер для казни…»
Я слушаю его речи: они превращают бесчестие в славу, жестокость — в очарование. «Я принадлежу к далекой расе: моими предками были скандинавы, они наносили себе раны и пили свою кровь. — Я буду делать надрезы по всему телу, покрою всего себя татуировкой, я хочу стать уродливым, как монгол; ты увидишь: улицы я оглашу своим воем. Я хочу обезуметь от ярости. Никогда не показывай мне драгоценностей: извиваясь, я поползу по ковру. Мое богатство? Я хочу, чтобы все оно было покрыто пятнами крови. Никогда я не буду работать…»
Не раз, по ночам, когда его демон набрасывался на меня, мы катались по полу, и я с ним боролась. — Нередко, пьяный, он предстает предо мною ночью, на улицах или в домах, чтобы смертельно меня напугать. — «Право же, мне когда-нибудь перережут глотку; отвратительно это!» О, эти дни, когда ему хотелось дышать преступленьем!
Иногда он говорит — на каком-то милом наречье — о смерти, заставляющей каяться, о несчастных, которых так много, о мучительной их работе, о разлуках, которые разбивают сердца. В трущобах, где мы предавались пьянству, он плакал, глядя на тех, кто нас окружал: скот нищеты. На улицах он поднимал свалившихся на мостовую пьяниц. Жалость злой матери испытывал к маленьким детям. Как девочка перед причастьем, говорил мне ласковые слова, уходя из дома. — Он делал вид, что сведущ во всем: в коммерции, в медицине, в искусстве. — Я шла за ним, так было надо!
Я видела декорацию, которой он мысленно себя окружал: мебель, драпировку, одежды. Я награждала его дворянским гербом и другими чертами лица. Я видела все, что его волновало и что для себя создавал он в воображенье. Когда мне казалось, что ум его притупился, я шла за ним, как бы далеко он ни заходил в своих действиях, странных и сложных, дурных и хороших: я была уверена, что никогда мне не будет дано войти в его мир. Возле его уснувшего дорогого мне тела сколько бессонных ночей провела я, пытаясь понять, почему он так хочет бежать от реального мира. Я понимала — не испытывая за него страха, — что он может стать опасным для общества. — Возможно, он обладает секретом, как изменить жизнь. И сама себе возражала: нет, он только ищет этот секрет. Его милосердие заколдовано, и оно взяло меня в плен. Никакая другая душа не имела бы силы — силы отчаянья! — чтобы выдержать это ради его покровительства, ради его любви. Впрочем, я никогда не представляла его себе другим: видишь только своего Ангела и никогда не видишь чужого. Я была в душе у него, как во дворце, который опустошили, чтобы не видеть столь мало почтенную личность, как ты: вот и все. Увы! Я полностью зависела от него. Но что ему было надо от моего боязливого, тусклого существования? Он не мог меня сделать лучше и нес мне погибель. В грустном раздражении я иногда говорила ему: «Я тебя понимаю». В ответ он только пожимал плечами. Так, пребывая в постоянно растущей печали и все ниже падая в своих же глазах, как и в глазах всех тех, кто захотел бы на меня взглянуть, если бы я не была осуждена на забвение всех, — я все больше и больше жаждала его доброты. Его поцелуи и дружеские объятья были истинным небом, моим мрачным небом, на которое я возносилась и где хотела б остаться, — нищей, глухой, немой и слепой. Это уже начинало входить в привычку. Мне казалось, что мы с ним — двое детей, и никто не мешает гулять нам по этому Раю печали. Мы приходили к согласию. Растроганные, работали вместе. Но, нежно меня приласкав, он вдруг говорил: «Все то, что ты испытала, каким нелепым тебе будет это казаться, когда меня здесь больше не будет. Когда не будет руки, обнимавшей тебя, ни сердца, на котором покоилась твоя голова, ни этих губ, целовавших твои глаза. Потому что однажды я уеду далеко-далеко; так надо. И надо, чтобы я оказывал помощь другим; это мой долг. Хотя ничего привлекательного в этом и нет, моя дорогая». И тут же я воображала себя, — когда он уедет, — во власти землетрясения, заброшенной в самую темную бездну по имени смерть.
Я заставляла его обещать мне, что он не бросит меня. По легкомыслию это походило на мое утверждение, что я его понимаю.
Ах, я никогда не ревновала его. Я верю, что он меня не покинет. Что с нами станется? У него нет знаний, он никогда не будет работать. Лунатиком он хочет жить на земле! Разве для реального мира достаточно только одной его доброты и его милосердия? Временами я забываю о жалком своем положении: он сделает меня сильной, мы будем путешествовать, будем охотиться в пустынях и, не зная забот и страданий, будем спать на мостовых неведомых городов. Или однажды, при моем пробужденье, законы и нравы изменятся — благодаря его магической власти, — и мир, оставаясь все тем же, не будет покушаться на мои желания, радость, беспечность. О, полная приключений жизнь из книг для детей! Ты дашь мне ее, чтобы вознаградить меня за мои страдания? Нет, он не может. Он говорил мне о своих надеждах, о своих сожаленьях: «Это не должно тебя касаться». Говорит ли он с Богом? Быть может, я должна обратиться к Богу? Я в самой глубокой бездне и больше не умею молиться.
Если бы он объяснил мне свои печали, разве я поняла бы их лучше, чем его насмешку? Напав на меня, он часами со мной говорит, стыдя за все, что могло меня трогать в мире, и раздражается, если я плачу.
«Посмотри: вот элегантный молодой человек, он входит в красивый и тихий дом. Человека зовут Дювалем, Дюфуром, Арманом, Морисом, откуда мне знать? Его любила женщина, этого злого кретина: она умерла и наверняка теперь ангел небесный. Из-за тебя я умру, как из-за него умерла эта женщина. Такова наша участь — тех, у кого слишком доброе сердце…» Увы!
Были дни, когда любой человек действия казался ему игрушкой гротескного бреда, и тогда он долго смеялся чудовищным смехом. — Затем начинал вести себя снова, как юная мать, как любящая сестра. Мы были бы спасены, не будь он таким диким. Но и нежность его — смертельна. Покорно иду я за ним. — О, я безумна!
Быть может, однажды он исчезнет, и это исчезновение будет похоже на чудо. Но я должна знать, дано ли ему подняться на небо, должна взглянуть на успение моего маленького друга.
До чего же нелепая пара!
Пер. М. П. Кудинова
INFO
Птифис Пьер
П 87 Артюр Рембо. Пер. с фр. — М.: Мол. гвардия, 2000. — 406(10] с.: ил. — (Жизнь замечат. людей; Сер. биогр.; Вып. 772).
ISBN 5-235-02379-Х
УДК 840-1 «18» (092)
ББК 83.3(0)5
Птифис Пьер
АРТЮР РЕМБО
Главный редактор издательства А. В. Петров
Редактор О. И. Ярикова
Художественный редактор А. Б. Романова
Технические редакторы В. В. Пилкова, Н. А. Тихонова
Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова
Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.
Сдано в набор 06.10.99. Подписано в печать 03.02.2000. Формат 84х1081/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 97217.
Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21.
Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии «Молодая гвардия»: 103030, Москва, Сущевская ул., 21.