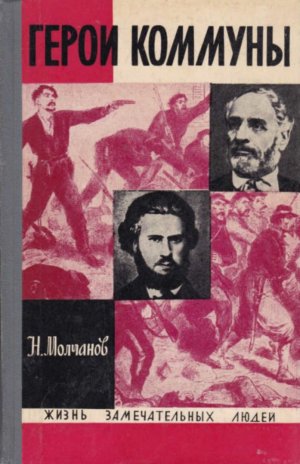
*М., «Молодая гвардия», 1971
18 марта 1871 года Париж просыпался не для обычной будничной работы; в этот день его народ призван был совершить величайшую революцию века. Разбуженные барабанным боем, гулом набата и стрельбой рабочие, ремесленники, лавочники, весь трудовой люд великого города бросился к своим ружьям и побежал к местам сбора батальонов Национальной гвардии. Народ был вооружен. Вторжение прусских войск вынудило власти еще в прошлом году создать в Париже народное ополчение — Национальную гвардию. Уже много месяцев гвардейцы возмущались своими буржуазными правителями, которые после развала империи Наполеона III думали только о том, чтобы разоружить «чернь» и снова загнать ее в трущобы и мастерские. Сегодня они попытались отнять у Национальной гвардии пушки, купленные на гроши бедняков. С рассветом солдаты двинулись к холмам, и прежде всего к Монмартру, чтобы захватить орудия. Это происходило в рабочих кварталах, где люди привыкли вставать рано. К тому же грохот тяжелых пушечных колес, раздавшийся на рассвете, мог разбудить кого угодно. Первыми бросились к солдатам женщины и заговорили с ними, потом подоспели их вооруженные мужья. А солдаты, возненавидевшие своих генералов, позорно проигравших войну, не только отказались стрелять в народ, но и расправились с двумя из них. Командующий расстроенными войсками генерал Винуа приказал отступать. Даже те пушки, которые солдаты привезли с собой, пришлось бросить. Да что пушки, генерал Винуа потерял в суматохе свою фуражку! А батальоны Национальной гвардии, возглавляемые революционными командирами, начали занимать все важные пункты Парижа: военное и другие министерства, префектуру, Ратушу. Париж постепенно переходил в руки восставшего народа. Над Ратушей поднялся красный флаг победоносной революции.
Было около четырех часов дня, когда из ворот министерства иностранных дел на набережной Орсэ, ближе к западным окраинам Парижа, поспешно выехала богатая карета. Кирасиры окружили ее, и кавалькада помчалась в сторону, противоположную той, где уже торжествовала революция. Карета казалась пустой, но в глубине, забившись в самый угол, сидел маленький толстый старик, испуганно поглядывавший по сторонам. Иногда он высовывался и кричал офицеру, чтобы конвой, охранявший его, скакал быстрее. Это был глава правительства Адольф Тьер. В разговорах его чаще называли — «Муха» или «Карлик». Обычно эти прозвища звучали отнюдь не добродушной шуткой. Их произносили с ненавистью, с презрением. Даже многие из близких к Тьеру людей испытывали отвращение к нему, хотя и не могли обойтись без помощи этого поразительного человечка, в крошечном геле которого было сконцентрировано столько злобного, изощренного ума, столько коварства, необычайной ловкости, иезуитской хитрости, столько способности к холодному расчету и циничной лжи, что без него так или иначе не могли обойтись все сменившиеся за последние сорок лет французские правители.
Про Тьера никак нельзя было сказать, что он восполнял свой маленький рост возвышенностью мысли; вопиющим контрастом с его тщедушной фигуркой могли служить только его необъятное тщеславие да редкостная по гигантским масштабам подлость. Правда, ему не чужды были человеческие чувства, но только самые низменные.
Власть и деньги — вот что владело всеми помыслами его души. Впрочем, власть он любил больше денег, собственно, он даже никогда не отделял одно от другого. Месяц назад он достиг высшей власти, став главой государства. Тьер начал с установления себе гигантского трехмиллионного оклада. Он и раньше не раз добирался до кормила власти. Еще при короле Луи-Филиппе Тьер стал министром, а в 1840 году, тридцать лет назад, возглавил правительство. Но, к своей досаде, он все время оставался на вторых ролях. Этот пигмей стремился к установлению своего личного, неограниченного господства над всей великой Францией, которая должна была в конце концов оказаться под каблуками его кривых коротких ножек. Он шел на все ради власти. Даже объявлял себя революционером и подстрекал к революциям, чтобы на другой день утопить их в крови. Он ненавидел революции больше всего на свете. Сколько раз революционеры мешали ему захватить власть! Но еще чаще он сам душил революции. Ради этого он помог Луи-Бонапарту совершить государственный переворот, хотя и презирал его как человека. Империя пала в крови, грязи и позоре. Народ, на этот раз вооруженный и озлобленный, внушал смертельную тревогу буржуазии. Как заставить его расплачиваться за гигантские издержки войны, как сохранить его покорным и послушным? Задача не из легких, и не было человека, который больше Тьера мог бы подойти для ее выполнения. Вот почему он, пообещав обуздать Париж, и получил теперь вожделенную власть. Сегодня Тьер предпринял первый шаг, попытавшись отнять у народа пушки. Он рассчитывал на беспечность парижан, но оказалось, что его замыслы расстроены, а ведь он всегда без тени улыбки утверждал, что никогда не ошибается!
Итак, теперь ему предстоит уже не предотвращать революцию, а подавлять ее. Для этого надо прежде всего бежать из Парижа. Вот почему Тьер погонял лошадей. Наконец миновали Севрские ворота. Тьер отпускает конвой и направляет генералу Винуа приказ вывести все войска в Версаль, в загородную резиденцию французских королей. Мэру Парижа Ферри, своим министрам он поручает отозвать всех чиновников, остановить всю систему управления городом и всем бежать в Версаль. Оттуда он поведет войну с восставшим Парижем.
Тьер уже выехал из города за линию укреплений, и его карета проезжает мимо форта Исси, одного из многих крепостных сооружений, которые по предложению Тьера построили еще тридцать лет назад. Удастся ли их использовать для подавления революции или они станут опорой восстания? Многое тревожит сейчас Тьера. Он знал, что рано пли поздно произойдет решающая схватка, вспыхнет революция, неизбежное ь которое! он понимал, может быть, даже лучше тех, кто в Париже сейчас торжествовал победу.
Адольф Тьер использовал свой талант лжи не только в политике, но и в исторической науке. Он написал восьмитомную историю французской буржуазной революции, потом объемистую историю консульства и империи Наполеона I. Он понял, что основа истории — борьба классов. А поскольку его симпатии в исторических сочинениях всегда находились на стороне власть имущих, а его ненависть всегда обращена к народу, или к «черни», как он выражался, то и в политике он выступал только как представитель господствующего класса. В течение полувека он с тревогой наблюдал рост нового, враждебного буржуазии класса — пролетариата. Еще в июне 1848 года Тьер помог совершить кровавую расправу над восставшими рабочими. Однако рост рабочего движения не переставал тревожить сон карлика. В последние годы империи его особенно беспокоили забастовки рабочих, развитие их организаций; он чувствовал, что рано или поздно рабочий класс настолько увеличится и настолько усилится, что уничтожит буржуазию. Не наступило ли сейчас именно такое восстание рабочего класса, которого он боялся больше всего? А может быть, тем самым представился случай надолго задержать рабочее движение, расправившись с его самыми активными представителями? Надо отучить рабочий класс, эту «чернь», которую он ненавидел за то, что она угрожала его богатствам, хотя сама создавала их, отучить хотя бы на время одного поколения и думать об улучшении своей участи! Вот задача, решение которой достойным образом увенчает его карьеру! Беда в том, что это не так-то просто. В Париже 300 тысяч человек в Национальной гвардии. Если все они на стороне восставших, то что сможет сделать он, если у него всего двадцать тысяч солдат, которые к тому же сегодня не захотели стрелять в народ? Что если на помощь Парижу придут другие города Франции? Вся надежда на германского канцлера Бисмарка: ведь в плену у немцев несколько сот тысяч французских солдат. Надо, кроме того, восстановить против парижских бунтовщиков провинции. Конечно, на стороне Тьера Национальное собрание, которое через день начнет заседать в королевском театре Версаля. На его стороне церковь, все защитники старого порядка. Надо лишь, чтобы они оставили свои разногласия и поняли смертельную опасность, исходящую из Парижа, чтобы осознали небывало грозный характер восстания. Смешанное чувство восторга перед масштабами преступления, Которое он может совершить, и страха перед опасностью этого предприятия словно омолодило душу злобного карлика, вселило в него дьявольскую энергию одержимого. Конечно, у него пока нет сил, но зато есть коварство, хитрость и огромный опыт борьбы с этим добродушным гигантом — французским народом, которого надо лишь обмануть, усыпить, одурачить. Ему ли, прославленному историку, не знать, сколько раз это удавалось и более ничтожным людям, чем он!
За свою долгую жизнь Тьер доказал, что он превосходит иных королей, императоров, особенно все это скопище республиканских или монархических министров тем, что он способен на все, даже на то, что вызывает омерзение у самых закоренелых негодяев. Франция «порядка», то есть Франция капиталистов, банкиров, помещиков, генералов, священников и остальных, кто из-за глупости, страха или расчета поддерживал их, эта Франция и вручила ему верховную власть.
Кто же лучше может обеспечить «порядок»? Как писал Карл Маркс, «Тьер, этот карлик-чудовище, в течение более чем полстолетия очаровывал французскую буржуазию, потому что он представлял собой самое совершенное идейное выражение ее классовой испорченности».
Итак, вот главные действующие лица всемирно-исторической драмы, разыгравшейся сто лет назад: буржуазия, все, что было во Франции реакционного, старого, отсталого, жестокого, несправедливого, олицетворяемого Тьером, с одной стороны, и Париж, его народ, революция, свобода, социальная справедливость, все, олицетворяемое Парижской коммуной, и ее деятелями, — с другой.
Что же происходило в Париже в то время, как вслед за Тьером все буржуазные подонки и их лакеи устремились из столицы в Версаль?
22 марта в версальском собрании министр правительства Тьера Жюль Фавр говорил: «Состояние Парижа — это грабеж, воровство, убийство, возведенное в социальную доктрину, и мы все это увидим, если не победим его!.. Никакой слабости, никакого примирения! Поспешим расправиться с негодяями, завладевшими столицей!»
Ярость Фавра можно понять, кроме всего прочего, и потому, что парижские революционные газеты перепечатывали подлинные юридические документы, из которых следовало, что с помощью подлогов Фавр приобрел огромное наследство, что за ним числились и другие грязные дела. Чтобы представить действительную обстановку в Париже, обратимся к свидетельству тоже противника Коммуны, но, в отличие от Фавра, хотя бы не запятнанного уголовщиной. В одном из уютных особняков на улице Монморанси жил в это время писатель Эдмон Гонкур. Он каждый день записывал в дневник свои мысли и впечатления. Этот богатый любитель изысканного брезгливо морщился при виде бедности и рабочих людей. Разумеется, грязную работу по удержанию этой «черни» в повиновении он охотно уступал людям типа Тьера или Фавра. Сам он предпочитал все «возвышенное», оставаясь, по существу, вульгарным буржуа. Вот его записи:
«18 марта… на Монмартре идут бои… Население Парижа за эти шесть месяцев видело столько, что его, наверное, уже ничто не может взволновать… Кажется, восстание торжествует победу и овладевает Парижем; национальных гвардейцев становится все больше, и повсюду высятся баррикады, а наверху торчат шальные мальчишки».
На другой день эстетствующий буржуа, однако, заволновался: «19 марта… Я устал быть французом; во мне зреет смутное желание поискать себе другую родину, где мысль художника может течь спокойно, где ее не тревожат каждую минуту глупая агитация и бессмысленные конвульсии всесокрушающей толпы… Для этой черни Свобода, Равенство, Братство могут означать только порабощение и гибель высших классов… Отвращение охватывает при виде их глупых и мерзких лиц; эти торжествующие и пьяные физиономии словно излучают беспутство».
Пропустим несколько дней и прочитаем запись, раскрывающую причину благородного негодования автора пикантных романов: «28 марта… совершается просто-напросто завоевание Франции рабочими и подчинение дворян, буржуа и крестьян их деспотической власти. Власть уходит от имущих и переходит к неимущим, она уходит от тех, кто материально заинтересован в сохранении существующего общества, и переходит к тем, кто отнюдь не заинтересован ни в порядке, ни в стабильности, ни в сохранении прежнего режима».
«10 апреля… Примирение между Версалем и Коммуной — это мечта идиота!» Да, именно так, что и выясняется в одной из следующих записей, где писатель пересказывает содержание плаката, который он увидел на стене. Во Франции 7,5 миллиона семей владеют всего десятью миллиардами, в то время как 450 тысяч буржуазных семей имеют 400 миллиардов. «Плакат этот, — отмечает Гонкур, — сокровенная суть секретной программы Коммуны!» Почему же секретной? Коммунары открыто говорят, что ведут борьбу за социальную справедливость!
Это и вызывает ярость Версаля. Страх потерять нечестно нажитые богатства, утратить несправедливые привилегии, отчаянная жадность собственников, дрожащих над награбленным добром, звучит в диких проклятиях, посылаемых из Версаля Коммуне. У них революция 18 марта и вызвала взрыв бешеной ярости. Буржуазия испугалась, что ее собственный лозунг «Свобода, Равенство, Братство» из фальшивой вывески на зданиях префектур, судов и тюрем станет принципом реальных человеческих отношений. Эта перспектива ужасает версальцев.
Но именно по этой же причине восставший Париж, объединенный вокруг Коммуны, охвачен небывалым энтузиазмом.
Париж и Версаль разделяет пропасть, ибо Версаль — проклятое прошлое, Париж — прекрасное будущее.
В Версале царит страх, в Париже — уверенность и радость.
Версаль исходит злобой и ненавистью, Париж сияет великодушием и доброжелательностью.
Коммуна воплощает лучшие стремления, высокие и благородные желания. Коммуна — надежда на лучшее будущее. Коммуна — мечта о подлинной свободе и правах для каждого. Коммуна — вера в торжество справедливости.
Прекрасен и суров Париж весной 1871 года. На улицах, где так много теперь людей, чувствующих приближение счастья, стоят баррикады и пушки. А у одной из баррикад беззаботно играет ребенок. Жюль Валлес, коммунар и писатель, обращается к нему:
— День 18 марта раскрыл перед тобою прекраснее будущее, мой мальчик. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, топтаться в грязи, барахтаться в крови, сгорать от стыда, переносить несказанные муки бесчестья. С этим покончено! Мы пролили за тебя кровь и слезы. Ты воспользуешься нашим наследием. Сын отчаявшихся, ты будешь свободным человеком!
Но могут сказать, что Валлес, писатель, наделенный чувствительной душой, жил романтическими грезами. А что ощущал народ? Труженики Парижа восприняли Коммуну как радостный праздник свободы, как долгожданный триумф справедливости, как воскресение своих не раз обманутых, истерзанных, затоптанных, ныне чудесно оживших, сокровенных надежд!
В день провозглашения Коммуны гигантские волны сотен тысяч людей с оркестрами и барабанами, с красными знаменами, с фригийскими колпаками на штыках затопили Гревскую площадь. Здание Ратуши украшено флагами, на трибуне возвышается мраморный бюст Марианны — символ республики, обвитый красными лентами, а вокруг него стоят члены Коммуны. Главный герой здесь — ликующий народ.
Габриель-Ранвье, член Центрального комитета, провозглашает Коммуну:
— Центральный комитет Национальной гвардии передает свою власть Коммуне. Граждане, я не могу сегодня произносить речь, мое сердце слишком полно радостью. Позвольте мне только воздать хвалу населению Парижа за тот великий пример, который он дал миру!
Далеко не все из многих тысяч людей, окружавших Ратушу, разобрали слова Ранвье: ведь микрофонов тогда не было. Но каждый чувствовал, понимал смысл слов, которые должны быть сказаны. И толпа откликнулась выражением единодушного восторга. Впрочем, послушаем свидетелей этого необыкновенного праздника. Один из них, Катюль Мендес, держался в сторонке. Противник Коммуны, он был поражен народным апофеозом и писал о нем так: «Внезапно раздается пушечный выстрел, песня несется грозными раскатами. Громадная зыбь знамен, штыков, кепи уходит, набегает, струится и сбегает к трибуне. Пушки продолжают грохотать, но их слышно только, когда смолкает пение. Затем все звуки теряются в общем голосе толпы; и у всех этих людей единое сердце, как у всех у них один голос, один крик: «Да здравствует Коммуна!»
Другой свидетель, Артур Арну, стоял на трибуне; он был членом Коммуны. «Когда Центральный комитет объявил имена избранных в Коммуну, — вспоминает он, — когда пушечный залп внезапно потряс город, из тысяч грудей раздался крик, полный такого энтузиазма, такого единодушного и решительного провозглашения республики и Коммуны, что этого не забудет никто из присутствующих на этом торжестве, хотя бы ему пришлось жить столетия».
С основанием Коммуны занялась заря новой эры в истории человечества. Коммуна открыла совершенно новую страницу в книге истории. Каждая минута немногих недель ее существования была матерью веков.
В Версале кричали, что Париж превратился в разбойничий притон, в гнездо разврата, в рай для уголовных преступников. В действительности, никогда еще Париж, из которого изгнали жандармов и полицейских, не жил так спокойно. Нет больше убийств, грабежей, воровства. Сам народ, каждый гражданин охраняет порядок. Витрины магазинов сверкают изобилием товаров. Но ни один из них не был разграблен. В своей щепетильности Коммуна, пожалуй, заходила слишком далеко, охраняя собственность буржуа.
Жизнь огромного города, хозяйство и администрацию которого намеренно дезорганизовал Тьер, отозвав всех опытных чиновников, наладилась за несколько дней. Никогда еще почта, больницы, дома престарелых и детские приюты не работали так образцово. Простые рабочие встали во главе министерства финансов и всех хозяйственных учреждений. Они проявили не только честность и добросовестность, но и поразительные административные таланты. Хотя Париж блокирован с одной стороны пруссаками, а с другой — версальцами, Коммуна обеспечивает бесперебойное снабжение продовольствием. Более того, цены снижаются, жизнь становится дешевле. Коммуна окружает вниманием и заботой стариков, инвалидов, вдов, сирот и больных. Администрация Коммуны стала для них заботливой матерью. Чуткими мерами искореняется нищенство. Проституция, которой славился Париж, больше не позорит улиц города.
Повсюду, везде, во всем человек из объекта эксплуатации, преследования, унижения и оскорбления превращается в объект заботы, внимания, уважения и почета. Коммуна обеспечивает всем, без всякого исключения, личные права и свободы. В Париже начинают заседать десятки политических клубов. Для народных собраний предоставлены величественные древние соборы. Церковные органы исполняют «Марсельезу», и на жизнерадостную толпу свободно рассуждающих, спорящих, думающих граждан смотрит каменный Христос, обвитый красными лентами революции…
Да что Христос, сам великий скептик Вольтер удивился бы, увидев, как на площади его имени, у подножия статуи знаменитому философу коммунары устроили символическую церемонию: сюда притащили из тюрьмы гильотину, разбили ее и сожгли. Коммуна приняла декрет об отмене смертной казни!
К несчастью, крайний, доведенный порой до абсурда демократизм Коммуны, беспредельное уважение к правам личности, ее безграничное великодушие подло использовались Версалем в борьбе против революции. Тщательное, доходящее до какой-то мании соблюдение всесторонней демократии было странным, вопиющим диссонансом на фоне ожесточенной, кровопролитной, зверской войны Версаля против Коммуны. Демократизм Коммуны ослаблял удары, которые она должна была наносить своим смертельным врагам. Но не компенсировалась ли эта слабость поддержкой народных масс, их энтузиазмом, порожденным ощущением реальной свободы? Если бы Коммуна не была демократичной, гуманной, великодушной, не утратила ли бы она свою притягательную силу, свое неизмеримое моральное превосходство над версальскими палачами? Нравственное превосходство Коммуны над буржуазным обществом, ее благородство сделали ее ярко вспыхнувшей путеводной звездой, зарницей грядущего подлинно человеческого общества!
Во всем Коммуна решительно разрывала с самыми священными для буржуазного общества принципами. Величайшее символическое значение имело свержение Вандомской колонны, гигантского памятника в честь побед Наполеона I. Коммуна объявила, что императорская колонна представляет собой памятник варварства, символ грубой силы и ложной славы, апологию милитаризма, отрицание международного права, постоянное оскорбление победителями побежденных, вечное посягательство на один из трех великих принципов французской республики — братство. 16 мая 1871 года колонну снесли в присутствии многочисленной толпы; народ приветствовал свержение памятника тирану. Коммуна обещала, что монументы, которые она сама воздвигнет, никогда не прославят какого-нибудь исторического разбойника. Они увековечат для потомства славные завоевания в науке, труде и в достижении свободы.
Еще не осела пыль от рухнувшего колосса милитаризма и шовинизма, а Вандомскую площадь переименовали в Международную. Коммунары, страстные патриоты, горячо мечтали о Всемирной социальной республике, среди них было немало членов Интернационала, Всемирной ассоциации трудящихся, основанной Марксом и Энгельсом. Коммуна с радостью предоставляла уроженцам других стран великую честь бороться и умирать за ее идеалы. Ее фактическим министром труда был венгр Лео Франкель. Пост главнокомандующего Национальной гвардии она предложила легендарному итальянцу Гарибальди. Видные генералы Коммуны — поляки Домбровский и Врублевский. Вместе с французами против Версаля сражалось много бельгийцев, поляков, итальянцев, северо-африканцев. Были там и русские.
Главное, что принесло Коммуне бессмертную славу, — ее социалистическая тенденция и пролетарская природа. Правда, Коммуна не провела коренных социалистических преобразований. Во-первых, у нее оказалось слишком мало времени, да и его пришлось в основном тратить на борьбу за существование, то есть на войну, во-вторых, самые способные социалисты Коммуны, особенно Варлен, справедливо считали, что социализм нельзя ввести одним декретом. Они понимали, что для социализма время еще не пришло, что для этого нужен целый исторический период.
И все же революция 18 марта 1871 года сразу обнаружила еще невиданную в мире социальную природу. Она резко отличалась от Великой французской буржуазной революции, которая иногда была более жестокой к рабочим, чем к монархистам. Парижская коммуна явилась правительством рабочего класса, хотя он действовал в союзе с мелкой буржуазией. Коммуна учредила особую комиссию труда. Действуя совместно с рабочими, эта комиссия изучала, предлагала и проводила важные социальные меры. Она развернула борьбу с безработицей, за сокращение рабочего дня, повышение зарплаты, она ограничила права частных хозяев, запретила штрафы, позаботилась об охране труда. Наконец, она провела через Коммуну декрет о передаче орудий производства в руки самих рабочих. Правда, он касался только брошенных хозяевами мастерских и содержал другие ограничения. Однако его социалистическая тенденция несомненна.
Конечно, если сравнивать социальную политику Коммуны с тем грандиозным социальным переворотом, каким была Великая Октябрьская революция, то она выглядит еще очень робкой, неуверенной, смутной. Дело в том, что героически восставшие сто лет назад парижские рабочие еще крайне неясно представляли себе, что же это такое — социализм? Над сознанием даже самых передовых деятелей Коммуны тяготели традиции различных школ утопического мелкобуржуазного социализма. Чаще всего они руководствовались в своих действиях инстинктом, чутьем; у них еще не было самого важного, самого эффективного оружия пролетариата — научной революционной теории. Ведь Коммуна даже не осмелилась посягнуть всерьез на собственность буржуазии.
Но удивляться надо не этому, а тому, как в неимоверно трудных, запутанных обстоятельствах жестокой борьбы, в тумане отживших представлений она все же реально, совершенно определенно обнаружила свое стремление к социальному освобождению трудящихся. Социалистической мерой явилось ее знаменитое решение о том, что никто, какой бы высокий пост он ни занимал, не может получать больше денег, чем квалифицированный рабочий. Таким образом, наступление на материальные привилегии старого общественного порядка руководители Коммуны начали с самих себя! Эта мера, которую Ленин называл «особенно замечательной», наряду с полной выборностью и сменяемостью всех должностных лиц, прямо устремлялась к социализму. Вот что вызывало бешенство тьеров, фавров и других людей Версаля. Они понимали, что дело пахнет полным уничтожением самых главных, жизненных, коренных принципов буржуазного строя.
Одно и то же ощущение возможности глубоких перемен вызывало в Версале злобу, а в Париже — радость, энтузиазм, надежду. Наступила необыкновенная весна, время прекрасных иллюзий… Люди сохраняли хорошее настроение, сияли оптимизмом, хотя в западных кварталах рвались версальские снаряды. Отряды коммунаров с пением «Марсельезы», «Карманьолы», революционной «Походной песни» шли на боевые позиции. Возвращались они тоже с песнями, но ряды их редели, хотя над ними по-прежнему развевались простреленные и опаленные огнем красные знамена. У многих в стволах ружей торчали ветки цветущей сирени. Потом зацвела вишня. Поэт-коммунар Жан-Батист Клеман свое знаменитое стихотворение, посвященное Коммуне, не зря назвал «Пора вишен».
Карл Маркс напряженно следил из Лондона за событиями в Париже. С чувством, в котором смешивались искреннее восхищение и глубокая тревога, он писал в те дни мая 1871 года: «Коммуна каким-то чудом преобразила Париж… Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, но сияющий вдохновенным сознанием своей исторической инициативы, Париж почти забывал о людоедах, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества!»
72 весенних дня 1871 года — всего мгновенье в двухтысячелетней истории Франции. Однако трудно найти в сложной, наполненной множеством бурных событий многовековой жизни великого народа столь же интересный период, как незабываемые дни Парижской коммуны. Разве случайно за сто лет после Коммуны о ней написано множество книг? И появляются все новые! По случаю столетия Коммуны во Франции выходит «Большая история Коммуны». Она состоит из пяти огромных томов. Однако наивно было бы думать, что даже в этом издании описано все касающееся Коммуны.
Каждая из множества сторон жизни восставшего города заслуживает книги. Вот, например, недавно появилась книга о том, как коммунары организовали работу почты. А Тристан Реми выпустил в прошлом году книгу, в которой описал только один день борьбы трудящихся Монмартра с наступавшими версальцами. Но история учреждений, событий, сражений является в конечном счете описанием действий живых людей. Какие же они были, эти люди Коммуны, которые жили, радовались, страдали и умирали в далекое время и в далекой стране? Что они думали, чувствовали, к чему стремились, о чем мечтали, творя историю бессмертной Коммуны?
Узнать это нелегко. Живые свидетели давно ушли из жизни. Многие письменные документы и свидетельства затерялись в потоке времени и событий. И все же в исторических сочинениях, в воспоминаниях современников Коммуны содержится достаточно сведений о многих ее Героях, Которые, по выражению Маркса, бесстрашно штурмовали небо. Конечно, речь идет лишь о тех, кто стоял на авансцене событий. Имена многих тысяч рядовых Коммунаров вообще неизвестны, как и их бесчисленные героические подвиги. Не зря объектом почтительного поклонения потомков служит анонимный памятник, не связанный ни с чьим именем: потрясающая своим простым величием Стена коммунаров, украшенная небольшой серой каменной доской с лаконичной надписью: «Мертвым Коммуны».
Один из историков великой революции 18 марта и Коммуны заметил, что она не имела своих Робеспьеров и Дантонов. На это замечание можно ответить словами революционера-якобинца Сен-Жюста, который говорил в Конвенте: «Революция в народе, а не в славе, окружающей имена некоторых личностей».
К тому же посмертная судьба выдающихся людей Коммуны оказалась очень несправедливой к ним. Словно предчувствуя это, один из великих коммунаров, Шарль Делеклюз, писал другу буквально за несколько минут до своей трагической смерти: «Пусть судит о нас потомство и история, эта проститутка». Он имел в виду буржуазную историю; ведь другой тогда и не существовало. И действительно, сколько лжи, клеветы, самой низкой и подлой, пустили в ход буржуазные историки, чтобы очернить и осквернить светлые и благородные образы коммунаров. А чаще всего сами их имена просто замалчивали и скрывали. Крупнейшая буржуазная французская газета «Монд» в номере от 31 января 1970 года призналась: «Вот уже почти сто лет образ Коммуны возникает лишь иногда, внезапно озаряя ослепительной вспышкой время праздника, время мечты, которая, едва успев воплотиться в жизнь, была убита. Затем республика привилегированных исказила смысл Коммуны или вообще отодвинула ее в забытые потемки истории. Действительно, когда мы были детьми, нам рассказывали о Жанне Д’Арк или о Бонапарте, но весна 1871 года чаще всего замалчивалась».
Друзья Коммуны давно расстроили этот заговор молчания и разоблачили клевету. Карл Маркс 30 мая 1871 года, когда еще дымились остатки баррикад Коммуны и гремели залпы карательных взводов, обнародовал свое великолепное произведение «Гражданская война во Франции», в котором гениально раскрыл величие подвига коммунаров и всемирно-историческое значение революции 18 марта. Коммуна по праву стала гордостью и славой мирового освободительного движения пролетариата.
Но что касается героев Коммуны, то даже сочувствующие им историки очень часто не столько показывают их изумительные свершения, сколько с дотошной и педантичной придирчивостью копаются в их ошибках. Игнорируя условия времени и места, им непременно вменяют в вину, что они не знали теории научного коммунизма. С равным успехом можно было бы обвинить коммунаров в том, что они во время провозглашения Коммуны пели «Марсельезу» — гимн буржуазной революции, а не «Интернационал». Но ведь «Интернационал» еще не был создан. Коммунар Эжен Потье написал его лишь через месяц после гибели Коммуны!
Могут сказать, что сам Маркс, а также Энгельс и Ленин немало писали об ошибках Коммуны. Верно, но они писали это для того, чтобы мировой пролетариат учился на ее замечательном опыте. Они при этом не только не умаляли величие подвига коммунаров, но не переставали восхищаться им. «Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан! — писал Маркс 12 апреля 1871 года… — История не знает еще примера подобного героизма!., теперешнее парижское восстание, — если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, — является славнейшим подвигом нашей партии…»
Пантеон Коммуны обширен и великолепен разнообразием лиц, характеров, умов. Большинство их состояло из подлинных революционеров. Сорок из восьмидесяти членов правительства Коммуны сидели в тюрьмах при прежних режимах. Их средний возраст — 36 лет. Только шестеро были старше 60 лет. Самому старшему — Шарлю Беле — было 76. Самому молодому — Раулю Риго — 25. Среди членов Коммуны 33 рабочих, что само по себе делало Коммуну небывалым в истории правительством. В нее входило 30 интеллигентов, по своим взглядам либо близко стоявших к рабочим, либо их признанных руководителей. Среди интеллигентов 14 журналистов, 5 врачей, 4 юриста, 1 архитектор, 4 преподавателя, 2 художника. Кроме того, в Коммуну вошло 11 чиновников, 5 коммерсантов, 2 офицера.
Все они были бедняками, за исключением нескольких состоятельных людей. Но и они отдавали свое достояние на осуществление политических замыслов. Единой политической партии в Коммуне не было. Ее члены придерживались разных взглядов, различных политических направлений. Они спорили и вступали в конфликты между собой. Им так не хватало единства!
В Коммуне было много социалистов. Это прежде всего члены Интернационала, часто находившиеся под влиянием идей мелкобуржуазного социалиста Жозефа Прудона. Самой крупной фигурой среди социалистов был Эжен Варлен, решительно преодолевавший прудонистские иллюзии.
Вместе со своими товарищами, как и он, простыми рабочими, сумевшими подняться из мрака невежества и беспросветного каторжного труда к духовному освобождению и приобщиться к идеям социализма, он представляет в Коммуне рабочий класс Франции. Среди социалистов-рабочих друзья Варлена: красильщик Малой, переплетчик Клемане, механик Авриаль. Здесь и Асси, металлист, организатор забастовок в Крезо. 18 марта 1871 года он руководил захватом Ратуши. Активные борцы за социализм ювелир Лео Франкель и сапожник Огюст Серрайе были уже знакомы с идеями революционного марксизма, влияние которого, к несчастью, слабо ощущалось в Коммуне. Впрочем, часто интуитивная революционная логика побуждала рабочих-коммунаров действовать вопреки прудонистским взглядам. Одним из таких людей был резчик по металлу Альбер Тейс, показавший себя на посту директора почтового управления одним из лучших администраторов Коммуны. Рабочий-ювелир Камелина столь же успешно руководил Монетным двором. Он надолго пережил Коммуну и в 1920 году играл немалую роль при образовании Французской компартии, явившись живым олицетворением ее связи с Коммуной.
Эти и другие рабочие, имена которых будут встречаться читателю, ярко выражали пролетарский характер Коммуны. Они принесли в Коммуну надежды на социальное освобождение, преданность, энергию, мысль и честь рабочего класса Парижа. Кстати, в совете Коммуны относительная доля рабочих была значительно меньше доли рабочих среди всей массы коммунаров. Но рабочие справедливо считали своими представителями в Коммуне многих интеллигентов-социалистов. Таким был талантливый журналист и писатель Верморель. Он еще до Коммуны распространял идеи социализма. Правда, с точки зрения научного социализма и в его взглядах легко заметить теоретическую слабость, присущую всем тогдашним французским социалистам. Энергичный Верморель из-за резкости характера нажил немало врагов. Своей деятельностью в Коммуне, героическим поведением в ее последние дни, он опроверг клеветнические слухи, которые некоторые распускали про него. Верморель был одним из подлинных героев Коммуны.
Социалист Лефрансе завоевал репутацию лучшего социалистического оратора. Этот школьный учитель задолго до образования Коммуны приобрел опыт революционной борьбы и подвергался преследованиям. Он красноречиво показывал ограниченность слепых последователей Прудона, их политическую трусость. Еще за пять месяцев до революции 18 марта он говорил: «Лишь Интернационал и рабочая федерация способны осуществить социальную революцию, которую обозначит провозглашение Коммуны, становящееся все более вероятным».
Наиболее многочисленной группировкой были революционеры-якобинцы. Они романтически преклонялись перед идеями и делами крайних революционеров Великой французской революции, возглавлявшихся Робеспьером. Якобинцы в Коммуне представляли интересы городской мелкой буржуазии, у них были и социалистические стремления, правда довольно неопределенные. Духовным вождем якобинцев являлся Шарль Делеклюз.
Видную роль в Коммуне играл друг Делеклюза адвокат Тамбов. Вместе они боролись против империи Наполеона III. В Коммуне Гамбон входил в комиссию юстиции, а затем — в Комитет общественного спасения. В дни «кровавой недели» он героически сражался на кладбище Пер-Лашез, а потом вместе с Варленом защищал одну из последних баррикад. Но в группе якобинцев, как и других, были и случайные для революции люди вроде Феликса Пиа, шумевшего без толку, но не без вреда больше всех.
К якобинцам примыкали бланкисты, последователи великого революционера Огюста Бланки. Он сам тоже был избран в Коммуну. Однако еще 17 марта полицейские Тьера арестовали его, заточили в тюрьму, так что он узнал о Коммуне уже после ее гибели. Бланкисты — Эд, Дюваль, Ранвье, Ферре, Риго — были крайне удручены отсутствием своего вождя. «Без Бланки нельзя ничего сделать, — говорил Риго, — с Бланки можно сделать все». Блацкисты были энергичными и бесстрашными революционерами, хотя у них, подобно якобинцам, не было ясной социальной программы.
Многие бланкисты входили в Интернационал. Среди них выделялся энергией, революционной смелостью рабочий-литейщик Дюваль. Он был одним из самых решительных руководителей в день 18 марта и стал генералом Коммуны. К несчастью, Дюваль погиб еще в самом начале апреля. Бланкист, член Интернационала, он заслужил исключительную популярность среди рабочих Бельвиля своей самоотверженной борьбой за революцию.
Наибольшим авторитетом среди бланкистов пользовался Тридон, близкий друг Огюста Бланки. Этот в прошлом состоятельный человек своему богатству предпочел служение революции. Талантливый, остроумный журналист, член Интернационала, он, будучи неизлечимо больным, поражал своей сверхчеловеческой выдержкой. Смелыми и преданными революционерами проявили себя Риго и Ферре. Но они, пожалуй, в наибольшей степени выражали слабость бланкистов. Они пренебрегали деловой повседневной работой, питали слабость к ультрареволюционной фразе.
Гюстав Флуранс, которого относят и к бланкистам и к якобинцам, славился беспримерной смелостью. Но из-за нежелания видеть реальные трудности и сложность обстановки он неизменно терпел неудачи. Маркс не зря говорил, что Флуранс слишком полон иллюзий и революционного нетерпения. В отличие от него бланкист Эдуар Вайян, врач и инженер, проявлял в Коммуне несравненно больше деловой выдержки. В Коммуне он ведал делами народного просвещения и стремился внести в него социалистические принципы.
Среди видных деятелей Коммуны выделяется яркая фигура журналиста и писателя Жюля Валлеса. Этот типичный революционер-одиночка, представитель интеллигентской богемы, тем не менее зарекомендовал себя преданным революционером. В последние недели Коммуны Валлес выступал вместе с группой социалистов.
Все вместе коммунары составляли гигантскую массу доблести, необычайной революционной стихийной силы и мужества. Но эти замечательные источники успеха остались нереализованными из-за отсутствия революционной, дисциплинированной партии единомышленников. Когда дело доходит до того, что каждый имеет в душе как бы свою собственную политическую партию, общая борьба обречена на неудачу…
Коммуна возникла стихийно, и ни одна из ее политических группировок не имела к этому времени своей политической программы. Да и сами эти группировки отнюдь не были однородными, четких границ между ними не существовало. Они напряженно искали свою политическую линию, колебались, ошибались. Поэтому Коммуна порой проводила противоречивую политику. Но это была не вина, а беда Коммуны, объясняющаяся невероятно сложной обстановкой, в которой она оказалась. Можно только восхититься тем, что и в таких условиях Коммуна сумела проявить исключительную политическую смелость, беспредельную преданность народу, поразительную интуицию. Ее объединяло и вдохновляло то, что Ленин называл «гениальным чутьем проснувшихся масс».
Среди членов Коммуны, особенно вначале, были колеблющиеся, неустойчивые, случайные люди. Ведь выборы в Коммуну явились торопливой импровизацией. Но в ней образовалось ядро подлинных революционеров. Они горели энтузиазмом и во имя своих идеалов готовы были идти на смерть. И при этом у них хватало особенно редкого мужества не претендовать на непогрешимость. Они способны были чувствовать свою скромную роль в сопоставлении с величием революции. «Пусть умрет память о нас, лишь бы революция была спасена», — говорил социалист Лефрансе, повторяя девиз деятелей Великой французской революции. Гюстав Флуранс, талантливый ученый, пламенный революционер, «Дон-Кихот революции», писал: «Я узнал, что кровью мучеников укрепляется свобода. Если моя кровь может омыть Францию от грязи и укрепить союз родины и свободы, я охотно отдам ее палачам».
Среди всех деятелей Коммуны выделяются монументальные фигуры Эжена Варлена и Шарля Делеклюза, главных героев этой книги. Оба они занимали важные посты в Коммуне, играли выдающуюся роль в критические моменты ее существования. Но не только это делает их. из ряда вон выходящими фигурами. Это были в полном смысле слова сильные личности, могучие творческие натуры, способные вопреки всему искать и находить правильный путь борьбы, не отступать ни перед какими препятствиями.
Варлен и Делеклюз не единомышленники. Напротив, каждый из них являлся крупнейшим представителем двух различных политических направлений и группировок, образовавшихся в Коммуне. Варлен — убежденный социалист, который еще до Коммуны стал лидером французского рабочего движения. Делеклюз — республиканец, последовательный демократ и революционный якобинец. Он в два раза старше Варлена. А если допустить, что идеи и взгляды тоже имеют возраст, то здесь разрыв между социализмом Варлена и якобинизмом Делеклюза еще больше. Тем не менее в различных мировоззрениях этих двух деятелей оказалось достаточно совпадений, чтобы они сами, подобно представляемым ими социальным силам, выступили в конце концов вместе под знаменем Коммуны.
О Коммуне нередко говорят, что она была последней революцией XIX века и первой революцией XX. Действительно, пролетарская социалистическая природа Коммуны, этого первого в мире рабочего правительства, своеобразно сочеталась с ее революционными буржуазно-демократическими тенденциями, с борьбой коммунаров в защиту республики, против феодально-монархического версальского собрания. Вся сложность социально-политической природы Коммуны как в зеркале отражается в образах Варлена и Делеклюза, в их различиях, в индивидуальном своеобразии каждого из них.
Это люди разного происхождения, один — рабочий-переплетчик, превратившийся в профессионального революционера; другой — представитель буржуазной интеллигенции, журналист и политик. Спокойный, молчаливый, очень сдержанный Варлен и темпераментный, резкий Делеклюз. Его принципиальность и строгость принесли ему прозвище «Стальной брус». О Варлене говорили, что это «Спартак без меча, Христос без бога». Огромный личный авторитет в Коммуне они приобрели благодаря своим необыкновенным нравственным качествам, своей беспредельной преданности делу Коммуны. Каждый из них не представлял себе иной судьбы, чем судьба Коммуны. Ни тому, ни другому и в голову не приходила мысль попытаться спасти свою жизнь. Они погибли вместе с Коммуной. Их героическая решимость, их готовность к самопожертвованию заслоняют все: их ошибки, недостатки, слабости. Они сумели гордо умереть за Коммуну. Разве можно требовать от людей большего?
Коммуна — одно из величайших событий мировой истории. Это одна из тех ослепительных вспышек, которые озаряют поток жизни на многие века. Коммуна — один из великолепнейших порывов человечества к лучшему будущему. И если искать людей, которые в наибольшей степени олицетворяли Коммуну, то это были именно Варлен и Делеклюз, ее бессмертные мученики, которые, по словам Маркса, «навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса».
ШАРЛЬ ДЕЛЕКЛЮЗ
I
Шарль Делеклюз, четырнадцатилетний ученик лицея Ландри на улице Шоссе д’Антен, оказался среди тех неудачников, которых родители не забрали домой на пасхальные каникулы 1824 года. Изнывая от скуки, мальчики слонялись по пустым дортуарам и классам. Постепенно они собрались во дворе лицея, залитом теплым апрельским солнцем. Кто-то придумал разделиться на две группы и устроить сражение. Скоро всех охватил такой азарт, что игра превратилась в настоящую драку. Отнюдь не отличавшийся физической силой, но быстро увлекавшийся Шарль нечаянно так сильно ударил товарища, что чуть не выбил ему глаз. Именно в этот момент во дворе появился директор лицея г-н Ландри. Не хватало еще, чтобы его образцовый лицей приобрел репутацию заведения, где калечат учеников! Не обращая внимания на искреннее огорчение и раскаяние юного Делеклюза, разгневанный г-н Ландри сурово наказал его. Провинившийся должен был отправиться в карцер и находиться там до тех пор, пока не перепишет четыре тысячи строчек стихотворений.
Никто не ожидал, что Делеклюз выйдет из карцера раньше, чем дней через десять. Но, к общему удивлению, Шарль выполнил урок, заданный ему в наказание, за два дня! Он объяснил, что боялся больше всего, как бы судороги, сводившие его измученные пальцы, не помешали ему. Директор Ландри, уже до этого понявший несправедливость наказания, решил загладить свою чрезмерную строгость. Он объявил, что Делеклюз заслуживает за свое необычайное усердие награды: права в течение восьми дней носить почетный серебряный крест, предназначенный самому отличившемуся ученику, а также приглашения на обед к директору. Шарль Делеклюз гордо отказался от награды. Мальчик был очень обидчив и крайне чуток к любой несправедливости. Он отличался также пылким и воинственным темпераментом.
Независимостью и резкостью характера Шарль выделялся еще в своей семье. Его мать, скромная, очень набожная женщина, горячо любила своего старшего сына. Из восьми ее детей пятеро умерли в раннем детстве. Выжили трое — Шарль и его сестры. Потом появился маленький брат, на десять лет моложе Шарля. Глава семьи, хотя и был полицейским комиссаром в маленьком городе Дрё в семидесяти километрах западнее Парижа, где 2 октября 1809 года родился Шарль, отнюдь не отличался строгостью. Жизнерадостный и добрый, любитель выпить, он спокойно довольствовался скромным окладом в 800 франков. К тому же брат его жены, богатый барон Лавенан подарил сестре ренту, приносившую 1600 франков в год, а кроме того, иногда оплачивал долги семейства. Детство Шарля Делеклюза проходило в обеспеченном, можно сказать, буржуазном семействе. Его отец имел возможность пренебречь скромным муниципальным училищем в Дрё и отдать сына в парижский лицей Ландри, пользовавшийся хорошей репутацией. Шарль проявил исключительные способности и получал, как правило, самые высокие оценки. Вот почему г-н Ландри полюбил своего ученика, несмотря на его довольно строптивый характер, и надолго сохранил дружеские отношения с ним и его семьей.
В 1827 году молодой Делеклюз блестяще закончил лицей по классу риторики и начал изучать право. Но скромные денежные средства семьи не позволили ему продолжать учебу в столице; и он возвращается в Дрё. Здесь его взял письмоводителем в свою контору адвокат Даверне. Через него Шарль познакомился с помощником нотариуса Скеллем, который скоро стал его другом. Странная это была дружба. Скелль имел заслуженную репутацию благонамеренного молодого человека, уважающего все, что полагается: короля, церковь, существующие законы. Иное дело Шарль Делеклюз. С юных лет он буквально влюблен в Великую французскую революцию — в ее идеи, в ее героев. В реставрированной после падения Наполеона монархии Бурбонов о революции невозможно было узнать в школе: там ее либо не упоминали, либо проклинали. Но ведь еще жили свидетели и участники этой революции. Одним из них был отец Шарля. В 1792 году он добровольно вступил в революционную армию и заслужил нашивки сержанта. Шарль с увлечением слушал рассказы отца о походах против армий европейских аристократов, об осаде Лилля, в которой участвовал этот бывший сержант, вспоминавший о людях Конвента, о бесстрашных якобинцах. Иногда старик, расчувствовавшись, запевал запрещенную «Марсельезу». А в Париже Делеклюз учился как раз в пору повального увлечения молодежи революцией. Не только Дантон, но Робеспьер и даже грозный Марат, которым в то время пугали детей, становились кумирами парижской учащейся молодежи. Когда Шарль Делеклюз, вернувшись из Парижа, стал служить у адвоката Даверне, он познакомился с идеями Сен-Симона; патрон оказался поклонником великого социалиста-утописта. Делеклюза не могла не восхитить мысль Сен-Симона о том, что Франция ничего не потеряла бы от исчезновения тридцати тысяч ее главных представителей дворянства, духовенства, политических деятелей, чиновников и земельных собственников, тогда как непоправимой потерей была бы гибель трех тысяч ее ученых, художников и промышленников.
Между тем в июле 1830 года в Париже происходит революция. Власть Бурбонов в лице Карла X, пытавшегося восстановить абсолютистские порядки, свергнута. Но кучка политиканов, и прежде всего молодой беспринципный Адольф Тьер, украли у народа плоды совершенной им революции. Во Франции сохранилась монархия, правда такая, которая из феодальной теперь превращалась в буржуазную. Королем стал Луи-Филипп Орлеанский. Однако новый режим дал власть только одной части буржуазии. Установилось царство банкиров, таких, как Лаффит и Перье. Основная часть буржуазии еще не получила доступа к власти. Число людей, пользующихся избирательным правом, увеличилось незначительно: с 90 до 240 тысяч. И хотя отныне можно было сколько угодно петь «Марсельезу» и любоваться трехцветным флагом, республиканское движение не только не прекратилось, но резко усилилось.
Известие о революции застало Делеклюза в Дрё. Теперь все его помыслы сосредоточены на том, чтобы поскорее перебраться в столицу. Революция, несомненно, будет продолжаться, как это было с Великой революцией, история которой все больше вдохновляла Делеклюза. Вскоре он подыскал себе место письмоводителя у парижского адвоката Валле и в ноябре 1830 года уже оказался в Париже. Там он вскоре вступает в республиканское общество «Друзья народа», возникшее в самый разгар июльской революции. Сначала общество действовало открыто и легально, но уже через два месяца после июльской революции преследования властей превратили его в тайное. Оно не было особенно многочисленным: в него входило около 600 человек. Однако «Друзья народа» быстро приобрели широкое влияние. Общество состояло главным образом из молодых людей вроде Делеклюза, вносивших в него неистовый юношеский энтузиазм и романтические иллюзии. Четкой политической программы или единой системы взглядов у них не было; чувства и мечты заменяли идеи. Большинство «Друзей народа» называли себя якобинцами и превозносили Конвент. На своих многочисленных собраниях они без конца цитировали Демулена, Робеспьера или Марата. Во всяком случае, общество оказалось самой левой и самой революционной французской политической организацией тех времен.
Еще раньше, во время учебы в Париже, Делеклюз слышал речи вождя общества Годфруа Кавеньяка. Этот высокий молодой человек с блестящими глазами и орлиным носом, одетый в длинный, наглухо застегнутый сюртук, поразил его своей энергией, отрывистой, категорической манерой речи. Сын члена Конвента, Кавеньяк страстно прославлял якобинцев. Преклонение перед монтаньярами заменяло программу. Образы Робеспьера и Сен-Жюста вдохновляли сильнее теоретических формул, наводивших на молодежь скуку. Кавеньяк, один из храбрейших участников июльской революции, теперь предстал в новом ореоле. Он гневно возмущался ничтожными результатами революции и требовал ее продолжения. В обществе «Друзья народа» состояли и еще более крайние революционеры, такие, как студент-юрист Огюст Бланки. Он настаивал на немедленной организации вооруженного заговора. Делеклюз с головой окунулся в дела общества и стал одним из его наиболее ревностных участников.
Он горит желанием послужить революции. А возможностей для этого в Париже сколько угодно. В последние месяцы 1830 года столица охвачена волнениями из-за суда над бывшими министрами Карла X. Это они своими ордонансами пытались восстановить абсолютизм и спровоцировали кровопролитие июльских дней. Сейчас министры во главе с ярым роялистом князем Полиньяком заключены в Венсеннский замок и ждут суда. По мнению июльских борцов, министры заслуживают смертной казни. Однако Луи-Филипп вдруг заговорил о своем величайшем отвращении к пролитию крови. Дело в том, что в душе он мечтал о том же, к чему стремились Полиньяк и министры его кабинета. И вот в августе в палату депутатов вносится закон об отмене смертной казни. Слепому ясно, что Луи-Филипп хочет спасти Полиньяка. Рабочие предместий выходят на демонстрации с криками: «Смерть министрам!» С оружием в руках они окружают Венсеннский замок. В декабре, когда начался суд, дело уже запахло восстанием. Палата пэров, заседавшая в Люксембургском дворце, окружена войсками, город превращен в военный лагерь. Народ бурлит, но восстание совершенно не подготовлено и явно обречено на неудачу. Общество «Друзья народа» призывает своих сторонников предотвратить бесполезное побоище. Тысячи студентов бегают по городу и уговаривают нетерпеливых и ослепленных ненавистью сограждан не выступать раньше времени, беречь силы революции. Делеклюз в самой гуще этих событий. Однажды в суматохе уличного столкновения увесистый булыжник попадает ему в голову. Первая рана!
Увы, участие в революционном движении редко обходится без неприятностей. В январе 1831 года Делеклюз теряет работу. Его патрон уже давно возмущался тем, что молодой клерк вместо того, чтобы переписывать деловые бумаги, предается бунтарской деятельности. И вообще благонамеренный адвокат не хочет иметь дело с врагами короля. После ожесточенного спора Делеклюзу пришлось покинуть контору г-на Валле. Он сразу оказался без гроша денег и без крыши над головой. Только добрый Друг Скелль поддерживал его, посылая время от времени франков по пятьдесят. Но вот судьба вновь улыбнулась молодому революционеру. Богатый дядя барон Лавенан приютил его в своем доме на улице Бюффо, на Монмартре. Более того, он настоятельно посоветовал племяннику Продолжать учебу. Делеклюз записался на факультет права, но по-прежнему гораздо больше времени он проводит на политических собраниях, чем в лекционных аудиториях Сорбонны. К тому же и здесь, во дворе Сорбонны, непрерывно происходят политические манифестации, непременным участником которых является Делеклюз.
Уже в эти годы он окончательно и бесповоротно определяет свой жизненный путь. Революционная деятельность становится жизненной потребностью Делеклюза. Ни практические соображения, ни трудности, ни его слабое здоровье — ничто не может теперь отвлечь его от борьбы за свои идеалы. Впрочем, не только это мешает ему посвятить себя учебе.
Весной 1831 года отец Шарля теряет должность комиссара в Дрё, а вместе с ней и скудное, но регулярное жалованье. Попытки найти новое место или получить пенсию не увенчались успехом. Надежды на богатого дядюшку тоже плохи. Революция пошатнула его денежные дела: он вынужден сначала сократить, а потом и вовсе прекратить денежную помощь сестре, матери Шарля. Теперь Делеклюз не только не может рассчитывать на помощь родителей, но должен сам помогать им. Он ищет работу и опять устраивается к одному адвокату. Зарабатывает он мало и ведет полуголодную жизнь нищего студента.
Быть может, стоит отказаться от революционных иллюзий и посвятить силы упрочению своего положения? Все в один голос предсказывают, что Делеклюзу при его способностях легко сделать выгодную карьеру. Тем более что у него перед глазами наглядный пример того, насколько это просто. Его друг Скелль удачно женится, покупает собственную нотариальную контору. Он часто пишет Делеклюзу и проявляет поистине братское отношение к нему, постоянно предлагая денежную помощь. В трудный момент, когда отец Делеклюза лишился должности, Скелль даже хотел продать свои золотые часы, чтобы помочь ему. Его многочисленные письма к Делеклюзу обычно начинаются с выражения беспокойства по поводу длительного молчания друга. Но главное в них — постоянные, упорные попытки направить Шарля на истинный путь, отвратить его от пагубной революционной деятельности, просьбы быть осторожнее, предусмотрительнее. «Прошу вас, — пишет Скелль летом 1831 года, — быть осторожным в день 14 июля и в годовщину июльской революции. Ведь вы сами должны признать, что республиканская партия представляет меньшинство и что все ее крики, все эти угрозы не приведут ни к каким результатам». В следующем письме Скелль снова упрекает друга за молчание и пишет: «У меня гораздо больше оснований беспокоиться о вас, чем вам обо мне, учитывая вашу физическую слабость, а также вашу вспыльчивую, взбалмошную голову, наполненную идеями мщения, смуты, войны, революции. Вы рискуете тем, что в любое время вас могут убить или, по меньшей мере, арестовать, тогда как мне, другу порядка и спокойствия, ничто не может угрожать. Вы хотите всего достичь насилием, я же хочу только того, что нам дают законы. Сравните мое и ваше положение и, если сможете, сделайте выводы».
Многие письма Скелля к Делеклюзу — это целые политические трактаты, написанные в духе самого благонамеренного консерватизма. Увлеченный идеей спасения друга от пагубных заблуждений и возвращения его в лоно мещанского благоразумия, простодушный Скелль пускает в ход все, напирая, в частности, на сыновний долг. Вот что он писал 27 сентября 1831 года: «Вчера я был в Дрё и застал вашего отца, вашу мать и вашу сестру в состоянии смертельного беспокойства. Они вам пишут без конца, а вы им ничего не отвечаете. Из этого они заключают, что вы были втянуты в одно из последних волнений и что вас заключили в тюрьму, где вы страдаете, искупая ошибки вашего беспокойного ума, охваченного злосчастными навязчивыми идеями… Неужели никогда, мой дорогой Делеклюз, у вас не откроются глаза и вы никогда не станете настолько мудрым, чтобы осознать ту мысль, что постоянные политические волнения не могут иметь никаких других результатов, кроме паралича торговли, огорчения порядочных людей, нашего ослабления и раскола перед лицом заграницы и ликвидации достижений июльской революции? Назовите мне хотя бы одного солидного политического деятеля, который решился бы назвать себя республиканцем…»
Видимо, Делеклюз подолгу не писал Скеллю не только потому, что все его время и силы отданы революционной деятельности. Что мог сказать ему Делеклюз? Что буржуазное благополучие, которым тот пытался его соблазнить, заслуживает лишь презрения? Что есть высшие духовные и нравственные ценности, которые для него важнее любого эгоистического благоденствия? Что по-настоящему честный, порядочный человек не может мириться с царством несправедливости, угнетения, мракобесия? Что личная судьба может быть принесена в жертву интересам народа, интересам прогресса, что за свободу можно идти на смерть? Что мог написать Делеклюз своему доброжелателю, подыскавшему ему доходную адвокатскую контору и выгодную невесту и думавшему, что тем самым он осчастливил друга? Как объяснить ему, что понятие счастья и смысла жизни для Делеклюза определяется совсем иначе, чем для преуспевающего молодого нотариуса?
Делеклюз с грустью думал о непреодолимой интеллектуальной ограниченности и моральной черствости, под защитой которых спокойно и счастливо существовал, подобно многим, его случайный друг. Шарль Делеклюз, несмотря на свою внешнюю резкость, был бесконечно добрым, мягким человеком. Он нежно любил своих родителей, свою сестру, трогательно о них заботился. Но его высокие нравственные качества и влекли его на тот гибельный, по мнению Скелля, путь, который Делеклюз считал прекрасным и с которого он не свернет никогда. Вот почему он не отвечает на увещевания Скелля, отделываясь все более редкими и короткими письмами.
А политическая жизнь Франции, поглощавшая все мысли и чувства Делеклюза, представляла собой в это первое десятилетие царствования Луи-Филицца почти непрерывную, ожесточенную гражданскую войну. Поскольку Луи-Филипп получил корону в результате революции, в первое время его называли «королем баррикад». Но уже вскоре это звание стало звучать как жестокое издевательство. В самом деле, восстания почти непрерывно потрясают страну. Бурное развитие капитализма вызвало резкий рост рабочего класса, который впервые начинает решительно выступать на политической сцене. Широкие слои мелкой буржуазии были также глубоко разочарованы итогами июльской революции, которая дала власть только кучке крупных финансистов. Обострялись противоречия внутри правящего класса. Даже монархисты боролись за то, чтобы посадить на трон вместо Луи-Филиппа своих претендентов. Словом, посев июльской революции прорастал в виде баррикад.
Разнородная оппозиция беспрерывно со всех сторон терзала июльскую монархию. Она яростно отбивалась от нападок газет. С июля 1830 года по сентябрь 1834 года состоялось 520 судебных процессов по делам печати. Журналисты в общей сложности были приговорены к 106 годам тюрьмы и 400 тысячам франков штрафа. Но происходило кое-что и посерьезнее. В ноябре 1831 года вспыхнуло грозное восстание рабочих Лиона, поднявшихся под лозунгом «Жить работая или умереть сражаясь». Весь город оказался во власти пролетариата. Потребовалось послать 36-тысячную армию, чтобы подавить восстание. Через три месяца начались волнения в Гренобле.
Новый, 1832 год принес новые мятежи и восстания. Январь ознаменовался так называемым «заговором на башнях собора Парижской богоматери». Спустя месяц был раскрыт «заговор на улице Прувер». Только эпидемия холеры, начавшаяся в марте, приостановила на время политические волнения, заговоры и восстания. Впрочем, уже в апреле предпринимается попытка роялистского мятежа, возглавленного герцогиней Беррийской. Но крупнейшим событием года оказалось республиканское восстание в июне, в котором участвовал Шарль Делеклюз.
Республиканцы давно уже говорили о необходимости восстания. Поводом для него послужили 5 июня похороны генерала Ламарка, который приобрел большую популярность своей оппозицией режиму Луи-Филиппа. Грандиозная толпа собралась на похороны. Недалеко от Аустерлицкого моста на шествие напала кавалерия. Кварталы Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, площадь Бастилии немедленно покрылись баррикадами. В ночь с 5 на 6 июня восставшие уже, казалось, одерживали верх. Но в этот критический момент буржуазные республиканцы, сами не ожидавшие такого размаха событий, струсили и расстроили ряды восставших.
Только рабочие дрались до конца, защищая баррикады на углу улиц Сен-Мерри и Сен-Мартен. Начавшись выступлением разных групп республиканцев, восстание приобрело пролетарский характер. На баррикаде у монастыря Сен-Мерри в рядах бойцов находился Шарль Делеклюз.
Он сражался рядом со своим двоюродным братом Бержероном, уроженцем Шони, где родился отец Шарля, где жила сестра отца, мать Бержерона. Двоюродный брат оказался единомышленником Делеклюза. Студент-юрист, зарабатывавший на жизнь частными уроками, он тоже состоял в обществе «Друзья народа» и был руководителем секции «Права человека», приобретавшей большое влияние.
Друзьям повезло — они не были арестованы и преданы суду, как это случилось со многими инсургентами. Впрочем, Бержерон вскоре попал в тюрьму из-за очередного покушения на жизнь короля. В Луи-Филиппа в эти годы стреляли очень часто, хотя и не очень метко. 19 ноября 1832 года король направлялся в палату депутатов для торжественного открытия сессии. Из толпы на Пон-Ройяль прогремели пистолетные выстрелы. Стрелявшего задержать не удалось, но полиция подозревала Бержерона и арестовала его. На суде он держался очень смело и открыто провозглашал свои республиканские убеждения, доказав в то же время свою непричастность к покушению.
Делеклюз оказался одним из свидетелей на процессе, и это имело для него некоторые косвенные последствия. Его богатый дядя барон Лавенан уже давно с неприязнью следил за делами Делеклюза. Барон был крайне практичным человеком и неизменно проявлял преданность всем режимам, сменявшимся во Франции после революции. Когда он узнал, что Делеклюза вызывал прокурор в связи с делом Бержерона, он грубо отказал племяннику от дома. Итак, «порядочное» общество выбрасывало Делеклюза из своей среды. Зато его «общественное положение» революционера определялось со все большей ясностью. В письме к сыну барона Лавенана, своему кузену, Делеклюз писал по поводу этого эпизода: «Может быть, если я не ошибаюсь, не так уж далек тот день, когда возникнет потребность в сближении с республиканцами для тех, кто сейчас бежит от них, как от чумы». Для Делеклюза этот день не наступит, ибо он становился не только республиканцем, но революционером, чего буржуазия не простит ему никогда.
Итак, у Делеклюза в его послужном списке революционера уже была первая рана, полученная в уличном столкновении, затем участие в бою на баррикаде; не хватало тюрьмы. Этого не пришлось долго ждать.
Республиканское революционное движение усиливалось. В начале 1833 года место распавшегося общества «Друзей народа» заняло общество «Прав человека». В новой организации республиканцев оказалось теперь много рабочих. Только в Париже в общество входило четыре тысячи человек. Внутри общества «Прав человека» боролись две тенденции: одни выступали за мирную и легальную деятельность, другие мечтали только о баррикадах. Среди последних находились Делеклюз и все, кто называл себя якобинцами. Они особенно сблизились с рабочими. Даже умеренные члены общества, которых называли жирондистами, все чаще требовали не только установления политической демократии, но и социального равенства, улучшения участи рабочих.
Стоявшее у власти правительство Тьера и Гизо решило «обуздать тигра анархии» и нанести обществу «Прав человека» смертельный удар. Для этого 25 марта 1834 года в палате провели «закон об ассоциациях», запрещавший всякую политическую оппозицию. Сразу же вспыхнуло восстание. Оно началось 9 апреля в Лионе, и его главной силой вновь оказались рабочие. Четыре дня в городе шли ожесточенные бои между войсками и восставшими. Артиллерия полностью разрушила некоторые кварталы. 13 апреля восстание было подавлено с исключительной жестокостью. Революционные выступления произошли одновременно в Сент-Этьене, Гренобле, Марселе, Перпиньяне, Оксере, Шалоне, Энинале, Пуатье и Клермон-Ферране.
В Париже самые воинственные члены общества «Прав человека», среди которых был и Делеклюз, с энтузиазмом готовились к восстанию. Когда 10 апреля стало известно о сражениях в Лионе, они потребовали от Центрального комитета общества немедленного призыва к восстанию. Но вожди заколебались. Позднее Делеклюз вспоминал: «В течение двух дней таинственное влияние парализовывало деятельность партии в то время, когда лионцы умирали как герои». 12 апреля в редакции республиканской газеты «Трибюн» собрались самые смелые, которые вырвали наконец у вождей решение о выступлении. Делеклюз и его одиннадцать товарищей уже собирались уходить из своей штаб-квартиры, чтобы дать нетерпеливо ожидавшим их товарищам сигнал начинать восстание. В этот момент в редакции раздался стук прикладов. Бежать было поздно. Спустя несколько минут Делеклюз и его товарищи, окруженные плотной цепью полицейских, шагали к тюрьме.
По приказу Тьера в этот день арестовали более сотни наиболее активных членов общества «Прав человека». Восстание лишилось своих вождей, но десятки тысяч человек готовы были идти на баррикады.
Когда Делеклюз и его товарищи оказались в тюрьме Сент-Пелажи, их поразила крайняя предупредительность и любезность тюремщиков. Ведь еще никто не знал, каков будет исход восстания. В случае его успеха нынешние заключенные могут возглавить правительство. А они, повиснув на решетках окон, затаив дыхание прислушивались к звукам стрельбы. Ждать пришлось недолго; беспорядочные выстрелы сменяются регулярными залпами. Это верный признак поражения. Сразу изменилось отношение тюремщиков. Когда привезли много новых заключенных, окровавленных и пахнущих пороховым дымом, их уже заталкивали в камеры без всяких церемоний.
Восставшие, лишенные руководства, не выдержали натиска войск и одну за другой сдали к утру 14 апреля все свои баррикады. Восстание закончилось кровавой расправой. На улице Транснонен, у дома 12, был ранен один офицер. Солдаты ворвались в дом и перебили всех, кто там находился, включая женщин и детей.
Наступило время жестоких гонений против республиканцев, время бесконечных судебных процессов, преследований печати и любых демократических выступлений. Новые покушения на Луи-Филиппа еще более усилили ярость властей. В 1836 году Делеклюз оказался под угрозой суда за участие в заговоре и одновременно за то, что он состоял членом тайного общества. Чтобы избежать тюрьмы, он уезжает в Бельгию. Там в это время было много беглецов из Франции. Бельгийское правительство короля Леопольда встретило их неприветливо. Одних выслали, других, как, например, Делеклюза, поставили под надзор полиции и обязали жить лишь в строго определенных местах. Положение его было нелегким. Надо было прежде всего найти работу, чтобы прокормиться самому и помогать родителям. Он становится сначала преподавателем в Коммерческой школе, созданной французским политическим эмигрантом Лабруссом. Делеклюз пытается также попробовать свои силы в журналистике, и его статьи появляются в бельгийских газетах. Но все это давало очень мало. Иногда приходилось прибегать к плохо оплачиваемой переписке и к частным урокам.
Только в конце 1838 года положение Делеклюза несколько улучшается. Группа демократов из Шарлеруа решила издавать свою газету. Сначала Делеклюза пригласили просто сотрудничать в ней, а вскоре его сделали редактором. Под руководством Делеклюза, обнаружившего качества отличного журналиста, «Журналь де Шарлеруа» быстро завоевала популярность и стала одним из самых видных органов бельгийской демократической оппозиции. Дела Делеклюза пошли столь успешно, что вскоре он уже самостоятельно начинает издавать в Брюсселе сатирический журнал. Но мысли о возвращении во Францию не оставляют его. Наконец вышел закон, позволяющий эмигрантам вернуться, и 1 января 1841 года он выезжает из Брюсселя в Париж, где встречается наконец с родителями, сестрой и братом, которых он не видел 45 февраля 1836 года. Шарль был теперь единственной опорой семьи; барон Лавенан не давал больше сестре ни гроша. Вернувшись на родину, Делеклюз пытался сначала работать в одной железнодорожной компании. Но область коммерции оказалась ему совершенно чуждой. Вскоре ему предложили более подходящее для него дело — пост заместителя редактора провинциальной газеты «Эмпарсьяль дю Нор». В конце августа 1841 года Делеклюз отправляется в Валансьен, небольшой промышленный город в департаменте Нор, недалеко от границы с Бельгией, в двухстах километрах к северу от Парижа. Конечно, уже всем ясно, что Делеклюз создан для журналистики и политики. Но какую политическую роль играет газета и какое место в политике займет теперь революционер Делеклюз?
Политическая обстановка во Франции была мрачной. Казалось, Луи-Филипп, выдержав революционный натиск, как-то стабилизовал свою власть. Действительно, республиканские и революционные силы дезорганизованы и ослаблены после поражения восстания 1834 года. Попытка крайне левых революционеров Бербеса и Бланки поднять новое восстание в 1839 году кончилась крахом, и они сидели теперь в одиночных камерах в замке Монсен-Мишель. Буржуазные республиканцы, группировавшиеся вокруг газеты «Насьональ», оказались неспособными возглавить демократическое движение и проповедовали умеренность, осуждали революцию и готовы были идти на сделки с правительством Луи-Филиппа. Рабочий класс еще не созрел для политической организации. Словом, это был тоскливый и туманный переходный период, когда все как-то успокоилось, а революционное движение если и не умерло, то как бы заснуло.
Особенно тяжело было в провинции. Новые суровые законы о печати не только уничтожили свыше тридцати газет, но и поставили оставшиеся газеты в такое положение, что они всегда оказывались перед угрозой преследования и закрытия, как только на их страницах появлялось свободное слово. Как и прежде, провинциальные республиканцы и их газеты смотрели на Париж, ожидая оттуда лозунгов, советов и поддержки. Что касается «Эмпарсьяль дю Нор», основанной в 1839 году, то до прихода Делеклюза она ориентировалась на парижскую «Насьональ», становившуюся с каждым днем все более благонамеренной, робкой и консервативной. Правда, она все же оставалась оппозиционной газетой, в отличие от выходивших в Валансьене еще двух газет, одна из которых была органом супрефектуры, то есть правительства, а другая — «династической левой» Одиллона Барро, отличавшейся от официозных газет лишь либеральными оттенками.
Хотя Делеклюз сначала является вторым лицом в редакции и лишь через некоторое время станет ее директором, он сразу придает газете значительно более смелый, более демократический и революционно-республиканский характер. Другого трудно было ожидать от него. Ведь не случайно сразу после возвращения Делеклюза из Бельгии по специальному указанию министерства внутренних дел над ним был установлен строжайший полицейский надзор. Супрефект Валансьена докладывал своему начальству: «Я отдал комиссару полиции приказ осуществлять тщательное, незаметное и беспрерывное наблюдение за поведением этого анархиста».
Делеклюз с первых шагов своей деятельности на посту редактора начинает критиковать правительство. Уже через месяц после появления Делеклюза в газете против нее начинается судебное преследование за критику принципа неприкосновенности короля и за оскорбление его величества. «Эмпарсьяль» непрерывно вступает в поле мику с реакционными газетами департамента Нор. Газета критикует мэра Валансьена Дире и супрефекта барона Пти де Лафоса. Они превращаются в постоянную мишень для насмешек. Делеклюз не упускает ни одного случая, чтобы не обрушиться на клерикалов. Особенно активизируется «Эмпарсьяль» во время проведения выборов. В марте 1843 года Делеклюзу уже приходится прилагать огромные усилия, чтобы выплатить крупный денежный штраф. Через год новый приговор за «искаженную» информацию. Делеклюз должен выплатить две тысячи франков штрафа и отсидеть месяц в тюрьме.
Там Шарль Делеклюз и получил письмо от своей сестры Аземии, которая была самым близким ему человеком в семье, а затем стала другом и единомышленником. В письме Аземия ласково и грустно подшучивала над братом: «Мне кажется, мой бедный мальчик, что тебе на роду написано через каждые десять лет находиться в тюрьме. Двадцать лет назад, когда ты был в пансионе Ландри, ты писал маме, как печально тебе проводить пасхальные праздники в карцере, куда тебя посадили за то, что ты, играя, повредил глаз своему товарищу. Ровно через десять лет, в апреле 1834 года, тебя арестовали в редакции «Трибюн». И сейчас, в 1844 году, ты снова в тюрьме и снова страдаешь за справедливость и за правду».
Выйдя из тюрьмы, Делеклюз немедленно возобновляет борьбу с клерикалами. Ожесточенная полемика с католической газетой «Эмансипатёр» дошла до такой остроты, что Делеклюз послал директору этой газеты вызов на дуэль, от которой тот, впрочем, отказался. Вскоре такой же эпизод с дуэлью (это обычный тогда метод решения газетных конфликтов) произошел у Делеклюза с директором газеты «Курье дю Нор», который тоже струсил и не принял вызова. Зато он добился того, что суд присудил Делеклюза к штрафу в три тысячи франков.
Так продолжалось все годы его пребывания в Валансьене. Непрерывная, ожесточенная борьба с политическими противниками, напряженная полемика, острые споры, доходящие до дуэлей, часто оканчивающиеся для Делеклюза штрафом или тюрьмой, — такова жизнь этого прирожденного борца и революционера.
Близкие Делеклюза: отец, мать, особенно сестра — внимательно читают его газету. Они следят за всеми перипетиями тревожной деятельности Шарля. Испуганные его бесконечными процессами, конфликтами, они в своих многочисленных письмах не устают призывать его к осторожности, умеренности и даже советуют найти менее опасное занятие. Впрочем, его сестра, увлеченная жаром тех споров, которые ведет ее брат, порой не может сдержать чувства одобрения и восхищения. Все эти годы Делеклюз может быть спокоен за своих близких, поскольку у него теперь достаточно денег, чтобы содержать их. Более того, ему хватает средств даже для удовлетворения одной своей слабости: он любит элегантно одеваться и сейчас может себе это позволить.
Между тем в Париже на арене политики и журналистики появляются люди, с которыми Делеклюз находит общий язык. В 1843 году начинает выходить республиканская газета «Реформ», значительно более левая, чем утратившая свой пыл «Насьональ». Вокруг новой газеты объединяются политические деятели, которых называют радикалами, а иногда и социалистами, впрочем, без особых к тому оснований. Среди них выделяются депутаты палаты Ледрю-Роллен, Арагу, проповедник мелкобуржуазного социализма Луи Блан. Еще до выхода новой газеты Делеклюз связывается с ними, помогает собирать деньги для ее издания, начинает сотрудничать с Ледрю-Ролленом и его друзьями. Этот лидер радикалов всем своим обликом, жизнью, характером и мыслями несомненный буржуа. Но это левый республиканец. Более того, он много и часто говорит о тяжелом положении рабочего класса, причем говорит очень эффектно. Высокий, красивый, с громовым голосом и широкими жестами, он явно создан для пышного красноречия во французском стиле. Правда, красноречие у него больше походит на декламацию. Во всяком случае, этот способный человек, к тому же с якобинскими, столь милыми сердцу Делеклюза идеями, не мог ему не понравиться. Поскольку Делеклюз не склонен к научному теоретическому анализу, к строго логической последовательности в политическом мышлении, он не видит зияющих несоответствий, противоречий и пробелов во взглядах Ледрю-Роллена. А этот «социалист», по его собственным словам, требует социальных реформ только для того, чтобы «спасти собственность от коммунистов». В конечном счете реальный смысл деятельности Ледрю-Роллена сводился к выступлениям за всеобщее избирательное право и за улучшение участи рабочих в буржуазном обществе. Но это уже было кое-что. Во всяком случае, в палате депутатов он оказался самым левым, а его газета «Реформ» — главным органом республиканцев. Делеклюз становится активным и боевым союзником Ледрю-Роллена. Его Газета «Эмпарсьяль дю Нор» выступает с теми же идеями, что и парижская «Реформ». Благодаря этому идеи радикалов привлекают на севере Франции много новых сторонников.
Тем временем Делеклюз приобретает новых врагов. Они появляются даже среди недавних его политических единомышленников, которые входят в административный совет газеты. Им совершенно не по вкусу ее новый радикальный характер. Они хотели бы по-прежнему равняться на умеренную «Насьональ», а не на радикальную «Реформ». Правда, в этом конфликте сказался и независимый, прямолинейный характер Делеклюза, его неумение лавировать и хитрить. Дело дошло до того, что Новые враги Делеклюза составили оскорбительный пасквиль и разослали его подписчикам «Эмпарсьяль дю Нор». В каких только преступлениях его не обвиняют! В памфлете используются все имеющиеся во французском языке оскорбительные слова, в нем говорится о «низости» Делеклюза, который, оказывается, «провокатор, наглец, циник и, что хуже всего, человек, который платит черной неблагодарностью тем, кто сделал для него все». Пасквиль заканчивается так: «Если бы подобный человек имел столько силы, сколько у него злобы, то это было бы общественное бедствие и когда-нибудь в истории Валансьена можно было бы прочитать: город испытывал бедствие от чумы в 1008 году, от холеры в 1832-м и от Делеклюза в 1847 году».
В отчаянии от нелепых оскорблений и нападок, Делеклюз решает бросить газету и уехать в Париж. Но радикалы Парижа и севера Франции выступают в его поддержку, развертывают кампанию по сбору денег и помогают выкупить газету у противников Делеклюза. Теперь «Эмпарсьяль» переходит полностью под его контроль.
В 1847 году Делеклюз превращает провинциальную газету небольшого города на севере страны в одно из самых эффективных орудий радикалов. При этом свойственный Делеклюзу резкий категорический стиль придает даже относительно умеренным лозунгам радикального течения революционный характер. Особенно энергично он ведет кампанию за всеобщее избирательное право. Это требование встречает все более широкую поддержку и ведет к резкому росту влияния радикальной оппозиции. Политические друзья Делеклюза, демократы и республиканцы, восхищаются его деятельностью. Один из них, Эврар-Ланглет, пишет ему: «Вы являетесь, как некогда Арман Каррель (знаменитый республиканский журналист. — Авт.), апостолом свободы, в нашей стране вы — перо и шпага демократической партии». Видный радикал Дежарден пишет ему в связи с оскорбительными нападками на Делеклюза: «Несмотря на огорчение, которое вы испытываете в последнее время, вы не должны сожалеть о годах, проведенных на севере. В этой стране надолго запомнят мужество и талант, проявленный вами в журналистской деятельности, в роли истинного наставника и учителя. Ваша исключительная настойчивость в выдвижении принципов демократии посеяла семена, которые, как мы надеемся, скоро принесут свои плоды. Так что позвольте мне искренне сказать вам от имени тех, которые с симпатией следовали за вами, что ваша деятельность была полезной и заслуживает высокой признательности всех преданных делу человечества сердец».
Деятельность радикалов вроде Делеклюза приобретала все большее значение. Несколько неурожайных лет подряд привели в 1847 году к голоду, охватившему всю страну. Промышленный кризис вызвал сильную безработицу. Вспыхивают голодные бунты. Ненависть народа к монархии Луи-Филиппа все чаще прорывается наружу. Вслед сверкающим экипажам финансовой аристократии на улицах Парижа несутся возгласы: «Долой воров!» Студенты устраивают манифестации протеста из-за запрещения лекций знаменитого профессора истории Жюля Мишле.
В это время и начинается кампания банкетов. Факти чески это были политические общественные митинги. Банкеты раньше всех стала использовать «династическая левая» Одиллона Барро. Эта партия требовала всего лишь небольшого увеличения числа избирателей. Радикалы, объединявшиеся вокруг газеты «Реформ», решают тоже участвовать в банкетах, и тогда они приобретают более революционный характер. Ледрю-Роллен, Луи Блан, Этьен Арагу и другие радикальные деятели отнюдь не собирались организовывать революцию. Но они невольно попали в течение, увлекшее их в том направлении, в котором сознательно или бессознательно шли народные массы. Радикалы быстро отодвигают на второй план осторожных и благонамеренных либералов «династической левой».
Один из самых знаменитых банкетов собрался 7 ноября 1847 года в Лилле, в главном городе департамента Нор. Делеклюз очень активно участвовал в его организации. Одиллон Барро, не сумев заранее навязать либерально-монархическую программу банкета, отказался в нем участвовать, и в Лилле безраздельно царили радикалы.
Ледрю-Роллен произнес большую речь. Страстный декламатор на этот раз особенно увлекся, и его занесло гораздо дальше свойственных ему не очень-то революционных взглядов. Он нарисовал ужасающую картину нищеты и народных бедствий и потребовал социальных реформ, всеобщего избирательного права. Он произнес грозное слово «республика». Все это Ледрю-Роллен облекал в пышную риторику:
— Я обращаюсь к народу, которому я хочу отдать все свои силы и всю свою преданность, — надейся и верь! В эту переходную эпоху, когда старая вера уже потухла, а новая еще не дана тебе, повторяй благоговейно каждый вечер в твоем одиноком жилище бессмертный символ: «Свобода, Равенство, Братство!»
Эта фразеология хороша была уже тем, что позволяла толковать ее как угодно: как призыв к революции и к свержению Луи-Филиппа, к республике и даже к социализму. Во всяком случае, Делеклюз напечатал в своей газете подробное сообщение о банкете, которое было преисполнено пылкого энтузиазма. Банкеты радикалов привлекали все больше участников. Речи становились более революционными. Страна волновалась все сильнее.
Беда заключалась только в том, что радикалы Ледрю-Роллена, а вместе с ними и Делеклюз, оказавшись на гребне революционной волны, крайне неясно представляли себе будущее. У них не было никакой программы, кроме стремления подражать якобинцам. У них не было организации. Даже старое общество «Друзей народа», а затем «Прав человека» представляли собой организационные формы. Сейчас от них ничего не осталось. Газета «Реформ» влачила жалкое существование. У нее сохранилось менее двух тысяч подписчиков. Личные связи, симпатии, дружеские отношения, кажущееся единство взглядов, возникшее на основе туманных формул, которыми щеголял Ледрю-Роллен, — вот что объединяло Делеклюза и его друзей. А это не сулило им ничего, кроме крушения их прекрасных иллюзий. И никто не мог предполагать, что это случится так скоро.
II
В 6 часов вечера 25 февраля 1848 года к перрону вокзала в Валансьене подошел парижский поезд. Его ожидало необычно много народа. Уже несколько дней по городу ходили смутные слухи о событиях в Париже. После того как король Луи-Филипп грубо отклонил требование провести избирательную реформу, республиканцы устраивали демонстрации. Их запрещали, но вопреки запретам демонстрации продолжались. Короля вынудили сместить с поста главы правительства верного ему Гизо. Но волнения не прекращались, и говорили даже, что уже началось восстание. Вот почему в Валансьене в этот день с нетерпением ждали парижский поезд.
Еще до того, как состав остановился, многое стало ясно. Паровоз был украшен красными флагами! Флаги вывесили по требованию находившегося среди пассажиров Шарля Делеклюза. Последние дни он провел в Париже и видел все: восстание рабочих, переход на их сторону Национальной гвардии, бегство войск, отречение Луи-Филиппа. В последние часы пребывания в Париже в редакции «Реформ» он присутствовал при том, как Ледрю-Роллен, нерешительный и растерянный, вел переговоры с умеренными республиканцами из «Насьональ» о формировании временного правительства. Не дожидаясь дальнейших событий, ночью он поспешил выехать в Валансьен, чтобы обеспечить здесь торжество революции.
Возбужденный Делеклюз выскочил из вагона и, окруженный толпой, быстро зашагал на площадь д’Арм, где собралось множество жителей города, обсуждавших то тревожные, то радостные слухи. В полном молчании толпа слушает Делеклюза, который выступает с балкона: Луи-Филипп свергнут, провозглашена республика, создано временное правительство, над Францией взошла заря свободы!
Толпа отвечает криками: «Да здравствует республика!» Делеклюз вместе с группой единомышленников отправляется после этого в мэрию. Здесь уже заседает муниципальный совет во главе с мэром. Делеклюз объявляет им, что последние события упраздняют власть прежнего муниципального совета и королевской администрации, что население должно назначить временную комиссию для управления городом. Начинаются переговоры, идут споры, возникают конфликты, заключаются компромиссы. После нескольких часов напряженной и хаотической суеты кое-как согласовали список из 15 членов комиссии, который Делеклюз затем зачитал с балкона жителям города. Они криками одобрили его. В комиссию вошли и недавние политические противники Делеклюза. Впрочем, в состав временного правительства в Париже вошли не только друзья Делеклюза Ледрю-Роллен и Флакон, но также и представители «Насьональ» и даже деятели «династической левой», которые до революции вообще не были республиканцами. Какой же будет политика временного правительства? Делеклюзу трудно ответить на этот вопрос. Впрочем, он действует так, как действовали бы на его месте якобинцы. Он хочет действительной революции, демократии и социального равенства. Вот почему он потребовал вывесить красные флаги на паровозе. Ведь он сам видел, что революцию в Париже сделали именно рабочие, которые начали свое выступление под красным флагом! Правда, Делеклюз еще не знает, что в то самое время, когда он ехал из Парижа в Валансьен, временное правительство категорически отклонило требование делегации рабочих объявить национальным флагом красный флаг баррикад, а не трехцветный, опозоренный во время правления Луи-Филиппа. Да и здесь, в Валансьене, Делеклюз уже почувствовал сопротивление его революционным действиям. В состав муниципальной комиссии вошло много людей, которых никак нельзя назвать революционерами. А на другой день, 26 февраля, он увидел расклеенный на стенах приказ, запрещавший любые шествия под красным флагом. Приказ был подписан председателем муниципальной комиссии Дюбю, которого Делеклюз считал своим другом. Но столкновение иллюзий с фактами еще только начиналось…
Между тем временное правительство начинает управлять. Старая администрация была полностью сохранена; решили лишь заменить префектов департаментов специальными правительственными комиссарами. Делеклюза назначили комиссаром в департаменты Нор и Па-де-Кале. 28 февраля его газета «Эмпарсьяль дю Нор» так сообщала об этом назначении: «Главный редактор «Эмпарсьяль» только что призван временным правительством к выполнению функций, на которые он отнюдь не претендовал. Он согласился выполнять их, повинуясь своему патриотическому долгу и только на то время, пока временное правительство будет считать его содействие необходимым. Гражданин Делеклюз не хочет прекращать свою журналистскую деятельность; он останется тем, кем он был до славных событий, которые вернули Франции свободу и обеспечили установление республиканского правительства».
Газета ничего не сообщила о том, что предложение Ледрю-Роллена назначить Делеклюза комиссаром северных департаментов встретило решительные возражения его коллег из «династической левой» и из группы «Насьональ». Делеклюз был для них слишком революционным. Ледрю-Роллен добился согласия правительства на назначение Делеклюза, пригрозив, что в противном случае он подаст в отставку.
Что касается Делеклюза, то он немедленно начал оправдывать опасения тех, кто возражал против его назначения. За несколько дней он сместил со своих постов множество чиновников Валансьена, которых не считал преданными республиканскому строю. Обосновавшись в Лилле в качестве правительственного комиссара, он провел суровую чистку в еще более широких масштабах. Поэтому очень скоро не только явные монархисты, но даже многие либеральные республиканцы превратились в его ярых врагов.
Однако главные трудности Делеклюза в его новом положении правительственного комиссара были еще впереди. Он столкнулся с острейшими, неразрешимыми для него социальными проблемами. Среди населения северных промышленных департаментов было больше рабочих, чем где-либо во Франции. Экономический кризис, который предшествовал революции, затронул их особенно жестоко. Голодные бунты произошли в Камбрэ, Туркуэне и в Лилле. Февральская революция, естественно, породила среди рабочего населения Севера надежды на улучшение его участи. Тем более что в состав временного правительства включили социалиста Луи Блана и рабочего Альбера. Крупная буржуазия стремилась пока задобрить пролетариат, совершивший революцию, показными жестами. Провозгласили «право на труд», объявили о сокращении рабочего дня до 10 часов, об учреждении национальных мастерских, наконец, создали правительственную комиссию для рабочих. Однако это были не просто фальшивые, но, как вскоре выяснилось, провокационные меры.
Во всяком случае, рабочие промышленных районов Севера немедленно потребовали увеличить зарплату и улучшить условия труда. Поскольку хозяева не захотели и слышать об этом, сразу вспыхнули забастовки. Первыми забастовали шахтеры, а прекращение добычи угля поставило под угрозу закрытия фабрики и заводы.
Делеклюз созывает многочисленные совещания предпринимателей и рабочих и пытается склонить их к соглашению. Кое-где ему удается вырвать у хозяев некоторые уступки. К рабочим он обращается с просьбами подождать, дать правительству время для социальных реформ. Делеклюз не жалеет сил, времени, чтобы примирить рабочих и капиталистов. Он искренне сочувствует рабочим, но не хочет обидеть и собственников. Он стремится объединить непримиримых врагов, доказать, что у них общие интересы. Делеклюз воображал, что господство буржуазии и эксплуатация рабочего класса должны исчезнуть с установлением республики. Он не понимал, что рабочих и буржуазию разделяют непримиримые классовые противоречия, и считал, что борьба между ними — это недоразумение, которое сразу разрешится, если все проникнутся республиканской идеей братства и поймут общность своих интересов. Газета Делеклюза в это время писала, обращаясь к бастующим рабочим: «Во имя наших общих интересов, во имя Братства, которое нас объединяет, мы вас умоляем: вернитесь в ваши цехи, возобновите работу, не допускайте беспорядков, не мешайте славному торжеству дела, которое делает вас свободными».
Но подобными сентиментальными фразами Делеклюз, конечно, не мог накормить голодных рабочих и их семьи. Они продолжали забастовки и демонстрации, которые непрерывно происходили в многочисленных промышленных городах северных департаментов. А против таких «беспорядков», как принято было выражаться, всегда употреблялось одно средство — сила. И сейчас в департаментах, вверенных управлению Делеклюза, находились войска под командованием тех самых генералов, которых назначил Луи-Филипп. Здесь ничего не изменилось: командовал войсками старый знакомый Делеклюза генерал Негрие. Это был ярый реакционер, клерикал, замаскированный монархист и личный враг редактора «Эмпарсьяль». Он искал малейший повод, чтобы пустить в ход оружие. Делеклюз говорил о Братстве, а генерал Негрие отдавал команду стрелять по рабочим. Он к тому же ссылался на распоряжения правительственного комиссара, то есть Делеклюза!
Генеральный комиссар северных департаментов сидел в префектуре Лилля, как в осажденной крепости. Духовенство, судебные органы, армия — все это сохранилось в том неизменном виде, как было при монархии. И сейчас эти мощные силы развернули бешеную кампанию против Делеклюза. А от кого он мог получить поддержку? От рабочих? Нет, им не за что было его благодарить, разве только за прекрасные фразы о «братстве», в которые мало кто верил, кроме неисправимого идеалиста Делеклюза!
К тому же и среди республиканцев у него нашлось немало врагов. Возродился старый конфликт между радикалами и умеренными, «трехцветными», вдохновлявшимися благонамеренно буржуазной «Насьональ». Даже специально переиздали старый гнусный пасквиль против Делеклюза, о котором уже шла речь.
Положение Делеклюза еще более осложнилось из-за истории с бельгийскими революционерами-эмигрантами. После февральской революции они решили создать вооруженный отряд и вторгнуться в Бельгию, чтобы и там совершить революцию и свергнуть монархию. Они просили помощи у Ледрю-Роллена. Он обещал только неофициальную помощь, которую должен был организовать Делеклюз, ибо его департаменты находились на границе с Бельгией. Бельгийские революционеры перешли границу около деревни, носившей, словно нарочно, роковое название «Рискон-Ту», то есть «рискнем всем». Они сразу были окружены войсками, жестоко расправившимися с революционерами. Этот инцидент вызвал тревогу у французской буржуазии, не желавшей войны. Гибелью бельгийских революционеров возмущались и демократы. И вся эта трагически нелепая история так или иначе связывалась с именем Делеклюза и усердно использовалась его врагами. Враги Делеклюза распространяли версию о том, что он «продал» бельгийцев.
Каким ясным и простым казалось все Делеклюзу в день революции! Он был убежден, что якобинские идеи всколыхнут людей, вызовут единодушный порыв и обеспечат счастливое разрешение трудностей. Вместо этой идиллии Делеклюз увидел ожесточенную вражду всех между собой, вражду, раздиравшую народ на части. Все оказалось гораздо сложнее. Набор идей и лозунгов 1793 года ничего не разъяснял, не объединял и не решал. События развивались по каким-то другим законам и правилам, которые Делеклюз не знал и не понимал. Он страстно, искренне хотел блага сразу всем, бедным и богатым, правым и виноватым. Но оказалось, что это стремление к общему благу порождает затруднения и конфликты. Нетерпеливый, резкий, независимый и горячий характер окончательно осложнял все и ставил Делеклюза в невыносимое положение.
Интересно, что Ледрю-Роллен и Делеклюз — люди одной партии — вели себя по-разному в критические моменты. По своей социальной природе оба они были мелкобуржуазными революционерами, всегда колеблющимися между буржуазией и рабочим классом. Но между ними была одна существенная разница. Ледрю-Роллен, который нередко испытывал революционные потуги, при первом же сигнале тревоги уходил к буржуазии. Делеклюз, напротив, шел к левым революционным силам, к пролетариату. Ледрю-Роллен — человек компромисса, половинчатости, колебаний. Делеклюз — натура прямая, цельная, несгибаемая. И вот результат — Ледрю-Роллен, оказавшись в Париже перед трудностями аналогичного свойства, устоял благодаря беспринципному лавированию и ловкости. Делеклюз на севере потерпел поражение. Маркс говорил по поводу партии Ледрю-Роллена, что она «под взятой напрокат львиной шкурой Конвента обнаружила лишь свою собственную мелкобуржуазную телячью шкуру».
Это точный портрет Ледрю-Роллена. Не таков Делеклюз. У него одна страсть в горячем, преданном, самоотверженном сердце. Интересно, что Делеклюз много раз пылко и наивно доказывал сомневавшимся в революционности Ледрю, что его друг — преданный революционер! Он верой и правдой служил ему, долго шел за ним, вплоть до того момента, когда они наконец не оказались по разные стороны баррикад. Но до этого еще далеко. А пока Делеклюз часто расплачивался за неумение хитрить и лавировать, подобно Ледрю, которому он всегда преданно уступал первую роль, ревностно служил ему, добровольно стушевываясь и отходя на второй план.
В конце апреля предстояли выборы в Учредительное национальное собрание. Делеклюз уже понял заранее, что против него выступит широкая коалиция враждебных сил. Еще до выборов он потребовал у Ледрю-Роллена отставку. Но тот отклонил ее. 23 апреля на выборах Делеклюз потерпел сокрушительное поражение. Он снова требует освободить его от поста комиссара. Ледрю-Роллен опять заверяет его в своем полнейшем доверии и просит остаться. Наконец в середине мая Делеклюз передает дела своему заместителю и уезжает в Париж.
— Моя деятельность в качестве комиссара, — говорит он друзьям, — не дала мне ничего, кроме бесконечного отвращения. Все идет плохо, наша бедная республика падает, растерзанная, несмотря на ваши усилия поддержать ее. Долг демократов теперь перейти в оппозицию, дайте мне вернуться к моей роли борца. Я сделаю больше для демократии, действуя свойственными мне средствами…
Мысль о том, чтобы перебраться в Париж, уже давно занимала Делеклюза. Политика Франции делается в Париже, а провинция лишь следует за ним. Так считали еще якобинцы. Друзья Делеклюза нередко говорили ему, что провинция не для него, что он создан для деятельности в масштабах великого революционного города. Как раз в это время Луи Гюбер, бывший член общества «Прав человека», сражавшийся и раненый на баррикадах в апреле 1834 года, писал Делеклюзу: «Мой дорогой друг, надо, чтобы ты приехал, твое присутствие здесь настоятельно необходимо. Здесь поле битвы, где должны бороться и побеждать люди твоего склада характера, твоих убеждений, твоего ума, твоей самоотверженности. Приезжай же, приезжай, не откладывая, ближайшее будущее сулит нам грозу».
15 мая, когда Делеклюз явился в Париж, он сразу оказался среди этих грозных, противоречивых и часто непонятных ему событий. Еще раньше наметился раскол между рабочими, совершившими революцию, и буржуазией, которая присваивала себе все ее плоды, а теперь решила любой ценой отделаться от рабочих и заставить их снова безропотно влачить бремя каторжного труда. Учредительное собрание, которое собралось в начале мая, сразу проявило открытую враждебность к социализму и рабочему классу. Из правительства выбросили их представителей Луи Блана и Альбера. Действуя с иезуитским коварством, сумели восстановить против рабочих мелкую буржуазию, из которой состояла в основном вооруженная Национальная гвардия. Если в феврале рабочий класс и буржуазия делали революцию вместе, то 15 мая происходит окончательный разрыв их союза. В этот день 150 тысяч рабочих вышли на демонстрацию, чтобы побудить Учредительное собрание изменить политику, напомнить ему о недавней революции. Крайние революционеры, наиболее близкие к рабочему классу, решили воспользоваться демонстрацией и совершить революционный переворот. Вместе с рабочими они ворвались в зал заседаний Учредительного собрания. Распай, Барбес выступили с трибуны и потребовали революционной внешней политики. Затем Бланки разоблачил антирабочую внутреннюю политику собрания. Однако его члены не только не проявили сочувствия, но с явной враждебностью отнеслись к этому вторжению улицы. Тогда Гюбер (тот, который так горячо звал Делеклюза в Париж) объявил от имени народа о роспуске Учредительного собрания. Толпа выбирает новое временное правительство и, чтобы утвердить его власть, отправляется, как это было принято, в Ратушу. Однако тем временем собирается Национальная гвардия, враждебная рабочим, и начинает разгонять демонстрантов. Тревогу поднял Ледрю-Роллен, которого вместе с Бланки, Распаем, Гюбером и другими революционерами хотели тоже включить во временное правительство! Этот мелкобуржуазный демократ в решающие минуты всегда оказывался на стороне буржуазии. В конечном счете революционная импровизация 15 мая окончилась крахом. Бланки, Альбер, Барбес и другие вожди рабочих были арестованы.
Теперь буржуазная реакция переходит в наступление. Прежде всего решили покончить с национальными мастерскими. В них числилось больше 100 тысяч безработных. Мастерские специально организовали так, что рабочие либо выполняли никчемную, бессмысленную работу, либо вообще не имели ее. Но им все же платили примерно по франку в день. Время было очень тяжелое не только для рабочих. Мелкая буржуазия, составлявшая большинство парижского населения, тоже испытывала на себе последствия хозяйственного расстройства. В ответ на жалобы мелких хозяев, торговцев, ремесленников, им указывали на рабочих национальных мастерских: «Чего же вы хотите? Вы видите, эти дармоеды живут на ваш счет!» И этому верили. Поэтому нетрудно было уничтожить мастерские. В начале июня молодым рабочим предложили идти в солдаты, другим — отправляться на земляные работы в провинцию, а потом и вообще рассчитывать только на себя. Перед рабочими возникла угроза голодной смерти. Они пробовали возражать: им пригрозили силой.
23 июня вспыхнуло вооруженное восстание рабочих. Париж раскололся на две части. Его восточные, пролетарские районы покрылись множеством баррикад. А из богатых западных кварталов началось наступление сил «порядка». Армия, национальная и мобильная гвардия, пылали ненавистью к рабочим. Их сумели натравить на пролетариат. Ожесточенные кровавые бои продолжались три дня. Три с половиной тысячи рабочих были убиты; пять тысяч отправили на каторгу и в ссылку. Так буржуазные республиканцы отблагодарили рабочий класс за то, что он в феврале привел их к власти.
Делеклюз оказался в стороне от этой первой великой битвы между пролетариатом и буржуазией. Он тогда не улавливал ее глубокого смысла, хотя и тяжко переживал кошмар кровопролития, так грубо разбившего его хрупкий идеал пресловутого «братства». В глубине души, как и всегда, Делеклюз сознавал, что народ не может быть неправ, но, как и все, он был ослеплен пороховым дымом. Он не мог понять смысл этого восстания, у которого не было ни вождей, ни программы. В тот момент он лишь очень смутно чувствовал великую историческую справедливость июньского восстания. Множество ложных и ошибочных представлений, случайных и противоречивых событий смешались так, что мысль Делеклюза не могла выбраться из плена старых идей Великой французской революции. Громкие лозунги Свободы, Равенства, Братства скрывают от него суровую правду классовой борьбы. Он еще верит лидеру своей партии Ледрю-Роллену, который так кстати всегда ссылается на дорогих ему якобинцев. А красноречивый Ледрю не только осудил июньское восстание, но и направлял войска против рабочих. Глава самой левой фракции Учредительного собрания не догадывался, что тем самым он рубит сук, на котором сидит, и расчищает дорогу своим политическим врагам. Но кто из мелкобуржуазных демократов, сторонников «Реформ» понимал тогда подлинный смысл июньской трагедии? Подумать только, восстание беспощадно подавлял генерал Кавеньяк, родной брат недавно умершего Годфруа Кавеньяка, в честность и благородство которого Делеклюз твердо верил. Наконец, смущали и разговоры о том, что рабочих спровоцировали монархисты, ненавидевшие республику.
А республика, ради «спасения» которой якобы и пришлось расправиться с рабочими, идет к упадку. Теперь она ликвидирует и другую свою опору — поддержку мелкой буржуазии. Ее представители яростно подавляли пролетариат, защищая свою собственность. Но Учредительное собрание теперь голосует за строгое взыскание долгов и обрекает на разорение и долговое рабство десятки тысяч лавочников и других мелких буржуа. Оказывается, они спасли собственность, но не свою, а крупных капиталистов и банкиров. Собрание разрабатывает и принимает новую конституцию. Ледрю-Роллен заикнулся было о том, чтобы включить в нее «право на труд», провозглашенное временным правительством. Но времена изменились, и «право на труд», объявленное «мятежным девизом», отвергается. Однако самое главное в том, что конституция открывает дорогу к восстановлению монархии. Учреждается должность президента, получающего всю реальную власть. Его будут выбирать прямым голосованием, и он станет носителем суверенитета нации.
Это положение конституции имеет тем более зловещий смысл, что на политической сцене появляется трагикомическая фигура «племянника своего дяди» Луи-Бонапарта. Он уже два раза пытался захватить власть при Луи-Филиппе. Тогда его опереточные авантюры никто не воспринимал серьезно. Но теперь положение иное. Республика сумела необычайно быстро потерять надежную почву, оттолкнув от себя и рабочих, и крестьян, и городскую мелкую буржуазию. А Бонапарт обещает что-нибудь всем, даже рабочим! Ведь он заранее сочинил брошюру о борьбе с бедностью. Крестьяне, болезненно задетые тем, что республика обложила их добавочным налогом, мечтают о возрождении империи. Фигура Луи-Наполеона растет на глазах. Летом на дополнительных выборах он избран депутатом сразу в трех департаментах.
Среди мелкобуржуазных демократов и республиканцев дарят уныние и растерянность. Теперь они горько сожалеют, что допустили в июне расправу с рабочими. Они болезненно сознают, что республика, за которую они боролись, оказалась не такой, какую они видели в мечтах…
Что касается Делеклюза, то он понял это еще до июньского побоища на печальном опыте своей деятельности по управлению северными департаментами. Уже тогда он говорил, что демократы должны перейти в оппозицию. Сейчас у них уже просто нет другого выхода. Пока Делеклюз твердо решил одно: продать свою старую газету «Эмпарсьяль» в Валансьене и основать новую демократическую газету в столице. Конечно, здесь будет нелегко, многое удручает его, и многое ему еще просто неясно. Делеклюз за семь лет жизни на севере все же как-то оторвался от Парижа, а здесь столько перемен. Он встречается с людьми, изучает их, ищет пути борьбы.
3 октября он оказался на собрании в редакции газеты «Пёпль», которую издавал левый депутат собрания социалист Прудон, уже известный своими проектами социальных реформ. Находившийся там его поклонник Даримон в своих воспоминаниях так передает впечатление, которое произвел на него Делеклюз: «В первый раз я нахожусь в обществе человека, который приобрел в Лилле и в департаменте Нор репутацию отчаянного политического бойца с крайне жестким характером. На первый взгляд он не очень симпатичен. Его речь была резкой, а его тон вызывающим. Он не занимался обоснованием своего мнения, он навязывал его. Он очень походил на Робеспьера».
Сначала речь зашла о кровавых июньских днях. Память о них не переставала тревожить совесть всех демократов. Прудон, который, казалось, Жил только в сфере экономических утопий и политических грез, на этот раз, стремясь, видимо, расположить к себе полной откровенностью, говорил нечто такое, что молча переживали многие:
— Что касается лично меня, то память об июньских днях будет лежать на моей душе вечным тяжким бременем, укором для моей совести. С болью признаю: до 25 июня я ничего не предвидел, ничего не знал, ни в чем не разобрался… Я, как и вы и как столько других, был болваном. Я по парламентскому тупоумию не сумел выполнить свой долг народного представителя. Я был там, чтобы видеть, и ничего не видел; я был там, чтобы бить в набат, и молчал! Я поступал, как собака, которая не лает при приближении врага. Я, избранник плебса, журналист пролетариата, обязан был не оставлять эту массу без руководства и без совета…
Как выяснилось из дальнейших прочувствованных слов Прудона, он видел свою обязанность в том, чтобы посоветовать рабочим не браться за оружие и ничего не требовать от правительства. Затем началось обсуждение вопроса, ради которого и созвано было собрание в редакции газеты Прудона, вопроса о политике на президентских выборах. Говорили о двух уже всем известных кандидатурах — о Луи-Бонапарте и Кавеньяке.
Прудон заявил, что с Кавеньяком все заранее известно — это будет реакция, своего рода замаскированная буржуазная и капиталистическая монархия. Бонапарт был для Прудона неясен, поскольку он ничего не говорит, но, во всяком случае, по его мнению, он будет противопоставлять себя Кавеньяку. В ответ на это один из участников собрания заметил, что с Кавеньяком все же будет республика, а с Бонапартом — империя. Нет никакой гарантии, что, придя к власти, Бонапарт не станет еще реакционнее Кавеньяка. Один из близких Прудону людей заявил, что полезно было бы узнать намерения Бонапарта относительно того, на каких союзников он хочет опираться. Делеклюз, который слушал эти рассуждения, сдерживая возмущение, не выдержал:
— Как, неужели вас устраивает этот чудовищный план союза с Бонапартом?
Последовал ответ, что это не план, а лишь соображения и сомнения. Затем кто-то предложил занять нейтральную позицию, но Прудон заметил, что отказ от участия в выборах был бы дезертирством.
В конечном счете ни о чем не договорились. Начали расходиться. Делеклюз ушел одним из первых. Уходя, он заметил вполголоса:
— Если и есть человек, который вытащит нас из этого тупика, то это Ледрю-Роллен.
Делеклюз понял, что друзья Прудона прощупывали его как представителя левых республиканцев-якобинцев в отношении заключения союза с Бонапартом. Ведь не случайно еще в сентябре Прудон вел какие-то переговоры с этим авантюристом. Возмущение Делеклюза показало, что такая затея вызовет протест большинства демократов. Делеклюз, со своей стороны, понял, что кандидатура Ледрю-Роллена не встретит поддержки прудонистов. Он даже не стал и настаивать на этом во время собрания, обнаружившего разброд в лагере левых.
Делеклюз и его друзья решили противопоставить на президентских выборах одновременно Кавеньяку и Бонапарту кандидатуру Ледрю-Роллена. Для его поддержки необходимо как можно скорее начать издание газеты. Но этого Делеклюзу казалось недостаточным. Опыт его личной деятельности на севере и события после февральской революции в Париже, обнаружившие крайнюю слабость якобинцев, убедили его в необходимости срочного создания широкого политического общества, полуоткрытого, полутайного, охватывающего прочной сетью комитетов всю страну. Он уже выбрал название для этой организации: «Республиканская солидарность». Все, кто сознают растущую опасность республике, будут неизбежно привлечены такой организацией, в самом названии которой уже отражается определенная программа, диктуемая политической обстановкой в стране.
Что касается названия газеты, то Делеклюз, конечно, первым делом вспомнил слово, неизменно пленявшее его душу: «Братство». Однако, посоветовавшись со своими единомышленниками, Делеклюз согласился, что этот вариант не привлечет тех, кто мечтает о социальной революции. В конце концов решили, что газета будет называться «Демократическая и социальная революция». Благодаря энергии и настойчивости Делеклюза удалось собрать и деньги для газеты. 14 тысяч франков он получил от продажи «Эмпарсьяль», около 40 тысяч собрали друзья из департамента Нор, сохранившие верность Делеклюзу, кое-что удалось достать и в Париже.
7 ноября 1848 года вышел первый номер газеты. В нем была напечатана большая статья, определявшая политическое направление газеты. Фактически статья представляла собой концентрированное изложение политических взглядов Делеклюза, которых он придерживался на протяжении длительного времени. Поэтому нельзя обойтись без изложения этой интересной статьи, написанной Делеклюзом, объясняющей многое в его жизни и деятельности.
Статья начиналась с утверждения, что основатели «Демократической и социальной революции» всегда рассматривали свержение монархии только как средство и что их цель всегда заключалась в проведении социальных реформ. Но что же происходит сегодня? «Мы имеем республику, но с монархическими институтами, с коррупцией и с сохранением различных привилегий, со всеми пороками старого режима. Ничего не изменилось во Франции, кроме того, что мы имеем одной династией меньше». Все реформы отвергнуты, уже восемь месяцев мы живем при режиме осадного положения, свобода печати, право собраний находятся под все растущей угрозой. Новая газета будет защитницей демократических и социальных идей, но она не свяжет себя с какой-то одной школой социализма; она будет проявлять по отношению ко всем этим направлениям свое сочувствие и свое братское содействие.
Делеклюз писал: «Мы не являемся теми, кто хочет сделать политику какой-то математической наукой, переданной в исключительное распоряжение небольшого числа лиц. Верные сыны революции, мы думаем, что конституция 1793 года содержит в зародыше все улучшения, которые необходимы обществу; мы не видим ничего более философского, ничего в высшей степени более социального, чем Декларация прав, сформулированная Робеспьером, применения которой еще надо добиться». Он утверждает далее, что никакая социалистическая школа не дает удовлетворительного решения проблемы. «Одни из них упраздняют свободу или равенство, другие — братство». По мнению Делеклюза, выход в том, чтобы полностью и одновременно провести в жизнь «все три составные части республиканского девиза». Средство для достижения этой цели очень простое — всеобщее избирательное право, «всепобеждающее оружие, перед которым должны пасть все привилегии» и которое удовлетворит все нужды.
Свое кредо Делеклюз заключает следующими словами: «Мы стремимся создать такое социальное устройство, которое будет уважать и удовлетворять все интересы, не будет больше отверженных, труд станет обязанностью и долгом для всех, эгоизм — глупостью. Что касается методов и средств, то их нам подскажет здравый смысл. Демократия — путь, который приведет нас к социальным реформам. Так будем же республиканцами и демократами, чтобы стать социалистами».
Газета Делеклюза перечисляет также программу ближайших конкретных мероприятий. Она очень близка к программе якобинцев 1793 года и предусматривает всеобщее, бесплатное и обязательное образование; национализацию банков, железных дорог, каналов и шахт; введение вместо прежних единого, прямого и прогрессивного налога; провозглашение права на труд со всеми вытекающими отсюда последствиями; отмена президентской власти и т. п. В области внешней политики газета выступает за «освобождение всех народов, уважение прав наций, за свержение всех деспотий». Она выражает надежду, что вскоре в Париже соберется конгресс революционеров всех стран, который определит организацию европейских государств.
Такова политическая программа Делеклюза. Она вся проникнута добрыми намерениями и стремлением осчастливить всех. Но она безнадежно сентиментальна и во многом далека от жизни, от жестокой реальности классовой борьбы. В ней вполне практические и достижимые цели смешиваются с несбыточными мечтами и наивными утопиями. В 1793 году, во времена Робеспьера, такая программа всеобщего «братства» в основном соответствовала реальности. Подавляющее большинство французов объединяли общие интересы, общая ненависть к феодализму и к его сравнительно немногочисленным защитникам. Для «Братства» существовала практическая основа. Классовые противоречия еще были совсем неосознанными. Теперь же, более полувека спустя, они резко углубились и обострились. Поэтому в июне 1848 года пролетариат и буржуазия вступили в ожесточенную, кровавую битву между собой. Но Делеклюз видел в этом просто тяжкое несчастье и прискорбное недоразумение, порожденное случайностью, злобой, глупостью. Поистине надо было обладать безграничным великодушием, беспредельной любовью к людям, чтобы вопреки всему сохранять столь далекие от жизни иллюзии.
Бросается в глаза одно различие во взглядах Делеклюза и якобинцев 1793 года. Робеспьер и его друзья ничего не говорили о социализме, да и понятия такого в их времена еще не было. Делеклюз, напротив, прямо касается социализма. Он даже призывает быть демократами и республиканцами, чтобы «стать социалистами».
Что это. предвыборный тактический маневр, приманка для избирателей, симпатизирующих социализму? Или, возможно, происходит какая-то эволюция Делеклюза от якобинизма к социализму?
Все дело в том, какой смысл вкладывал Делеклюз в понятие социализма. Для него социализм — это его любимая идея братства в действии, противоположность эгоизму, устранение общественных пороков, злоупотреблений, избавление людей от страданий. В этом смысле Делеклюз социалист. Правда, его социализм — просто радикальная политика, прогрессивная и демократическая политика, не выходящая за рамки буржуазного общества. Ведь Делеклюз не говорит об упразднении частной собственности, о ликвидации буржуазного класса; он вообще не видит враждебных, противоположных классов в своей любимой Франции, над которой он парит в облаках прекрасных, великодушных мечтаний.
И все же, хотя программа Делеклюза не выдерживает серьезной научной критики, в ней немало прогрессивного, передового для того времени и даже реального. А главное — Делеклюз искренне верит в свои идеи, для их осуществления он готов отдать все силы, всю жизнь. Это благородный, честный и смелый рыцарь справедливости. Вот что делало его одним из замечательных людей своего времени.
III
Вернемся, однако, к тому, чем занят Делеклюз в конце 1848 года. Развернулась борьба вокруг президентских выборов, назначенных на 10 декабря. Газета «Демократическая и социальная революция» отстаивает кандидатуру Ледрю-Роллена, яростно нападает на двух его главных соперников: Кавеньяка, этого «героя осадного положения, истинного виновника кровавого июньского побоища, сообщника роялистов всех мастей», и Луи-Наполеона, «недостойного наследника великого человека, олицетворение антидемократической политики, союзника деспотов и королей».
Делеклюз пытается объединить все демократические и социалистические силы вокруг кандидатуры Ледрю-Роллена. Главным препятствием в этом деле явился Прудон со своей газетой «Пёпль». Он не только отказался поддерживать Ледрю-Роллена, но даже объявил его самым опасным врагом социализма. Прудон выступал за кандидатуру Франсуа Распайя, отважного революционера, ученого-химика, человека крайне левых, но весьма сумбурных взглядов. О его политической физиономии дает представление эпиграф газеты «Друг народа», которую он издавал после февральской революции: «Бог и отечество, полная свобода мысли, неограниченная веротерпимость, всеобщее избирательное право».
Шансов на избрание Распайя не было, но Прудон действовал ради принципа. Впрочем, он не столько вел кампанию за Распайя, сколько против газеты Делеклюза и его кандидата — Ледрю-Роллена. Прудон выступал с самыми невероятными парадоксами. Вначале он прощупывал возможность блока с Луи-Наполеоном. Затем, в разгар избирательной кампании, он вдруг заявил, что наиболее предпочтительным кандидатом для него является генерал Кавеньяк, поскольку он представляет «капитал в чистой форме» и его избрание окажется «прогрессом для социализма», ибо внесет ясность.
Такие парадоксы, которыми Прудон всегда увлекался, его нападки на газету Делеклюза породили между ними ожесточенную полемику. Дело дошло до того, что Делеклюз вызвал Прудона на дуэль. Правда, она не состоялась, поскольку Прудон не принял вызова.
А пока трещали перья в этой перебранке, подошли и выборы, которые дали ошеломляющий результат, Наполеон получил почти в три раза больше голосов, чем все остальные кандидаты, вместе взятые: 5434 тысячи. Кавеньяк собрал 1448 тысяч, Ледрю-Роллен — 370 тысяч, Распай — 36 тысяч.
Авантюрист, жалкий спекулянт славой своего дяди, одним махом сгреб голоса всех, кого обидела буржуазная республика, от монархистов до рабочих. А больше всего ему помог «Жак-простак», французский крестьянин, возненавидевший республику, которая увеличила налоги почти в два раза. Это было восстание невежественной, отсталой, верившей лишь своим попам французской деревни. Там имели смутное представление о республике, о ее партиях и вождях. Незадолго до выборов Делеклюз получил письмо от одного республиканца из деревни, который рассказывал, как крестьяне представляют политическое положение в Париже. Оказывается, они считали двух министров временного правительства Ламартина и Мари женщинами (их фамилии звучали как женские имена), двумя потаскухами, с которыми сожительствует Ледрю-Роллен и проматывает деньги. Крестьяне люто ненавидели коммунизм, они считали это слово собственным именем и думали, что революционеры являются учениками «отца Коммунизма», который хочет истребить всех детей моложе трех лет и стариков старше 60 лет. А вот имя Наполеона они знали, и оно в их сознании связывалось с тем, что дала им Великая революция, — с землей. Они умели также считать свои франки и сантимы, которые отнимал у них сборщик налогов, особенно требовательный при республике.
10 декабря наступил час расплаты для буржуазных республиканцев, как «трехцветных», марки «Насьональ», так и — особенно — якобинцев из «Реформ», которые, придя к власти, занимались исключительно борьбой против защитников республики, сначала против рабочих, а потом против мелкой буржуазии. Их кандидаты, Кавеньяк от «трехцветных» и Ледрю-Роллен от якобинцев, с треском провалились.
А Луи-Наполеон, дав присягу на верность конституции («как честный человек», — сказал он), сразу начал готовить государственный переворот. Наступает агония Второй республики, открывается одна из самых жалких, позорных страниц французской истории, когда Францию унижает, втаптывает в грязь, использует в своих полууголовных расчетах ничтожный и наглый проходимец. И характерно, что Делеклюз, который в период подъема республики после февральской революции прозябал в провинции, теперь, когда все знаменитости тех времен обанкротились, — в первом ряду борьбы за спасение наследия недавней революции, борьбы безнадежной и обреченной.
В отличие от Прудона, который сразу стал выпрашивать социальные реформы для рабочих у их злейшего врага, Делеклюз понял, что от беспринципного претендента ждать нечего, что с ним можно и нужно вести беспощадную борьбу.
После президентских выборов Делеклюз пишет в своей газете: «Народ Парижа основал республику. И он будет ее защищать, если она окажется под угрозой». Делеклюз ободряет растерявшихся республиканцев: «Когда 18 брюмера Бонапарт уничтожил конституцию, он имел за собой блеск своих побед. Его наследник не имеет ничего подобного».
Если не считать газеты, то главным орудием политической деятельности Делеклюза становится основанное им еще в начале ноября 1848 года политическое общество «Республиканская солидарность». На улице Монмартр, 129 разместилась его штаб-квартира. В уставе общества Делеклюз писал, что его целью является объединение всех республиканцев для борьбы против контрреволюционных партий, которые «открыто стремятся восстановить монархию». Делеклюз деятельно формирует общество, его руководящие органы, его местные организации в департаментах. Председателем общества стал депутат, левый республиканец якобинского толка Мартин Бернар, бывший рабочий-наборщик, генеральным секретарем — Шарль Делеклюз.
Он считал, что не все еще потеряно, что надо исправлять ошибки на ходу и действовать. В конце декабря Делеклюз говорил активистам общества «Республиканская солидарность»:
— До сих пор наша партия монтаньяров не была на высоте. Большинству ее членов недоставало революционной убежденности. Другие не проявляли инициативы и пассивно следовали парламентским традициям. Но скоро, возможно, сложится обстановка для осуществления наших доктрин и для выдвижения людей, которые их представляют. Перед нынешним режимом неизбежно возникнут трудности, особенно финансовые. Сейчас необходимо терпеливо ждать и готовиться к схватке. Когда республика будет открыто атакована насилием, мы выступим с оружием в руках. Надо готовить кадры для революционного правительства. Сразу после новой революции мы введем в действие обновленную Декларацию прав и конституцию 1793 года. Необходима будет временная революционная диктатура в лице Комитета общественного спасения, опирающегося на консультативный совет из представителей департаментов. Члены «Республиканской солидарности» составляют будущую политическую организацию, и достаточно десяти декретов, чтобы придать революции силу, в которой она нуждается…
Жаль, что эти смелые планы и действия запоздали ровно на год. Если бы это говорилось и делалось накануне февральской революции, то, возможно, события развернулись бы иначе.
Во всяком случае, несмотря на уныние, упадок духа, охватившие республиканцев, «Демократическая солидарность» очень быстро приобретает силу и значение. В конце января 1849 года в обществе насчитывалось до 300 тысяч человек. О его эффективности говорит уже то, что скоро оно вызывает тревогу у нового, теперь бонапартистского, правительства. Во главе его стоял Одиллон Барро, тот самый, которого Луи-Филипп назначил на этот же пост в момент наступления революции. Тогда ему так и не удалось приступить к делам. И вот спустя год он все же начал управлять вместе с правительством, целью которого с первого дня становится ликвидация республики. Уже в начале января по приказу министра внутренних дел Фоше в провинции уничтожают республиканские символы — деревья свободы и фригийские колпаки. А затем префектам разослали циркуляр министра, предписывающий пресекать деятельность общества «Республиканская солидарность». Сразу же в Руапс и Гавре полиция произвела обыски в помещениях общества и запретила его собрания. 26 января Фоше внес в Учредительное собрание проект закона о запрещении обществ и клубов, занимающихся политикой, и потребовал срочно одобрить законопроект. Однако собрание отказалось пока обсуждать закон, поскольку он явно противоречил конституции.
Тогда Бонапарт и его клика решили разогнать собрание. 29 января Париж с тревогой увидел на улицах войска генерала Шаигарнье. Однако Тьер (он всегда появлялся на сцене, как только надо было вонзить нож в спину республики) посоветовал Луи-Бонапарту отложить пока «тяжелую операцию государственного переворота» до более подходящего случая. Уходя от Бонапарта, генерал Шапгариье сказал Тьеру: «Вы заметили, какую мину скорчил президент? В конце концов это трус».
Переворот отложили, по кое-что успели провести. Около половины седьмого вечера 29 января в штаб-квартиру общества «Республиканская солидарность» явилась полиция при поддержке целого батальона солдат. Два часа продолжался обыск. Затем 30 человек, находившихся в помещении общества, арестовали и под конвоем отправили в префектуру полиции. На протяжении всего февраля проводились обыски и аресты в провинциальных филиалах общества. В собрании Ледрю-Роллен, Мартин Бернар и другие представители левой республиканской фракции (35 депутатов входили в общество «Республиканская солидарность») протестовали против этих незаконных преследований. Однако правительство продолжало вести подготовку государственного переворота. Да и само Учредительное собрание все время находилось под угрозой раз- гона. Правда, 29 января Бонапарт заколебался, но он просто решил действовать осторожнее. Президент Бонапарт, все реакционные силы объединились против республики.
Только теперь левые республиканцы поняли необходимость объединения. Тяжелое положение, в котором они оказались, обнаружилось 24 февраля, в день первой годовщины революции. Все хотели отметить эту дату демонстрацией, однако выяснилось, что бонапартистское правительство мечтает использовать ее как повод для репрессий. От демонстрации отказались.
Делеклюз писал 24 февраля в своей газете: «Простите нас, славные мученики февральской революции. Мы не знаем теперь, как нам защитить республику, ради которой вы благородно проливали вашу кровь. Мы оказались в таком положении, что не можем даже отпраздновать годовщину вашей бессмертной победы».
Однако на другой день, 25 февраля, левые республиканцы, социалисты разных направлений устроили большой торжественный банкет в честь дня революции. Здесь были сторонники Прудона, Распайя; теперь наконец все осознали необходимость единства. В огромном, празднично украшенном зале «Фратерпите» собралось около трех тысяч человек, среди них немало рабочих. Вначале оркестр исполнил «Марсельезу». Первый тост: «За память монтаньяров 93-го года!» Начались речи. Выступали Ледрю-Роллён, Делеклюз, Феликс Пиа. Пьер Леру и многие другие. Говорили о том, что роковой ошибкой победителей в февральской революции были умеренность и нерешительность, а также раскол в их рядах.
Один из ораторов напомнил бессмертные слова Сен-Жюста: «Тот, кто делает революцию наполовину, роет сам себе могилу!» Манифестации, собрания, банкеты по поводу февральской годовщины прошли во многих городах Франции. Делеклюз специально выезжал в Валансьен, где он председательствовал па торжественном банкете.
Звон бокалов па февральских банкетах 1849 года приветствовал рождение социально-демократической партии — коалиции мелких буржуа и рабочих. До этого основной левой республиканской партией, в которую и входил Делеклюз, было объединение якобинцев, или монтаньяров. В собрании их возглавлял Ледрю-Роллен. Это была фракция «Монтань», или, по-русски, «Гора». Ее участники вышли из группы газеты «Реформ», обществ «Друзей народа» и «Прав человека». Хотя в них участвовали рабочие, политический союз мелкой буржуазии и рабочего класса возникал только временами. Так было в первый период революции 1848 года, от февраля до середины мая. Июньское восстание означало разрыв этого союза. Но вот общая угроза снова объединяет рабочий класс и мелкую буржуазию в социально-демократическую партию, К сожалению, она оказалась непрочной, слабой. Это объяснялось, с одной стороны, колебаниями таких руководителей «Горы», как Ледрю-Роллен, а с другой — тем, что июньская бойня оттолкнула от мелкой буржуазии рабочий класс, породила у него законное недоверие к ней. А слабость социально-демократической партии успешно используют как «партия порядка», объединившая либералов, умеренных республиканцев и даже монархистов, так и Бонапарт, готовивший государственный переворот.
12 марта Делеклюз предстал перед судом за опубликование в газете «Демократическая и социальная революция» двух статей о восстании парижских рабочих в июне 1848 года. Статьи выражали горячую симпатию к восставшим и ненависть к убийцам. Делеклюз разоблачал их бесчеловечную жестокость, описывал массовые расправы. «В кварталах, где сторонники порядка становились хозяевами, национальные гвардейцы, опьяневшие от крови и вина, врывались в дома и расправлялись со случайными, часто невинными людьми, убивая их с яростью, как убивают подлецы, охваченные страхом».
Вообще, статьи Делеклюза по стилю хорошо отражали особенности его характера. Резкие, хлесткие эпитеты, страстный тон, поразительная смелость властно захватывали читателя, но и приводили в бешенство его противников. Нельзя сказать, что они отличались теоретической глубиной; они скорее поражали исключительной эмоциональностью.
Защитником Делеклюза выступал Ледрю-Роллен, как всегда блистая своим эффектным красноречием. Но, естественно, приговор был предрешен: год тюрьмы и три тысячи франков штрафа. Деньги немедленно собрали по подписке, а дело пока перешло в высшие судебные инстанции.
12 апреля Делеклюз снова привлечен к суду. На этот раз ему вменяют в вину статью «Политический эшафот», посвященную казни двух участников июньского восстания за убийство генерала Бреа. Почему не судят тех, кто убивал невинных женщин и детей? — возмущается Делеклюз. И снова он клеймит июньских убийц. Он напоминает о том, что Луи-Бонапарт дважды, пытаясь захватить власть еще при июльской монархии, стрелял в офицеров. — «Однако виновник этих политических преступлений сейчас является президентом республики». Во второй статье, которая тоже объявлена «преступной», Делеклюз разоблачает ханжество и лицемерие католической церкви, благословившей казни. На этот раз приговор был еще более суровым: три года тюрьмы, одиннадцать тысяч франков штрафа.
Чтобы избежать ареста, Делеклюз скрывается. Он жил в доме на улице Дамьет, этажом выше редакции его газеты. А через некоторое время в четыре часа утра в его квартиру является целый отряд полицейских. Им объяснили, что хозяин дома отсутствует… по состоянию здоровья. Полиция производит тщательный обыск. В апреле по всей Франции прокатилась волна арестов; хватали активных членов общества «Республиканская солидарность».
Делеклюзу не только удается уйти от полиции. Он ни на минуту не прекращает напряженной журналистской работы. Непрерывно публикуются его статьи. Он разоблачает каждый новый шаг Бонапарта к уничтожению республики. Теперь все левые — республиканцы-якобинцы, социалисты — фактически выступают как одна партия, партия «красных», так их теперь называют. Делеклюз — один из самых смелых и решительных поборников революционных действий. Он по всякому поводу непрерывно проводит главную мысль — вооруженная борьба и восстание неизбежны. Обязанность республиканцев и революционеров не уклоняться от выполнения своего долга. Снова вспоминая погибших борцов недавних восстаний, Делеклюз пишет: «Мы клянемся вашей памятью, что, если мы не сможем победить, мы сможем умереть, как вы, как республиканцы». Видимо, Делеклюз не очень верит в возможность победы, в реальность свержения Бонапарта. Тем не менее он считает своим долгом не уклоняться от борьбы ни в каком случае, ибо, по его мнению, Даже поражение готовит почву для будущих побед.
Неожиданно вновь вспыхивает полемика между Делеклюзом и Прудоном. Теоретик мелкобуржуазного социализма решительно против революционных призывов Делеклюза и снова спорит с его газетой: «Мы хотим для социализма мирного, спокойного и законного решения. «Демократическая революция» не хочет ничего слышать о мире, о конституционности, о законности. Ей нужна только непрерывная и утомительная борьба».
Упреки Прудона были бы вполне уместны по отношению к Луи-Наполеону, нагло попиравшему всякую законность. Ясно, что Делеклюз не мог не возмутиться предательской проповедью Прудона, которую он сурово осудил. Тем более что приближался последний и решающий бой за республику. Бонапарту в конце концов удалось уломать Учредительное собрание, и оно проголосовало за выборы в Законодательное собрание. Вокруг избирательных урн закипели страсти. Делеклюз в первых рядах новой избирательной кампании. Общество «Республиканская солидарность», хотя и ослабленное полицейскими преследованиями, — один из центров «красных». На выборах они добились увеличения числа своих депутатов до 180. Окончательно опозоренные «трехцветные» республиканцы терпят поражение: у них теперь всего 70 мандатов. Реакция захватывает прочное большинство в 500 депутатов.
Конфликт между Бонапартом и Законодательным корпусом возник из-за Италии. Итальянские патриоты боролись против Австрии, и Учредительное собрание обещало помочь им. Бонапарт действительно послал французские войска в Италию, но совсем для других целей. Франция выступила против Римской республики, упразднившей светскую власть папы. Наполеон, стремясь получить поддержку католической церкви, стал защитником папы против римского народа. Это был не только прямой обман депутатов, но и грубейшее нарушение конституции, которая торжественно провозглашала, что Французская республика «никогда не употребит своих военных сил против свободы какого бы то ни было народа».
11 июня 1849 года Ледрю-Роллен потребовал от собрания предать суду президента республики и его министров за грубое нарушение конституции. Он заявил, что «республиканцы не остановятся ни перед чем, чтобы заставить уважать конституцию, даже перед силой оружия». Но запоздалая смелость лидера левых была лишь слабым эхом того, что писал в эти дни в своей газете Делеклюз. Ее страницы горели гневом, возмущением и призывами к оружию. В тот же день, И июня, Делеклюз активно участвует в переговорах депутатов левой и представителями тайных рабочих обществ. Делеклюз настойчиво призывает к восстанию. Законодательное собрание 13 июня отвергло обвинения Ледрю-Роллена. Депутаты левой удалились в знак протеста и призвали народ, армию, Национальную гвардию выступить в защиту конституции. 30 тысяч человек вышли на демонстрацию. Войска под командованием генерала Шангарнье разогнали демонстрантов. Ледрю-Роллен, Делеклюз, Бернар, Консидеран пытались в Консерватории искусств и ремесел, используя артиллерию Национальной гвардии, оказать сопротивление. Однако солдаты быстро окружили их. Многие были арестованы. Делеклюзу удалось скрыться.
Фактически события 13 июня были концом Второй республики. 33 депутата левой арестованы. Все демократические газеты запрещены. Париж на осадном положении. Все политические собрания запрещены на год. Теперь республика связана по рукам и ногам. Бонапарт стал медленно душить ее, готовя государственный переворот и провозглашение империи.
Делеклюз и до этого был на полулегальном положении и не показывался у своего дома. Теперь он скрывается из Парижа, живет у друзей в Дурдане, затем в Севре, потом возвращается в столицу и укрывается в Доме инвалидов, где его отец жил, как бывший солдат. Одно время он прятался в Париже у своей матери на улице Фиделите. Самое надежное убежище он имел в Валансьене, где у него было много преданных друзей. Кроме того, рядом была бельгийская граница. В конце 1849 года он перебирается в Бельгию, живет здесь несколько месяцев, а 18 января 1850 года приезжает в Лондон.
Каждая из многочисленных революционных бурь, потрясавших Францию, выбрасывала на берега британских островов политических беженцев всех партий и всех оттенков. Здесь, неподалеку от Лондона, жил бывший король Луи-Филипп, а в трущобах Ист-Энда ютились отважные революционеры, лишившие его трона.
Первым, с кем встретился Делеклюз в Англии, был Ледрю-Роллен. Еще в начале июля 1849 года он вместе с Мартином Бернаром и Этьеном Араго бежал в Бельгию. Но здесь ему не разрешили остаться, и он перебрался в Англию. Ледрю-Роллен прибыл в Лондон в ореоле революционной славы событий 13 июня, которая как-то заслонила его прежние слабости. Этот импозантный оратор с такой внушительной внешностью сразу вошел в моду среди многочисленных эмигрантских группировок наравне со знаменитым итальянским демократом Мадзини. Его время заполнялось бесконечными встречами, банкетами и особенно речами на разных собраниях. Впрочем, он находил еще и время для занятия спиритизмом. Но мысль о том, что его постепенно могут совершенно забыть во Франции, часто приходила ему в голову, и поэтому он с нетерпением ожидал приезда энергичного, неутомимого и бесконечно преданного революции Делеклюза. Ледрю встретил его очень радушно и даже предложил поселиться у него, пока пе удастся подыскать постоянное жилье. Немедленно было решено начать издание газеты, предназначенной для распространения во Франции. Естественно, потребовались деньги. Делеклюз пытался получить кое-что за имущество запрещенной «Демократической и социальной революции», но из этого ничего не вышло. В конце концов с помощью подписки, займов деньги ему все же удалось наскрести. Договорились с революционными эмигрантами из других стран, что издание будет органом европейского демократического движения. Поэтому в редакционный совет вошли представители разных стран, например Мадзини. Руководство редакцией поручили Ледрю-Роллену, но он охотно передал всю эту скучную и сложную работу Делеклюзу. Как пишет Виктор Пьер, «Делеклюз превосходил всех других редакторов, включая и великих жрецов Мадзини и Ледрю-Роллена, своим организаторским талантом, журналистским мастерством и инициативой». Делеклюз полностью руководил журналом «Проскри» («Изгнанник»), первый номер которого вышел 5 июля 1850 года. В нем была напечатана статья Ледрю-Роллена, разоблачавшего деятельность оставшихся в Законодательном собрании депутатов крайней левой и призывавшего верить только ему. Мадзини обращался в своей статье ко всем европейским народам с призывом к объединению. В первом номере содержалась также большая статья Делеклюза «Реакция и народ», в которой он анализировал положение во Франции и резко осуждал капитулянтскую политику левых республиканцев в Законодательном собрании. Во втором номере «Проскри», вышедшем 7 августа, Делеклюз выступает снова с большой статьей, в которой отвечает на критику первого номера, причем снова ему приходится спорить с Прудоном, по-прежнему нападавшим на революционные лозунги и идеи Делеклюза.
Журнал «Проскри» готовился в Лондоне, но печатался во Франции. Не удивительно, что третий номер так и не вышел; судебные преследования убивают журнал. Но Делеклюз скоро находит нового издателя, и в октябре журнал появляется под слегка измененным названием: «Вуа дю Проскри» («Голос изгнанника»). Почти в каждом номере статьи Делеклюза. Кроме обычных для него полемических выступлений по политическим вопросам, он печатает серию теоретических статей о демократии, образовании, экономике. Журналистская деятельность Делеклюза приобретает более глубокий характер, и он обнаруживает исключительную эрудицию. Интересна его статья в номере от 12 января 1851 года, в которой он высказывает свои взгляды в отношении социализма и коммунизма. Делеклюз не знал «Коммунистического Манифеста» Маркса и Энгельса, как и другие их работы, в которых в это время разрабатывалась теория научного социализма. Ему были известны лишь мелкобуржуазные, утопические идеи Луи Блана и Прудона. Уделяя в основном внимание политической стороне дела, Делеклюз решительно их критикует. Его исходная точка зрения состоит в том, что социальные преобразования нельзя осуществлять в отрыве от политических, демократических, революционных изменений. Вот как он суммирует свои взгляды на вульгарные мелкобуржуазные коммунистические теории: «Известно, какой ценой коммунистическая идея хочет осчастливить общество. Личность полностью подавляется безграничной монополией государства, человек становится лишь колесиком в огромной машине; нет больше ни свободы, ни самостоятельности, ни ответственности; жизнь прекращается… Народ со своим замечательным здравым смыслом осуждает эту доктрину, и Франция никогда не будет ни монастырем, ни казармой».
Во всяком случае, Делеклюз имеет пока очень общее и очень приблизительное представление о социализме; он знаком лишь с его отдельными и далеко не самыми передовыми теориями. Однако уже в это время ясно видно, как возрастает его интерес к социальным проблемам, как постепенно он перестает ограничиваться только задачей политического переустройства общества.
Но в основном Делеклюз в своей интенсивной журналистской деятельности поглощен политическими событиями во Франции. Он непрерывно ведет полемику с противниками, разоблачает подготовку Бонапарта к государственному перевороту и критикует наивность республиканцев. Он постоянно и неизменно подчеркивает руководящую миссию Ледрю-Роллена в демократическом движении Франции. А Ледрю лелеял в это время мысль о выдвижении своей кандидатуры на следующих президентских выборах в декабре 1852 года. В конечном итоге лондонское издание служило именно этой цели. Сестра Делеклюза Аземия подробно и часто информирует брата о впечатлении, которое «Вуа дю Проскри» производит во Франции. В однем из писем она сообщает: «Ваш журнал — это политическое спасение для Ледрю-Роллена. Без него он был бы полностью забыт, тогда как сейчас в народе говорят: все же это наш человек, все наши лучшие в Лондоне».
Чтобы сохранить политические шансы Ледрю-Роллена и иметь политическую трибуну для лондонских изгнанников, Делеклюзу приходится преодолевать невероятные трудности. Осенью 1851 года два издателя «Вуа дю Проскри» уже оказались в тюрьме, третий — ждал суда. Многие номера конфисковывались. А главное — постоянно не хватало денег. 20 сентября 1851 года Делеклюз пишет одному из друзей: «Издание «Вуа дю Проскри» стоит нам сверхчеловеческих усилий. Наши последние ресурсы иссякли, и я удивляюсь, как нам еще удалось продержаться одиннадцать месяцев». Вскоре, после очередного судебного приговора, издание пришлось прекратить. Каким-то чудом Делеклюзу удается начать выпуск нового журнала «Пёпль» в конце ноября 1851 года. Но государственный переворот 2 декабря кладет конец журналистской деятельности Делеклюза в Лондоне. Законодательное собрание разогнано, все демократические издания запрещены, в стране устанавливается полицейская диктатура, а через год Бонапарт провозглашает себя императором под именем Наполеона III.
Почти все политические друзья Делеклюза во Франции либо арестованы, либо бежали. В Лондоне появляются новые политические беженцы. Приезжает Луи Блан. Разногласия, противоречия, конфликты среди французских эмигрантов, которых и раньше было достаточно, в это время резко усиливаются.
А. И. Герцен в «Былом и думах» подробно рассказывает о жизни политических эмигрантов в Лондоне, особенно французских. Он часто встречался с Ледрю-Ролленом, к которому относился весьма критически. Герцен пишет: «Если б кто-нибудь вздумал написать со стороны внутреннюю историю политических выходцев и изгнанников с 1848 года в Лондоне, какую печальную страницу прибавил бы он к сказаниям о современном человеке. Сколько страданий, сколько лишений, слез… и сколько пустоты, сколько узости, какая бедность умственных сил, запасов, понимания, какое упорство в раздоре и мелкость в самолюбии. Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохраняла все раздоры, все партии».
Французские изгнанники разделились на соперничающие между собой общества. Самым крупным из них было общество «Революция» во главе с Ледрю-Ролленом, Делеклюзом и Бернаром. Луи Блан, Кабе, Леру возглавляли «Социалистический союз». Фельетонист и драматург Феликс Пиа, якобинец по своим взглядам, шумный, кичливый и трусливый раскольник, создал общество «Революционная коммуна». Было и еще несколько групп. И все они яростно спорили между собой. Дело нередко доходило до дуэлей. На одной из них погиб друг Делеклюза Курнэ, герой баррикадных боев в июне 1848 года. Правда, теперь много времени у Делеклюза занимает деятельность по добыванию денег. Вместе с Ледрю и еще несколькими друзьями Делеклюз организует завод по производству смазочного масла в Брэдфорте. Поэтому он часто отлучается из Лондона.
Но все же Делеклюз участвует в заседаниях и встречах эмигрантских организаций. Он ищет новые пути революционной борьбы и все больше склоняется к мысли о необходимости организации во Франции тайных политических обществ. Делеклюз и его единомышленники страдают из-за отсутствия информации о французских делах. Они с болью обнаруживают крайнюю слабость сопротивления императорской диктатуре, их сильно угнетает вынужденное молчание и отрыв от Франции. Ледрю-Роллен считает, что самым эффективным средством сохранения его влияния на родине является деятельность его тайных представителей. Он направляет их одного за другим, но все они попадают в руки полиции. А. И. Герцен с грустной иронией пишет в «Былом и думах»: «Маццини и Лендрю-Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые два-три месяца усиливались Делать революционные опыты: Маццини восстаниями, Ледрю-Роллен посылкою агентов. Мацциниевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах, ледрю-ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне (то есть на каторге), но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание».
Настала очередь Делеклюза. Вообще поездка в императорскую Францию была для него чистейшим безумием. Он заочно уже приговорен к тюремному заключению. Его хорошо знали, а императорская полиция имела своих агентов среди эмигрантов. Отъезд Делеклюза не мог остаться незамеченным.
IV
Делеклюз благополучно высадился в Кале и с чужим паспортом в кармане приехал в Париж. Он даже не побоялся явиться прямо домой к матери и сестре. Два месяца его не трогали, хотя в полиции догадывались о приезде Делеклюза. А он устанавливает связи с тайными обществами, прежде всего с «Молодой Горой», которая была связана с обществом «Марианна». Все шло как будто хорошо. Количество участников тайных обществ росло. Их тщательно законспирированная организация, казалось, обеспечивает успех дела. Но среди членов общества нашелся предатель.
13 октября 1853 года в момент, когда Делеклюз направлялся в кабачок «Хромая утка», где он должен был встретиться с членами тайного общества, его арестовали. Сначала Делеклюза помещают в тюрьму Мазас, а в марте 1854 года переводят в Сент-Пелажи.
Следствие тянулось около трех месяцев. Правительству империи нужен был большой политический процесс, который оправдывал бы уничтожение республики и подавление демократии. Хотели показать, что эмигранты из Лондона направляют деятельность заговорщиков. 1 марта 1854 года Делеклюз предстал перед парижским исправительным трибуналом. Кроме Делеклюза, к суду привлекли еще 44 человека, но главным обвиняемым был он, поскольку империя хотела восстановить буржуазию против лондонских революционеров, а именно Делеклюз и был одним из их руководителей. В обвинительном заключении го-верилось, что собраны доказательства «широкого заговора, руководимого из Лондона, центры которого находятся в Париже, Нанте и Туре». Цитировались письма Ледрю-Роллена и Мадзини. Особое внимание обвинители уделяли захваченным полицией письмам Делеклюза, в которых он давал советы и указания активистам тайных обществ о тактике, методах и формах борьбы, о ее целях. Но для обвинения достаточно, в сущности, было бы привести одну фразу Делеклюза из этих писем: «Прежде всего, чего мы хотим? Свергнуть Бонапарта, восстановить республику и основать ее на непоколебимых основаниях». На суде Делеклюз ограничился тем, что подтвердил Свою личность (у него был чужой паспорт), а на дальнейшие вопросы отвечать отказался. 7 марта Делеклюз был приговорен к четырем годам тюрьмы, к тысяче франков штрафа и к десяти годам запрещения находиться во Франции. Остальные подсудимые отделались значительно более мягкой карой.
Больше года Делеклюз провел в политическом отделении тюрьмы Сент-Пелажи. Здесь было довольно сносно. Разрешалось принимать посетителей, читать и писать. Еженедельные встречи с матерью, любимой сестрой, иногда с очень постаревшим отцом радовали его. Близкие Делеклюза не жаловались, хотя его заключение в тюрьму было для них жестоким ударом. А он понимал это. Его угнетало, что теперь он не имеет возможности помогать им материально. Вообще тюремный досуг давал возможность поразмыслить о многом. Но в конечном счете все его мысли и чувства сводились к одному, к революции. Вспоминая о днях, проведенных в Сент-Пелажи, Делеклюз писал впоследствии: «Сколько раз я благословлял солнце, лучи которого рассыпались на голых стенах моей камеры: ведь это солнце когда-то озаряло сияющие лица наших отцов в священные дни нашей истории! Ветер доносил до меня приглушенные над руинами Бастилии звуки, и я ощущал могучее дыхание Великого революционного города, который, как мне казалось, в молчании созревает для новых, еще более ослепительных чудесных событий».
Но недолго пришлось Делеклюзу радоваться близости Парижа. В июне 1855 года, когда он только что начал оправляться от серьезной болезни, его повезли в Бретань. Неподалеку от ее побережья на острове Бель-Иль (это значит «Прекрасный остров») в старой крепости находилась тюрьма, новое место заключения Делеклюза. Здесь томились революционеры всех направлений. Во дворе у окна своей камеры возделывал крошечный огородик великий заговорщик Огюст Бланки. В тюрьме находился его соперник и враг Барбес. Они и здесь ожесточенно спорили между собой. Все заключенные, в зависимости от своих симпатий, разделились на два лагеря. Делеклюз стоял в стороне от этого конфликта и от всех прочих дрязг, которых и в тюрьме хватало. Среди арестантов Делеклюз встретил верных друзей, таких, как адвокат Гамбон, посаженный за дело 13 июня. По сравнению с тюрьмой Сент-Пелажи на острове больше ощущался отрыв от жизни. Вести с воли приходили значительно реже, не было и частых свиданий с близкими. Правда, тюрьма на острове Бель-Иль имела свои преимущества. В распоряжении заключенных находился большой двор, заросший травой, где они могли гулять, наслаждаясь солнцем и морским ветром.
Делеклюз много времени проводит над книгами. Он исписал несколько тетрадей, делая резюме прочитанных им исторических, философских, экономических сочинений. Делеклюз считал обстановку на острове Бель-Иль вполне приличной. Но тюрьма есть тюрьма. Деятельная, энергичная натура Делеклюза томилась. Самым тягостным для него было сознание потерянного времени. Его угнетало молчание Франции, как будто примирившейся с господством над ней коронованного ничтожества. По-прежнему совесть Делеклюза тревожат мысли о тяжелой жизни матери и сестры, оказавшихся без всякой помощи. Хорошо еще, что в многочисленных письмах, которые он получал от них, не было и тени упрека. Более того, они находили силы не только для того, чтобы безропотно переносить свои бедствия, но и вселять бодрость, надежду в сознание дорогого им узника. Судьба наградила Делеклюза матерью с мужественным и благородным сердцем. Вот что писала ему в тюрьму эта замечательная женщина: «Среди всех моих многочисленных невзгод у меня есть одно дорогое для меня утешение. Меня поддерживает твое великое мужество, твоя неволя возвышает тебя в моем сознании. Я горда и счастлива быть твоей матерью».
Делеклюз уже начал считать дни, оставшиеся до окончания срока, когда стало известно, что его вместе с тридцатью другими узниками должны перевести в тюрьму на остров Корсику, в Средиземном море. 1 декабря 1857 года их погрузили на корвет «Танжер», и они поплыли вокруг Испании, через Гибралтарский пролив к южным берегам Франции. Плавание прошло спокойно, если не считать того, что во время стоянки в Кадиксе один заключенный бежал, вплавь добравшись до испанской земли. Многие позавидовали его смелости и силе.
Делеклюз должен был выйти на свободу 7 марта 1858 года. Но, оказывается, эта дата интересовала не только его. В императорских канцеляриях шла переписка по поводу судьбы Делеклюза. Генеральный прокурор империи писал, что Делеклюз был «основателем и вождем тайного общества «Марианна», одним из самых опасных и энергичных людей этого общества… он был другом и близким советником Ледрю-Роллена, полномочным представителем Лондонского комитета… такого человека крайне опасно выпускать на свободу».
Правда, срок тюремного заключения, определенный судом, истекает. Но какое это имеет значение для режима ничем не ограниченного произвола? Министр внутренних дел приказал 13 февраля 1858 года сослать Делеклюза на 10 лет во Французскую Гвиану, в Кайенну, самое страшное из всех мест ссылки, какие только были в распоряжении империи.
5 марта, за два дня до окончания срока заключения, Делеклюза, предвкушающего близкое освобождение, отправляют в Марсель. Там ему надевают на руки кандалы и в тюремной карете везут в Тулон. В каторжной тюрьме его грубо обыскивают и приказывают переодеться в лохмотья, уже побывавшие на плечах десятков каторжников. Его наголо стригут и бросают в камеру уголовных преступников. Тюрьма на острове Бель-Иль теперь представляется ему земным раем. Правда, через два дня его переводят в отдельную камеру. Только на прогулке в тюремном дворе он видит своих новых необычных знакомых — уголовников. А они, не зная о нем ничего, за несколько дней прониклись к Делеклюзу необычайным уважением и симпатией и спешили засвидетельствовать свои дружеские чувства. Делеклюз был глубоко тронут вниманием этих отверженных. Он все еще ничего не знает о своей судьбе. Наконец наступает день, когда ему, ожидавшему освобождения, сообщают, что его отправляют в Кайенну на 10 лет…
Клочок выжженной солнцем скалистой суши длиной в три километра и шириной в 400 метров, покрытый кое-где чахлым кустарником и украшенный Лишь тюремными зданиями, который увидел 16 октября 1858 года с борта корабля «Сена» Шарль Делеклюз, назывался островом Дьявола. Полтора месяца плавания позади, и теперь Делеклюз доставлен к месту своей ссылки. Жандармский офицер объяснил, что он обязан ночевать в казарме, три раза в день являться на проверку, а в остальное время может быть свободен. Свободен? Это слово прозвучало настолько неожиданно, что Делеклюз, окинув взглядом безбрежную ширь океана, мог только горько усмехнуться. На острове специально были вырублены все деревья, чтобы ссыльные не могли сделать из них плот для побега. Здесь содержалось 36 заключенных, все революционеры. Чтобы укрыться от палящего солнца, каждый устраивал себе из камней подобие хижины. Делеклюз познакомился со своими новыми товарищами. Они приветливо его встретили. Но их вид говорил больше, чем они сами, о том, что ждет Делеклюза. Босые, с обожженными солнцем лицами, одетые в лохмотья, они производили впечатление первобытных людей. Делеклюз, готовясь к жизни Робинзона Крузо, начал строить себе хижину.
Но теперь, когда уже, кажется, ничто не могло испугать Делеклюза, судьба ему улыбнулась. На главном острове среди офицеров нашлись тайные республиканцы. Имя Делеклюза оказалось им знакомым. Они помогли ему перебраться на главный остров и получить работу в канцелярии.
Кроме того, он стал давать уроки сыну коммерсанта Франкони, который отнесся к Делеклюзу очень доброжелательно. Вскоре он уже писал матери и сестре о том, как ему повезло. Он смог даже послать им немного денег. Но и без того слабое здоровье Делеклюза резко ухудшилось под влиянием губительного климата. С огромным облегчением он узнал, что закон об амнистии от 16 августа 1859 года позволяет ему вернуться во Францию. В январе 1860 года Делеклюз вступил на французскую землю свободным человеком, свободным, разумеется, в той мере, в какой это возможно в эпоху империи Луи-Бонапарта.
Ему уже за пятьдесят. За плечами целая жизнь, наполненная борьбой, испытаниями, поражениями и страданиями. Последние годы — тюрьма, ссылка — особенно подорвали силы Делеклюза. Его волосы поседели, лицо прорезали морщины, он сильно похудел, а в больших, выразительных глазах затаилась глубокая грусть. Встретившая его действительность реставрированной империи, с ее вызывающей помпезной роскошью, с наглым разгулом разбогатевшей буржуазии, с ее лицемерием и падением нравов, с серостью и застоем общественной жизни, представляется старому республиканцу и революционеру суровым укором.
Но прежде всего надо было жить, поддерживать мать и сестру, с такой радостью встретивших любимого Шарля. Делеклюз ищет источник существования; ведь судьба не наделила его рентой, и он, в отличие от. многих своих преуспевающих сверстников, не нажил себе состояния. Он пытается работать в разных промышленных компаниях, в коммерческих газетах, пишет под псевдонимом в журналах — все ради хлеба насущного. Ему не очень везет, раз уж дело доходит до того, что он закладывает в ломбард свои книги.
Делеклюз много читает. Он описывает свою тюремную и каторжную одиссею. Его рассказ впоследствии превратится в книгу и выйдет в свет под названием «Из Парижа в Кайенну». Лишь эпизодически он возвращается к политической деятельности. Так, в 1864 году на дополнительных выборах в Законодательное собрание выдвигаются кандидатуры рабочих. Это очень заинтересовало Делеклюза, и он участвует в избирательной кампании, поддерживая кандидатуру рабочего Толена. Затем он вступает в спор с журналом «Ревю де Пари», напечатавшим выдумки о республиканцах, высланных в Кайенну. Дело кончается судебным процессом, который Делеклюз проиграл. Понемногу он восстанавливает связи с уцелевшими друзьями. Но все же Делеклюз несколько лет не находит ни сил, ни возможностей для прежней жизни борца, не знавшего передышки. Неужели и он разделит участь тех, кто устал от борьбы и ушел в частную жизнь? Это на него не похоже. Пожалуй, лучше всего о состоянии Делеклюза, его настроениях и планах говорит он сам. В 1865 году в ответ на приглашение Анри Лефора принять участие в праздновании годовщины революции 24 февраля 1848 года он пишет: «Признаюсь вам, что я не расположен праздновать годовщину февраля, которая делает для меня такой неприятной окружающую действительность и так сильно напоминает о падении нашей партии. О великих временах революционной истории уместно вспоминать после победы. Тогда свободные руки могут аплодировать празднику свободы. Но сегодня, когда нас подавляет стыд, я не чувствую в себе сил вернуться к воспоминаниям, которые нас обвиняют… Я сохраняю искреннюю привязанность к прежним чувствам и убеждениям, но я не моту следовать за нашими друзьями, которые так легко воспринимают прошлое и настоящее. Мне кажется, что в нашу злосчастную эпоху прострации чувство горечи и беспомощности лучше переживать молчаливо в своем сознании.
Надо надеяться, что настанет день, когда пройдет эта моральная болезнь, поразившая нашу несчастную Францию, и если к этому времени наши друзья будут в состоянии бороться за наши общие идеи, пусть мне дадут сигнал, и я немедленно займу свое место».
Между тем положение во Франции начинает меняться. Страна излечивается от моральной болезни, так глубоко огорчавшей Делеклюза. Кризис охватывает империю, казавшуюся столь прочной. Резко ухудшается экономическое положение; внешнеполитические авантюры приносят плачевные плоды. Назревавшее в глубинах нации недовольство вырывается на поверхность. В конце 1867 года дело доходит до массовых антиправительственных демонстраций. Возрождается былой пыл у республиканцев. Возникают самостоятельные классовые организации пролетариата. Начинает действовать французская секция Интернационала. Республиканский революционный подъем увлекает за собой массы.
Империя пытается приспособиться и к новому положению. Провозглашается либеральный курс и проводятся реформы, призванные заткнуть рты недовольных. В бонапартистской стене возникают трещины, в которые врывается бурный поток демократического движения: он расширяет и размывает их, и стена оседает, качается; еще несколько сильных ударов, и она рухнет!
Весной 1867 года Делеклюз завязывает оживленную переписку с Ледрю-Ролленом, по-прежнему прозябающим в Лондоне. Делеклюз настаивает на возобновлении издания политической газеты. Ледрю в принципе согласен, но предпочитает издание журнала, который готовился бы в Лондоне. Он хочет сам руководить новым органом, чтобы он служил, как некогда «Проскри», его личной политической карьере. Ведь если делать ежедневную газету, то из Лондона просто технически невозможно будет контролировать ее. Делеклюз доказывает, что в бурном потоке событий журнал трудно сделать острым политическим орудием, что его оттеснят новые ежедневные боевые левые газеты, вроде «Курье Франсе», которую уже издает Верморель. Чтобы убедить Ледрю в необходимости выпуска именно газеты, Делеклюз специально едет в Лондон. В конечном итоге он берет всю инициативу на себя, начиная издавать сначала еженедельник, с тем чтобы превратить его как можно скорее в ежедневную газету. Делеклюз охвачен прежним энтузиазмом. Он энергично добывает необходимые деньги, и 15 марта 1868 года публикуется сообщение об издании его газеты «Ревей» («Пробуждение»), Само название, по существу, — ее политическая программа. «Тем, кто хотел бы знать, кто мы, откуда мы пришли и куда идем, наш ответ будет коротким. Тот, кто помнит битвы за право, возможно, не забыл еще совсем бывшего редактора «Эмпарсьяль дю Нор», «Демократической и социальной революции», «Вуа дю Проскри», изгнанного в Лондон, заключенного на острове Бель-Иль, отправленного в Кайенну, бывшего генерального комиссара Республики в департаментах Нор и Па-де-Кале. Тем, кому известна только нынешняя печальная действительность, мы скажем, что, пройдя суровую школу поражений, мы не забыли идеалов своей молодости и своего участия в ожесточенных битвах. Сегодня, как всегда, сегодня больше, чем когда-либо, политическая реформа является средством, социальная реформа — целью. Социальная реформа возможна лишь с помощью политической реформы. Без первой вторая только ложь и орудие одурачивания. Эти два элемента не противоречат друг другу, они взаимосвязаны и не могут существовать один без другого. Их нельзя разделять, и мы будем показывать их великое единство».
Первый номер «Ревей» вышел 2 июля 1868 года. В нем была напечатана статья Делеклюза, явившаяся настоящим объявлением войны империи Наполеона III. «Ревей» своим боевым, наступательным тоном, ясной и простой республиканской программой сразу завоевал огромное влияние и занял место в авангарде борьбы против империи. Впрочем, императорское правительство сразу же почувствовало опасность. Уже за статью в первом номере Делеклюза привлекли к суду и приговорили «за возбуждение ненависти и презрения» к правительству к трем месяцам тюрьмы и пяти тысячам франков штрафа. Своим неуклюжим поведением империя только ускорила резкий, как взрыв, рост популярности «Ревей».
Журнал Делеклюза стремится объединить не только левых республиканцев, но, в отличие от прежних его изданий, еще и социалистов. Вопросы рабочего движения — одна из главных тем на страницах «Ревей». Делеклюз приветствовал деятельность французской секции Интернационала. В июне 1868 года второй раз судили руководителей французской секции. На суде с блестящей речью выступил один из обвиняемых, молодой руководитель интернационалистов, рабочий-переплетчик Эжен Варлен. Он поразил Делеклюза талантливым изложением требований рабочего класса, самим тоном выступления, исполненным достоинства, смелости и силы.
«Никогда, — писал Делеклюз, — более благородная речь не звучала под сводами дворца, где официальная юстиция выносит свои приговоры. Послушайте их, это не обвиняемые, бормочущие жалкие оправдания, но граждане, которые без треска, без рисовки требуют для своих братьев нетленного наследия Революции, права развивать свои способности и улучшать условия своей жизни».
Процесс Интернационала и речь Варлена дали Делеклюзу повод для страстного выступления за единство действий всех республиканцев, в том числе и социалистов. Он призвал их объединиться не только против империи, но и против монархической оппозиции, легитимистов и орлеанистов и особенно против так называемого «Либерального союза», одним из руководителей которого был Тьер.
Между прочим, этот эпизод, как и многие другие, опровергает довольно распространенное мнение о надменности, нетерпимости Делеклюза, отвергавшего якобы сотрудничество с теми, кто хоть немного отличается своими взглядами от взглядов Делеклюза. Например, крупный историк Жорж Вейль называл его «старым якобинцем мрачного темперамента, всегда готовым пожертвовать своей свободой или даже жизнью за великое дело и относившимся с враждою ко всякому демократу, не согласному с его взглядами». В действительности, даже в то время, о котором идет сейчас речь, не говоря уже о дальнейших событиях, особенно о Коммуне, Делеклюз искал союза, объединения с другими левыми демократическими течениями.
А страна постепенно пробуждается. Ослабели ограничения свободы печати. Появилось множество новых республиканских изданий, таких, как «Трибюн» Пельтана или «Рапель» Виктора Гюго. Особой популярностью пользовался выходивший уже несколько лет журнал Рошфора «Лантерн». Иначе говоря, у Делеклюза оказалось много сильных конкурентов. Но и это не помешало ему быстро сделать свой еженедельник одним из наиболее читаемых изданий.
Во многом это объяснялось исключительной смелостью Делеклюза. Так, в сентябре 1868 года он вступает в жестокую схватку с самим Жирарденом, которого считали королем тогдашней журналистики. Его газета в это время занималась отчаянной милитаристской пропагандой, призывая к войне с Пруссией за захват «естественных границ», то есть левого берега Рейна. Жирарден, крайне беспринципный газетный делец, небезуспешно спекулировал на патриотических чувствах. Выступая за мир, против опытного газетного волка Жирардена, Делеклюз рисковал потерять еще не устоявшуюся популярность своего журнала. Однако редкий дар полемиста позволил Делеклюзу победить в этой журналистской дуэли. Ледрю-Роллен писал ему 25 сентября: «Вы добились блестящего триумфа. Если верить письмам, которые я получил, вы имеете огромный успех. Даже Рошфор забыт. Говорят только о вашей полемике с Жирарденом, который, как меня заверяют, полностью уничтожен».
Но еще не затих шум от полемики «Ревей» против Жирардена, а вокруг Делеклюза завязалась новая политическая битва, которая вошла в историю как сильнейший удар по империи Наполеона III, как предвестник ее гибели.
Дело началось с того, что в 1868 году вышла книга республиканца Эжена Трено «Париж в 1851 году». В ней рассказывалось, ценой каких преступных махинаций и обмана была основана Вторая империя. В книге описывалась гибель депутата Законодательного собрания Бодена. В дни переворота он пришел в Сент-Антуанское предместье, где появилось несколько баррикад. Но рабочие, которых буржуазия жестоко оттолкнула от республики в июне 1848 года, не очень стремились теперь умирать за нее. Поэтому они скептически отнеслись к призыву Бодена идти на баррикады и сказали ему, что он, видимо, опасается в случае падения республики потерять 25 франков своего ежедневного депутатского жалованья.
— Я вам покажу, как умирают за 25 франков, — ответил Боден, поднялся на баррикаду и погиб.
И вот Трено рассказал об этой всеми забытой истории. Делеклюз и другие республиканцы решили по случаю дня поминовения мертвых 2 ноября устроить шествие к могиле Бодена. Ее с трудом отыскали на Монмартрском кладбище. Десятки тысяч людей пришли к могиле. Зазвучали пламенные речи против империи, раздались призывы к оружию.
При этом все увидели бедную, незаметную могилу человека, отдавшего жизнь за республику. Делеклюз предложил открыть сбор денег на памятник Бодену. Призыв подхватили все парижские республиканские газеты, многие левые издания в провинции. Дело с памятником неожиданно приобрело грандиозный размах, напугавший императорское правительство.
6 ноября Делеклюза решили отдать под суд. Собственно, никаких законных юридических оснований для этого не было, так как не существовало закона, запрещавшего сбор денег на памятники. Но для диктаторского правительства это не имело никакого значения. Встал вопрос об адвокате. Делеклюзу предлагали свои услуги светила парижской адвокатуры. Но он отдал предпочтение неожиданному кандидату. Он выбрал Леона Гамбетту, молодого юриста, активного врага империи, но отнюдь не единомышленника Делеклюза. Гамбетта какое-то время даже был поклонником Прудона, давнего врага Делеклюза, в политике он также не имел ничего общего с революционными якобинскими идеями своего подзащитного. Но тот оценил талантливость Гамбетты; именно он выступал против Делеклюза на его процессе с журналом «Ревю де Пари». И Делеклюз разглядел под грубыми манерами, вульгарностью Гамбетты его поразительный ораторский талант, оценил его страстное красноречие. Гамбетта с восторгом принял предложение: на таком процессе можно сделать карьеру! Он не жалел сил; накануне суда он всю ночь бродил по аллеям Булонского леса, громко репетируя свою речь.
13 ноября Делеклюз отправился в хорошо знакомый ему по прежним процессам Дворец правосудия и занял место обвиняемого. Кроме Делеклюза, к суду привлекли еще нескольких журналистов, но они играли второстепенную роль. Это было дело Делеклюза. Так и поставил вопрос в своей речи обвинитель. Указав на то, что «Ревей» первый призвал к демонстрации у могилы Бодена и первый предложил начать сбор денег на его памятник, обвинитель Олуа затем перешел к характеристике обвиняемого. Он перечислил все случаи, когда Делеклюз привлекался к суду. Он объявил преступлением тот факт, что еженедельник Делеклюза в качестве своего девиза печатает в каждом номере лозунг: «Свобода, Равенство, Братство».
Затем получил слово адвокат Леон Гамбетта. Он начал с обзора политического прошлого своего клиента, «поскольку, — заявил он, — данный процесс — это Делеклюз» и истинные мотивы его преследования связаны «с огромным влиянием его личности».
— Обвинитель, — продолжал Гамбетта, — подчеркивал, что Делеклюз уже имеет длинный список судимостей. Что касается меня, то я скажу, что это делает ему честь и ничто не свидетельствует лучше о героизме его убеждений, чем это бесконечное перечисление политических приговоров. С 1834 года Делеклюз посвятил себя служению народу, и с тех пор он не сходил с этого пути, и никогда он не склонялся под тяжестью ударов. И когда вы, как и все правительства, даже республиканские, вменяете ему это в вину, вы, видимо, не знаете, что тем самым вы высказываете самую высокую и прекрасную оценку его преданности идее и его прозорливости. Таким образом, вы подтверждаете, что с 1834 года он борется за радикальное воплощение идей французской революции, за ее полное завершение и применение ее принципов в интересах всех граждан…
С самого начала он встретил на своем пути сопротивление монархии, это продолжается и сейчас. В борьбе с ними он утверждал великую революционную мысль, идею политического и социального освобождения, его борьба явилась воплощением бескорыстия и справедливости. Он начал ее в 1834 году, за два года до Страсбурга, за шесть лет до Булони. Богу известно, что он вступил на путь истины и борьбы не из корыстных побуждений, он не преследовал никакого личного интереса.
Когда Гамбетта упомянул о Булони и Страсбурге, все поняли, что речь шла о первых двух неудачных попытках Луи Бонапарта захватить власть. После этого, сравнив самоотверженную политическую деятельность Делеклюза с преступными побуждениями тогдашнего претендента и нынешнего императора, Гамбетта перешел к характеристике империи, ее преступлений и отвратительных пороков. Речь Гамбетты была воплощением справедливого негодования и страстной ненависти к полицейской диктатуре. Она произвела огромное впечатление не только на присутствующих в зале суда, но и на всю Францию. Гамбетта, которого до этого знали только в кафе Латинского квартала, сразу приобрел известность лучшего общенационального оратора. Его называли новым Дантоном, которому, впрочем, Гамбетта явно подражал. Не случайно молодой адвокат на ближайших выборах в Законодательный корпус выбран сразу в двух округах. И первый, кто воздал должное красноречию Леона Гамбетты, был Делеклюз. Он писал на другой день в «Ревей», что «никогда еще могущество слова, вдохновленного искренним убеждением, чувством долга и истины, не проявлялось таким блестящим образом».
Разумеется, дело было не в том, что речь Гамбетты в чем-то облегчила участь подзащитного. Напротив, его приговорили к шести месяцам тюрьмы и двум тысячам франков штрафа. Остальные подсудимые отделались только денежным штрафом. Делеклюз хвалил речь Гамбетты потому, что истинным осужденным на процессе в глазах всей Франции оказалась империя. Впрочем, Делеклюз вскоре как-то заметил по поводу Гамбетты, что, «поручая ему нашу защиту, мы сделали ему самый редкостный подарок, какой никогда не получал ни один адвокат». Для молодого адвоката процесс Делеклюза оказался удобным трамплином к необычайно бурной политической карьере. Однако это ни в какой мере не сблизило двух политических деятелей. Гамбетта всегда был врагом революции. Несколько позднее он говорил: «Мы, республиканцы, совершенно не заинтересованы в Революции, которая победила бы в результате восстания, к чему стремятся Делеклюз, Флуранс, Рошфор».
29 января 1869 года Делеклюз снова в Сент-Пелажи. Он даже сам не знает точно, сколько ему придется сидеть.
По делу Бодена он получил шесть месяцев. Вскоре за одну статью — еще месяц. Императорское правительство может вспомнить о других старых приговорах. Но, как бы то ни было, надо действовать: в мае предстоят новые выборы в Законодательный корпус. Необходимо использовать выборы для новой атаки на империю. Делеклюз, находясь в тюрьме, продолжает руководить газетой и почти каждый день пишет по нескольку страниц. Его статьи регулярно появляются на страницах «Ревей». Первое время сотрудники редакции могли посещать его и получать от него указания. Правда, пришлось отложить из-за тюрьмы переход на ежедневное издание, который Де-ЛёклЮз планировал осуществить В январе. Но и еженедельный выход «Ревей» не мешает Делеклюзу выпускать самый боевой орган в предвыборной борьбе. Делеклюз, не прекращая войны с империей, выступает в поддержку кандидатов «Демократического союза», борясь против предвыборных махинаций «Либерального союза». Особенно резко он нападает на Тьера, которого Делеклюз называл тогда «одним из главных врагов демократии».
Как нарочно, Делеклюз в январе снова болен. Он чувствует тебя до того плохо, что его переврзят в тюремную больницу. Но, напрягая все свои силы, превозмогая болезнь, он продолжает напряженно работать. В начале апреля он принимает решение о переходе «Ревей» с 1 мая на ежедневный выпуск. Его ободряет постоянный рост тиража, достигшего 16 тысяч, что было немало, если учесть, что другие левые газеты редко переваливали за 5 тысяч. Но чем большее влияние приобретает «Ревей», тем ожесточеннее преследует его правительство. Делеклюзу запрещают принимать сотрудников своей редакции. Даже мать и сестра не могут видеться с ним.
Результаты выборов показали, что усилия Делеклюза были не напрасными. Республиканцы выиграли дополнительно полтора миллиона голосов, сторонники империи потеряли свыше 800 тысяч. Особенно большого успеха республиканцы добились в крупных городах, где как раз и распространяется газета Делеклюза. Но война империи против «Ревей» не прекращается и после выборов. 8, 9, 10 июня, три дня подряд, газету конфискуют из-за столкновений республиканцев с полицией. А с 14 июня газета перестает выходить. Власти добились, что ни один владелец типографии не берется ее печатать. Приходится ценой отчаянных усилий быстро приобретать и пускать в ход свою типографию. 4 июля удается возобновить выпуск «Ревей».
Теперь на страницах газеты все больше места занимают сообщения и статьи в связи с резким подъемом рабочего движения. В июне на Кантенских шахтах в Рика-мари против рабочих бросили войска. Одиннадцать рабочих, из них две женщины, убиты. Делеклюз решительно поддерживает рабочих и снова высказывает свою постоянную идею о том, что социальное освобождение невозможно без политической борьбы. Это весьма своевременное напоминание, поскольку рабочее движение еще испытывает сильное влияние прудонистов, отрицавших целесообразность политических требований рабочего класса. Новые революционные выступления «Ревей» вызывают новые репрессии. В июне трех сотрудников газеты бросают в тюрьму. Но зато сам Делеклюз, отсидев шесть с половиной месяцев, 15 августа выходит на свободу.
Предстоят частичные выборы в нескольких округах Парижа. Многие друзья настойчиво советуют Делеклюзу выставить свою кандидатуру: авторитет Делеклюза настолько возрос, что можно не сомневаться в успехе. Но он, как и прежде, отказывается. Дело в том, что депутат Законодательного корпуса обязан принести присягу на верность империи.
— Бывший комиссар республики, заключенный в Кайенне, никогда не будет присягать империи! — твердо заявляет Делеклюз.
Однако причина не только в этом. Делеклюз думает использовать свое политическое влияние в пользу Ледрю-Роллена, который по-прежнему отсиживается в Лондоне, крайне недовольный тем, что о нем редко вспоминают во Франции. Однажды он заявил, что страна покинула его в день битвы и оставила за ним право отказаться от борьбы. Но, понимая в глубине души, что Франция обойдется без него, он мечтал по-прежнему о большой политической карьере. И никто не помогал ему в этом деле столь упорно, как Делеклюз. Его твердая последовательность в осуществлении однажды принятого решения или взятого обязательства, которая была ярким проявлением цельности его характера, иногда превращалась в какую-то своеобразную слабость, совершенно не оправдываемую изменившимися условиями. Так было и в данном случае.
Делеклюз приложил огромные усилия, чтобы добиться выдвижения кандидатуры Ледрю-Роллена в IV округе Парижа. Причем Ледрю, который только и мечтал об этом, еще и заставил Делеклюза уговаривать себя. Для успеха надо было, чтобы Ледрю-Роллен приехал из Лондона и активно участвовал в избирательной кампании. Но он опасался преследований со стороны императорского правительства. «На вашем месте я бы не колебался», — писал ему Делеклюз. Но Ледрю, как всегда, колеблется, а вернее — трусит. Делеклюз все же ведет за него активную кампанию на страницах «Ревей». Представители левых настаивают на приезде кандидата либо на снятии его кандидатуры. В конце концов, Ледрю-Роллен 15 ноября отказался от участия в выборах. Он не хотел идти на малейший риск. Усилия Делеклюза оказались затраченными впустую. Более того, Ледрю-Роллен даже затаил какую-то обиду на Делеклюза, полагая, что тот просто обязан был обеспечить триумфальный въезд во Францию этого «Дантона Второй республики», как он себя называл.
Марсель Дессаль, автор фундаментальной биографии Делеклюза, совершенно справедливо пишет об отношениях между Делеклюзом и Ледрю-Ролленом: «Знал ли бывший лидер «Горы» истинную цену преданности человека, давно способного летать на собственных крыльях, который добровольно довольствовался второстепенной ролью, с 1848 года упорно проявлял в этой роли безупречное усердие, тем более заслуживающее признания, что оно никогда не было компенсировано? Есть основания в этом сомневаться. Нельзя не выразить сожаления о том, что Делеклюз так безнадежно связался с этим претенциозным человеком, которого он превосходил умом, волей и талантом».
V
10 января вечером по Парижу разнеслась новость, взволновавшая всех: родственник императора принц Пьер-Наполеон Бонапарт выстрелом из пистолета в упор подло застрелил Виктора Нуара, молодого журналиста из левой газеты «Марсельеза». Атмосфера в Париже и без того была насыщена ненавистью и презрением к царствующей династии авантюристов и проходимцев. Итак, обвинения против империи оказались справедливыми: вся ее грязь, ее преступная природа, как никогда, ясно обнажились на глазах всего Парижа. Делеклюз сразу понял: что-то должно произойти. Он знал, что в Париж из Бельгии словно специально прибыл сам великий заговорщик Бланки. На другой день рано утром Делеклюз отправился в Нейи, в дом убитого.
По пути на Елисейских полях у каждого перекрестка ему встречались группы солдат. Отряды маршировали, занимая все ключевые позиции. Лошади кавалеристов, привязанные к деревьям, вздрагивая от утреннего холода, иногда похрапывали и ржали. Топот солдатских сапог, бряцание ружей, грохот тяжелых пушечных колес по мостовой, отрывистые команды нарушали утреннюю тишину просыпавшегося Парижа. Но чем ближе к Нейи, тем чаще Делеклюз обгонял группы молча спешащих людей: интеллигентов в очках и пенсне, с тростями и зонтиками, длинноволосых и бородатых студентов; особенно много было рабочих в серых грубых куртках. Стук их деревянных башмаков гулко разносился в узких улочках.
Вокруг дома убитого уже стояла толпа, сразу почтительно расступившаяся перед старым якобинцем. Делеклюза встретил у тела убитого его брат Луи. Сняв шляпу, Делеклюз молча постоял у гроба, и когда он поднял голову, Луи сразу торопливо стал рассказывать, что у него уже были бланкисты Риго, Флуранс и их молодые друзья, предложившие отчаянный план: везти гроб с телом убитого в центр Парижа, возмутить народ и свергнуть империю. Сначала Луи Нуар согласился, но теперь его охватили сомнения, и он просил совета у Делеклюза. Но вот появляется бледный, взволнованный Рошфор. Он рассказывает, что сто тысяч солдат уже введены в Париж. Потом вбегает Флуранс. С ним юный Рауль Риго, журналист Жюль Валлес. Флуранс нетерпеливо объявляет:
— Итак, решено, народ поднимается! Империя обречена! Мы пойдем прямо в ее логово; оно как раз на пути к кладбищу Пер-Лашез. Нужны флаги, побольше красных флагов!
— А вы позаботились об оружии? — спрашивает Делеклюз.
— Ерунда, оружие у народа под ногами, камни мостовой! — пылко отвечает Флуранс.
У гроба мертвого Нуара завязывается горячий спор. Делеклюз, который видел по пути войска, высказывается против неподготовленного выступления. Рошфор колеблется, предоставляя решать другим. Флуранс горячо возражает Делеклюзу. Но брат убитого решительно поддерживает Делеклюза, требуя, чтобы похороны состоялись здесь в пригороде, в Нейи. Он не хочет нести мертвого брата в центр столицы, где их ждут солдаты. Благоразумие берет верх.
— Но народ, — твердит Флуранс, — что вы скажете народу?
Делеклюз решительно идет к окну и раскрывает его. Шум толпы внизу стихает. Изможденная, но энергичная и суровая фигура старого революционера в глазах народа Служит олицетворением верности делу революции. Народ, конечно, любит и пылкого Флуранса и остроумного Рошфора, но Делеклюз внушает уважение, уверенность, доверие.
Люди безошибочно чувствуют и шарлатанство Рошфора, и экзальтированность Флуранса, и твердость Делеклюза. А он говорит, что власти расставили западню для народа, что враг хочет использовать их неподготовленность и утопить революцию в крови, пока она еще не набрала достаточно сил. Надо подождать. Идти к Пер-Лашез через Елисейские поля — значит играть на руку провокаторам и врагам народа. Он призывает также уважать волю семьи убитого, которая не хочет новой напрасно пролитой крови.
— Нет, нет! — кричит толпа.
— Неужели вы хотите повредить нашему делу? — спрашивает в ответ Делеклюз.
— Нет, нет!
— Тогда постарайтесь помочь своей выдержкой делу демократии! Пусть похоронная процессия отправится в Нейи!
По пути Флуранс и его друзья из Латинского квартала снова пытаются повернуть катафалк к Елисейским полям. Кое-как в лихорадочной суматохе удается удержать их. Рошфор от волнения теряет сознание. Его приводят в чувство с помощью вина и уксуса, усаживают в экипаж. Делеклюз в черном пальто и цилиндре, с тростью мерным шагом идет за катафалком, олицетворяя скорбное спокойствие. Ему удалось предотвратить кровавую расправу, удержать народ в границах благоразумия и не дать империи повод для разгрома революционных сил.
На другой день он пишет в «Ревей», что «никогда после великих дней революции 1848 года чувство демократической солидарности не выливалось в такой могучий поток». «Пусть империя катится по наклонной плоскости к своему фатальному концу, — заявляет Делеклюз, — мы не должны дать ей возможность возродить ее иссякающие силы. Нам не придется долго ждать. Победа близка. Нельзя мешать ей необдуманными шагами. Надо тщательно готовиться к предстоящим событиям». Эти мысли Делеклюз изо дня в день развивает на страницах «Ревей».
В бешеной суматохе событий он еще находит время, чтобы думать о Ледрю-Роллене, который уже никому не нужен и почти всеми забыт. Предстоит процесс против убийцы. Требуется адвокат, который защищал бы интересы семьи убитого Виктора Нуара и разоблачил бы преступления империи. Это сенсационное дело может послужить великолепной возможностью для возвращения Ледрю на политическую сцену. Делеклюз пишет в Лондон, ведет переговоры в Париже. Ледрю-Роллен сначала соглашается, а потом после обычных колебаний отказывается, заявляя, что выступление перед императорским судом унизит и скомпрометирует его славное прошлое. Даже республиканская пресса смеется над этой жалкой уловкой, а Делеклюз вынужден оправдывать и защищать в «Ревей» своего нерешительного, вечно уклоняющегося от ответственности патрона.
В январе 1870 года умирает мать Делеклюза. Эта хрупкая женщина героически выдержала много испытаний и несчастий, выпавших на ее долю из-за бурной революционной судьбы сына. Далекая от политических страстей и тревог, простая и религиозная, она сумела понять благородный смысл жизни своего сына и была для него источником моральной поддержки, теплоты, нежности, в которых он так нуждался. Всю жизнь ему приходилось решать мучительную задачу совмещения долга заботливого сына с опасным и рискованным ремеслом революционера. Чуткая душа матери улавливала все и давала сыну непоколебимую нравственную опору. Один из друзей Делеклюза, Шерер-Кестнер, писал в своих воспоминаниях о нем: «Образцовый сын и брат, Делеклюз отказался от брака и от семейных радостей, чтобы полностью посвятить свою жизнь старой матери и своей сестре».
Правда, смерть матери не была неожиданностью: мадам Делеклюз скончалась в возрасте 94 лет. Но все равно ее смерть — это удар для крайне чувствительного сердца Делеклюза.
Покойная, завещая свое последнее благословение любимому сыну, просила отвезти ее на кладбище в похоронных дрогах для бедняков и совершить весь полагающийся церковный обряд. В Сен-Жермен-де-Пре атеист Делеклюз вместе с друзьями ожидал окончания заупокойной службы перед входом в собор. Большая толпа сопровождала похоронную процессию. Республиканская газета «Авенир насьональ» писала на другой день: «Отдавая Дань последнего уважения этой почтенной женщине, на долю которой выпали столь жестокие испытания, граждане, присоединившиеся к процессии, стремились выразить свое уважение и симпатию к главному редактору «Ревей», одному из тех людей, которые своей деятельностью, своим характером и своим талантом делают честь республиканской партии».
Напряженная работа не оставляет Делеклюзу времени для. грустных размышлений. После убийства Виктора Нуара новые события требуют его внимания и отклика: забастовка в Крезо, арест Рошфора, попытка восстания под руководством Флуранса в Бельвиле, арест всей редакции газеты «Марсельеза». И каждый раз газета Делеклюза занимает самую революционную позицию. Не случайно двух сотрудников «Ревей» 11 февраля арестовывают и обвиняют в организации заговора. В этот же день рабочий-механик Межи стрелял в полицейских, явившихся его арестовать. «Энергичный сын народа, — пишет Делеклюз, — показывает нам великий пример». 18 февраля его осуждают за поддержку Межи к 13 месяцам тюрьмы.
Затем развертывается кампания вокруг проведения плебисцита, с помощью которого империя пытается укрепить свое шаткое положение. Газета Делеклюза резко усиливает борьбу против диктаторского режима и его сообщников. Она активно поддерживает Интернационал: ведь его руководителей снова привлекают к суду. Но сам Делеклюз находится под угрозой ареста; приговор к 13-месячному тюремному заключению висит над ним дамокловым мечом. Перспектива быть отстраненным больше чем на год от политической деятельности совершенно не устраивает Делеклюза. Друзья решают, что он должен уехать в Бельгию, и Делеклюз покидает Францию, хотя и продолжает активно сотрудничать в «Ревей».
Его внимание привлекает растущая угроза войны между Францией и Пруссией, которая в конце концов и разразилась в июле. Он разоблачает преступные маневры дипломатии двух стран, горячо одобряет воззвание Интернационала, призывающее к миру. Еще более беспощадно он продолжает бичевать преступления империи. Три статьи Делеклюза явились новым поводом для судебного преследования «Ревей». В начале августа Делеклюза приговаривают к 18 месяцам тюрьмы и четырем тысячам франков штрафа. Это самый суровый приговор журналисту за все время существования империи. Военные поражения Наполеона III побуждают Делеклюза действовать все решительнее. 9 августа «Ревей» публикует его статью с прямым призывом к революции: «Пусть граждане, достойные этого имени, не колеблются ни часу, ни минуты. Необходим Комитет общественного спасения в Ратуше и вооружение народа. Вставайте, граждане! К оружию!» Этот призыв явился причиной запрещения «Ревей».
Делеклюз жил ради революции, которая воплотила бы наконец его идеалы. И вот теперь он осязаемо чувствует ее приближение. Он считает, что империя не переживет военного поражения, что революционеры еще никогда не имели таких благоприятных возможностей. Он не может оставаться в бездействии и, пренебрегая опасностью, отправляется в Париж. Город напоминает огромный военный лагерь. Повсюду солдаты. Их палатки, костры, повозки заполнили Марсово поле. Но и на всех па-, рижских улицах — военные. Правда, это не солдаты, а национальные гвардейцы; все мужское население города входит в народное ополчение. Картина всеобщего вооружения народа волнует и трогает Делеклюза. Это рабочие, мелкие буржуа, в которых военного только что красные полоски, нашитые на брюки, и кепи с галунами. На бульварах офицеры обучают их ружейным приемам. Гвардейцы учатся с необыкновенным рвением. Известие о поражениях императорских армий вызывает новый подъем патриотических чувств. Но сейчас эти чувства все больше смешиваются с презрением и ненавистью к империи.
Жилище Делеклюза в Париже занято; там поселились крестьяне-беженцы с севера. Но не только по этой причине он не может жить дома. Императорская полиция остервенела и, чувствуя приближение конца, хватает правого и виноватого. Делеклюз скрывается у друзей. Приходится пока отложить план возобновления издания «Ревей».
Где те силы, которые возглавят и совершат революцию? Вот кого напряженно ищет сейчас Делеклюз в столице. Депутаты левой оппозиции в Законодательном корпусе не внушают доверия и надежды. Даже самые крайние среди них, такие, как Гамбетта, больше всего говорят о важности сохранения порядка, о том, что революция ослабит страну. Трудно надеяться и на вернувшихся из Лондона вождей эмиграции. «Ледрю-Роллен, Луи Блан и прочие, — пишет Лиссагаре, — надежда республиканцев во время империи, возвратились из ссылки отяжелевшими, разъедаемыми честолюбием и эгоизмом, раздраженными новым поколением социалистов, которое не принимало их систем».
Но есть рабочий класс, к которому в последние годы Делеклюз все чаще обращает свои взоры. Рабочие не только самая страдающая часть населения, они наиболее бескорыстны, отважны, самоотверженны. Но сейчас они целиком во власти патриотических чувств. Защита родины от иностранного врага заслоняет для них все остальное. К тому же наиболее влиятельная организация рабочих — Интернационал — из-за преследований империи, из-за войны фактически не существует. Наконец, последователи Бланки, неизменно сохранявшие свой революционный пыл, представляют ли они собой сейчас реальную силу? Несомненно, они ближе всех к революции. К тому же их вождь Огюст Бланки сейчас на свободе и в столице. Но и бланкисты ослаблены неудачей предпринятого ими в августе восстания и все тем же патриотическим подъемом. Их боевой образ мыслей и действий тоже всецело связан сейчас с защитой родины от общего для всех врага. Вот какова была обстановка, когда 3 сентября 1870 года в Париже стало известно о катастрофе под Седаном. Французская армия в 120 тысяч человек с массой оружия была окружена пруссаками и сдалась в плен. Единственное утешение для Делеклюза и его друзей состоит в том, что и сам незадачливый император в плену. В тот же день начались стихийные демонстрации. По бульварам к площади Бастилии шла большая возбужденная толпа. Но она разбегалась при появлении полиции. Казалось, за два десятка лет господства империи парижане утратили свой обычный революционный пыл. Никто не руководил движением, ничто не объединяло разношерстную толпу.
В ночь с 3 на 4 сентября в квартире одного из видных бланкистов собрались их руководители. Сюда пригласили и Делеклюза. Обсуждали вопрос: что же делать? Обычная и естественная для бланкистов мысль о вооруженном выступлении была сразу же отвергнута. Все согласились, что гражданская война в момент, когда пруссаки идут на Париж, резко ослабила бы оборону и играла бы на руку внешнему врагу. Решили действовать вместе с левыми депутатами Законодательного корпуса, добиваясь от них мирными средствами провозглашения республики. Пусть народ завтра окружит Бурбонский дворец. Бланкисты пойдут впереди. Но одновременно демонстрацию решили подготовить и либеральные депутаты. Поэтому, когда на другой день сотни тысяч людей пошли к площади Согласия, в толпе смешались буржуа, рабочие, студенты. Все хотели лишь свержения империи и организации обороны. Наиболее решительные — это были бланкисты и якобинцы — последователи Делеклюза — ворвались в Бурбонский дворец. Они потребовали от перепуганных депутатов левой провозглашения республики. Кто-то забрался на фронтон здания и начал отрывать от трехцветного знамени синюю и белую полосы, чтобы осталась только красная. В невероятной суматохе решили идти к Ратуше, чтобы там, как принято, провозгласить республику. Толпа рвалась к революции, а депутаты левой к иному. Им сообщили, что в Ратуше собрались революционеры: Делеклюз, Бланки, Флуранс и другие.
Так оно и было. Бланкисты и якобинцы уже составили список революционного правительства. В нем фигурировали имена Делеклюза, Бланки, Рошфора, Флуранса, Пиа, Ледрю-Роллена. Но провозгласить его они не решались. Ведь реальная сила — армия и даже Национальная гвардия — не внушала никакого доверия. Поэтому действовали нерешительно, надеясь лишь на какой-то неожиданный поворот событий. Этим немедленно воспользовались депутаты. Заявления Гамбетты и Ферри о том, что в правительство должны войти только депутаты от Парижа, толпа, заполнившая все залы Ратуши, одобрила. Революционеры надеялись на Рошфора, которого побежали освобождать из тюрьмы Сент-Пелажи. Он явился бледный, растерянный. Ему вручили список революционного правительства и подвели к окну, выходившему на Гревскую площадь, заполненную народом. Но толпа только на миг увидела бледное лицо Рошфора. Его тут же схватил Жюль Ферри и повел в комнату, где засели депутаты левой. Они сделали ловкий ход: включили Рошфора в свое правительство, чтобы придать ему революционный оттенок. Слабохарактерный памфлетист поддался на удочку. Революционеры же не решились возражать. Они боялись, что если завяжется борьба между ними и депутатами левой, то перевес будет не на их стороне. Пока они колебались, левые депутаты уже огласили перед толпой список своего правительства. Кроме Рошфора, там сплошь оказались закоренелые враги революции. Напрасно из толпы выкрикивали имена Бланки и Делеклюза. Было уже поздно. К концу дня, после новых закулисных маневров, во главе правительства поставили генерала Трошю, бонапартиста и клерикала. В правительство вошли пять деятелей, которые в свое время помогли задушить революцию 1848 года. Вся махинация удалась только потому, что главной целью нового правительства объявили «национальную оборону». А этого хотели все. Поэтому даже Бланки, Флуранс, Валлес не выступили против того, что произошло в Ратуше. К концу дня красный флаг, поднятый над зданием революционерами, был спущен.
Все происходило на глазах у Делеклюза, он был в Ратуше. С мучительной тревогой наблюдая эту суматоху, он видел, как революцию крадут у народа, как власть захватывают либеральные пройдохи, которым он не доверял ни на минуту. Опытный и бывалый революционер сравнивал сентябрьскую революцию 1870 года с февральской революцией 1848 года, которая тоже происходила у него на глазах. Тогда хотя бы в правительство включили представителей рабочих — Альбера и Луи Блана; в нем был Ледрю-Роллен, который при всех его недостатках все же внушал Делеклюзу больше доверия. И в то же время только что родившаяся республика призвала на службу и его, Делеклюза, дав ему важный пост генерального комиссара на севере Франции. Ныне же революцию ловко использовали проходимцы вроде Жюля Фавра. К тому же империю никто не собирался защищать, она рухнула сама собой. Эта легкость победы ослабила волю народа к борьбе.
Делеклюз с грустью наблюдал картину ликования наивных людей, которые воспринимали события 4 сентября как освобождение от кошмара, как радостный праздник единения всех душ, охваченных любовью к родине. Ведь все прошло так легко и так прекрасно! Немногие, подобно Делеклюзу, испытывали тревогу. Большинство отгоняло от себя тревожные мысли главным доводом: пусть лишь правительство «национальной обороны» организует войну с пруссаками, а там будет видно.
Вечером 4 сентября Делеклюз с группой друзей возвращался по улице Риволи из Ратуши. Его лицо, всегда откровенно и резко выражавшее все его мысли, было мрачным.
— Теперь самое главное — прогнать пруссаков, — тоном утешения заявляет журналист и социалист Мильер.
— Что же это за республика, — с горечью и отчаянием отвечает Делеклюз, — которая не хочет опереться на нашу преданность? Нет, народ предан, мы пропали, революция погибла, мы потеряли этот день…
7 сентября вновь начинает выходить «Ревей». Уже в первом номере Делеклюз определяет свою позицию. Главное для него, как и для всех революционеров, — продолжение войны. Но он не скрывает недоверия к правительству «национальной обороны», хотя пока и выражает его довольно сдержанно. Он требует немедленных энергичных мер для организации победы, чистки полиции, суда от бонапартистов. «Мы готовы, — пишет он, — заставить молчать наши чувства. Тем, в руках которых сейчас судьба страны, кто бы они ни были, мы говорим: освободите Францию от иностранных захватчиков, и мы будем вам благодарны».
Но перемирие между Делеклюзом и правительством «национальной обороны» продолжалось всего несколько дней. «Ревей» быстро становится оппозиционным органом. Делеклюз сразу замечает преднамеренное бездействие правительства в борьбе с внешним врагом; он прямо высказывает свои подозрения. Начиная с 10 сентября Делеклюз требует избрания городского совета Парижа — Коммуны. Сначала он предлагал, чтобы она существовала одновременно с правительством, контролируя его и оказывая на него давление.
С каждым днем яснее, что правительство «национальной обороны» в действительности является правительством национальной измены. Его цель становится совершенно очевидной — сговор с пруссаками о мире любой ценой и подавление революционных сил Парижа. В конце октября огромная армия генерала Базена капитулирует в Меце, генерал Трошю преступно теряет город Бурже. Уж не готовит ли правительство капитуляцию?
31 октября Делеклюз требует отставки Трошю и предания его суду, свержения правительства и замены его революционной Коммуной, массового призыва в армию и энергичного ведения войны. Делеклюз так заканчивает свою статью: «Долой предателей! Да здравствует всемирная социальная и демократическая республика!»
В этот же день Делеклюз оказался участником невероятно запутанных драматических событий. Не зря свидетели так противоречат друг другу в описании этого лихорадочного дня. Какова же роль Делеклюза в том хаотическом сумбуре, какого не видали даже стены парижской Ратуши, а уж они-то повидали многое.
31 октября 1870 года выдался пасмурный день. С утра моросил мелкий дождь. Но на площади перед Ратушей начал собираться народ, взволнованный известиями о заключении перемирия. Делегации одна за другой отправлялись в Ратушу, требуя от правительства выборов в Коммуну и продолжения войны. Ферри принимал их и затуманивал им головы неопределенными обещаниями. А толпа перед Ратушей все увеличивалась; после полудня здесь уже собралось около восьми тысяч человек. Члены правительства тщетно добивались вызова верных ему войск. Генерал Тамизье привел два батальона, но они отказались защищать министров. Напор толпы все усиливался. Вскоре после трех часов она смяла охрану и по широкой лестнице главного входа повалила в большой зал. Министры поспешили спрятаться в одном из салонов. Они решились наконец объявить о своем согласии провести муниципальные выборы, впрочем, не назначая точной даты. Мэр Араго хотел объявить об этом, но его встретили враждебно, сорвали с него трехцветный шарф, и он убежал.
Когда Делеклюз пришел в Ратушу, народ уже рассеялся по всем ее многочисленным помещениям. Повсюду шли споры, совещания, звучали речи, никто ничего толком не понимал. Ясно было одно: все хотят Коммуны и не хотят перемирия с врагом. Делеклюз явился в зал муниципального совета, где вступил в переговоры с мэрами. Затем он отправился к министрам и потребовал от них назначить на 1 ноября выборы в Коммуну. До проведения выборов власть должны осуществлять два члена правительства — Дориан и Шельшер, — которым можно было как-то доверять. Министры, видя, что они оказались пленниками вооруженного народа, согласились.
Но в это время появляется во главе батальона Национальной гвардии Флуранс. Он тяжело переводит дух; еще бы, ему потребовалось больше часа, чтобы добраться от входа до салона, где были министры. Здесь он, не теряя времени, вскочил на стол и, заглушая своим громким голосом шум и крики, провозгласил создание Комитета общественного спасения в составе Бланки, Делеклюза, Мильера, Ранвье и его самого. Временное правительство он объявил низложенным, а его членов арестованными. Бланки, поместившись в Красном салоне, начал управлять, рассылая приказы и директивы. В нескольких окружных мэриях Парижа власть уже перешла в руки восставших. Из окон Ратуши вывесили несколько красных флагов. Многие из национальных гвардейцев решили, что все кончено, и стали расходиться. Часовые у входов заявляли, что они охраняют новое правительство Делеклюза, Бланки и Флуранса. Ряды сторонников революционеров поредели. Между тем генерал Трошю и еще два министра сумели сбежать из-под охраны Флуранса. Этот бесстрашный революционер внезапно стал добрым, как овечка, и больше всего боялся за безопасность министров. Он уже вообще подумывал об их освобождении.
Но вдруг поползли тревожные слухи, что вокруг Ратуши собираются батальоны Национальной гвардии, верные старому правительству. В этом нетрудно было убедиться, если прислушаться к крикам, доносившимся с площади. Раньше кричали: «Да здравствует Коммуна!» Теперь раздалось: «Долой Коммуну!»
А новое революционное правительство между тем заседало. Делеклюз доказывал бланкистам, что во избежание поражения следует заключить соглашение с правительством о проведении муниципальных выборов 1 ноября и об избрании нового правительства 2 ноября. Он сообщил, что уже договорился об этом с министром Дорианом. Предложения Делеклюза принимаются.
Теперь начались переговоры нового правительства со старым. Вел их Делеклюз, и продолжались они несколько часов. А в это время Ферри привел отряды солдат, преданных правительству. Генерал Трошю, кроме того, по подземному ходу, соединявшему Ратушу с соседней казармой, направил верные ему батальоны мобильной гвардии. Министры временного правительства были освобождены, и теперь угроза ареста нависала над новым, революционным, правительством. При этом и те и другие толком еще не представляли ни своих наличных сил, ни сил противника. В конце концов к четырем часам утра достигли соглашения о выборах Коммуны, а также и нового правительства. Договорились, что участники событий не подвергнутся каким-либо преследованиям. Иначе говоря, вернулись к тому варианту соглашения, которое уже было в принципе согласовано Делеклюзом до вмешательства Флуранса. Все кончилось бы прекрасно, если бы революционеры имели дело с честными людьми. В данном случае этого не было и в помине. Свидетель описываемых событий Артур Арну дает им точную характеристику: «Нужно отдать справедливость правительству «национальной обороны»: никогда во главе Франции не стояли более зловредные скоморохи. Все их поведение носило характер исключительной, свойственной им подлости». Правительство «национальной обороны» отдает приказ об аресте 23 участников событий 31 октября. Столь же нагло оно отказывается от выборов в Коммуну и, копируя методы Наполеона III, проводит 3 ноября плебисцит, позволивший ему удержаться у власти.
Вновь Делеклюз с горечью переживает поражение. Неудачный исход событий 4 сентября еще можно было понять. Правительство «национальной обороны» тогда внушало какие-то надежды. Но к 31 октября народ уже не верил ему. Революционеры могли победить.
Помешали, конечно, разные случайности. Но главная беда состояла в том, что вожди восстания Делеклюз и Бланки даже не пытались согласовать заранее своих действий. В отдельные моменты они просто мешали друг другу. Флуранс, как и всегда, действовал отчаянно смело, у него, как говорил Делеклюз, были «прекрасные намерения». Однако его экзальтированность, даже авантюризм свели все насмарку.
И все же события 31 октября глубоко заронили в сознание масс идею Коммуны, рассеяли многие иллюзии рабочего класса. 70 тысяч человек голосовали на плебисците против правительства. Это были решительные сторонники Коммуны. Их число начинает быстро расти. 5 ноября, когда состоялись выборы мэров, то оказалось, что все четыре восточных пролетарских округа Парижа проголосовали за социалистов и революционеров. Делеклюз избран мэром XIX округа, бланкист Ранвье — XX.
Район Ла Виллет, мэром которого стал Делеклюз, считался самым беднейшим в городе. Подавляющее большинство 113 тысяч жителей его округа — рабочие. Война, осада лишили их работы и всяких средств к существованию. К тому же здесь поселилось много беженцев. Тяготы вражеской осады, голода сказываются в Ла Виллет особенно болезненно. В богатых кварталах на витринах есть все — мясо, дичь, любые деликатесы. Но это только для богатых. Правительство «национальной обороны» сознательно саботирует дело организации снабжения. Ему надо сломить волю рабочего класса к сопротивлению захватчикам. Делеклюз теперь ведет борьбу против министров-предателей не только на страницах своей газеты «Ревей», которая превращается в боевой орган парижских трудящихся, но и действует в качестве мэра. Вопреки правительственным распоряжениям он добивается улучшения продовольственного снабжения во всем Париже. Дело в том, что в Ла Виллет расположены скотобойни и через них проходит наиболее ценное продовольствие. Делеклюз преследует воров, урезывает привилегии богатых. Префект парижской полиции Крессон говорит, что «среди парижских мэров, наиболее резко выступавших против всякой идеи правительственного управления и полицейской организации, был Делеклюз, мэр Ла Виллет, под властью которого находился весь персонал скотобоен, расположенных на пространстве от Бельвиля до Монмартра».
Борьба Делеклюза за справедливое распределение продуктов вызывала особую ненависть буржуазии и ее прессы. Ведь на страницах «Ревей» Делеклюз требовал «бесплатного и равноправного распределения питания». Реакционные газеты яростно обвиняли его в «социалистических тенденциях». Но главное, что ставят ему в вину, это «превращение XIX округа в очаг восстания». Кстати, именно там скрываются в это время преследуемые за события 31 октября Бланки и Флуранс.
В эту страшную осадную зиму 1870 года, когда вожди бланкистов в подполье, когда французская секция Интернационала еще только организует свои расстроенные ряды, Делеклюз — главный защитник, выразитель надежд и чаяний трудового Парижа, самый опасный враг правительства национальной измены. Народ Парижа героически переносит тяготы блокады, бомбардировки, голод, холод, болезни, жертвует всем для защиты столицы, а правительство саботирует оборону и тайно готовит позорную капитуляцию. У него было 500 тысяч вооруженных людей против 150 тысяч пруссаков, окружавших Париж. Но, в страхе перед революцией, оно предпочитает сдать город. Разыгрывая гнусную комедию «обороны», оно предает Францию. Действуя тайком, как ночные воры, Трошю, Фавр и их друзья вроде Тьера с опаской берут в руки газету Делеклюза, боясь новых разоблачений своих преступлений. А Делеклюз упорно требует отставки правительства и избрания Коммуны. Он активно использует в борьбе свои полномочия мэра XIX округа.
В министерстве внутренних дел еженедельно устраивались совещания мэров всех двадцати парижских округов. Это была одна из фикций, призванных показать парижанам «заботу» о нуждах города. Фавр позволял себе на этих совещаниях острить по поводу вкусовых качеств собак и крыс. Это проходило, поскольку до выборов 5 ноября мэров назначало правительство. Например, XIX округ представлял некий Ришар, известный своим заявлением, что «в июне 1848 года убито было недостаточно». И после выборов большинство мэров — ставленники правительства, которые угодливо смеются над остротами Фавра. Однако присутствие Делеклюза, сменившего Ришара, меняет тон заседаний. Как пишет Лиссагаре, «один только Делеклюз выполнил свой долг».
На совещании мэров 28 декабря Делеклюз произнес грозную обвинительную речь, в которой разоблачил преступные махинации правительства. Он требовал превращения заседаний мэров в постоянный контрольный орган, «находящийся под защитой Национальной гвардии и армии и имеющий право принимать в соответствии с обстоятельствами необходимые меры для спасения Парижа и Республики». На совещании возникли бурные споры, и решение не было принято. Это не обескуражило Делеклюза.
На следующем заседании, 4 января, Делеклюз еще более резко нападает на правительство и предлагает принять решение о немедленной отставке генералов Трошю, Тома и Лефло, обновлении состава военных комитетов и генеральных штабов, удалении из Военного совета всех генералов, сеющих в армии панику и пессимизм, мобилизации Национальной гвардии, учреждении Верховного совета обороны и принятии всех мер, которые смогли бы обеспечить снабжение парижан продовольствием или смягчить их жестокие страдания, вызванные бездеятельностью властей.
Разумеется, рассчитывать на принятие подобных предложений Делеклюз не мог. Он преследовал иную цель — разоблачение правительства, борьбу с ним. 4 января на совещании мэров возникает столь ожесточенная схватка, что Делеклюз в знак протеста покидает зал. На другой день он публикует в «Ревей» письмо министру внутренних дел, в котором вновь высказывает всю правду о преступных министрах правительства национальной измены и подает в знак протеста в отставку с поста мэра XIX округа. Примеру Делеклюза следуют несколько его коллег из других округов.
Действия Делеклюза, направленные на отстранение правительства и создание Коммуны, поддерживает Центральный комитет двадцати округов Парижа. Эта организация возникла еще в сентябре 1870 года. Она была демократическим и революционным органом Национальной гвардии, то есть вооруженного народа Парижа. 7 января на стенах парижских домов появляется знаменитая «красная афиша». Она сразу привлекла внимание не только потому, что была напечатана на красной (вернее — розовой) бумаге, но главным образом чрезвычайно резким разоблачением правительства национальной измены. Написанная Валлесом, Тридоном и Вайяном, она своим стилем походила на энергичные и гневные выступления Делеклюза. «Красная афиша» заканчивалась такими словами: «Политика, стратегия, администрация 4 сентября, наследница империи, осуждена. Она должна уступить место народу, Коммуне!»
В беспощадной войне, которую Делеклюз объявил правительству, он использует свое влияние в так называемом «Республиканском альянсе», возникшем в середине декабря. Формально его возглавлял Ледрю-Роллен, кое-как пытавшийся пристроиться к событиям, цепляясь за Делеклюза. Программа альянса не отличалась от требований «Горы» 1849 года, в него входила немногочисленная группа мелкобуржуазных республиканцев. Лиссагаре пишет, что в альянсе «древний Ледрю-Роллен священнодействовал перед полудюжиной правоверных». Вначале Делеклюз, у которого не было времени для парламентской болтовни в эти напряженные времена, редко появлялся на заседаниях «Республиканского альянса». В январе он начинает уделять ему больше внимания. Артур Арну, член альянса, пишет: «Участие Делеклюза служило достаточной порукой того, что там не занимались глупостями и парламентской болтовней».
Действительно, «Республиканский альянс», который по числу своих участников и по их убеждениям мало отличался от множества обществ и клубов республиканцев, не оставивших заметного следа в истории, благодаря влиянию Делеклюза вышел на первый план революционного кризиса 22 января 1871 года.
VI
Правительство национальной измены решило завершить наконец комедию «обороны» давно желанным финалом, то есть капитуляцией. Чтобы сломить последнее сопротивление патриотов, оно приказывает Национальной гвардии совершить вылазку против врага, о которой мечтали все. 18 января свыше 80 тысяч гвардейцев под гром оркестров выступили из города. В военном отношении вылазку совершенно не подготовили. Но это было как раз то, что требовалось организаторам трагического спектакля, поскольку Трошю больше всего опасался, как бы гвардия и в самом деле не нанесла поражение пруссакам. Но именно это и произошло. Совершенно неопытные бойцы, охваченные энтузиазмом, захватили важные позиции. Тогда, раскрывая свои карты, Трошю приказал им отступать. Четыре тысячи гвардейцев заплатили жизнью в грязной игре Трошю. Накопившееся за несколько месяцев возмущение правительством вылилось наружу, как только оно нетерпеливо объявило, что теперь уже нет иного выхода, кроме сдачи Парижа немцам.
Делеклюз решил, что вновь настал благоприятный момент отстранить правительство Трошю, что теперь оно, разоблачив себя до конца, отступит перед единодушным требованием народа. Такие настроения были и среди руководителей Центрального комитета двадцати округов, который еще в своей «красной афише» 7 января ясно их выразил. Центральный комитет создал специальный тайный комитет из пяти членов для подготовки выступления. Среди членов этого комитета был друг Делеклюза Сапиа, а также бланкисты Ферре, Тридон, Вайян. Правда, сам Бланки решил, что выступать еще не время, и отстранился от руководства. «Республиканский альянс» договорился также с некоторыми деятелями Интернационала и с представителями революционных клубов, что они придут со своими батальонами гвардейцев на площадь перед Ратушей в два часа 22 января. В этот день рано утром на стенах парижских домов была расклеена прокламация «Республиканского альянса», призывающая народ Парижа избрать Коммуну, которая будет руководить защитой Парижа и возьмет в свои руки власть. В прокламации говорилось: «Требуйте, чтобы в 48 часов избиратели Парижа были созваны для выборов правительственного собрания из 200 представителей».
Как всегда, в последний момент происходит нечто непредвиденное. После заявления Трошю о капитуляции становится известно об его отставке. Делеклюзу рассказывают также, что 21-го отряд национальных гвардейцев освободил из тюрьмы Мазас Флуранса. И хотя он не принял никакого участия в событиях, само его имя напугало многих буржуазных республиканцев, так же как отставка Трошю умерила революционный пыл некоторых врагов правительства. Но все это, по существу, ничего не меняло.
Утром в воскресенье 22 января в городе было спокойно. Стоял сырой туман, улицы не просохли от недавнего дождя. Сразу после полудня, как было заранее условлено, Делеклюз пришел на квартиру члена «Республиканского альянса» Лефевра-Рансье на улице Риволи, в доме 60. Окна квартиры выходили на Гревскую площадь, и все ее пространство было как на ладони. Сюда явились также Арну, Курнэ, Лефро. Ждали Ледрю-Роллена, который накануне торжественно обещал обязательно прийти. Но его так и не дождались.
На площади собирался народ. Здесь было много просто любопытных, женщин, детей. Потом появился батальон национальных гвардейцев из района Монмартра. Подошли батальоны Батиньоля. Ратуша хранила безмолвие. Тогда Делеклюз, посоветовавшись с друзьями, решил послать туда делегацию, чтобы попытаться выяснить намерения правительства. Делеклюз рассчитывал, что массовой демонстрации перед Ратушей достаточно, чтобы заставить правительство уйти в отставку, а затем сразу избрать Коммуну.
В Ратуше делегацию во главе с Ревийоном принял заместитель мэра Шоде, друг Прудона. Он выслушал требования, сказал, что передаст их правительству, находящемуся в Лувре, а что касается его намерений, то он заявил, что Ратуша ответит силой на силу. Ревийон, вернувшись, сообщил Делеклюзу, что Ратуша сильно укреплена. На внутреннем дворе приготовлены митральезы. На каждой ступеньке, у каждого окна расставлены бретонцы из мобильной гвардии, известные своей преданностью генералу Трошю.
Потом поступили еще более тревожные вести. По приказу нового командующего генерала Винуа две дивизии были сняты с фронта и размещены на Елисейских полях и на площади Согласия.
Делеклюз с самого начала выступал за мирную демонстрацию. Вооруженная борьба могла, как он опасался, дать правительству повод для репрессий. Ведь возможно даже вмешательство пруссаков. Пока все было относительно спокойно, хотя тревога не покидала Делеклюза. Лишь бы люди вроде Флуранса не начали стрелять.
Поскольку Делеклюз не готовил вооруженного нападения на Ратушу, он решил просто ждать событий. А площадь заполняли новые отряды национальных гвардейцев. Они несли красные флаги. Все громче раздавались призывы: «Долой перемирие!», «Да здравствует Коммуна!» На улице Риволи показался батальон гвардейцев из Батиньоля, во главе которого шли члены Интернационала Варлен и Малой. На площади собралось уже около десятка тысяч гвардейцев. Многие требовали штурма. Но комитет пяти, назначенный Центральным комитетом двадцати округов, ничего не предпринимал. Несколько руководителей-бланкистов, находившихся на площади, тоже бездействовали. Раздался случайный выстрел. Вдруг окна Ратуши засверкали вспышками залпов. Оттуда открыли огонь по толпе. Национальные гвардейцы немедленно начали ответную стрельбу, но, не получая никаких команд, вскоре отступили. На площади остались десятки убитых и раненых. Потом сразу с нескольких сторон показались войска генерала Винуа. Начались аресты.
Делеклюз, с ужасом наблюдавший эту молниеносную драму, был потрясен. Снова его надежды, что мирным путем можно отстранить от власти изменников и врагов народа, были разбиты в прах. Артур Арну, находившийся рядом с ним, рассказывает: «Этот стойкий, стальной человек, который никогда не покорялся и не отступал, в тот день, бледный, дрожащий, без сил и голоса закрывал лицо руками, чтобы не видеть ужасной действительности, похожей на кошмар. Двум друзьям пришлось увести его под руки. Тогда он сказал те слова, которые позднее повторил Коммуне: «Если революция еще раз будет разбита, я не переживу этого!»
На другой день по требованию парижского префекта полиции Крессона правительство запрещает газету Делеклюза «Ревей». Было удовлетворено и требование Крессона об аресте Делеклюза, чего тот настойчиво добивался с 31 октября прошлого года. Поскольку тюрьма Мазас, откуда 21 января силой освободили Флуранса, казалась ненадежной, Делеклюза заключили в Венсеннский замок. Совершенно больного, измученного лихорадкой и жестоким бронхитом 62-летнего Делеклюза поместили в холодную камеру, в окнах которой были выбиты все стекла. В огромной камере сидело около сотни политических заключенных. Здесь Делеклюз встретил Вермореля, Ранвье, Везинье, Лефрансэ и других революционеров и социалистов. Они пытались матрасами загородить окна, из которых летел снег, и облегчить страдания Делеклюза, мучившегося от жестокого кашля.
Тем временем правительство подписало с немцами соглашение о капитуляции. Венсеннский замок, расположенный вне городских стен к востоку от Парижа, должен был быть оставлен французами. Делеклюза и его товарищей переводят в тюрьму Санте. В этой тюрьме, название которой по-русски значит «здоровье», условия оказались не лучше. Потолок и стены камеры были совершенно мокрыми, с них текло. Делеклюз говорил, что, видимо, правительство решило уничтожить его с помощью холода и сырости. Демократические газеты подняли кампанию протеста в связи с жуткими условиями содержания в тюрьме больного Делеклюза. Власти переводят его в тюремную больницу. Отсюда его освобождает народ.
8 февраля выбирают Национальное собрание. Делеклюз собрал 154142 голоса. Он оказался восьмым по числу голосов среди сорока трех депутатов от департамента Сены. Неплохой реванш над теми, кто посадил Делеклюза в тюрьму. Префект Крессон пришел в такую ярость, что даже подал в отставку!
Но когда Делеклюз узнал общие итоги выборов по всей Франции, от его радости не осталось и следа; из 750 депутатов 400 — откровенные монархисты! Тьер, к которому Делеклюз давно уже испытывал отвращение, избран одновременно в 26 округах! И все же он поехал в Бордо. Там 13 февраля начались заседания Национального собрания. Когда Делеклюз явился в оперный театр, где на сцене соорудили места для президиума и трибуну, все окружающее произвело на него удручающее впечатление какого-то фарса. Хрусталь огромных люстр, бархат кресел, роскошные лепные украшения, вся эта претенциозная роскошь, совершенно не соответствовала траурному настроению тех депутатов, которые переживали горестную судьбу своей страны. Собранию предстояло утвердить позорный мирный договор, по которому Франция соглашалась на отторжение Эльзаса и Лотарингии и на выплату пятимиллиардной контрибуции. Самодовольные, откормленные, тупые лица священников, генералов, торговцев, помещиков не выражали ни тени горечи за судьбу Франции, но они сразу загорались гневом, яростью, как только речь заходила о революционном, патриотическом Париже. Тогда Делеклюз ощущал на себе взгляды, горящие злобой. С тоскливым отчаянием Делеклюз говорил своим друзьям Курнэ и Разуа:
— Это ужасно: Франция, сначала обесчещенная, теперь будет задушена. Для меня это слишком тяжело, я не могу забыть свою несчастную родину…
Делеклюз видит, с каким облегчением и радостью собрание голосует за передачу всей власти Тьеру, как оно злобными криками оскорбляет Гарибальди, отважно сражавшегося за Францию, против пруссаков. В собрании было около сотни республиканцев. Делеклюз пытался завязать с ними беседы, но с двух слов понял, что эти друзья ненавистного ему правительства «национальной обороны» для него отвратительны своим республиканским лицемерием еще более, чем монархические зубры. Невыносимая, гнетущая обстановка приводила Делеклюза в оцепенение и ярость бессилия. Он редко являлся на заседания.
Приехавшему в Бордо Артуру Арну Делеклюз объяснял:
— Нет смысла выступать в этой палате. Своим ревом она заглушит любое разумное слово. Нельзя оставаться в этой сточной канаве, не испачкавшись в грязи. Бессмысленно пытаться ее очистить. Можно лишь задохнуться от зловония.
Только стремление подчеркнуть свой разрыв с этой враждебной толпой заставило его написать и официально внести проект резолюции, обвиняющей правительство Трошю в измене родине. Его не удивило, что это предложение не стали даже обсуждать. Наконец, не выдержав, он совсем перестает ходить на заседания, а потом в середине марта уезжает в Париж…
В Париже Делеклюз никуда не выходит, казалось, все перестало его интересовать. Болезнь по-прежнему мучает его. Друзья советуют ему уехать отдыхать.
— Отдых для меня, — отвечает он с горькой усмешкой, — это тюрьма, а потом могила — единственное убежище, в котором революционер может отдыхать от борьбы!
Но вот раздается гром событий 18 марта. Идея Коммуны, которую одним из первых выдвинул Делеклюз, которую он настойчиво пытался воплотить в жизнь, теперь осуществляется. Многие посещают больного, и все говорят только о революции; одни рассказывают о ней с восторгом и радостью, другие — с тревогой и осуждением. Одебран, журналист, редактор умеренной республиканской газеты, заявляет:
— Движение, которое началось убийствами, со всех точек зрения отвратительно!
— А, вы говорите о смерти Клемана Тома и генерала Леконта? — неожиданно прерывает его Делеклюз. Голос его дрожит от гнева, и он, ударяя себя в грудь, продолжает: — А разве нас не убивали? Разве нас не мучили в Кайенне? Разве любые насилия народа могут сравниться с кровавыми оргиями князей и аристократов? Нет, все великолепно. События 18 марта привели Францию в движение, Франция возбудит Европу, Европа потрясет мир, и мы будем свидетелями великих событий!
Правда, многое еще вызывает сомнения Делеклюза. Цели и смысл движения 18 марта ему не ясны. Люди, возглавляющие его, ему почти неизвестны. Но его выбор уже сделан.
Делеклюзу предлагают участвовать в переговорах депутатов и мэров Парижа с Центральным комитетом Национальной гвардии. Делеклюз — противник гражданской войны, но совершенно не доверяет людям, группировавшимся вокруг Луи Блана. Он решил не вмешиваться в подозрительные махинации.
Не сразу он согласился и с выдвижением его кандидатуры на выборах в Коммуну. Будет ли он полезен Коммуне? Ведь он стар и болен. Быть может, ему лучше служить республике своим пером? Однако чувство долга революционера, желание служить народу взяло верх, и он быстро отбросил колебания. Его избрали сразу в двух округах — XI и XIX.
28 марта Делеклюз вместе со всеми членами Коммуны находится на трибуне у Ратуши. Он с волнением смотрит на грандиозную праздничную манифестацию, которая потрясает его своим величием. Сколько раз здесь же, у Ратуши, он испытывал горечь поражений и неудач! На его глазах 4 сентября 1870 года мнимые республиканцы украли у народа революцию. 31 октября победа, казалось, уже была достигнута, но подлость Фавра, Ферри и их сообщников снова помешала революции. Наконец, 22 января Делеклюз видел, как на этой площади была расстреляна новая революционная волна. В тот день Делеклюз был охвачен отчаянием. И вот мечта свершилась, и он от радости боится верить своим старым глазам. Восторг многих тысяч людей, победное звучание «Марсельезы», грохот пушечного салюта, трепет красных флагов — все торжествует победу! Делеклюз сознает, что эта победа явилась плодом и его усилий. Правда, он последние недели вообще не был в Париже, деятельность Центрального комитета Национальной гвардии прошла мимо него. Но разве все эти люди не вдохновлялись идеями, которые настойчиво распространял Делеклюз три десятка лет? И вот славный итог его многолетних усилий. Неужели он все же дожил до торжества своего идеала? — спрашивает себя Делеклюз. Неужели и для него наступил после стольких лет тяжких испытаний день радости и счастья! Его избрание в Коммуну в момент, когда он оказался отстраненным от великих событий, — признание революционных заслуг Делеклюза. Не зря провел он 19 лет в изгнании, в тюрьмах, в ссылке. Впрочем, даже недруги воздадут ему должное и отметят его огромную роль в подготовке Коммуны. Один из ее злейших врагов, Жюль Ферри, вскоре заявит: «Это не члены Интернационала вызвали и подготовили движение; оно шло от Делеклюза, от всех этих отбросов якобинства, от людей, которые, возможно, обладали некоторыми добрыми намерениями, но которые стремились удушить один класс в пользу другого. Они использовали Национальную гвардию для осуществления своих политических идей, для проведения выборного начала на всех ступенях, пассивного подчинения лозунгам, то есть всего, что составляет якобинство».
Конечно, Ферри совершенно напрасно приписывает все исключительно якобинцам. Ведь не меньше, а в некоторых отношениях даже больше для подготовки революции 18 марта сделали социалисты Интернационала и последователи Бланки. Но, безусловно, якобинцы представляли одну из трех основных сил, подготовивших Коммуну. Делеклюз видит вокруг себя немало друзей и единомышленников. Это прежде всего верный Курнэ, избранный в Коммуну от XIX округа, где Делеклюз был мэром. Он на тридцать лет моложе Делеклюза. Сын революционера, он пошел по пути отца. Курнэ был одним из главных сотрудников «Ревей». Здесь бесстрашный Гамбон, с которым Делеклюз сидел в тюрьме на острове Бель-Иль, Артур Арну, Ранвье, Флуранс, Лефрансэ, Ранк, Беле и другие. Однако Делеклюз видит среди членов Коммуны и некоторых своих противников. Это последователи Прудона, с которым ему приходилось не раз вести борьбу. Делеклюза тревожат сторонники федерализма, взгляды которых так противоречат якобинской доктрине централизации. Наконец, в Коммуне много совершенно неизвестных Делеклюзу людей. Как-то они все смогут вместе работать над созданием новой Франции? Какие цели они поставят перед собой, какова будет программа их действий? Многие сомнения тревожили Делеклюза.
Уже на первом заседании Коммуны встал вопрос о совместимости членства в Коммуне и в Национальном собрании, враждебном ей. Некоторые предпочли депутатский мандат, более спокойный и надежный, нежели неопределенное и, несомненно, опасное участие в Коммуне. Делеклюз немедленно сделал решительный выбор. Собственно, еще в Бордо он почувствовал невозможность для него оставаться в реакционном, монархическом собрании, враждебном всем его идеалам. Делеклюз заявил, что он готов подать в отставку и как депутат и как член Коммуны, но предпочитает активно служить делу революции в ее рядах. Он объяснил, что оставался в собрании лишь с той целью, чтобы потребовать осуждения предательского правительства 4 сентября. Коммуна встретила выступление Делеклюза дружными аплодисментами. Интересное описание этого эпизода оставил Жюль Валлес. Хотя с некоторыми суждениями Валлеса о Делеклюзе трудно согласиться, все же полезно привести его. В конце заседания к Валлесу подошел Тридон и заговорил с ним:
«— А вы сейчас здорово огорчили Делеклюза. Он вообразил, что вы имели в виду именно его и даже чуть ли не указали на него, когда говорили о тех, кто колеблется между Парижем и Версалем.
— И он взбешен?
— Нет, он опечален.
Это верно. Складка презрения не бороздит уже его лицо; в глазах светится тревога, в опущенных углах губ притаилась тихая грусть…
И он, ветеран классической революции, легендарный герой каторги, он, претерпевший столько мук и в своем желании почета считавший, что имеет право на пьедестал дюйма в два высоты, — повержен на землю…
Я проникаюсь почтительной жалостью к этой печали, которую Делеклюз не может скрыть. Больно смотреть, как он старается прибавить шагу, чтобы поспеть в ногу с федератами. Его убеждения страдают, и он задыхается, обливается кровью в своем желании присоединиться к стремительному движению Коммуны…
Его закаленное дисциплиной сердце не выдержало, и из глаз его брызнули слезы; он поспешно подавил их, но они все же смягчили металлический блеск его взгляда и приглушили голос, когда он благодарил меня за мои объяснения. Я принес их ему с тем уважением, с каким молодой обязан старику, которого он, не желая того, обидел и… заставил плакать».
В словах Валлеса сквозит обвинение Делеклюза в претенциозности и в стремлении к личному выдвижению. Это мнение полностью расходится с многочисленными свидетельствами противоположного смысла, высказанными как друзьями, так и врагами Делеклюза. Один из последних, в частности некий Корбон, заявлял: «Делеклюз объединял в себе две очень различные особенности характера: он был одновременно очень скромен и очень претенциозен в отношении своих идей». Другой его враг, министр Наполеона III Эмиль Оливье, который часто служил мишенью жестоких нападок Делеклюза, называл его среди людей, заслуживающих восхищения «своими личными добродетелями и бескорыстием своей жертвенной жизни».
Что касается дружественных оценок, опровергающих Валлеса, то их бесчисленное множество. Например, Михаил Бакунин различал два типа якобинцев: «якобинских адвокатов и доктринеров типа Гамбетты» и «искренних якобинских революционеров, героев, последних подлинных представителей демократических идеалов 1793 года». Русский революционер помещает во главе этих «великих якобинцев… естественно, Делеклюза, великую душу и великий характер».
Анри Рошфор с полным основанием называл Делеклюза «самым чистым из чистых». Но убедительнее всего о величайшем личном бескорыстии Делеклюза говорит сама его жизнь. Вспомним, например, его постоянное отступление на второй план и выдвижение вперед Ледрю-Роллена. К счастью, теперь этому окончательно придет конец; как и следовало ожидать, Ледрю-Роллен оказался в стороне от Коммуны.
Делеклюз решительно пошел под ее знаменем, хорошо сознавая предстоящие ей невероятные трудности и не заблуждаясь в отношении исхода борьбы. Конечно, в своих выступлениях, официальных документах Делеклюз страстно призывает к борьбе за победу. Он внушает веру в будущее защитникам Коммуны, подает им пример твердой уверенности. Он достойно выполняет долг одного из ее вождей (а рядом с ним можно поставить разве только Варлена), хотя знает, что ему, как и всем коммунарам, грозит гибель. Он пишет в частном письме 28 марта: «Наконец-то Коммуна образована. В октябре это, возможно, спасло бы Париж и Францию. Но произойдет ли это теперь?..»
Коммуна начинает жить, действовать, управлять, бороться. Делеклюз играет огромную роль в ее деятельности, предопределяемую его авторитетом, его способностями и постами, на которые его назначали. С 29 марта Делеклюз входит в комиссию по внешним сношениям, а начиная с 3 апреля, кроме того, и в главную, исполнительную, комиссию.
Если в первые дни после 18 марта у Делеклюза были какие-то надежды на возможность компромисса с Версалем, а об этом думали все, то вскоре эти иллюзии рухнули. Делеклюз особенно остро переживал трагическую неудачу массовой вылазки коммунаров 3 апреля, гибель их командиров Флуранса и Дюваля. Именно он показал в ответ на их зверское убийство версальцами пример революционной твердости, решительности и смелости. Он предложил Коммуне принять знаменитый декрет о заложниках. Мягкость, нерешительность, абстрактная гуманность — многих членов Коммуны стоили ей очень дорого. Делеклюз, человек поразительного человеколюбия, испытывавший непреодолимое отвращение ко всем формам насилия, нашел в себе достаточно твердости, диктуемой железными законами революции, чтобы потребовать принятия этого самого сурового декрета Коммуны. В данном случае пригодилась его якобинская закалка. Декрет, принятый 5 апреля, гласил: «Казнь каждого военнопленного или сторонника законного правительства Коммуны немедленно повлечет за собой казнь тройного числа заложников». В первое время этот декрет сдерживал зверства версальцев и спас от гибели многих коммунаров.
6 апреля Делеклюз возглавил всенародные торжественные похороны жертв неудачной вылазки. Из больницы Божон вынесли больше сотни черных гробов погибших национальных гвардейцев. Они были установлены на три огромных катафалка, запряженных восьмерками лошадей. Шествие направилось через весь Париж по Большим бульварам на кладбище Пер-Лашез. Впереди с обнаженной седой головой шел Делеклюз, опоясанный красным шарфом члена Коммуны. Мерно гремели обтянутые крепом барабаны, скорбно звучала похоронная музыка, заглушая рыдания вдов и сирот. Двести тысяч человек участвовало в траурном шествии. В этот день Париж до конца осознал грозный характер борьбы, которую ему предстояло вести.
Над братской могилой Делеклюз произнес надгробную речь. Он говорил слабым, больным голосом, но так, что его небольшая фигура вся в черном как бы вырастала на глазах у всех.
— Я не буду говорить длинную речь. Я люблю их не больше, чем вы; они слишком дорого нам обошлись. Граждане! Гражданки! То, что я хочу сказать, можно выразить в одном слове: я требую справедливости для семей этих жертв, справедливости для великого города, который после пяти месяцев осады, преданный своим правительством, берет в свои руки великое будущее всего человечества. Какого восхищения заслуживает народ, способный устроить столь грандиозные похороны своим сынам, пожертвовавшим жизнью за его независимость! Неужели в Версале еще осмелятся сказать, что мы лишь кучка заговорщиков? Не будем проливать слез над нашими героически погибшими братьями, но поклянемся над их могилой продолжить их дело и спасти Свободу, Коммуну, Республику!
Короткая речь Делеклюза проникнута искренностью. Не внешний ораторский блеск, на который он никогда не претендовал, а глубокие чувства Делеклюза покоряют слушателей. Он действительно считает коммунаров, а значит, прежде всего рабочих, своими братьями. И раньше, начиная с революции 1848 года, он неизменно тянулся 8 рабочему классу. С ненавистью писал он о преступлениях палачей июньского восстания 1848 года. С горячим сочувствием относился к их жертвам. Однако он оставался своим в среде мелкобуржуазных демократов-интеллигентов, людей типа Ледрю-Роллена, которые были его братьями. Революция 18 марта, Парижская коммуна расколола это братство; одни ушли к буржуазии, другие, подобно Делеклюзу ц таким его друзьям, как Курнэ, Разуа, — к рабочему классу. В Национальном собрании, заседавшем сначала в Бордо, а с 20 марта — в Версале, было немало людей, ранее повторявших фразы якобинцев, ставших теперь пособниками Тьера.
Делеклюз своим присоединением к Коммуне выразил лучшие традиции якобинизма. Ленин видел величие якобинцев 1793 года в том, что они были «якобинцами с народом». В этом же состояло величие Делеклюза, примкнувшего к рабочему классу, показавшему способность идти вместе с ним и даже во главе его. Сам Делеклюз не сознавал глубокого социального смысла событий, подобно тому как великие якобинцы прошлого Робеспьер, Марат, Сен-Жюст считали, что они сражаются за справедливость, за свободу, равенство и братство, тогда как в действительности они сражались за укрепление господства буржуазии. Делеклюз вдохновлялся теми же лозунгами, но передовым классом теперь стал пролетариат. С ним он и пошел, рабочие стали его братьями. Нелегко дался ему этот переход, нелегко ему было найти своих братьев среди рабочих, замученных нищетой и каторжным трудом, очень смутно сознававших еще свою историческую миссию. Их невежество, грубость, несознательность, стихийное бунтарство, буйная анархическая ярость порой отталкивали, шокировали его. Но обуревавшая его натуру страсть к справедливости — сущность истинного якобинства — помогла ему совершить этот акт великого мужества.
Внешним выражением единства якобинца Делеклюза и восставших рабочих Парижа были ненависть к монархистам, стремление защитить республику, патриотический порыв, направленный против унижения Франции пособниками иностранных захватчиков. Но в своей объективной сущности переход Делеклюза к рабочему классу явился отражением того всемирно-исторического факта, что гражданская и социальная справедливость могла быть связана отныне только с рабочим классом, с социализмом, а не с буржуазией, исчерпавшей свою прогрессивную миссию.
Некоторые бывшие друзья Делеклюза говорили, что несчастное стечение обстоятельств, его болезненное состояние и даже какие-то личные претензии толкнули его в объятия парижских мятежников. Нет, Делеклюз пришел к ним вполне сознательно, не только не преследуя никаких корыстных целей, личных политических притязаний, но ясно сознавая, что он приносит себя в жертву идее справедливости, В его действиях не было и тени политического позерства, олицетворением которого служил в Коммуне другой якобинец — Феликс Пиа.
Делеклюз сознавал неопределенность исхода борьбы, реальность поражения и гибели. Незадолго до Коммуны он писал в одном личном письме: «Я печален, мой дорогой друг, я очень печален, ибо горизонт мрачен. Повсюду царит реакция, и я с ужасом предвижу возобновление под огнем врага страшных июньских дней 1848 года».
Каким высоким мужеством должен был обладать Делеклюз, если после таких признаний он не только не попытался остаться в стороне, но пошел в самый огонь страшной схватки!
Один эпизод его жизни во время Коммуны подтверждает, насколько осознанным оказалось участие Делеклюза в Коммуне. Об этом случае никто тогда не знал, и лишь потом случайно стали известны факты, добавляющие яркие штрихи к портрету Делеклюза.
11 апреля он получил такое письмо: «Мой дорогой Делеклюз, у меня есть для вас интересная информация, и я прошу вас назначить мне встречу, если не сегодня, во вторник, то завтра, в среду. Сердечно жму вашу руку. Тестелен, бывший комиссар обороны департамента Нор.
Р. S. Представьте себе какого-нибудь провинциального идиота, плохо знающего о событиях в Париже. Он вообразил бы, что моя встреча с вами является опаснейшей неосторожностью для меня. Я остановился на бульваре Лавуа, в отеле Лавуа, комната 74».
Делеклюз вспомнил Тестелена, республиканца, но никак не революционера, и встретился с ним. О чем они беседовали, никто не знал. И только после разгрома Коммуны, после смерти Делеклюза это выяснилось. Дело в том, что Тестелен выдвинул свою кандидатуру на дополнительных выборах в Национальное собрание. Во время избирательной кампании соперники Тестелена обвинили его в связях с опасным революционером Делеклюзом. Шансы Тестелена на избрание оказались под угрозой. Однако он вышел из положения. Сам глава кабинета Тьера Бартелеми Сент-Илер прислал ему письмо, которое реабилитировало его от всяких подозрений в революционных наклонностях. Вот это письмо: «Мой дорогой бывший коллега. Я с удивлением и даже с возмущением узнал о том, каким клеветническим образом объясняют вашу поездку в Париж и ваши отношения с Делеклюзом, Вас никак нельзя причислить к сторонникам Коммуны, и вы стремились освободить Делеклюза от его преступного ослепления, используя ваше давнее знакомство… Вы могли бы напомнить вашим противникам, с какой надеждой и уважением принимал вас здесь г-н Тьер и с каким одобрением он отнесся к вашим демаршам. Я, со своей стороны, отвергаю эти нелепые обвинения и могу подтвердить, что вы никогда не говорили о соглашении с преступной Коммуной и стремились дезорганизовать ее, лишив ее одного из самых грозных вождей».
Итак, Тьер пытался с помощью своего агента склонить Делеклюза к отказу от участия в Коммуне. Известно, что агенты Тьера предлагали лучшему генералу Коммуны Домбровскому за измену миллионы. Что предлагали Делеклюзу? Деньги? Почести? Высокие посты? Это неизвестно. Однако потом точно узнали о категорическом отказе Делеклюза от любой сделки подобного рода. В ответ на уговоры Тестелена покинуть «этих безумных мятежников, бандитов и негодяев» Делеклюз заявил:
— Неужели вы думаете, что я в моем возрасте пошел бы на компромисс… Мне осталось жить слишком мало, чтобы вступать в союз с кем бы то ни было, если бы я не надеялся достичь освобождения Парижа. Если же я не достигну этой цели, то погибну на ступенях Ратуши.
Преданность Делеклюза революции ярко сказалась и в том, как этот прямолинейный человек, которого многие даже считали жестким догматиком, ради блага Коммуны шел на отказ от своих излюбленных идей. Пример этого — роль Делеклюза в составлении основного программного документа Коммуны.
Сначала она вообще не имела никакой официальной программы. Ни одна из трех основных революционных группировок — якобинцы, бланкисты и члены Интернационала — не составила заранее своей программы. А между тем время шло, коммунары уже вступили в смертельную войну с Версалем, а у них не было никакого общего документа, который указывал бы цели их борьбы. Коммуна поручила составить его Делеклюзу, члену Интернационала Тейсу и близкому к бланкистам Валлесу.
Валлес, который в своей книге «Инсургент» в разных статьях оставил яркие, художественные, хотя и не всегда достоверные зарисовки многих эпизодов истории Коммуны, рассказывает, как совершенно больной и измученный Делеклюз пришел и заявил глухим и печальным голосом:
— Старики должны стушеваться перед молодежью. Составьте декларацию без меня, не считаясь со мной. Я уверен, что вы вложите в нее всю вашу убежденность, всю Нашу душу… На этом листке бумаги мой черновой набросок, постарайтесь, чтобы кое-что из него вошло в вашу программу… Может быть, вы и правы, я представитель идей прошлого столетия. Но, верьте мне, не надо в такую минуту разбивать сердце родины — это равносильно тому, что вы бы резали мое сердце на части.
С болезненной улыбкой Делеклюз пожал руки Тейсу и Валлесу и вышел. Что же произошло затем? Были ли учтены мысли Делеклюза? По всей видимости, нет. Составлением декларации в основном занимался Пьер Дени, сотрудник газеты Валлеса «Кри дю пёпль» и страстный поклонник Прудона, давнего врага Делеклюза. Когда 18 апреля на заседании Коммуны Валлес, сообщив, что Делеклюз одобрил «Декларацию к французскому народу», зачитал ее текст, член Коммуны Растуль с изумлением воскликнул:
— Это надгробное слово якобинству, произнесенное одним из его вождей!
Действительно, декларация, одобренная Коммуной, не только не содержала многих основных политических принципов якобинства, но и решительно им противоречила. Она вся была пронизана федералистскими идеями Прудона, на основании которых Франция должна была бы стать объединением множества автономных самоуправляющихся Коммун. Между тем Делеклюз, как и другие последователи якобинцев, выступал за единую централизованную республику, он был противником федерализма. Однако он не стал выступать против декларации, хотя мог получить поддержку многих членов Коммуны. Делеклюз жертвует дорогими ему идеями революционного якобинства ради блага Коммуны. Всякий раздор перед лицом врага он считал гибельным. Поэтому он одобрил документ общего, даже туманного и расплывчатого, характера, ибо считал, что для Коммуны, осажденной жестоким врагом, потребности борьбы против Версаля гораздо важнее бумажных теорий.
Никто среди членов Коммуны не сделал так много, как Делеклюз, для укрепления единства. Когда неугомонный Феликс Пиа, изводивший всех интригами, склоками, возбуждавший конфликты, начал в очередной раз шантажировать своей отставкой, Делеклюз резко заявил:
— Странно удаляться из-за личных счетов или из-за того, что один из проектов противоречит идеалу, к которому стремишься. Неужели вы думаете, что все одобряют то, что здесь делается? И что же? Есть члены, которые остались и которые останутся до конца, несмотря на оскорбления, которыми нас осыпают. Я, по крайней мере, решил остаться на своем посту, и если мы не увидим победы, то падем первыми…
VII
Однажды при входе в зал заседаний Коммуны в дверях случайно столкнулись двое: Шарль Делеклюз и Виктор Клеман. Благообразный, седой господин в элегантном черном рединготе, в блестящем цилиндре и неуклюжий рабочий-красильщик с улицы Вожирар, одетый в деревянные башмаки и куртку со следами краски, неловко замешкались. Клеман, потоптавшись на месте, пропустил Делеклюза: в конце концов тот был старше, Но в движениях рабочего сказалась привычка пролетария уступать дорогу человеку с буржуазной внешностью, привычка, приобретенная в обществе, где рабочий должен знать свое место. Теперь революция уравняла их; оба они равноправные члены возникшего впервые в истории рабочего правительства. Уступает теперь не в дверях, конечно, а в самом главном — в политике Делеклюз. Он скрепя сердце пошел на уступки при составлении декларации Коммуны. Но это был документ, который должен удовлетворять всех, кто за него голосует.
Однако есть иные, индивидуальные формы выражения взглядов. С первых дней Коммуны бывшие сотрудники его знаменитой газеты «Ревей» уговаривали патрона возобновить ее издание; теперь не надо бояться преследований. Делеклюз колебался. Обязанности члена Коммуны требовали столько времени и сил, что при его здоровье вести еще и газету было бы немыслимо. Редактором газеты стал Октав Адвенан, друг Делеклюза, бывший член административного совета старой «Ревей». 18 апреля вышел первый номер газеты «Ревей дю пёпль» («Пробуждение народа»), в котором публикуется письмо Делеклюза редакции, определявшее ее направление.
Делеклюз пишет, что революция 18 марта явилась величайшим выражением народной воли. Париж получил наконец абсолютную автономию. Город с двухмиллионным населением не мог дольше терпеть, чтобы его третировали представители центральной власти, предавшей Париж и Францию врагу. Париж хочет получить все свободы, которые вытекают из его полной суверенности в коммунальном отношении. Делеклюз раскрывает преступные замыслы Версаля против Парижа и республики, он страстно призывает к защите Коммуны, говоря, что вступление версальцев в Париж погубило бы город; эшафоты, расстрелы и ссылки опустошили бы его.
«Победа народа, — пишет Делеклюз, — напротив, повсюду установит свободу…, которая обеспечит расцвет освобожденного труда, торговли и промышленности».
В очень общей форме говорит Делеклюз о целях Коммуны. Он не упоминает о социализме. Это не удивительно, ведь он и не был социалистом. Сами социалисты, члены Интернационала редко говорили об этом, чтобы не отталкивать от Коммуны мелкую буржуазию, большинство французского населения. Важнее другое — Делеклюз ничего, буквально ничего не упоминает о своих якобинских идеалах, которые он проповедовал всю жизнь, он даже не ссылается, как он делал обычно, на пример 1793 года. Итак, Делеклюз ради блага Коммуны, ради ее единства и победы снова уступает, и на этот раз совершенно определенно, намеренно, сознательно. Все должны служить Коммуне — это высший принцип Делеклюза. Обращаясь к редакции, он пишет: «Вы будете всеми силами поддерживать Коммуну, вы будете информировать Париж о его истинных целях».
Интересно, что были якобинцы, которые только и делали, что размахивали обветшалым знаменем 1793 года и твердили якобинские лозунги. Так поступал, например, Феликс Пиа в своей газете «Ванжёр» и на заседаниях Коммуны. Но самые преданные ей люди, самоотверженно отдававшие революции все силы, всю жизнь, проявляли достаточно мудрости, чтобы не осложнять положение теоретическими разногласиями. Среди якобинцев так поступал Делеклюз, среди социалистов — Варлен, два наиболее выдающихся деятеля Коммуны.
Товарищами Делеклюза в Коммуне оказалось немало его идейных противников — последователей Прудона, его постоянного врага на протяжении многих лет. Правда, самые близкие к Прудону люди стали врагами Коммуны. Его душеприказчик Шоде, отдавший приказ о стрельбе из Ратуши 22 января, был арестован Коммуной и потом расстрелян. Другой близкий ученик Прудона, Толен, заседал в версальском собрании. Прудонисты в Коммуне, входившие в группу членов Интернационала, во многом не только отошли от взглядов своего учителя, но даже прямо действовали вопреки им. Тем не менее социализм в Коммуне отождествлялся часто с прудонистами. Правда, наиболее последовательных социалистов, таких, как Варлен или Франкель, нельзя назвать прудонистами.
И знаменательно, что Делеклюз даже в такой ситуации никогда, ни по какому поводу не выступал против социалистических взглядов. Более того, он поддерживал все мероприятия Коммуны, отмеченные печатью социалистической тенденции. Он не раз одобрял выдвижение социалистов на ответственные посты и очень высоко ценил организаторскую деятельность социалистов — Варлена, Франкеля, Журда, Тейса и других. Забегая вперед, отметим, что в самый острый момент борьбы «большинства» с «меньшинством», среди которого в основном были социалисты, Делеклюз решительно воспрепятствовал Риго арестовать членов «меньшинства», то есть социалистов.
Уж не двигался ли Делеклюз к социализму? Нет, этого сказать нельзя, никаких заявлений определенно социалистического характера он не делал. Но, несомненно, Делеклюз видел рабочий, пролетарский характер революции 18 марта и сознательно поддерживал союз с рабочим классом, с олицетворявшим его Интернационалом.
Как ни странно, разногласия у Делеклюза возникали в отношениях с бланкистами, хотя именно бланкисты вместе с якобинцами составляли «большинство» Коммуны. В течение всего апреля Делеклюз, с которым выступали социалисты Верморель и Лефрансэ, резко критиковал работу комиссии общественной безопасности, особенно деятельность пылкого бланкиста, самого молодого члена Коммуны Рауля Риго. Борьба с внутренними врагами, с бесчисленными шпионами Тьера была одной из жизненно важных задач, а решалась она очень плохо. Комиссия общественной безопасности непрерывно оказывалась объектом в основном справедливой критики. Однако находились и такие люди, которые, забывая о смертельной опасности, думали лишь о формальном соблюдении принципов чистой демократии и беспредельной гуманности, хотя именно мягкость по отношению к врагам ускорила гибель Коммуны.
Делеклюз не страдал этой манией демократизма, из-за которой, например, устроили неуместные дополнительные выборы в Коммуну 16 апреля. Делеклюз, убежденный и принципиальный демократ, был против и справедливо говорил, что ни о каких выборах не может идти речь, когда грохочут пушки, а избиратели голосуют за Коммуну, сражаясь и умирая на укреплениях.
Делеклюз являлся олицетворением беспощадной борьбы с врагом. Разве не он был инициатором знаменитого декрета о заложниках? Он считал, что к нарушителям революционного порядка надо применять суровые наказания.
— Говорю вам, — заявил Делеклюз 24 апреля, — что если военный суд когда-нибудь вынесет смертный приговор, я первый скажу: расстрелять!
Но Делеклюз выступал лишь за разумную, действительно необходимую, неизбежную, главное — законную строгость; он обладал мягким и великодушным сердцем.
Однажды шло заседание исполнительной комиссии. Присутствовали Делеклюз, Пиа, Арну и еще несколько человек. Вдруг явились четверо национальных гвардейцев и потребовали, чтобы их немедленно выслушали. Они пришли прямо с поля боя, трое пожилых, один лет семнадцати, все с ружьями, покрытые грязью и копотью. Самый молодой с волнением заговорил о том, что они взяли в плен жандармского офицера и хотели его немедленно расстрелять. Но их командир помешал им.
— Граждане, — продолжал юный гвардеец, обращаясь к Делеклюзу, — мы пришли просить у вас смерти этого человека. Нужно, чтобы он умер. Каждый день нас душат, нас хладнокровно убивают. Каждый день наши друзья падают рядом с нами. Вчера жандармы убили на моих глазах моего раненого брата. Нам нужна месть, нам нужна жизнь этих подлецов. Если мы должны идти на смерть, не убивая, мы больше не станем бороться! Я разобью мое ружье! Да, мы охотно готовы умереть, мы не хотим считать нашей пролитой крови, но нам нужно наказать злодеев, нам нужна месть!
Артур Арну, присутствовавший при этой сцене, так описывает облик молодого коммунара: «Все это было сказано с своеобразным суровым красноречием, с энергией и печалью, которую невозможно передать. Крупные слезы, которые он не вытирал, а смахивал быстрым движением руки, стыдясь своей слабости, текли по его смуглым, похудевшим от усталости щекам, в то время как огонь страсти горел в глазах и все тело трепетало от внутреннего волнения. Моментами, когда он говорил о своем накануне убитом брате, его голос прерывался в пересохшем горле и переходил вдруг в шипящие звуки.
Это было жутко».
Побледневший Делеклюз молча слушал взволнованную речь. Видно было, что он совершенно потрясен и колеблется. Вдруг, словно приняв наконец решение, он так же горячо и страстно отвечал молодому бойцу и его товарищам:
— Не будем подражать нашим врагам, не будем убивать безоружных пленников. Не делайтесь судьями сами, положитесь на Коммуну, которая не позволит, чтобы вас убивали безнаказанно. Нужно судить этого человека. Иначе ни я, ни мои товарищи не дадут согласия на его смерть!
Коммунары, перебивая друг друга, стали возражать. Тогда Делеклюз схватил юношу за руки, он назвал его своим сыном. Он страстно заговорил об идеалах Коммуны, о том, что она призвана уничтожить зло и жестокость на земле. У самого Делеклюза на глазах выступили слезы. И он уговорил коммунаров, спас жизнь жандарма, который, наверное, не задумываясь, застрелил бы и старика Делеклюза и неизвестного юного героя.
Непоколебимый в своих нравственных принципах, Делеклюз не страдал ни сентиментальностью, ни слабостью. Этот железный человек просто был олицетворением справедливости.
Вот почему он критиковал Рауля Риго и в конце концов добился его отставки. Риго был отчаянным революционером, он умер как герой. Необыкновенное мужество проявил в конце и его друг Теофиль Ферре. Но эти молодые бланкисты, особенно Риго, делали все с какой-то бесшабашной бравадой, шумом и треском.
— Мне некогда думать о законности, — повторял Риго, — я делаю революцию!
А между тем город кишел агентами Тьера, которые совершенно беспрепятственно сновали между Версалем и Парижем. Риго с огромной помпой арестовывал второстепенных врагов, особенно священников. Вот как он вел допрос одного из них.
— Ваша профессия? — спросил Риго.
— Служитель бога.
— Где обитает ваш бог?
— Он повсюду.
— Запишите, — приказал Риго секретарю, — служитель некоего бога, адрес которого неизвестен.
Это, конечно, было забавно, но несерьезно. Газета социалистов «Ла Коммюн» писала: «Здесь нет измены, есть только глупость плутов и мальчишек, завладевших различными общественными должностями, в которых они не понимают ничего. В их руках общественная безопасность превращается в неожиданную засаду и общественное благо означает пренебрежение элементарными гарантиями».
Сначала в Комиссии общественной безопасности молодые бланкисты Риго и Ферре находились под контролем твердого и надежного человека, рабочего-литейщика Дювала, генерала Коммуны. Но он погиб 3 апреля. Стали искать серьезного человека для руководства политической полицией, которая в условиях осажденного города играла колоссальную роль. Интеллигенты, вроде Вермореля, проявляя щепетильность, отказывались заниматься этим тяжелым, неприятным делом. Остался Риго и продолжал действовать с лихими замашками типичного парижского гамена. О какой настоящей бдительности могла идти речь, если бывший студент Гастон де Коста, правая рука Риго, сразу после поражения Коммуны трусливо выдавал версальцам своих товарищей. Спустя почти сто лет в архивах нашли десятки написанных им доносов!
Делеклюз, вместе с которым выступали социалисты, добился отставки Риго с поста делегата общественной безопасности и замены его более деловым и надежным Курнэ. Характерно, что Делеклюз тут же предложил оставить Риго и Ферре членами комиссии, поскольку они все же приобрели специальный опыт.
Одновременно Делеклюз добивается укрепления руководства Коммуны в целом. На примере комиссии безопасности он имел возможность убедиться, что необходимы решительные меры по централизации власти. Ведь положение Коммуны становилось все более тяжелым, а в управлении ее делами царили беспорядок и хаос. Коллегиальные комиссии, эти своеобразные министерства, состоявшие из пяти-шести человек, не возглавлялись ответственными руководителями. Центральная, исполнительная, комиссия, в которую входил Делеклюз, не пользовалась реальной властью для координации действий остальных комиссий. Она занималась мелкими текущими делами. А сама Коммуна, то есть общее собрание всех ее членов, просто была не в состоянии детально контролировать комиссии. Часто ее шумные, беспорядочные заседания посвящались случайным, мелким вопросам или выливались в споры, конфликты, не приносившие пользы. Все дела решались самотеком, не было никакой четкой организации. Дух прудонистской анархической децентрализации или федерализации поражал Коммуну параличом. Боязнь единоличного руководства, доведенная до абсурда, грозила превратить Коммуну в подобие крикливого, но беспомощного старого польского сейма.
Делеклюз с тревожной озабоченностью часами беседует с наиболее серьезными людьми обо всех этих делах, особенно с Эдуардом Вайяном и Паскалем Груссе. 20 апреля этот последний по совету Делеклюза вносит предложение об изменении управленческой структуры Коммуны. Каждая комиссия должна выбрать из своей среды одного руководителя, а все они войдут в исполнительную комиссию. Но последовало контрпредложение Клюзере вообще ликвидировать комиссии, заменив их единоличными делегатами. Разгорелась жаркая дискуссия. Одни кричали об опасности диктатуры, другие — о ее необходимости. Делеклюз вмешался и внес компромиссное предложение, по которому Коммуна выбирает делегатов, которые возглавят комиссии. Делегаты вместе составляют исполнительную комиссию, они ежедневно отчитываются перед Коммуной. Предложение Делеклюза сразу принимается 47 голосами против 4.
Наконец, в Коммуне установился некоторый порядок. Исполнительная власть отныне бдительно контролируется Коммуной. Но и делегаты наделяются большей властью и ответственностью. Коммуна теперь действительно похожа на высший орган власти, который может не размениваться по мелочам. Организованность Коммуны усилилась, хотя, к сожалению, далеко не в той степени, в какой этого требовали события. Но в тех условиях большего достичь было невозможно. И хотя Делеклюз после этой реорганизации всего лишь член военной комиссии и не входит в обновленную исполнительную комиссию, его авторитет еще более возрос.
На протяжении восьми недель существования Коммуны Делеклюз неизменно направлял свою энергию именно туда, где создавалось наиболее опасное, критическое положение, где дело Коммуны надо было спасать решительными мерами. Многие члены Коммуны тоже сознавали опасность. Но одни фатально мирились с неизбежностью поражения и гибели, другие не имели достаточного авторитета, чтобы повлиять на ход дела. Были и такие, кто питал беспочвенные иллюзии и, слепо веря в победу, пребывал в состоянии блаженного оптимизма.
Делеклюз, наученный многими поражениями в своей долгой революционной жизни, всегда очень остро ощущал грозившую опасность, и в нем, старом и больном человеке, эта опасность пробуждала какую-то сверхчеловеческую энергию, неистовую страстность и волю к борьбе. Именно поэтому среди всех забот, которые взваливал на свои плечи закаленный якобинец, на первом месте неизменно стояли военные дела Коммуны. Они действительно с самого начала были ее наиболее слабым местом. Делеклюз почувствовал это сразу после 3 апреля, когда коммунары потерпели неудачу в своей первой и единственной попытке наступления на Версаль.
Собственно, первая роковая ошибка в военном деле лежит на совести Центрального комитета Национальной гвардии. 18 марта он обладал огромным военным превосходством над Тьером. На другой день после революции у Тьера осталось всего около двадцати тысяч солдат, причем деморализованных, даже враждебно настроенных к своим генералам. А Центральный комитет, имея в десять раз больше бойцов, причем охваченных энтузиазмом после одержанной победы, не осмелился увенчать эту победу немедленным наступлением па Версаль. А чего стоило назначение командующим Национальной гвардии алкоголика, полупомешанного Люлье! Это он преступно отдал версальцам могучий форт Мон-Валерьен, ключ к победе.
Центральный комитет сместил Люлье и назначил генералами Национальной гвардии отважных революционеров Дюваля, Флуранса, Эда, Бержере. Они рвались в бой, хотели идти па Версаль и пошли 3 апреля в наступление, как на парад. Они не были военными, не знали элементарных правил тактики. О чем можно было говорить, если импровизированные генералы забывали, что для пушек нужны зарядные ящики со снарядами, что бойцам необходимы полевые кухни, что, кроме барабанщиков, трубачей и знаменосцев, вперед надо посылать разведку?
После трагического поражения 3 апреля Коммуна принимает решительные меры. Форты и крепостные стены повсюду занимают батальоны коммунаров, создается сеть траншей. Снова был занят пригород Курбевуа и укреплен баррикадами мост Нейи.
Но 7 апреля следует новый тяжелый удар — версальцы взяли мост Нейи. Там командовал Бержере, тот самый храбрый Бержере, который еще в вылазке 3 апреля проявил полную неспособность руководить боями. Накануне нового поражения Бержере писал: «Что касается Нейи, этого предмета домогательств наших противников, то я сильно укрепил его и вызываю целую армию атаковать его». Бержере хвастал, что живым не уйдет с моста. Но 7 апреля в 4 часа дня, несмотря на героическое сопротивление коммунаров, мост Нейи был потерян.
Бержере сместили, а па его место назначили польского офицера Ярослава Домбровского. Возник конфликт, ибо генеральный штаб Бержере выступил против этого назначения. Делеклюз тогда первый раз вмешался в военные дела. Молодой, молчаливый, светловолосый поляк, бывший офицер русской армии, сразу поправился Делеклюзу, и он решительно выступил в его защиту. Делеклюз знал, что Домбровский еще 18 марта требовал наступления на Версаль. 9 апреля с двумя батальонами Домбровский атаковал версальцев в Апьере, обратил их в бегство и занял важные позиции. Домбровский быстро завоевал авторитет не только бесстрашного, но и очень умелого генерала.
К несчастью, далеко не все военные назначения Коммуны были столь же удачны. С 3 апреля управление всеми военными делами доверили Клюзере, человеку с весьма противоречивой биографией. Он получил орден Почетного легиона за расправу над восставшими рабочими в июне 1848 года. Потом он воевал с русскими в Крыму, служил в Алжире, попал в отряды Гарибальди, участвовал в гражданской войне в США, где получил чин генерала. Затем Клюзере оказался в Ирландии в рядах борцов за независимость. После этого занялся журналистикой и даже присоединился к Интернационалу. Вместо с Бакуниным он устроил восстание в Лионе осенью 1870 года. Там он проявил себя так, что дал основание Марксу назвать его «ослом… дураком и трусом». Маркс писал о нем: «…жалкий, навязчивый, тщеславный и честолюбивый болтун Клюзере», «легкомысленный, поверхностный, навязчивый, хвастливый малый».
И вот этому человеку Коммуна и доверила руководство своими военными делами! Почему это произошло? Потому, с горечью говорил потом Делеклюз, что не нашлось никого другого. После тяжелого разочарования в своих доморощенных полководцах из революционеров Коммуна искала профессиональных военных. Клюзере, которому дело Коммуны было совершенно чуждо, сыграл на этом.
С самого начала деятельности Клюзере на посту военного делегата Коммуны Делеклюз питал к нему серьезное недоверие. До поры до времени он молчал, поскольку не считал себя достаточно компетентным в военном деле. Однако Клюзере вел себя так, что и слепому становилось ясно: Коммуна сделала еще одну серьезную ошибку!
В одном из своих первых приказов Клюзере объявил: «Наша задача заключается в том, чтобы мы… терпеливо ожидали нападения, ограничиваясь со своей стороны обороной». Оборонительная тактика для восставшего народа всегда гибельна. Тем более что Тьер с помощью немцев, возвращавших ему военнопленных, непрерывно увеличивал численность своих войск. Если бы Клюзере хотя бы укреплял оборону! Но он постепенно разрушал и без того слабую организацию Национальной гвардии. Клюзере затеял нелепую реформу Национальной гвардии, разделив ее на маршевые батальоны из молодежи и на гарнизонные войска из гвардейцев старше 35 лет. В результате установившиеся связи, влияние людей с революционным опытом ослабели. Во всей системе военного управления царил хаос. В распоряжении Коммуны имелось достаточное количество винтовок нового образца — «шаспо», а батальоны сражались старыми пистонными ружьями.
Клюзере вел себя так, что возникали сомнения в его психической нормальности. В разгар ожесточенных боев он буквально спал целыми днями, он совершенно бездействовал, когда надо было вмешаться. Это был какой-то невероятный шарлатан, предпринимавший действия, которые невозможно было объяснить никакими здравыми соображениями. Клюзере, кроме всего прочего, не терпел вмешательства в военные вопросы. Когда Делеклюз начал контролировать военные дела, Клюзере люто возненавидел его.
А между тем Делеклюз даже проявлял исключительную тактичность и осторожность в отношении Клюзере. 21 апреля деятельность военного делегата стала предметом обсуждения на заседании Коммуны. Военное положение Коммуны ухудшалось, поражения следовали за поражениями. И все же Делеклюз выступал против поспешных действий.
— Сейчас, — говорил Делеклюз, — все дает нам право сказать, что мы приближаемся к весьма критическому моменту; кризис налицо; может быть, он разразится уже завтра. Неужели вы полагаете, что настало подходящее время, чтобы вносить расстройство в едва только сложившееся управление, еще далеко не совершенные элементы которого позволяют нам удовлетворять в известной мере огромные нужды обороны?
Меня нельзя заподозрить в чрезмерной симпатии к генералу Клюзере. Мне известно также, что многие из наших коллег отдали ему свои голоса только потому, что не находилось другого солдата, который мог бы взять в свои руки управление военными делами. Он оказал, мне кажется, услуги; но как бы ограничены они ни были, я все-таки сказал бы: «Не вносите беспорядка в это управление».
21 апреля на заседании Коммуны Делеклюз был избран в новый состав военной комиссии. Теперь он вместе с другими членами Комиссии еще более непосредственно познакомился с деятельностью Клюзере и еще яснее понял, насколько плохо работает военное ведомство. Клюзере вызывает у него самые серьезные подозрения. Мнение Делеклюза разделяют и другие члены военной комиссии. Один из них, член Интернационала Авриаль, друг Варлена, заявил на заседании 23 апреля:
— Национальная гвардия не организована, никто ею не командует, то и дело поступают, приказы и контрприказы; она не знает, кому она должна подчиняться…
Затем Авриаль стал задавать Клюзере конкретные вопросы:
— Я спрашиваю гражданина Клюзере, хорошо ли он знает людей, из которых состоит его штаб.
— Да нет, — отвечает Клюзере, — я никого не знаю — и я спрашиваю вас: каким образом человек, не знающий никого, может знать кого-нибудь?
— Может ли Клюзере сказать нам, из скольких батальонов состоит действующая армия?
— Это невозможно, — следует ответ.
— Тогда я спрошу только, сколько людей у Домбровского?
— Численности людей я не знаю…
— Я спрошу гражданина Клюзере, сколько у него артиллерийских орудий?
— На такие вопросы я не могу отвечать.
В конце концов, как было зафиксировано в протоколе, Клюзере попросил «не нападать на него врасплох». Перед Коммуной раскрылась совершенно удручающая картина. Делеклюз несколько раз брал слово:
— Я предлагаю, чтобы Коммуна определила отношения между военной комиссией и военным делегатом. Мы не смогли найти гражданина Клюзере в военном министерстве; мы не можем примириться с таким его образом действий. Диктаторские помыслы нам не подходят…
— До меня со всех сторон доходят слухи, будто генерал Клюзере заявлял несколько раз, что ему нет дела ни до исполнительной комиссии, ни до военной комиссии. Дело идет о спасении Франции и республики, и мы никому не позволим подменять своей единоличной волей волю коллектива, которая должна стремиться к общей цели…
— Домбровский явился вчера в состоянии полного изнеможения. Он сказал мне: «Я больше не в силах держаться, замените меня. Меня оставляют защищать пространство от Нейи до Аньера с 1200 человек; больше этого я никогда не имел». Если этот факт верен, то это измена! Еще раз говорю: организация Национальной гвардии совсем никуда не годится.
Решено было резко усилить контроль военной комиссии над деятельностью Клюзере. Комиссия немедленно стала проводить неотложные мероприятия по организации военного управления. Делеклюзу показалось, что Клюзере сделал выводы из резкой критики его деятельности.
— Должен сказать, — заявил Делеклюз 24 апреля, — что гражданин Клюзере отнесся к нам в высшей степени доброжелательно… То, что произошло вчера в собрании, навело его на мысли, которых у него раньше не было. Начиная с сегодняшнего дня во всех отделах должны быть проведены серьезные меры.
Делеклюз высказывал Клюзере всю правду, и на этот раз генерал не прибегал к обычным уверткам. Он обещал все исправить. Делеклюз начал надеяться на лучшее. Но уже через несколько дней его вновь охватывает тревога. Вопреки решению Коммуны о присылке два раза в день военных сводок Клюзере пять дней вообще не присылал никаких сообщений о военных действиях. Члены Коммуны могли лишь слушать пушечную канонаду, ничего не зная больше. 28 апреля Коммуна снова обсуждает военные дела. Именно на этом заседании бланкист Мио вносит предложение о создании Комитета общественного спасения, сразу вызвавшее острые разногласия.
Новый кризис наступает 30 апреля. В этот день шло обычное заседание Коммуны. Продолжались споры по поводу Комитета общественного спасения, издания официальной газеты Коммуны. Было пять часов, когда представитель военной комиссии заявил, что он должен сделать сообщение чрезвычайной важности и требует секретного заседания.
Речь шла о форте Исси. Это крепостное сооружение находилось у юго-восточного выступа Парижа, недалеко от дороги на Версаль. После форта Мон-Вальерьен, потерянного в самом начале, это была важнейшая стратегическая позиция. Версальцы уже несколько дней из многих орудий вели ожесточенную бомбардировку форта, превратившегося в груду развалин. Версальские траншеи 30 апреля непосредственно приближались к стенам укрепления. Командир гарнизона Межи (тот самый, из-за которого Делеклюз некогда сидел в тюрьме) потребовал от Клюзере подкреплений, но ничего не получил. Тогда он приказал заклепать пушки и покинуть форт Исси. Там остался один боец, 15-летний Дюфур, наполнивший тачку патронами и пушечными зарядами, чтобы взорвать самого себя и остатки крепости, когда войдут версальцы. Однако они не решились сунуться, и через некоторое время батальоны коммунаров вновь заняли Исси.
Но еще до этого на своем секретном заседании Коммуна, возмущенная бездействием Клюзере, решила наконец сместить этого шарлатана. Гневную речь произнес Делеклюз, потребовавший арестовать Клюзере и немедленно заменить его. Военным делегатом временно назначили полковника Росселя, молодого офицера, присоединившегося к Коммуне не из-за революционных убеждений, а в надежде, что она будет продолжать войну с Пруссией. Новый военный делегат имел репутацию настоящего военного, молчаливого, педантичного и, несомненно, ненавидевшего Версаль, предавший пруссакам Францию. Тот факт, что Россель, занимавший пост начальника штаба Клюзере, тоже несет ответственность за развал военной организации, как-то упустили из виду. Опять дело о его назначении решилось потому, что под рукой не нашлось никого другого.
Россель, безусловно, разбирался в военном деле, но он совершенно не понимал специфики революционной войны, был помешан на классических военных традициях и понимал их самым невероятным образом. Военный формализм он доводил до абсурда. Это обнаружилось уже 1 мая, когда версальцы, почти окружившие форт Исси, предъявили ультиматум о сдаче под страхом расстрела всего гарнизона. В ответ Россель направил версальскому офицеру такое послание:
«Дорогой товарищ, в следующий раз, как только вы позволите себе послать нам предложение, подобное вашему письму, я прикажу расстрелять вашего парламентера согласно обычаям войны. Преданный вам товарищ Россель».
Обращаться к смертельному врагу, ведущему войну со зверской жестокостью, со словами «дорогой товарищ», заверять его в своей «преданности», да еще и объявлять о том, что «согласно обычаям войны» можно расстрелять парламентера, — все это явно выходило за пределы разумного. Увы, это было только начало трагического фарса, который на протяжении десяти дней разыгрывал Россель. Но Делеклюз уже не знал ничего этого. Его здоровье угрожающим образом резко ухудшилось. Острейший ларингит лишил его голоса, больное сердце, общее истощение потребовали полного покоя, и Делеклюз слег в постель у себя дома на улице Сен-Пэр. Состояние его было таким, что врачи вообще считали невозможной продолжение его деятельности в Коммуне. На ее заседании 2 мая председательствующий зачитал письмо, в котором Делеклюз напоминал, что еще на прошлой неделе он просил Коммуну «об отпуске, необходимость в котором вызвана плохим состоянием моего здоровья, о чем могли судить все мои коллеги».
«Мне незачем говорить о том, — писал Делеклюз, — что, как только смогу, я займу свое место среди вас. Однако если я рассчитываю, что скоро буду иметь возможность присутствовать на ваших заседаниях, то мне трудно обещать, что я смогу одновременно участвовать в работе военной комиссии, требующей непрерывной, повседневной деятельности, с бесконечной беготней и разговорами… Я просил бы вас одновременно сменить меня окончательно как члена названной комиссии».
Десять дней Делеклюз оставался прикованным к постели. А за это время на Коммуну обрушились новые испытания и военные поражения. 4 мая версальцы с помощью измены захватили редут Мулен-Саке, атаковали и захватили Кламар, начали ожесточенные наступательные бои в Ванве, усилили артиллерийский обстрел западных и южных кварталов Парижа. А новый доенный делегат полковник Россель занимается не руководством военными операциями, а борьбой против Центрального комитета Национальной гвардии, претендовавшего на власть. Россель раздумывает над предложениями некоторых экстремистов совершить военный переворот и установить единоличную диктатуру. Положение военного делегата окончательно запутывал вновь созданный в отсутствие Делеклюза Комитет общественного спасения, где Феликс Пиа творил невероятные глупости. Но главное, что особенно тяжко сказалось на положении Коммуны, — совершившийся в начале мая раскол на «большинство» и «меньшинство». Они начали открытую яростную борьбу между собой, к великой радости версальцев. Отсутствие Делеклюза имело пагубные последствия. Ведь он сумел остаться чуждым борьбе партий, личным дрязгам. Только он один мог быть арбитром; только его авторитет мог предотвратить гибельный раскол. Люди, не считавшиеся ни с кем и ни с чем, вроде Пиа или Риго, побаивались Делеклюза. Он один умел заставить себя слушать. Феликс Пиа, воспользовавшись болезнью Делеклюза, совершенно распоясался в своей театральной безответственности. В то время как рядовые коммунары героически гибли на укреплениях, Коммуна терзала сама себя в бесплодных распрях. Лиссагарэ пишет: «Болезнь Делеклюза, приковавшая его к постели, оставляла свободное поле для интриг Пиа. Делеклюз всех да стоял за единство; Пиа предпочитал видеть Коммуну скорее мертвой, чем спасенной теми, кого он ненавидел, а он ненавидел всех, кто смеялся над его безумными выходками».
Только 8 мая Делеклюз встал на ноги и приступил к работе. Выздоровел ли он? Нет, видевшие его тогда люди утверждали, что он не только говорил, но и дышал с трудом. Россель, например, заявлял, что это был «ходячий труп». Однако известие о новых несчастьях Коммуны породили в нем какую-то необычайную нервную энергию, придавшую неожиданную силу этому окончательно измученному человеку.
В этот день он является в Ратушу и присутствует на заседании Коммуны. Вместе с Авриалем, Мортье и Вердюром он составляет воззвание к национальным гвардейцам XI округа, избравшего Делеклюза в Коммуну. Это суровый призыв к смертельной борьбе. Интересно, что старый якобинец до этого воздерживался от каких-либо намеков на социалистический характер борьбы Коммуны. Здесь впервые говорится не только о борьбе за республику против монархии, но также о борьбе между «капиталом и трудом». Делеклюз пишет о том, что «в тысячу раз лучше погибнуть, чем покориться позорному игу рабства».
Между строк воззвания чувствуется, что старый якобинец не питает иллюзий в отношении будущего Коммуны, что он ожидает грозных событий.
VIII
Вечером 8 мая подходит к концу героическая оборона форта Исси. Его немногие оставшиеся в живых защитники, осыпаемые непрерывным огнем снарядов и пуль, почти полностью окружены. После 7 часов вечера они начинают покидать остатки укреплений. В Париже об этом еще никто ничего не знает. Только в полдень 9 мая на стенах Парижа появилось множество афиш, подписанных Росселем: «Трехцветное знамя развевается над фортом Исси, оставленным вчера вечером его гарнизоном». Тягостное известие тем более озадачивает коммунаров, что оно составлено в выражениях, уместных для сообщения о победе. «Знамя развевается» — так мог бы написать Тьер!
Делеклюз узнает об этом в военном министерстве. Он ищет Росселя, требует объяснений. В ответ полковник заявляет о своем окончательном решении уйти в отставку. Делеклюз спешит в Ратушу. В зале заседаний Коммуны все идет так, будто ничего не случилось. Члены Коммуны спорят, как обычно, о неточностях в протоколе предыдущего заседания. Возбужденный вид внезапно появившегося Делеклюза сразу привлек внимание участников заседания. А он минуту прислушивается к привычным словам оратора и вдруг, гневно прерывая его, начинает быстро говорить своим хриплым, слабым голосом, в котором звучат горе и ярость:
— Вы занимаетесь спорами в то время, когда объявлено о том, что трехцветное знамя развевается над фортом Исси. Граждане, надо принимать меры без промедления. Я видел сегодня утром Росселя; он подал в отставку, он твердо намерен остаться при своем решении. Сегодня утром версальцам удалось вступить в форт; там ничего не взорвали, не было мин. Измена обступает нас со всех сторон! И трехцветное знамя над развалинами. Восемьдесят пушек угрожают нам с Монтрету. Я обращаюсь ко всем вам!
В зале сильное волнение. Тяжелая весть, которую принес Делеклюз, его страстная, взволнованная речь пробуждают всех и заставляют вспомнить о смертельной опасности. Как будто сама революция говорит устами седовласого, задыхающегося человека, напоминающего членам Коммуны об их исторической ответственности.
— Прискорбные дебаты, — продолжает Делеклюз, — которые происходили на прошлой неделе и при которых я не присутствовал, чему очень рад, вызвали сильнейшее смятение среди населения… И в такой момент вы тратите время на вопросы самолюбия! Я надеялся, граждане, что Париж спасет Францию, а Франция — Европу. И что же! Сегодня Национальная гвардия больше не хочет драться. А вы обсуждаете вопросы, касающиеся протокола!
Центральный комитет собирается разогнать Коммуну; это значит нанести революции удар в сердце. Я не утверждаю, что этим собранием приняты великие решения, но, несмотря на неопытность людей, входящих в его состав, от Коммуны исходит мощь революционного чувства, которая способна спасти родину…
Мы спасем ее; и быть может, на баррикадах. Но прежде надо попытаться не допустить насильственного вторжения в Париж через наши крепостные стены. Оставьте сегодня всякую злобу!..
Мы должны спасти страну. Комитет общественного спасения не соответствует тому, чего от него ожидали. Он препятствовал делу вместо того, чтобы стимулировать его. Я утверждаю, что он не должен более существовать…
Будь в наших усилиях единство, всего этого не случилось бы. Парижанин не трус; если он отказывается драться, значит им плохо командуют или он считает, что его предали. Надо немедленно принять решительные меры, или мы пропадем в своем бессилии как люди, недостойные нести возложенные на нас обязанности защищать страну…
Франция протягивает нам руки, у нас есть продовольствие, соберем все силы, еще неделю, и мы прогоним версальских бандитов! Франция находится в движении, она несет нам моральную поддержку, которая претворится в активную помощь. Мы должны найти среди героев 18 марта и в Центральном комитете, оказавшем столь большие услуги, силы, чтобы спастись. Нужно создать единство командования. Я предлагал сохранить единство политического руководства. Это ни к чему не привело. Мы дошли до того, что создали Комитет общественного спасения. Чем же он занимается? Отдельными назначениями вместо согласованных действий…
Таким образом, ясно, что Комитет общественного спасения не оправдывает ожиданий и его нужно сместить. Слова ничего не значат. Можно творить великие дела, употребляя простые слова… Ваш Комитет общественного спасения уничтожен, раздавлен под тяжестью довлеющих над ним воспоминаний и не делает даже того, что могла бы делать обычная исполнительная комиссия…
Речь Делеклюза, основные места которой приведены здесь в дошедшем до нас несовершенном протокольном изложении, потрясает членов Коммуны. Никогда еще они не испытывали такого волнения, никогда еще они не были так резко поставлены лицом к лицу с трагической действительностью. Делеклюз с суровой прямотой сказал, что речь идет о спасении Коммуны от смертельной опасности. Но не страх и панику, а энергию, волю к борьбе пробуждает Делеклюз у своих товарищей. Он не колеблясь выступает против «большинства» якобинцев и бланкистов, фактическим лидером которого он был; и прямо говорит, что созданный ими Комитет общественного спасения — фикция. Делеклюз, всю жизнь мысливший образами, идеями и лозунгами французской революции XVIII века, разбивает обаяние слов и исторических призраков, под воздействием которого и возник этот никчемный комитет, расколовший Коммуну.
После речи Делеклюза началось секретное заседание. Несколько часов продолжались бурные споры по поводу деятельности Комитета общественного спасения. Его решили сохранить, но полностью обновить состав комитета. После перерыва начали обсуждать поведение Росселя. Делеклюз, питавший какую-то слабость к молодому офицеру, в своей речи, вызвавшей все эти бурные дебаты, не обвинял его ни в чем. Он больше склонялся к тому, что Росселю просто не давали успешно действовать Комитет общественного спасения и Центральный комитет Национальной гвардии. Однако на заседании под влиянием убедительных фактов Делеклюз постепенно меняет свою позицию. Поведение Росселя, несомненно, граничит с предательством. Ведь кроме нелепого сообщения о падении форта Исси, Россель написал заявление об отставке, которое он опубликовал в газетах. Россель требовал отставки, поскольку «все обсуждают и никто не повинуется». Далее следовал настоящий обвинительный акт против Коммуны. Реальные недостатки в ее деятельности были перемешаны с нелепыми и оскорбительными, злобными суждениями Росселя, который выступал как враг Коммуны. Свое наглое и претенциозное письмо Россель закончил так: «я имею на выбор две линии: сломить препятствие, мешающее мне действовать, или уйти в отставку. Я не сломлю препятствия, ибо препятствие — это вы и ваша слабость… Я ухожу в отставку и имею честь просить у вас камеру в тюрьме Мазас». Письмо Росселя, напечатанное в газетах, было ударом в спину Коммуне. Косвенной, но эффективной помощью врагу. Теперь уже и Делеклюз не стал защищать Росселя и голосовал за его арест. Впрочем, Россель, требовавший «камеру в Мазасе», не очень стремился в нее. По решению Делеклюза арест отложили до того, как Коммуна выслушает его. А этот шарлатан, дав «честное слово солдата» не пытаться бежать, немедленно скрылся.
Поздно вечером Коммуна приступила к выборам нового состава Комитета общественного спасения. В этот момент наметилась реальная возможность ликвидации раскола Коммуны. «Меньшинство», ободренное присутствием Делеклюза, который столь сурово осудил Комитет общественного спасения, подтвердив тем самым многие доводы сторонников «меньшинства», решило принять участие в голосовании. Выборы первого состава комитета «меньшинство» бойкотировало. Однако ликвидацию раздора сорвал Феликс Пиа, снова раздувший разногласия. В новый комитет вошли только члены «большинства»: Делеклюз, Арну, Гамбон, Эд, Ранвье.
На другой день, 10 мая, Коммуне предстояло избрать нового гражданского делегата по военным делам. Все сознавали, что теперь, когда Коммуна оказалась в столь критическом военном положении, этот вопрос особенно серьезен. Немыслимо, чтобы после плачевного опыта с Клюзере и Росселем Коммуна снова могла допустить ошибку. Жюль Валлес сообщил на заседании о заявлении Делеклюза нескольким членам Коммуны, что он взял бы на себя обязанности гражданского делегата.
— Назначение Делеклюза, — сказал Валлес, — даст, по моему мнению, большие политические преимущества; он широко известен и сплотит вокруг своего имени множество людей.
— Я полностью присоединяюсь к предложению Валлеса, — поддержал Лефрансе, — влияние Делеклюза будет очень полезным для нашего дела. Его долголетнее участие в демократическом движении, его имя значительно облегчат ему работу; и благодаря своим широким связям, он лучше всякого другого сумеет оценить людей, которые придут нам на помощь.
За назначение Делеклюза гражданским делегатом при военном министерстве высказалось 42 из 46 голосовавших. Сразу после объявления об избрании Делеклюз отправился в военное министерство.
Соображения, которыми руководствовалась Коммуна, вверяя Делеклюзу высшую военную власть, понятны. Это был самый авторитетный человек, причем приемлемый и для «большинства» и для «меньшинства». Все хорошо знали его преданность революции, его честность, принципиальность, его ум. Вся жизнь Делеклюза свидетельствовала, что чем тяжелее, сложнее обстоятельства, с которыми он сталкивался, тем тверже, непоколебимее становилась его воля. Не зря Элизе Реклю, коммунар и знаменитый ученый, называл Делеклюза «добрым гением Коммуны».
Гораздо сложнее соображения, побудившие Делеклюза взять на себя обязанности, трудность и тяжесть которых могли привести в ужас кого угодно. Неужели он думал преуспеть там, где провалились два военных специалиста? Ведь он был совершенно неподготовленным для военного ремесла человеком. Конечно, Делеклюз, старый, измученный болезнью, не мог надеяться на победу, которую уже не в состоянии был обеспечить даже самый лучший генерал в мире. Уж он-то, так много занимавшийся наблюдением за деятельностью Клюзере и других военных руководителей Коммуны, хорошо отдавал себе отчет, в каком невероятно трудном состоянии оказалась военная организация Коммуны. Нет, не ложные надежды на успех, не личные притязания на власть направляли мужественный шаг Делеклюза. Он подчинялся велению долга перед своей революционной совестью. Он совершал прекрасный и героический акт самопожертвования, каких немного найдется во всей истории мирового освободительного движения. Нельзя не привести полный текст воззвания Делеклюза при вступлении в должность военного делегата:
«К Национальной гвардии
Граждане, Коммуна делегировала меня в военное министерство. Она считала, что ее представитель при военном министерстве должен быть штатским лицом. Если бы я сообразовался только со своими силами, то не согласился бы занять эту опасную должность, но я рассчитывал на ваш патриотизм, который облегчит мне ее исполнение.
Положение серьезно, вы это знаете. Ужасная война, которую ведут против вас феодалы, вступившие в заговор с обломками монархических режимов, уже стоила вам немало благородной крови, и все же когда, оплакивая эти горестные потери, я вглядываюсь в прекрасное будущее, которое откроется перед нашими детьми, — даже если нам не будет дано пожинать то, что мы посеяли, — я все еще с восторгом приветствую революцию 18 марта, открывшую перед Францией и перед Европой такие перспективы, на какие три месяца тому назад никто из нас не смел и надеяться. Итак, в ряды, граждане, и держитесь твердо перед врагом.
Наши укрепления сильны, как ваши руки, как ваши сердца; к тому же вы знаете, что сражаетесь за свою свободу и за социальную справедливость, которую вам обещали, но которой вам так долго не удавалось добиться. Вы знаете, что если грудь ваша открыта для версальских пуль и снарядов, то обеспеченная вам награда, это — освобождение Франции и всего мира, безопасность вашего очага и жизнь ваших жен и ваших детей.
Поэтому вы победите. Мир, взирающий на вас и рукоплещущий вашим благородным усилиям, готовится торжественно отпраздновать вашу победу, которая явится спасением для всех народов.
Да здравствует всемирная Республика!
Да здравствует Коммуна!
Париж, 10 мая 1871 г.
Гражданский делегат при военном министерстве
Делеклюз».
Хотя Делеклюз знал о плачевном состоянии военных дел Коммуны, действительность превзошла все его самые мрачные предположения. Теперь ему непрерывно, день за днем приходилось тяжело расплачиваться за деятельность своих предшественников Клюзере и Росселя. Прочно укоренилась система безответственности. Не было единого руководящего центра. Приказы отдавали Центральный комитет Национальной гвардии, Комитет общественного спасения, военная комиссия Коммуны, Комитет артиллерии, просто члены Коммуны, не говоря уже о самой Коммуне, наконец, гражданский делегат при военном министерстве, пост которого отныне занимал Делеклюз. Единого руководящего центра не было. Приказы и распоряжения часто противоречили друг другу, легко было не выполнять их. Делеклюз прежде всего взялся за наведение порядка в высшем командовании. Он пытается в какой-то мере определить права и обязанности Центрального комитета, добивается того, чтобы Комитет общественного спасения действовал только совместно с ним, так же как и военная комиссия.
Потребовалось сразу же срочно заменить начальника главного штаба и его заместителей. Причем назначения делались в спешке, и неизбежны были ошибки, а исправлять их не хватало времени. Каждый день Делеклюз узнавал чудовищные вещи. Со всех сторон он слышал жалобы о нехватке пушек, в то время как использовалось всего 300 орудий из имевшихся в Париже 1700!
Делеклюз намечает меры, которые внесли бы хоть какой-то порядок. 15 мая Делеклюз созывает военный совет, который не собирался с 3 апреля! Вместе с генералами Домбровским, Ла Сесилиа, Врублевским, Эдом и другими военными деятелями Коммуны Делеклюз ищет средств и путей для улучшения военного положения. Намечается и проводится серия важных мероприятий. Для централизации управления Делеклюз объединяет штаб укрепленного района, то есть комендатуру Парижа, с военным министерством, то есть с генеральным штабом. Три командующих армиями (Домбровский, Врублевский, Сесилиа), которые до этого отвечали лишь за зоны вне городских стен, теперь берут ответственность и за прилегающие к их зонам округа Парижа. Установлены строгий надзор и контроль за железными дорогами, телеграфом и всем транспортом. Делеклюз узнает, что полностью провален план постройки баррикад. Это дело передается в ведение инженерной службы. Для контроля над командующими частями вводятся должности военных комиссаров. Делеклюз приступает к наведению порядка с артиллерией. Ежедневно он подписывает сотни приказов, распоряжений, писем. По словам генерала Домбровского, Делеклюз «работал как негр». Член Коммуны, социалист Бенуа Малой писал в своих воспоминаниях: «Этот тщедушный старик нашел в своем революционном чувстве источник необычайной энергии. Он по-новому наладил работу главного штаба, принял ряд дисциплинарных мер, стремился сформировать инженерную службу и ускорить строительство баррикад в Париже, полностью реформировал артиллерию Парижа».
Сам Делеклюз 13 мая писал в частном письме: «Я нахожусь в центре ада, и я задыхаюсь». И все же человек, который был в два раза старше своего предшественника на посту военного делегата, проявлял в несколько раз больше энергии, не говоря уже о преданности революции. В штабах околачивалось множество бездельников, щеголявших мундирами, но державшихся подальше от аванпостов. Делеклюз резко сокращает численность офицеров в штабах и вспомогательных службах, отправляя их в боевые части.
Военному министру Коммуны приходилось заниматься совершенно немыслимыми вещами. Многие из бойцов 165-го батальона ходили в красных брюках, какие полагались по форме солдатам регулярной армии, то есть версальцам. Несколько раз случались несчастья, поскольку коммунаров принимали за врагов и открывали стрельбу. Интенданты соглашались выдать брюки другого цвета только в обмен на старые, красные. В архивах сохранилось письмо Делеклюза интендантам, в котором он приказывает немедленно заменить брюки и разъясняет, что «нельзя оставлять батальон в течение нескольких часов в одних рубашках».
Делеклюз возглавил военную организацию Коммуны в момент катастрофического ухудшения дел на фронте. Захватив 13 мая форт Ванв, версальцы повсюду приближаются к укрепленным стенам города и начинают подготовку штурма. Моральное состояние защитников Коммуны после многих поражений, после скандальной истории с Росселем резко ухудшается. Непрерывное соперничество и конфликты между Центральным комитетом Национальной гвардии и военными органами Коммуны сеют уныние, замешательство, апатию. Особенно пагубно сказывался на настроениях бойцов все разгоравшийся конфликт между «большинством» и «меньшинством» Коммуны. Деморализующее воздействие оказывали истерические нападки Феликса Пиа на «меньшинство». Газеты двух фракций обвиняли друг друга в предательстве, требовали расстрелов. Делеклюз всеми силами пытался предотвратить усиление конфликта. Считалось, что он единомышленник Феликса Пиа, громче всех нападавшего на «меньшинство». Но это было не так. Делеклюз со справедливым подозрением относился к интригану, прикрывавшемуся лозунгами якобинцев. Он писал в одном из личных писем в середине мая: «Ничтожные люди уже упаковывают свои вещи. Если бы я не следил за Пиа, он был бы уже за границей».
Происходили новые случаи измены, дезертирства. Целые батальоны распадались. Все чаще отдельные бойцы и целые отряды самовольно оставляли позиции. Коммуна с самого начала крайне редко прибегала к мерам принуждения. Все держалось на доброй воле. Поэтому ослабление морального духа немедленно приводило к пагубным последствиям. Делеклюз порой приходил в отчаяние оттого, что многие его приказы не выполнялись. Он несколько раз давал указания об укреплении высот Монмартра, господствующих над городом, об установке там мощных батарей. Но он так и не добился этого. Ему явно не хватало специальных технических знаний, а главное — здоровья. У него не было энергичных, дисциплинированных помощников и советчиков. Ставленники Клюзере и Росселя саботировали многие его правильные действия, ссылаясь на то, что этот гражданский человек не понимает в военном деле. Но главное, что угнетало Делеклюза, — это поразительная беспечность, царившая вокруг.
Прекрасный город, напоенный ароматами весны, жизнерадостно наслаждался обретенной свободой. Парижане с энтузиазмом отдавались грезам о новом, счастливом мире. Их мысли и чувства поглощало то свержение Вандомской колонны, этого символа милитаризма, грубой силы и крови, то разрушение особняка Тьера. Открылся необыкновенно успешный театральный сезон. Лувр раскрыл свои двери перед простым народом. Шумно и весело проходили традиционные ярмарки. Народные клубы, заседавшие в древних соборах, сделались свободной трибуной для рабочих, так долго задавленных полицейским и монархическим гнетом. Париж радостно, беззаботно спешил воспользоваться плодами революции, часто забывая о смертельной опасности, стоявшей у самых ворот великого города.
Но Коммуна обнаруживала все же и огромную жизненную силу. Делеклюз не раз наблюдал примеры героизма, беспредельной преданности делу революции. 16 мая, например, он получил такое письмо:
«Гражданин, извините меня за то, что я обращаюсь к вам с этими словами, но будьте добры рассмотреть мою просьбу.
У меня три сына в Национальной гвардии: старший в 197-м батальоне, второй — в 126-м и третий — в 97-м. Что касается меня, я служу в 177-м батальоне.
Однако у меня остается еще один сын, самый младший, скоро ему будет 16 лет. Он всем сердцем мечтает, чтобы его зачислили в любой батальон. Он поклялся своим братьям и мне взять оружие, чтобы защищать нашу молодую республику против палачей Версаля.
Мы условились и обещали друг другу отомстить за того из нас, кто падет под братоубийственными пулями Наших врагов.
Возьмите же, гражданин, моего последнего сына. Я от всего сердца отдаю его республиканской родине. Зачислите его в любой батальон по вашему выбору, и я буду счастлив.
Примите, гражданин делегат, мои братские приветствия.
Огюст Жулон, 177-й батальон».
Делеклюз использует любую возможность, чтобы побывать на укреплениях. 16 мая утром вместе с генералом Домбровским он пришел к легендарной батарее у ворот Майо. Укрепления здесь давно уже превратились в груду развалин, среди которых стояли 12 пушек. Эта выдвинутая вперед позиция в течение пяти недель находилась под ураганным огнем врага. Батареи версальцев выпустили по этому укреплению свыше восьми тысяч ядер и гранат. Делеклюз увидел бойцов Коммуны, обнаженных до пояса, с черными от порохового дыма грудью и руками. Он долго не мог уйти отсюда и, не обращая внимания на осыпавшие батарею пули, произнес горячую речь, рассказав бойцам о делах Коммуны, о том, что потеря фортов Исси и Ванв не так страшна: форты были разрушены еще пруссаками во время осады. Версальцам нечего гордиться этими успехами. Глядя на окружавших его национальных гвардейцев, которые сражались под градом снарядов, веря в победу, Делеклюз сам временами забывал о безнадежном положении Коммуны…
Между тем обстановка становится все тревожнее. Огонь версальских батарей сосредоточен теперь на ключевых участках крепостных стен. Снаряды методически разрушают укрепления у западных и южных ворот Парижа. Все говорит о том, что приближается день штурма.
19 мая Делеклюз отдает приказ начальнику инженерной службы полковнику Розели-Моле заложить мины у всех выдвинутых вперед ворот, у наиболее близких траншей врага. Опасаясь прорыва вражеских канонерок по реке Сене, он приказывает затопить баржи, груженные камнем. Делеклюз в этот день распорядился разместить на Монмартре наиболее мощные дальнобойные орудия.
20 мая генерал Ла Сесилиа, потерявший значительную часть своих бойцов, требует от Делеклюза разрешения оставить селение Пти-Ванв и отвести батальоны за городские стены. Делеклюз умоляет его держаться до последней возможности и в крайнем случае отступать только после сожжения Ванв. Он пишет генералу: «Я ни в какой мере не солдат и не собираюсь давать вам уроки, но я повторяю, что ваше отступление в пределы Парижа будет иметь катастрофические последствия. Добейтесь чуда, если надо, но спасите позиции. Может быть, вам следует перейти к Гранж-Ори, защита которого окажется более успешной?.. Коммуна целиком полагается па вас».
Делеклюз сразу отправляет приказ Врублевскому направить две тысячи бойцов на помощь Ла Сесилиа. Он с отчаянием говорит членам Комитета общественного спасения:
— Ни за что в мире я не хотел бы увидеть одну из наших армий, вернувшейся в Париж с оставленных позиций… Если те, кто там есть, устоят, то все еще может быть спасено. Что можно поделать с этой злосчастной системой распыления сил? Все требуют людей, артиллерии, а у нас их нет. Это ужасно. Хорошо еще, что Домбровский и Врублевский держатся, несмотря на жестокий огонь!
В тот же день Делеклюз долго занимается делами артиллерии. Здесь снова надо менять руководителей, урегулировать конфликты, наводить порядок. Делеклюз уже несколько ночей не был дома. Сегодня он опять остается в своем служебном кабинете на улице Сен-Доминик.
21 мая положение еще более ухудшается. Ла Сесилиа сообщает, что его войска отступают. Тревожные донесения присылает полковник Лисбон. Особенно отчаянные призывы шлет с самого утра Домбровский, защищающий западную линию фронта. Он сообщает, что значительная часть крепостных стен никем не охраняется, что посылаемые им батальоны возвращаются в полном расстройстве. Он просит подкреплений. Вскоре он сообщает Делеклюзу, что решил оставить свои позиции. Передавая сообщение в Комитет общественного спасения, Делеклюз пишет: «Это немыслимо. Я возражаю против этого отступления, которое будет иметь гибельные последствия со всех точек зрения. Надо, чтобы вы направили ему энергичный приказ удерживать позиции. Мы посылаем Домбровскому передвижную батарею и все, что у нас осталось из артиллерии».
В этом же письме Делеклюз требует от комитета усилить свою деятельность по мобилизации всех сил: «Действуйте в городских округах сами и побуждайте действовать членов Коммуны. Настал момент высшей опасности! Побольше мужества, энергии и особенно поддерживайте дисциплину. Если Домбровский будет настаивать на своем, я его арестую».
Но от Домбровского никаких известий больше не поступает. Зато непрерывно следуют отовсюду требования подкреплений и артиллерии. А у Делеклюза ничего нет. Вся надежда на то, что Комитет общественного спасения и члены Коммуны мобилизуют людей внутри Парижа. Однако они в это время спокойно занимаются рассмотрением дела генерала Клюзере. Приходит сообщение от Врублевского, с южного участка фронта. Ему Делеклюз дал распоряжение отступить в Париж. Его силы можно было бросить туда, где возникла главная опасность, на участок Домбровского. И вот Врублевский неожиданно сообщает, что он отказывается отступать. Он, кроме того, требует подкреплений. Каждый командующий думает только о своем участке фронта. Делеклюз, таким образом, не имеет возможности даже перебросить силы с одного участка фронта на другой.
Впрочем, Делеклюз за десять дней пребывания в военном министерстве мог бы уже привыкнуть к царящей вокруг анархии. От Домбровского по-прежнему нет никаких сообщений. Делеклюз, конечно, не мог знать, что в этот момент Домбровский ждал ответа на письмо, направленное им командующему прусскими войсками: «Будучи тяжело контуженным, — писал он, — обращаюсь к вам с вопросом, могу ли я в случае, если пожелаю оставить Париж так, чтобы не попасть в руки версальцев, рассчитывать на то, что Вы разрешите мне явиться в Сен-Дени со своим штабом и следовать далее в Бельгию». Ответа не поступило.
В три часа дня 21 мая версальские войска вошли через никем не охраняемые ворота Сен-Клу в Париж. Делеклюз не знал об этом до 7 часов вечера, когда он наконец получил такое сообщение от Домбровского: «Мои предположения осуществились. Версальская армия в четыре часа дня вступила в ворота Сен-Клу. Я собираю свои силы, чтобы атаковать их. Я надеюсь отбросить их за линию городской стены с помощью имеющихся у меня людей; пришлите мне, однако, подкрепления. Это опасное событие не должно нас обескураживать. Сохраним прежде всего хладнокровие; ничего еще не потеряно. Если же, как это ни невероятно, версальцы сохранят захваченную территорию, мы взорвем наши мины и будем держать их на расстоянии от нашей второй линии обороны, опирающейся на виадук Отей. Сохраним спокойствие, и все будет спасено; мы не можем быть побеждены. Домбровский».
Если бы Делеклюз мог знать, что в это время Домбровский при всем желании уже не мог собрать своих сил и тем более атаковать версальцев. В город, не встречая сопротивления, вступило около двадцати тысяч солдат. Но Делеклюз ничего не знает об этом. Сообщение Домбровского как будто не содержит в себе ничего тревожного. Делеклюз срочно запрашивает наблюдательный пункт на Триумфальной арке. Оттуда сообщают, что они не заметили ничего. Комендант района Пуэн дю Жур также дает успокоительные сведения. Наконец, Делеклюз посылает отряд в сопровождении офицера штаба, которому поручено на месте выяснить обстановку. Тем временем Делеклюз составляет официальное сообщение: «Обсерватория Триумфальной арки опровергает сообщение, что версальцы вступили в Париж… Комендант секции утверждает, что это пустая паника и что ворота не взяты…»
Делеклюз так хочет этому верить. К несчастью, он получает все новые и новые известия, подтверждающие наихудшие опасения. Около двух часов ночи является Домбровский. Он контужен камнем в грудь, бледен, растерян. Сбивчиво рассказывает он о неудаче всех попыток организовать сопротивление версальцам. Хотя его никто и ни в чем не обвиняет, он с выражением искреннего отчаяния восклицает:
— Как! Комитет общественного спасения принимает меня за изменника! Моя жизнь принадлежит Коммуне!
Домбровский не имеет никакого плана действий, как и другие генералы Коммуны. Поведение совета Коммуны парализует всякую возможность организации в масштабе всего Парижа обороны города. Коммуна, выслушав сообщение о вторжении версальцев, не приняла никакого решения. Более того, члены Коммуны договорились, что каждый пойдет в свой округ и будет там обособленно от других организовывать оборону.
Комитет общественного спасения повел себя еще хуже. Бийоре, который сообщил совету Коммуны о вторжении, заверил, что комитет «на страже». Фактически же комитет не сделал ничего; он предоставил все решать военному делегату Делеклюзу, признав, что сам не в состоянии быть руководящим центром сопротивления. Военная комиссия Коммуны обнаружила полнейшую растерянность. Ее члены лишь озабоченно рассматривали в кабинете Делеклюза карту Парижа и вспоминали взятие Бастилии, эпизоды баррикадных боев в 1848 году.
Наконец, Центральный комитет Национальной гвардии, с такой надменностью требовавший власти, предложил обратиться к версальским солдатам с призывом брататься с народом. Он выдвинул не план организации военных действий, а идею соглашения с правительством Тьера о перемирии и об одновременном роспуске Национального собрания и Коммуны и проведении новых выборов. Версальское правительство вообще не обратило внимания на предложения ЦК, которые были расклеены на всех стенах и лишь деморализовывали ряды защитников Коммуны.
Правда, генерал Врублевский предложил превратить в центр обороны города южную окраину Парижа, где он еще удерживал последние форты. Но это значило просто отдать версальцам весь Париж и особенно колыбель Коммуны, пролетарские районы города, которые только и могли быть главной опорной базой оборонительных боев.
Делеклюз в состоянии полного отчаяния сидел в своем кабинете и лихорадочно обдумывал способы борьбы. Разве мог он за несколько часов сделать то, что не сделали за несколько недель? Он знал, что у Коммуны не более 20 тысяч бойцов против 120 тысяч версальцев! К тому же сконцентрировать все силы в один кулак просто невозможно; национальные гвардейцы хотели сражаться только в своих родных кварталах. План постройки продуманной системы баррикад не был выполнен. Что же делать в таких условиях? Делеклюз решил, что нет другого выхода, кроме пробуждения инициативы у каждого защитника Коммуны, нет другой выполнимой тактики, кроме своего рода партизанской войны, создания повсюду очагов сопротивления. В конце концов после совещания с членами Комитета общественного спасения он написал текст обращения, который, кроме него, подписали Арно, Эд, Гамбон и Ранвье. Вот этот печально знаменитый документ, возлагавший все надежды и всю ответственность за судьбу Коммуны на плечи рядовых коммунаров:
«Народу Парижа,
Национальной гвардии.
Граждане,
Довольно милитаризма, довольно штабных военных с нашивками и позолотой на всех швах! Место народу, бойцам с голыми руками! Пробил час революционной войны. Народ ничего не понимает в искусных маневрах, но, имея ружья в руках и мостовую под ногами, он не боится никаких стратегов монархической школы.
К оружию! Граждане, к оружию! Вы знаете, что речь идет о том, чтобы победить или попасть в безжалостные руки версальских реакционеров и клерикалов, этих негодяев, которые предали Францию пруссакам и хотят заставить нас расплачиваться за их измену!
Если вы хотите, чтобы не пропала даром благородная кровь, которая шесть недель льется, как вода, если хотите жить свободно в свободной Франции, если хотите избавить ваших детей от своих горестей и от своей нищеты, то поднимитесь, как один человек; и перед вашим грозным сопротивлением враг, который льстит себя надеждой вернуть вас под ярмо, со стыдом увидит, что бесполезно пятнал себя в течение двух месяцев ненужными преступлениями.
Граждане, ваши представители будут бороться и умрут вместе с вами, если это понадобится. Но во имя славной Франции, матери всех народных революций, бывшей всегда очагом идей справедливости и солидарности, которые должны стать и станут законами всего мира, идите на врага, и пусть ваша революционная энергия покажет ему, что можно продать Париж, но ни взять, ни победить его невозможно.
Коммуна полагается на вас, положитесь и вы на Коммуну!»
Большинство историков Коммуны считают это воззвание ошибочным и лишь ускорившим гибель Коммуны. Так, Луи Дюбрейль вслед за Лиссагаре пишет, что «этим была совершена последняя и непоправимая ошибка. Делеклюз одним росчерком пера уничтожил все то, что еще сохранилось у солдат революции в смысле дисциплины и взаимной связи. Он отменял вместе с дисциплиной и всякий общий план действия».
Нельзя не согласиться с тем, что воззвание Делеклюза, особенно его первые фразы, действительно могло оказать отрицательное влияние на дисциплинированность коммунаров. Однако безоговорочное осуждение лишь Делеклюза все же не может считаться справедливым. Ведь в этом воззвании точно воплощалась фактически линия, намеченная Коммуной и Комитетом общественного спасения. Ведь никто не предложил ничего другого. Да и была ли возможна иная тактика? Ведь военная организация Коммуны уже была развалена. Ведь западные ворота и укрепления были брошены. Когда версальцы вошли в ворота Сен-Клу, то их даже не встретили обычным окликом: «Кто идет?» Нет, Делеклюз, человек гражданский, просто не мог ничего сделать там, где до него потерпели фиаско профессиональные военные деятели Коммуны, ее лучшие генералы, не говоря уже о Клюзере и Росселе. К тому же Делеклюз сумел пробудить дух инициативы, массовый, хотя и неорганизованный героизм рядовых бойцов. Вот интересное свидетельство врага, содержащееся в документах так называемой комиссии по расследованию причин и характера восстания 18 марта, созданной правительством Тьера: «Число сторонников Коммуны, сторонников активных, которые сражались, было значительно больше в ее последние дни, чем в первые».
IX
За несколько дней до вступления версальцев в Париж Делеклюз писал своей сестре Аземии: «Моя дорогая сестра, вопреки моему желанию мне так и не удалось попасть домой ни вчера, ни сегодня. Ты знаешь о происходящих событиях, и ты понимаешь, что в подобных обстоятельствах я не могу оставить мой пост. Будь спокойна, все кончится хорошо, я тебе это обещаю. Будь сильной и мужественной, какой ты была всегда, и пройдет немного времени, и мы сможем зажить спокойно вместе. Я не буду больше занимать никаких постов и вернусь к журналистике. Я не могу особенно пожаловаться на свое здоровье, несмотря па усталость из-за почти полного отсутствия сна. Извини меня, что я не могу подробнее писать тебе, ибо я завален множеством дел и вынужден кончать письмо. Твой преданный и любящий брат. Ш. Делеклюз».
Начиная с вечера 21 мая Делеклюз уже не может и думать о том, чтобы навестить сестру или хотя бы на несколько часов сомкнуть глаза. Непрерывно приходят офицеры Национальной гвардии и приносят печальные вести. Версальцы почти не встречают сопротивления. Все требуют указаний и подкреплений, людей и пушек. Делеклюз непрерывно подписывает приказы. Его кабинет превращается в единственный организующий центр борьбы. Совет Коммуны и Комитет общественного спасения как бы перестают существовать. Делеклюз принимает решение направлять все силы на запад, на участок Домбровского, где версальцы захватывают квартал за кварталом. Эти районы населены наиболее состоятельными людьми. Там нет рабочих. Поэтому версальские генералы спокойно занимают улицу за улицей. Несколько отрядов, направленных в Пасси, возвращаются в полном беспорядке. Второй объект забот Делеклюза — Монмартр. Это наиболее высокая точка Парижа. Там стоят пушки, которые могли бы держать под своим огнем любой пункт справа от Сены. Делеклюз направляет туда Ла Сесилиа, потом Домбровского, всех, кого можно.
Подойдя к окну своего кабинета, Делеклюз вглядывается в непроглядную темноту. Артиллерийская канонада затихла; ведь версальцы уже заняли все укрепления на западе Парижа. Артиллерия коммунаров молчит. К тому же невозможно понять, где свои, а где враг. Видя растерянность, замешательство, множество случаев дезертирства, Делеклюз с тревогой пытается представить себе, каким же образом можно спасти Коммуну? И он, оказавшись во главе расстроенного войска коммунаров, не видит впереди ничего определенного. Все сразу невероятно осложнилось, превратившись в неописуемый хаос. Кажется, наступает последний, решительный бой. Делеклюз вспоминает, как накануне отъезда во Францию из Брюсселя в августе прошлого года он разговаривал с группой друзей о будущем Франции. Некоторые из них высказывали радостные надежды на установление республики, которую возглавят левые республиканцы, находившиеся тогда в Париже, такие, как Жюль Ферри, Леон Гамбетта, Жюль Симон. Делеклюз поразил всех тогда мрачным предсказанием:
— Да, я думаю, что республика скоро возникнет, но она попадет в руки нынешней республиканской левой, которую затем сменит реакция. Что касается меня, то я умру на баррикадах в то время, как Жюль Симон будет министром!
Жюль Симон, этот и раньше внушавший ему сомнения республиканец, сейчас и в самом деле министр правительства Тьера. Неужели и другая часть предсказания Делеклюза оправдается?
Но раздумывать некогда. Необходимо решить, где будет находиться центр сопротивления. Военное министерство не очень подходит для этого. Оно уязвимо для врага, а главное — революционный народ привык к тому, что сердце революции — в Ратуше. Туда и решает перебраться Делеклюз. К тому же надо объединить в одно целое то, что осталось от Коммуны, от Комитета общественного спасения и ЦК Национальной гвардии. В пять часов утра Делеклюз и его штаб оставляют здание на улице Сен-Доминик. Проходя по помещениям министерства, Делеклюз замечает на креслах и столах несколько брошенных мундиров, отпоротых золотых галунов. Кто-то говорит ему, что нашлись такие, кто уже пытается изменить свою внешность, сбривая бороды и усы. Да, настает момент, когда каждый покажет, чего он стоит и насколько сильна его преданность Коммуне.
Выйдя на улицу, Делеклюз увидел Брюнеля. Этот бывший офицер приобрел известность еще во время памятной всем вылазки и сражения у Бюзенвале. Он участвовал в неудачном сражении у форта Исси, и его батальон отступил. Он сам потребовал тогда, чтобы его арестовали. Сейчас он готов служить Коммуне. Делеклюз поручает ему защиту площади Согласия. Наряду с районом Круа-Руж на левом берегу, где обороной руководит Варлен, южными фортами Врублевского, батареи баррикады Брюнеля станут одним из наиболее надежных пунктов обороны.
Гудит набат, грохочут барабаны. Объявлен всеобщий сбор. Делеклюзу сообщают, что собралось меньше четырех тысяч человек. 10 мая, когда Россель попытался собрать на площади Согласия национальных гвардейцев, пришло семь тысяч. И даже в тогдашних, более благоприятных условиях полковник объявил невозможным что-либо предпринять с таким количеством людей. Что же можно сделать сейчас, с четырьмя тысячами, когда почти треть города уже захвачена врагом? Для эффективной обороны необходимо по крайней мере 20 тысяч бойцов с артиллерией. И все же Делеклюз распределяет пришедшие батальоны и направляет их в бой, на самые угрожаемые участки. Они идут без колебаний. У Коммуны мало защитников, но зато пришли те, кто не дрогнет и не отступит.
В Ратуше военный делегат занимает красный салон, тот самый, где 31 октября прошлого года Огюст Бланки уже начал управлять от имени эфемерного революционного правительства. С тех пор не прошло и года, но сколько пролетело событий! Их хватило бы на много десятков лет обычного хода истории. Сколько было побед, но еще больше упущенных возможностей!
Делеклюз с нетерпением ждет вестей с Монмартра. Сейчас, утром 22 мая, самое подходящее время, чтобы множество пушек, стоящих на вершине холма, открыли огонь по версальцам, скопившимся в особенно большом количестве у Трокадеро. На Монмартре Действует генерал Ла Сесилиа. Туда же отправился освобожденный вчера Клюзере, который обещал ввести в дело орудия крупного калибра. Подступы к Монмартру, в Батиньоле защищают гвардейцы под командованием Бенуа Малона. Наконец в девять часов утра прогремел первый залп. Но огонь сразу же прекратился. В невообразимом беспорядке на вершине холма находилось около сотни орудий. Для многих из них не было снарядов. Когда дали первый залп из нескольких пушек, их неукрепленные лафеты сразу вошли в землю, и, беспомощно задрав свои жерла к небу, орудия замолчали. Клюзере вскоре скрылся. Изменником оказался артиллерийский командир Файон. А множество пушек в районе Марсова поля уже попали в руки врага. Артиллерийский комитет, окончательно запутавшись, перестал существовать.
Делеклюз посылает приказ за приказом, пытаясь помочь Монмартру. Но какая часть этих приказов выполняется? Судя по ходу дела, очень небольшая. Войска маршала Мак-Магона готовят наступление на Монмартр. Повсюду на пути версальцев строят баррикады. Их очень много и воздвигают их без всякого порядка. Чаще всего это просто груда камней в рост человека с красным знаменем наверху. Баррикады обходят сзади, окружают, они возникают снова. Разгорается жестокий, беспорядочный бой.
В 11 часов утра 22 мая в Ратуше началось заседание Коммуны. Явилось только около 20 ее членов из 80. Это было бесплодное заседание, участники которого лишь обменялись страшными новостями. Многие члены Коммуны уже исчезли. С удивлением Делеклюз увидел, что Феликс Пиа пока не сбежал; он под занавес решил произнести еще одну театральную речь:
— Ну что ж, друзья! Пришел наш последний час. О, для меня это неважно. Мои волосы белы, моя карьера окончена. На какую более славную смерть я мог надеяться, чем смерть на баррикадах!
Через несколько часов этот комедиант уже спрятался в заранее подготовленном убежище. На заседании решили, что в Ратуше останутся военный делегат, Комитет общественного спасения и военная комиссия. Члены Коммуны разойдутся по округам, чтобы организовать сопротивление.
Наступает вечер понедельника 22 мая. Бои затихают. Обстановка как-то прояснилась. Вчера в это время многие ожидали немедленной катастрофы. Но ее не произошло. Несмотря на огромное численное превосходство, версальцы продвигаются медленно. Ясно, что коммунары не поддались панике, что они решили драться до конца. Ратуша и площадь перед ней напоминают обстановку 18 марта. Повсюду вооруженные гвардейцы. Но какая разница! Теперь среди них немало раненых с окровавленными повязками. Тогда была радость, надежда, энтузиазм. Теперь — суровая решимость сражаться и идти в бой. Вторая боевая ночь опускается на город. Первый большой пожар. Горит министерство финансов, подожженное версальскими снарядами. Коммунары обнаруживают, что пожары могут оказаться преградой на пути наступающего врага. Об этом говорят Делеклюзу. Ему предстоит решить тяжелый вопрос: можно ли поджигать Париж? Снова бессонная ночь, наполненная короткими совещаниями, спорами, новыми тревожными сообщениями.
Уже в четыре утра 23 мая войска маршала Мак-Магона начинают штурм высот Монмартра. Тридцать тысяч солдат идут в наступление. Защитников Монмартра во много раз меньше. Вскоре место, которое считалось крепостью Коммуны, в руках врага. Теперь на вершине холма устанавливают пушки, открывающие вскоре огонь против коммунаров.
Но на левом берегу упорно держатся отряды под командой Варлена и Врублевского. Их стойкость как бы смягчает удар, который ощутили все в Ратуше, узнав о падении Монмартра. Делеклюзу рассказывают о массовых расстрелах версальцами коммунаров и просто мирных жителей на улице Розье и в парке Монсо. Вечером в Ратушу приносят смертельно раненного Домбровского. Бои приобретают небывало ожесточенный характер. Делеклюз подписывает приказы, позволяющие командирам проводить реквизиции продовольствия и всего необходимого. Он приказывает также поджигать здания, расположенные в районе боев, если это необходимо для обороны.
— Пусть Париж превратится в Москву, лишь бы он не стал Седаном, — заявляет военный делегат Коммуны.
Делеклюз совершенно изнурен, он совсем потерял голос. Он сидит в своем кабинете, охраняемом у дверей двумя часовыми. В кабинете тихо. Бледный, как призрак, Делеклюз пишет. Два офицера, стоящих у стола, прикладывают печати и отправляют приказы на баррикады. Сейчас воля, власть, авторитет Коммуны воплощает в себе этот измученный и слабый старик, решивший держаться любой ценой. С наступлением ночи перед глазами Делеклюза предстает ужасающая картина горящего Парижа. Пылают Тюильри, дворец Почетного легиона, государственный совет, многие здания на левом берегу.
Ранним утром 24 мая яростные бои возобновляются. Версальцы наступают по всем направлениям. Брюнелю, который еще держится около площади Согласия, грозит окружение. Делеклюз приказывает ему отступать. С утра в Ратуше появляются несколько членов Коммуны. К Делеклюзу заходит Шарль Беле. Он ревностно защищал от Коммуны Французский банк и его сокровища. Теперь он озабочен судьбой дворцов и требует от Делеклюза объяснения, на каком основании их поджигают. Военный делегат отвечает еле слышным, но твердым голосом:
— Согласно приказу следует поджигать здания в том случае, если огонь будет способствовать обороне от врага. Это неизбежная военная мера. Я отдал приказ о поджоге домов, смежных с баррикадами. Других приказаний не было.
Затем оставшиеся члены Коммуны — а их теперь всего 15 человек — собираются на свое последнее заседание в Ратуше. Большинство из них считает, что надо перебраться в восточные районы, что Ратуша должна быть оставлена. Делеклюз возражает. Он указывает на возможность обороны здания. С одной стороны Сена, а с другой — узкие улочки, которые можно забаррикадировать. Штаб революции еще можно удержать. Делеклюз особенно подчеркивает моральный ущерб потери Ратуши, влияние ухода на боевой дух защитников Коммуны. Однако ему не удается убедить своих товарищей. Коменданту приказано подготовить все к эвакуации и поджечь затем здание. Делеклюз вместе с главным штабом, оставшимися службами Коммуны, с несколькими сотнями бойцов Национальной гвардии по набережной двигаются к мэрии XI округа Парижа. Ратушу охватывает пламя. Поджигают префектуру полиции, Дворец юстиции.
К Бельвилю устремляются отступающие коммунары. Сюда идут остатки отрядов Варлена и Лисбона с левого берега Сены. Идут одинокие бойцы, измученные и озлобленные. Они уже видели, что делают версальцы с их товарищами, взятыми в плен. Каждый знает, что ему грозит. Ощущение неизбежности поражения, близкой гибели, возмущение зверствами версальцев — все эти чувства выливаются в мужество отчаяния, а порой в озлобление. Одной из его жертв оказался офицер генерального штаба Коммуны Бофор. Его подозревают в измене и хотят расстрелять. Делеклюз пытается предотвратить самосуд. Но слабый голос военного делегата заглушают гневные крики толпы. Бофора расстреливают.
Мэрия XI округа Парижа стала теперь штаб-квартирой Коммуны, вокруг которой толпятся остатки ее разбитых батальонов. Здесь, в зале библиотеки, в два часа дня собираются члены Коммуны, Центрального комитета, высшие командиры Национальной гвардии. В полном молчании они слушают Делеклюза. Полумертвый человек, каким-то чудом державшийся на ногах, говорил почти шепотом. С тем большим волнением воспринимали все его призыв к продолжению борьбы до последнего вздоха. У него хватало силы доказывать, что еще не все потеряно!
— Я предлагаю, чтобы члены Коммуны, опоясавшись своими шарфами, устроили на бульваре Вольтера смотр всем батальонам, которые можно собрать. Потом мы встанем во главе их и поведем на те пункты, которые нужно отбить назад!
Слова старика, сам физический облик которого как бы символизировал слабость и беспомощность, произвели огромное впечатление, и все разразились аплодисментами. Это одна из самых волнующих трагических сцен среди бесчисленных трагедий кровавой недели. Воодушевленные необычайной энергией и решимостью Делеклюза, его стойкостью, смелостью, зараженные революционным духом старого якобинца, руководители коммунаров отправляются организовывать оборону этого, еще не захваченного версальцами небольшого восточного клочка Парижа. Сам Делеклюз пошел проверить состояние последних сил коммунаров и постройку баррикад. Решено было укрепить подступы к площадям Шато д’О, Ротонд-ла-Виллет и Бастилии. Все требуют от Делеклюза людей и пушек, а он уже ничего и никому не обещает и даже часто не отвечает на просьбы. Он говорит только о том, что надо сражаться до конца.
В этот день совершилась казнь первой группы заложников. Делеклюз сам в начале апреля выдвинул идею декрета, который призван был сдержать ярость версальцев. Но теперь казнь служит лишь ответом на требования отмщения за бесчисленное множество жертв Коммуны, уступкой настроениям многих еще сражавшихся коммунаров. Когда в 11 часов вечера Делеклюзу доложили о казни, он лишь спросил, продолжая писать:
— Как они умирали?
Услышав рассказ, Делеклюз со вздохом сказал:
— Какая ужасная война! — И добавил: — Мы тоже сумеем умереть.
В ночь на 25 мая битва продолжалась. Батареи коммунаров на возвышенности Бют-Шомон отвечали на ураганный огонь версальских пушек. Вся западная половина неба превратилась в одно гигантское зарево пожара. С рассветом бои приобретают еще более яростный характер. Туманная погода придавала всему происходящему особенно мрачный колорит. Запах гари, пороха, грохот пушек и свист пуль, стоны раненых дополняли картину смерти и разрушения. Версальцы захватывали квартал за кварталом, дом за домом. Не успевали убирать трупы и переносить раненых. Но чем теснее сжималось смертельное кольцо, тем отчаяннее и бесстрашнее сопротивление коммунаров.
В полдень 25 мая в мэрии снова собрались 22 члена Коммуны и Центрального комитета. Член ЦК Арнольд рассказал о переговорах, которые вели с ним представители посольства США с целью достижения при посредничестве прусского командования соглашения о прекращении огня. Делеклюз и Вайян выступили против переговоров. Но большинство участников совещания настаивали на принятии предложения; они считали, что надо попытаться спасти жизнь еще оставшихся в живых коммунаров, что руководители Коммуны не вправе упустить шанс на их спасение.
Делеклюз уступил и вместе с Вайяном, Арнольдом и Верморелем направился к Венсеннским воротам для переговоров с немцами. Но здесь их остановили часовые Национальной гвардии. Они заподозрили измену и попытку бросить их на произвол судьбы.
— Мы знаем, что мы погибнем, — говорили часовые, — но и вы останетесь с нами!
Делеклюз был уязвлен в самое сердце подозрениями в том, что он и его товарищи способны на предательство, трусость и бегство. Он отказался ждать пропуска, за которым послали к делегату общественной безопасности Ферре, и вернулся в мэрию. Здесь его ждали двое старых друзей, которых он знал еще до Коммуны, во времена борьбы против империи Наполеона III. Они сказали ему, что хотят спасти его от гибели, которую считают неизбежной, что у них приготовлено надежное убежище для Делеклюза.
— Когда я принял участие в Коммуне, — отвечал он своим доброжелателям, — я решил пожертвовать ей остатком своей жизни. Я не хочу, чтобы обо мне говорили то, что скажут о тех, кто сумеет убежать. Я военный делегат и останусь верным общей судьбе солдат Коммуны. После всех несчастий, после неудачи всех усилий моя смерть будет для меня освобождением…
В мэрии появился наконец генерал Врублевский. Версальцы захватили и его позиции на юге Парижа, которые он защищал с такой храбростью и искусством. Делеклюз предложил ему главное командование. Но Врублевский, узнав, что в его распоряжении будет лишь около трехсот человек, отказался. Он заявил, что ему необходимо несколько тысяч решительных людей; иначе он предпочитает сражаться рядовым бойцом. Но Делеклюз все же сложил с себя обязанности военного делегата. Они были поручены Эжену Варлену.
Потом Делеклюз закрылся в одной из комнат мэрии и написал там письмо своему другу и сестре Аземии:
«Моя дорогая сестра!
Я не хочу и не могу служить жертвой и игрушкой торжествующей реакции. Прости, что умираю раньше тебя, которая пожертвовала для меня всей своей жизнью. Но после стольких поражений я не чувствую в себе мужества перенести это новое поражение. Я тысячу раз целую тебя, любимая. Воспоминание о тебе будет моей последней мыслью перед смертью. Благословляю тебя, моя горячо любимая сестра; ты одна, с момента смерти бедной матери, являлась для меня семьей. Прощай, прощай! Еще раз целую тебя. Твой брат, который будет любить тебя до последнего мгновения. Шарль Делеклюз».
Затем Делеклюз в сопровождении нескольких друзей вышел из мэрии. Он поразил всех выражением сурового спокойствия и решимости. Заметили также, что на этот раз он был особенно тщательно и строго одет. Его внешний вид резко контрастировал с грязной, измятой одеждой его товарищей. Он был чисто выбрит, в ослепительно белой рубашке, в застегнутом черном рединготе. На его поясе красный с золотыми кистями шарф члена Коммуны. Теперь ничто не свидетельствовало в нем ни об усталости, ни о болезни. Он шел впереди группы коммунаров по левой стороне бульвара Вольтера, как обычно, опираясь на трость.
По дороге они увидели, как на тележке везут тяжело раненного полковника Лисбона. Затем им встретились Тейс и Авриаль, ведущие раненого Вермореля. Они шли к баррикаде на площади Шато д’О, у которой уже почти не осталось защитников. Вокруг непрерывно свистели пули. Все старались здесь прижаться к стене. Делеклюз не замечал ничего. Он шагал мерным, неторопливым шагом. Когда до баррикады оставалось метров двадцать, друзья стали удерживать его. Он пожал им руки, но продолжал свой путь. Находившийся рядом Лиссагарэ вспоминает: «За площадь село солнце. Делеклюз, не обращая внимания, идет ли кто-нибудь за ним или нет, подвигается вперед своим обыкновенным шагом — единственный живой человек на этом месте бульвара Вольтера. Дойдя до баррикады, он повернул налево и пошел по мостовой. Последний раз его суровое лицо, окаймленное короткой белой бородой, взглянуло на нас и обратилось к смерти. Вдруг Делеклюз исчез. Он упал убитым наповал…
Он не предупредил никого — даже своих наиболее близких друзей. Молчаливый, доверяя только одной своей суровой совести, он шел на баррикаду, как старые монтаньяры шли на эшафот. Долгие дни жизни истощили его силы. Ему оставался один вздох жизни; он отдал его Коммуне. Он жил только для одной правды, она была его талантом, его наукой, путеводной звездой его жизни. Ее он призывал, ее он исповедовал 30 лет во время изгнания, тюрем, оскорблений, с презрением встречал преследования, которые разбили его тело. Его наградой было умереть за нее свободным, под прощальными лучами солнца, вовремя, не оскорбленным в последнюю минуту видом палача».
Несколько коммунаров пытались унести тело Делеклюза. Трое из них погибли при этом, и бойцов оставалось так мало, что товарищи Делеклюза только сжимали кулаки в бессильной ярости. Жоаннар, рабочий — член Коммуны, стоя с ружьем в руке и плача от гнева, кричал:
— Нет, вы не достойны защищать Коммуну!
Версальцы 27 мая обнаружили среди груды трупов мертвого Делеклюза. Его положили вместе с сотней других убитых коммунаров на ступенях перед входом в театр Дежазе, а затем перенесли в церковь Сент-Элизабет, напротив рынка Тампля. Потом тело Делеклюза бросили в общую могилу на Монмартрском кладбище. При этом версальский офицер приказал снять с ноги мертвого свинцовое опознавательное кольцо. Однако один из свидетелей вскоре посадил над погребенным акацию. Она и помогла в 1883 году разыскать останки Делеклюза, оказавшиеся в одном метре от выросшего дерева. Их перенесли на кладбище Пер-Лашез, где Делеклюз покоится и поныне.
Делеклюз умер так, как жил, — смело и благородно. Величественная смерть Делеклюза была логическим итогом его участия в Коммуне. Он до конца принял на себя все последствия своего политического выбора.
Даже если Делеклюз и не принадлежал к педантам старой революционной традиции 1793 года, якобинские взгляды составляли основу его мировоззрения. Но в период Коммуны он поднялся выше своих убеждений. Хотя Делеклюз и сочувствовал рабочему движению, он не был социалистом. Многие принципы других деятелей Коммуны, ее пролетарская, социалистическая природа были ему чужды. Его слабость заключалась в том, что он не был современником своей эпохи, ибо предпочитал скорее повторять старое, чем творить новое. Поэтому выдающийся якобинец и не смог стать Робеспьером Коммуны.
И все же он занял в ней исключительное, несравненное место, завоевал искреннее уважение, любовь всех сознательных коммунаров, их восторженное удивление его в полном смысле героическим подвигом. Примкнув к Коммуне под воздействием великого чувства справедливости, он понял ее историческую правоту и отдал Коммуне все. Как истинный представитель лучших якобинских традиций, он мог быть только с народом, только с Коммуной. И он стал воплощением ее совести и чести.
Он шел на смерть, намеренно погибая вместе с Коммуной. Но он сознавал, что гибнет не напрасно. Зная жизнь Делеклюза, можно не сомневаться, что в свои последние мгновенья он думал о прекрасном будущем человечества. Ведь разве не он, вернувшись с острова Дьявола на родину после многих лет изгнания, тюрьмы, ссылки, написал о своей судьбе прекрасные слова, которые могут послужить заключением нашего рассказа о жизни этого замечательного человека: «Бывший ссыльный Кайенны ни в чем не утратил ни ясности своей мысли, ни своей непоколебимой веры в будущее. Он хорошо знает, что старый мир осужден в тот день, когда среди грома и молний было провозглашено новое право, и он терпеливо ждет триумфа истины. Возможно, ему не будет дано дожить до этого прекрасного дня, но какое это имеет значение? Могут ли жаловаться на это те из нас, которые падут раньше, если до нас столько поколений угасло в нищете и рабстве, не видя даже проблеска надежды? Само счастье борьбы и страданий за Демократию служит для них лучшей наградой. И они могут умереть спокойно. Другие пожнут плоды того, что они посеяли».
ЭЖЕН ВАРЛЕН
I
Высокий худощавый подросток остановился на улице Прувер, задумчиво глядя на видневшуюся невдалеке громаду старой церкви святого Ефстафия. Лет четыреста назад эта узкая улочка считалась одной из самых красивых в Париже. Здесь среди множества мясных, овощных и винных лавок, пивных, маленьких мастерских, окружавших новые павильоны Центрального рынка, помещалась переплетная дядюшки Дюрю, у которого юный Эжен Варлен был учеником. После шумного скандала Дюрю прогнал пятнадцатилетнего племянника, оказавшегося, по его мнению, неблагодарным и ленивым.
В этот декабрьский день 1854 года, стоя с котомкой в руке, осыпаемый редкими хлопьями снега, Эжен чувствовал себя не очень-то уютно. Сырость уже проникла через дырявые подметки ветхих сапог, а куртка на плечах потемнела от мгновенно таявших снежинок.
Дядя, брат матери Эжена, вовсе не был злым человеком. Это он устроил его учеником к знакомому переплетчику. Навестив вскоре племянника и заметив, что учеников держат здесь впроголодь, он забрал Эжена в свою мастерскую. Более того, однажды, после воскресного обеда, дядюшка Дюрю, раскуривая трубку, торжественно объявил, что он сделает Эжена в будущем своим наследником, правда, при условии, если тот женится!
К удивлению и досаде старика, заманчивое предложение не вызвало у племянника никакой радости. Он отнесся к нему совершенно равнодушно. И хотя навыки и приемы переплетного мастерства Эжен осваивал очень быстро, дядюшка все чаще выражал свое недовольство. Что за вздорный характер был у старика! Малейшая оплошность ученика вызывала яростный взрыв гнева. Он мог часами раздраженно говорить о едва заметной неровности обреза или о лишней капле клея на корешке. Особенно его бесило, что племянник слишком часто отвлекался от работы и углублялся в чтение книг, которые ему надлежало лишь одеть в красивый переплет. Подумать только, его интересовало больше всего то, до чего настоящему переплетчику нет никакого дела: содержание книг! По твердому убеждению дяди, так мог поступать только очень ленивый или никчемный человек. А сегодняшний случай оказался каплей, переполнившей неглубокую чашу терпения старого мастера. Когда Эжен, сшив и обрезав листы очередной книги, должен был их проклеить, он мельком заглянул в текст. Там речь шла о французском народе. Знаменитый историк Мишле писал так убедительно и красиво, что Эжен, продолжая работу, несколько, часов мучился искушением, а потом вдруг вынул из-под пресса не совсем просохшую книгу и принялся жадно читать. За этим делом его и застал дядя…
Юноша не стал спорить, оправдываться или просить прощения. Когда хозяин, наконец переведя дух, сурово заявил племяннику, чтобы он отправлялся к родителям, Эжен молча собрал свое жалкое имущество, состоявшее из пары белья, носков, клубка ниток с иголкой и нескольких книг, поклонился дяде и пошел прочь. И вот сейчас, остановившись на минуту, он подумал, а не отправиться ли ему и в самом деле домой.
Деревня Вуазен, где 5 октября 1839 года родился Эжен Варлен, была недалеко от Парижа. Даже пешком он дошел бы туда за несколько часов. А там, в маленьком домике из трех комнат, у очага, наверное, собралась в этот ненастный день вся его семья: отец Эме Варлен, который имел возможность отдохнуть только в зимние дни, ласковая мать, два младших брата и сестра. Они, конечно, встретят его с радостью; все в семье так любят Эжена, спокойного, трудолюбивого и очень доброго мальчика. Но в душе отец наверняка будет огорчен. Сколько сил положил этот бедный крестьянин, владевший лишь маленьким виноградником да небольшим клочком земли для огорода, чтобы его дети кончили хотя бы сельскую школу! Прокормить семью нелегко, и бедняк брался за любую работу, от зари до зари гнул спину на чужих полях и виноградниках. Он мечтал о лучшей доле для своих детей. Особенно он надеялся на Эжена. Отец гордился старшим сыном, которого часто хвалил деревенский учитель Барон.
Но нет, Эжен не вернется в деревню, хотя тяжкий труд и голодная жизнь его совсем не пугали. Он мечтал о каком-то ином, своем пути, который пока был ему самому неясен, но который безотчетно привлекал его. Начать другую жизнь Эжен решил еще до злосчастного разрыва с дядей и даже подготовился к ней; ему обещали угол в доме на улице Фонтэн-о-Руа. Туда, к Бельвилю, и зашагал уверенно 15-летний Варлен. И мог ли думать мастер Ипполит Дюрю, так хорошо переплетавший книги и так плохо разбиравшийся в людях, что племянник, возмутивший его своей ленью, окажется редким воплощением беспредельного трудолюбия?
Эжен сразу же находит себе работу, а вскоре он уже не ученик; сделанные им книги не хуже, чем у самых опытных переплетчиков. Чтобы как следует изучить ремесло, он работает в разных мастерских и в каждой из них осваивает особые секреты и приемы мастерства.
Через четыре года после ухода от своего дяди Эжен уже старший мастер в одной из лучших мастерских, выполнявшей заказы императорского двора. По иронии судьбы будущий революционер облачает в сафьян книги для злейшего врага революции императора Наполеона III.
Переплетной фирмой, где двадцатилетний Варлен завоевал прочное и солидное положение, владела цветущая вдова, мадам Деньер. Она весьма благосклонно посматривала на энергичного, сдержанного и искусного старшего мастера. Он уже не мальчик, а мужчина с темными глазами, светившимися энергией, добротой и решимостью. Его широкий светлый лоб обрамляют густые темные волосы, он высок и строен, хотя начинает немного сутулиться. Товарищи Эжена не раз полушутя говорили, что стоит ему только захотеть, и он может стать мужем весьма расположенной к нему хозяйки, а значит, и владельцем солидного заведения. Поистине можно было позавидовать столь благосклонной судьбе, если бы этот, по общему мнению, столь славный парень не был каким-то непонятным, крайне непрактичным чудаком. Он никогда не стремился к личной выгоде и убивал время на совершенно бесполезные затеи.
Варлен не пьет и не курит, довольствуется самой простой пищей: сыром, хлебом и молоком; нет у него и любовных связей. Когда его товарищи, измученные двенадцатичасовой работой, пропустив стаканчик-другой, погружаются в беспробудный сон, Эжен ночами сидит над книгами. Жажда знаний, страсть к учебе пробуждает в нем поистине всепобеждающую энергию, вызывавшую восхищение преподавателей бесплатных курсов для рабочих, которые в 1861 году окончил Варлен. На торжественной церемонии, устроенной в императорском цирке, ему вручают награды за успехи в геометрии, счетоводстве и французском языке. С какой простодушной радостью перелистывал Эжен оказавшуюся среди наград великолепную книгу «Шедевры Шекспира», в которой английские оригиналы были напечатаны вместе с французскими переводами! Варлен чуток по всему прекрасному в жизни и искусстве. Смущенно отказываясь от приглашений своих коллег-рабочих посидеть в дружеской компании, он устремляется в музеи, которыми уже тогда славился Париж. Особенно большое наслаждение ему доставляет музыка. Не жалея времени, Варлен штудирует цифровую систему нотной записи. У него прекрасный бас, и он поет в любительском хоре.
Молодой Варлен обладает упорством и усидчивостью, но поэтому-то у него совершенно нет времени. Чтобы иметь его побольше и распорядиться им по-своему, он стремится брать работу на дом, а для этого надо как-то основательнее устроиться с жильем, покончив со скитанием по углам. И как только ему удалось заработать немного денег, он находит на улице Дофин, на левом берегу Сены, невдалеке от Сорбонны, комнатку под самой крышей за 150 франков в год. Эжен обзаводится собственной мебелью; ведь хозяин сдал ему голые стены. Он покупает стол, кровать, два стула, комод, матрас. Это обошлось ему в 90 франков. Комната оказалась тем более необходимой, что Эжен решил поселить у себя младшего брата Луи, которому в это время, в 1862 году, исполнилось тринадцать лет. Малгчик был калекой: однажды на сенокосе его случайно поранили вилами, и он остался частично парализованным. Братья делят одну кровать на двоих. Впрочем, чаще всего младший брат ложится один, а Эжен, прикрутив лампу, еще долго сидит с книгой, нарушая тишину лишь шелестом страниц и легким скрипом пера. Нередко он засыпает уже при свете наступающего дня. Вздремнув два-три часа, Эжен энергично подымается и, наскоро выпив чашку кофе, как правило без сахара и молока, взваливает на плечи связки готовых книг, и несет их к заказчику, и возвращается с новой кипой еще не переплетенных книжных листков. Он дорожит каждой секундой, мечтая о тех минутах, когда снова сможет не переплетать, а читать книги. Но приходится еще и помогать младшему брату. Вместе они изучают латынь. В каморке Варлена появляется латинист. Это Жюль Андрие, сын профессора, мелкий чиновник из Ратуши. Учитель и ученик вскоре стали друзьями. Жюль подолгу засиживается у Варлена, ведя нескончаемые беседы и споры, в которых обнаруживалась явная общность многих взглядов и суждений молодых людей. Не случайно Жюль Андрие в будущем — член Коммуны…
Чем больше знаний приобретал Эжен, чем шире становился его духовный горизонт, тем все сильнее его волнуют иные, самые коренные и жизненные вопросы. Он, конечно, уже давно понял, что мир устроен жестоко и несправедливо. Еще в своей родной деревне он видел, как восьмилетние малыши отправляются работать на фабрику гобеленов за несколько жалких су в день. Тяжкая трудовая жизнь отца и ему подобных бедняков не могла не заставить его задуматься, когда он сравнивал ее с богатством и роскошью немногих привилегированных. В Париже сложная и противоречивая действительность предстала перед ним в еще более резком свете. Переплетная мастерская, в которой двадцатилетний Варлен был старшим мастером, находилась на улице Эшель, рядом с Тюильри — дворцом императора. Однажды, направляясь в мастерскую, Эжен заметил, что экипажи поспешно уступают кому-то дорогу. Показалась группа конных гвардейцев в блестящих касках и ярких мундирах. За ними двигалось покрытое черным лаком ландо, в котором сидел император. Одетый в черный, наглухо застегнутый сюртук, в высоком блестящем шелковом цилиндре, надетом немного набекрень, Наполеон III выглядел мрачно и явно театрально. Когда кортеж приблизился, он почти вплотную увидел длинные, расходящиеся горизонтально нафабренные усы, которые скрывали вялый рот, тяжелые веки прикрывали желто-серые, тусклые, мутные глаза. Резко торчал костистый горбатый нос. Болезненная одутловатость придавала властелину утомленный, измученный вид.
Сама по себе эта картина мало о чем говорила. Но Варлен уже имел представление о том, кого он видел. Он читал знаменитый памфлет Виктора Гюго «Наполеон малый», знал наизусть многие строки его запрещенной поэмы «Возмездие», клеймившей позором коронованного авантюриста. В отличие от многих Варлен не страдал бонапартистскими иллюзиями и испытывал глубокую неприязнь к режиму империи. Еще в детстве, слушая рассказы своего деда, свидетеля и скромного участника событий Великой французской революции, Эжен стал восхищаться республиканцами.
В столице Варлен увидел наглую вакханалию разбогатевших банкиров, капиталистов, сановников империи, жадно спешивших воспользоваться всем, чем им удалось поживиться. Беспощадное подавление малейших стремлений к свободе и демократии сопровождалось циничной демагогией и заигрыванием то с одной, то с другой частью нации. Сначала Луи Бонапарт объявил себя императором крестьян, затем, испугавшись оживления рабочего движения, он пытается с помощью показных жестов и отдельных уступок приобрести репутацию императора рабочих. Впрочем, будучи в Алжире, он объявил себя императором арабов! Империя лавировала, служа лишь капиталу и питая ненависть к рабочему классу. Ничтожный племянник помнил слова своего великого дяди, который говорил, что восстания голодных рабочих он боится больше, чем сражения с 200-тысячной армией. Поэтому Луи Бонапарт горячо поддержал проект барона Османа перестроить Париж так, чтобы в случае опасности можно было легче расправиться с восставшими. Старинные узкие улочки, столь удобные для баррикад, заменялись широкими прямыми проспектами, удобными для действий артиллерии. Перестройка Парижа сопровождалась небывалым усилением спекуляции. Темные махинации с земельными участками, домами приносили ловким дельцам миллионы. Французский капитализм, воплощаясь в новых банках, заводах, железных дорогах, никогда еще не имел столь благодатных возможностей проявить до конца свою хищническую натуру. Азарт наживы, страсть буржуазии к богатству, к наслаждению, шаткость империи создавали какую-то безумную атмосферу болезненного стремления привилегированных жить так, как будто каждый день последний в их жизни. «Империя, — писал Эмиль Золя, — намеревалась превратить Париж в европейский притон. Горсточке авантюристов, укравших трон, нужно выло царствование, полное авантюр, темных дел, продажных убеждении и продажных женщин, всеобщего дикого пьянства. И в городе, где еще не высохла кровь декабрьского переворота, росла, пока еще робкая, жажда безумных наслаждений, которая должна была превратить родину в палату для буйных помешанных — достойное место для прогнивших и обесчещенных наций».
Но ведь честь Франции, слава богу, никогда не зависела и не зависит от ее правителей и разбогатевшей буржуазной верхушки. Вопреки всему народ сохраняет здоровый дух и достоинство нации. А ее лучшей и все более многочисленной частью становился рабочий класс. В Париже было уже полмиллиона рабочих, когда Варлен стал одним из них. Парижский пролетариат не составлял однородной и тем более хоть как-то организованной массы. Больших промышленных предприятий еще мало, преобладают мелкие, полукустарные мастерские вроде тех переплетных, в которых работал Варлен. Большинство рабочих — ремесленники. Жителям деревни могло показаться, что рабочие живут лучше, чем они. Еще бы, рабочий может заработать пять, а то и десять франков в день, а это большие деньги для крестьянина. Но это иллюзия, и каждому, кто, подобно Вардену, покидал деревню и становился городским тружеником, быстро приходилось расставаться с ней. Рабочему приходилось платить за свое нищенское жилище; из-за перестройки Парижа квартирная плата быстро росла. Если земля вознаграждает крестьянина за его труп хотя бы пропитанием, то рабочий должен за все платить втридорога. И нет никаких законов, которые защищали бы его от произвола хозяев, от грабежа торговцев, от жадности домовладельцев. Хотя труд переплетчиков казался более легким по сравнению с каторжной работой грузчиков Ла-Виллет или каменотесов карьеров Бьют-Шомон, а ремесло их более чистым, тонким и приятным, они тем не менее изнемогали от тяжести монотонной работы по двенадцать, а то и по четырнадцать часов в день, страдали от безработицы в мертвые сезоны, когда не было заказов, обрекались на голодную смерть из-за болезни или старости.
Все рабочие в то суровое время так или иначе испытывали жестокие страдания, хотя относились к ним по-разному. Одни покорно мирились с судьбой, не доискиваясь до причин своего положения, и влачили жалкое, полуживотное существование, иные стремились утопить свое отчаяние в вине, забыться и отвлечься от горестных забот, но самые мужественные и благородные горели желанием не только понять смысл общественного устройства, но и изменить существующий порядок, восстановить справедливость. Это были новые люди, рожденные новой эпохой, люди, воплощавшие лучшие человеческие качества и стремления, люди будущего, его подлинные творцы. Эжен Варлен, несмотря на свою молодость, становился их видным представителем.
Как бы сильно ни хотелось ему спокойно продолжать изучение истории, экономики, права, математики, музыки, древних языков, Эжен все чаще отрывается от учебы. Столь редкие для него свободные от работы часы он самоотверженно отдает борьбе за общие интересы своих товарищей по профессии. В 18 лет он уже активист рабочего движения и деятельно хлопочет над созданием общества переплетчиков. Он стал одним из учредителей этого еще очень слабого прототипа рабочего профсоюза. Задачи общества скромны: сбор денег и оказание помощи заболевшим рабочим, их семьям, выдача небольших пособий старикам. К тому же общество переплетчиков не было самостоятельной рабочей организацией, в него входили и хозяева. Правительство разрешило его, как и подобные организации рабочих других специальностей, только при условии, что руководить им будет назначенный сверху надежный бонапартист. В данном случае им оказался некий Альфонс Кокар. Он откровенно заявил, что будет управлять обществом «с помощью сильных ударов кнута». Но это оказалось трудным делом. В 1864 году в совет общества переплетчиков выбрали Эжена Варлена. Он сразу же потребовал ограничения диктаторских претензий Кокара. Рабочие сами должны управлять своей организацией, считал Эжен. Его поддерживал Клемане, с которым Эжен очень подружился, и еще по крайней мере четверо из четырнадцати членов совета. На каждом собрании между Варленом и Кокаром вспыхивали ожесточенные споры. И хотя характер Эжена всегда отличался сдержанностью, даже какой-то робостью, в борьбе за интересы рабочих он преображался. Ему удалось серьезно ограничить власть Кокара. Под влиянием Варлена общество переплетчиков начинает становиться боевой рабочей организацией.
Летом 1864 года империя отменяет запрещение забастовок. Ведь Наполеон III еще раньше начал заигрывать с рабочим классом. Тем более что рабочие все чаще бастовали вопреки запрету. Варлен и другие наиболее активные переплетчики Парижа сразу же решают воспользоваться новым положением. Теперь можно склонить к участию в стачке даже самых робких. В августе 1864 года рабочие, руководимые Варленом, потребовали повышения зарплаты, сокращения рабочего дня, дополнительной платы за сверхурочные часы. Сначала хозяева не пожелали даже встретиться с представителями бастующих. Но в конце концов им пришлось кое в чем уступить; одни согласились сократить рабочий день до одиннадцати часов, другие пошли на повышение зарплаты. Правда, уже вскоре хозяева под предлогом уменьшения заказов на переплетные работы отказываются от своих уступок. В сентябре 1865 года вспыхивает новая забастовка. Варлен — один из самых активных членов забастовочного комитета. На этот раз схватка была жестокой. Хозяева не уступали. Рабочим, особенно многодетным, становилось все труднее. Варлен буквально сбивался с ног, чтобы занять денег и помочь голодавшим товарищам. Ради каких-нибудь десяти франков он готов идти через весь Париж. Ценой отчаянных усилий ему удалось собрать несколько тысяч, целое состояние по тогдашним временам. Но рабочие все же не добились успеха и вынуждены были вернуться на работу, хотя хозяева и не удовлетворили их требований.
Молодой Варлен приобретает все больший авторитет среди своих товарищей. Его самоотверженная борьба за интересы рабочих снискала ему их горячую признательность. Еще после первой забастовки друзья купили за 33 франка серебряные часы и преподнесли их Варлену. Крышку часов украшала благодарственная надпись. Варлен не расставался с этим подарком до конца своей жизни. А после забастовки 1865 года он получает другое трогательное выражение благодарности. Старый переплетчик Мозен написал «Песню переплетчика» и посвятил ее Эжену.
Но чем больше симпатии проявляли к нему рабочие, тем сильнее его ненавидели хозяева. Они не простили ему руководство забастовками. Варлену все труднее теперь получать работу. Всюду он наталкивается на отказ. А председатель общества переплетчиков Кокар организовал против него настоящую травлю и в конце концов исключил его из общества. Но решимость Варлена бороться за рабочее дело от этого только окрепла. Он теперь посвящает все силы созданию подлинно рабочей организации, независимой от влияния властей и хозяев. Но какой она должна быть? Как действовать? К чему стремиться? И хотя Варлен твердо встал на путь борьбы за улучшение участи тех, кто трудится, за их освобождение от эксплуатации, он еще только искал ответа на эти вопросы.
II
В Париже уже ходили омнибусы, но Варлен предпочитал передвигаться пешком. Проезд стоил 3 су, а это для него слишком дорого. В один из зимних вечеров 1865 года Варлен направлялся на правый берег Сены, на улицу Гравилье, расположенную недалеко от того места, где тоже зимой, девять лет назад он вышел из дома своего дяди, чтобы начать самостоятельную жизнь. Там, у дома № 44, он договорился встретиться с другом Адольфом Клемансом, таким же переплетчиком и почти таким же молодым. Дед Клеманса во время Великой революции был участником заговора Бабефа, первого француза, пытавшегося осуществить идеи коммунизма. Друзья нередко говорили об этой истории; они читали книгу Буонарроти, сподвижника Бабефа. От Клеманса Варлен и узнал о создании Интернационала — Международного товарищества рабочих, основанного 28 сентября 1864 года в Лондоне. Он читал Учредительный манифест Интернационала, который произвел на него впечатление деловым, суровым и твердым стилем, так отличавшимся от туманных и высокопарных рассуждений о социализме, которые Варлен встречал в книгах многих французов. Интернационал призывал рабочих бороться за политическую власть; они должны организоваться в партию, руководствующуюся знанием законов общественного развития. Только что организовалась французская секция Интернационала, и Варлен, узнав об этом от уже вступившего в нее Клеманса, сразу же попросил друга сообщить бю-ро секции, что он хочет быть ее членом.
…Встретившись у темной и низкой подворотни старого дома, друзья прошли во двор и вскоре оказались в маленькой комнате, освещенной тусклым светом керосиновой лампы. Здесь стоял чад от печурки, в которой тлел уголь. Комнату наполнял еще и табачный дым от трубок нескольких человек, сидевших за простым, ничем не покрытым деревянным столом. Грубые скамьи, несколько стульев, чернильница и бумаги на столе довершали более чем скромное убранство этого жалкого помещения.
Варлена встретили приветливо; его уже знали и относились к нему с уважением. Процедура приема продолжалась несколько минут. Варлен внес полагающийся небольшой вступительный взнос и получил карточку члена Интернационала за номером 256. Прерванный приходом друзей разговор возобновился, и Варлен, сев на край скамьи, внимательно к нему прислушивался. Говорил, несколько шепелявя, худощавый, невзрачный, рано облысевший человек с длинным лицом. Это был Толен, рабочий-чеканщик. Впрочем, он уже давно забросил свое ремесло и приобрел широкую известность публичными выступлениями и газетными статьями. Держался он солидно, сознавая себя как бы духовным вождем парижских рабочих. Чувствовалось, что этот честолюбивый человек знает, чего он хочет. Рядом с ним сидел Перрашон, столяр, который с явным подобострастием смотрел на Толена. Не претендуя на ученость своего наставника, он согласно кивал головой после каждой фразы Толена. Возражал ему, впрочем, довольно вяло, Бенуа Малой, красильщик, тоже человек известный среди передовых парижских рабочих. Спорили о том, что должна делать недавно родившаяся французская секция Интернационала. Толен убежденно доказывал бесполезность и даже вред какой-либо иной деятельности, кроме обсуждения и изучения экономических и социальных идей. Он держал в руке том Прудона, откуда зачитывал пространные выдержки. Все выглядело так, как будто Прудон здесь бог, а Толен — его пророк.
Варлен внимательно слушал оратора; все, что касалось социальных вопросов, вызывало у него жгучий интерес. Он уже твердо и окончательно решил, что смысл его жизни в том, чтобы бороться за создание мира труда без хозяев, а значит, вместо капитализма организовать другое общество — социализм. Он уже приобщился к социалистическим идеям, в Париже духовная атмосфера была насыщена ими. Их проповедовали последователи великих утопистов Сен-Симона и Фурье, новые мыслители — Леру, Сисмонди, Ламенне. Даже в песнях Беранже и романах Жорж Санд отражались социалистические мечты. Но почти все французские социалисты в лучшем случае выражали скорее социалистические настроения и чувства, нежели идеи и научные взгляды. Разочаровавшись в результатах Великой французской революции, чаще всего они отказывались от политической борьбы и надеялись на великодушие богатых.
Учение Жозефа Прудона приобрело среди парижских рабочих особенно много поклонников. Талантливый самоучка, он сам был рабочим-наборщиком. Даже завоевав европейскую известность, он жил бедняком в крохотной каморке, носил грубую вязаную фуфайку и сабо — деревянные башмаки. Прудон ненавидел буржуазное государство и необыкновенно темпераментно бичевал его в своих книгах. Он поражал воображение потрясающим тоном своих памфлетов, неожиданными и эффектными парадоксами.
Прудон уверял, что он открыл чудесное и простое средство преобразования общества. Надо лишь организовать в существующем буржуазном мире как можно больше рабочих, а точнее, ремесленных производственных ассоциаций. Между ними возникнет система взаимных услуг, честного обмена продукцией труда, так называемый «мютюэлизм». Частная собственность — это кража, заявлял Прудон. Однако ее нужно сохранить, правда в мелких размерах. Его мечта — ремесленный капитализм. Тем самым он считал возможным в момент утверждения крупной промышленности вернуться к средневековым мелким кустарным мастерским. И эту утопию он страстно проповедовал рабочим. Прудон ненавидел государство и мечтал о его исчезновении. Он думал изменить жизнь, не прибегая к единственно пригодному для этого средству — захвату рабочими государственной власти. В будущем идеальном мире Прудона вместо крупных государств должны возникнуть мелкие независимые коммуны, каждая со своей армией, полицией, со своими законами, даже со «своей религией» и со «своими святыми».
Справедливая критика окружающей действительности переплеталась у Прудона с наивными иллюзиями, которыми он одурманивал себя и, к несчастью, многих других. Молодой Варлен воспринял идеи Прудона, во всяком случае те, которые касались создания производственных и прочих кооперативов. Ну что ж, это можно понять. А какую другую, более основательную и научную систему социалистических взглядов он мог выбрать в то время? Ведь научный социализм Маркса, который тогда еще только разрабатывался, был практически неизвестен. Главное произведение Маркса «Капитал» не было еще закончено. Вместе с тем взгляды Прудона очень подходили к психологии ремесленников, таких, как парижские переплетчики. Они мечтали о независимых мелких мастерских, а Прудон это и обещал, если будут организованы производственные кооперативы. Бывший типографский рабочий облекал свои идеи в яркие революционные одежды. Без особой скромности он объявлял: «Я смотрю на себя, как на самого полного выразителя революции». Склонность к революции Прудон обнаружил даже у Луи Бонапарта. Он писал о его «добрых намерениях, рыцарском сердце и уме».
Варлен оказался под влиянием идей Прудона также из-за своего страстного желания добиться освобождения рабочего класса как можно скорее. А ведь Прудон как раз и предлагал уже в условиях буржуазного общества смело насаждать социализм. Варлен был прежде всего человеком действия, а не теоретиком. Конечно, он прилагал героические усилия, чтобы достичь вершин научного знания. Но для этого в его распоряжении было так мало времени! Те короткие минуты, которые он, проработав двенадцать часов в сутки, урывал от сна и отдыха для учебы, он сумел использовать, как никто другой. Он достиг поистине невозможного. Упрекать его в отсутствии фундаментальных научных знаний было бы слишком несправедливо! Можно только восхищаться тем, что Варлен все-таки сумел почувствовать политическую ограниченность Прудона, этого мирного анархиста, презиравшего политическую борьбу. Ведь Прудон выступал даже против забастовок, причем не менее пылко, чем против капитализма. Он заявлял, что у рабочих не может быть права бастовать, «как не может быть права шантажа, мошенничества, воровства, как не может быть права кровосмешения и права прелюбодеяния».
Варлен же как раз в эти годы руководит забастовками переплетчиков. Теперь он начинает регулярно посещать совещания в скромной штаб-квартире французской секции Интернационала на улице Гравилье. Он внимательно следит за дискуссиями, но почти не участвует в них. Будучи очень скромным человеком, он не считал возможным высказывать свое мнение, пока предмет спора не известен ему досконально. Ведь Варлен еще и не читал некоторых работ Прудона.
Действовать — другое дело! В огромном Париже пока еще около двухсот членов Интернационала. Надо прежде всего вовлечь в него как можно больше рабочих. И Варлен отдает все силы поискам новых товарищей по борьбе. Приходится преодолевать апатию одних, робость других. Ведь вступление в Интернационал требовало от рабочего самоотверженного усилия. Это означало навлечь на себя подозрение хозяев, пожертвовать короткими часами свободного времени для участия в собраниях, наконец, платить денежные взносы. Варлену приходилось нередко тратить много часов для бесед с одним человеком. Вопреки всему Варлен кое-чего добивался. Он один вовлек в Интернационал почти три четверти его парижских членов. Но все же гравильеровцев, то есть членов секции, еще так мало, влияние Интернационала ничтожно. Очень скоро Варлен понял, что нужно издавать газету, что от кустарной пропаганды, неорганизованных собраний в кабачках и случайных бесед мало толка. Ценой больших усилий удается собрать деньги для оплаты типографии и бумаги. 18 июня 1865 года выходит в свет первый номер еженедельной газеты «Трибюн увриер» — «Рабочая трибуна». Собственно, газета напоминает листовку; ее размер — две тетрадные странички. Главная же беда в том, что газета не имела права касаться политики. Это литературное и научное издание, в котором несколько рабочих пишут о литературе, о пользе изучения истории. Варлен, например, написал статью о музыке, в которой он рассматривал музыку как великолепный всеобщий язык для обмена наиболее высокими чувствами. Правда, любая тема освещается так, что между строк все же чувствуются политические идеи авторов. В четвертом номере, например, печатается статья о высокой квартирной плате и о страданиях рабочих, вынужденных отдавать за жилье огромную часть заработка. Для властей этого оказалось достаточно, чтобы немедленно запретить газету, а автора и издателя посадить на месяц в тюрьму и подвергнуть денежному штрафу. Но гравильеровцы не сдаются. Они организуют печатание в Брюсселе, и еженедельник выходит под слегка измененным названием — «Печать рабочих» («Пресс увриер»). В каждом номере указано имя ответственного администратора Эжена Варлена. Своей спокойной энергией, личным обаянием, терпением и упорством он немало способствует продолжению издания. Он настойчиво пропагандирует газету. В конце июля 1865 года Варлен выступает с этой целью на банкете семисот типографских рабочих, устроенном в садах Элизе-Менильмонтан. Такие банкеты были замаскированной формой политических митингов. Варлен вовсе не считал себя хорошим оратором и нисколько не пытался подражать звездам тогдашнего ораторского искусства вроде буржуазных республиканцев Леона Гамбетты или Жюля Фавра. Ему органически чужды актерские приемы, нарочитый пафос, напыщенность и любое проявление претенциозности. Вообще-то он предпочитает молчать, а если и выступает, то говорит серьезно и тихо, хотя твердым и решительным тоном. Его выступления производили необыкновенно сильное впечатление искренностью, внутренней убежденностью. Глаза его, излучавшие какой-то необыкновенный блеск, очаровывали слушателей. Хотя, ему всего 26 лет, выглядит он старше. Варлен очень рано начал седеть. Многие, слушавшие Варлена, говорили, что в нем есть нечто от традиционного образа христианского пророка, одухотворенного любовью к людям.
Обстановка для выступления в Элизе-Менильмонтане, где слушатели расположились за столиками под тентами или просто на дорожках под открытым небом, не очень благоприятна для оратора. Но Варлену удается быстро овладеть вниманием, хотя тема его речи внешне как будто далека от жгучих политических вопросов. Ведь он говорит о пользе просвещения, образования, культуры.
— То, против чего мы должны всеми силами бороться прежде всего, — это невежество, рутина и предрассудки, ибо они являются самым серьезным препятствием на пути прогресса. Для победы необходимо развитие массового обучения… Вы спросите: каким же методом его осуществить? А средство это нашел еще Гутенберг — печать. Рабочие сумели добиться издания «Пресс увриер». Пусть каждый из нас помогает этой газете…
Варлен заканчивает речь словами, не оставляющими никакого сомнения в отношении политических намерений оратора.
— Материальное освобождение трудящихся немыслимо без их морального и интеллектуального освобождения. Вот почему я предлагаю вам такой тост: за интеллектуальное освобождение трудящихся!
Вряд ли кто другой смог бы говорить об образовании, об интеллектуальном освобождении так убежденно, как Варлен, самоучка, приобретавший образование ценой поистине сверхчеловеческих усилий. Но что касается «Пресс увриер», которую популяризировал Варлен, то она довольно скоро перестает выходить. Императорская полиция, таможенная охрана сделали невозможным доставку и распространение независимой рабочей газеты.
Однако эта неудача не могла помешать росту популярности Интернационала во Франции. А Варлен играл все более важную роль в делах французской секции. Его включают в делегацию на конференцию Интернационала, и в конце сентября 1865 года он едет в Лондон. Делегацию возглавляют известные прудонисты Толен, Фрибур, Лимузен. Между ними и марксистами идут жаркие споры. Прудонисты упорно не желают заниматься политикой. Варлен не одобряет такого курса, но он еще держится на втором плане, хотя и участвует в дискуссиях по некоторым вопросам, высказывая отнюдь не ортодоксальные прудонистские взгляды. После окончания конференции Маркс устроил скромный прием в честь иностранных делегаций. Варлен танцует с дочерьми Маркса. А Маркс ведет беседу с французскими прудонистами. Основатель научного социализма сурово осуждал Прудона, разъяснял утопизм мелкобуржуазных взглядов этого пылкого фразера и умеренного реформатора. Поскольку Варлен сам уже почувствовал фальшь прудонизма, слова Маркса не могли пройти мимо его ушей.
Но нельзя сказать, чтобы первый контакт Варлена с руководителями Интернационала помог ему приобрести более ясные представления о перспективах рабочего движения. Да и трудно было этого ожидать, поскольку влияние марксизма в Интернационале еще далеко не было преобладающим. Здесь действовали представители английских тред-юнионов с их сомнительными политическими идеями, немецкие лассальянцы, прудонисты, анархисты и просто мелкобуржуазные либералы. Интернационал пока представлял собой арену соперничества, мелких интриг, идейной путаницы. Разброд среди его членов можно было сравнить лишь с той неразберихой, которая царила внутри рабочего движения в самой Франции. Ведь, кроме прудонистов, о которых уже шла речь, кто только не затуманивал голову французским рабочим! Бонапартистский режим пытался разложить их сознание демагогией и фиктивными уступками, буржуазные республиканцы от либералов до радикалов типа Гамбетты стремились заручиться поддержкой рабочих в борьбе за власть против империи, неоякобинцы, мыслившие устарелыми понятиями 1793 года, вольно или невольно мешали рабочим понять их миссию в новую эпоху, наконец, заговорщики всех оттенков, начиная от искреннего революционера Огюста Бланки до авантюристов-анархистов друзей Бакунина, отвлекали их силы и внимание от организации подлинно пролетарского массового движения. Перед таким обилием претендентов на роль духовных наставников рабочего класса нетрудно было растеряться и человеку, получившему более основательную теоретическую подготовку, чем 26-летний Эжен Варлен, который вынужден был самостоятельно постигать многие истины и искать правильный путь борьбы. И ничто, по его мнению, — ни запутанность доктрин, ни противоречивость взглядов и стремлений его товарищей по борьбе, ни отсутствие основательно разработанной политической программы не могли оправдать бездействия. Он чувствовал, что каждый реальный практический шаг в развитии рабочего движения важнее дюжины программ. Варлен не пренебрегает ничем в деле организации рабочего класса с целью улучшения его положения, повышения его сознательности, прямой или косвенной подготовки рабочих к борьбе за социализм.
Весной 1866 года Варлен начинает энергичную кампанию за создание общества взаимопомощи и взаимного кредита. 1 мая общество официально учреждается и принимается его устав, написанный Варденом, причем текст одобрен без изменений, если не считать поправки в четыре слова. Интересно, что статьи вторая и третья устава предоставляли женщинам-работницам равные права с мужчинами. Это еще один явный отход от учения Прудона, не допускавшего и мысли о какой-либо общественной роли женщины. Из 15 членов административного совета общества председателем на первом заседании избирается самый молодой — Эжен Варлен. Теперь каждую субботу Варлен проводит заседание совета. Собирались в винной лавке Шатрова, на улице Эколь де Медеин. О выпивке вопрос не возникал: идут серьезные деловые обсуждения повседневных забот общества. Сколько препятствий надо было преодолевать, чтобы обеспечить само его существование! Прошло восемь месяцев, а в кассе всего 846 франков. Но даже эта небольшая сумма служила подспорьем рабочим и их семьям, попавшим в трудное положение. Варлен заражает всех своей спокойной уверенностью и энергией. В самом начале 1867 года он уже заводит речь о создании потребительского кооператива, дешевых рабочих столовых, а затем излагает планы производственного кооператива. Вскоре на улице Клеф открывается «Ла Менажер» — организация по закупке у оптовых торговцев продуктов и по распределению их среди рабочих. Благодаря устранению посредничества розничных торговцев удается снабжать рабочие семьи дешевыми товарами. И здесь Варлен — председатель и душа всего предприятия. Он не гнушается самой мелкой работой по счетоводству, он экономит каждое су, упорно торгуется с поставщиками. Если бы Варлен проявлял такую бережливость и расчетливость в своем личном хозяйстве, он мог бы благоденствовать!
Вокруг него группируется немало деятельных помощников. Здесь его друзья — переплетчики Делакур, Буэ, работницы Дюваль и Лемель, его младший брат Луи, гравер Бурдон, тот самый, который сделал надпись на часах, подаренных Варлену рабочими еще в 1864 году. Теперь они заняты осуществлением новой идеи Варлена. На кооперативной основе организуется сеть дешевых столовых для рабочих под названием «Мармит» («Котел»). Удалось открыть пять таких столовых в разных местах Парижа. За несколько лет число членов этого кооператива достигло восьми тысяч. Варлен считал, что они нужны не только для облегчения материального положения тружеников. Столовые превращаются в клубы, где беседуют, спорят, где люди осознают обшность своих целей, где рабочие развиваются духовно. Находились скептики, которые презрительно относились к кооперативной деятельности Варлена. Витая в облаках революционных фраз, они говорили, что все равно в условиях буржуазного общества рабочие добьются с помощью кооперативов лишь незначительного облегчения своей участи…
— Верно, — отвечал Варлен, — но когда после напряженных усилий рабочие достигнут лишь ничтожных результатов, тогда они смогут окончательно понять, что освобождения можно добиться только путем преобразования самих основ общества. А убедившись в этом, они станут революционерами!
Тем, кто видел кипучую деятельность Варлена, создававшего различные рабочие общества, корпорации и кооперативы, нередко казалось, что это чисто прудонистская линия, основанная на ограниченной идее взаимной помощи и взаимной выгоды, на «мютюэлизме», что он видит в пит чуть ли не единственное средство насаждения социализма. Да и сам Варлен, стремясь пробудить энтузиазм рабочих, нередко превозносил значение кооперативной деятельности. Но в конечном счете Варлен считал создаваемые им рабочие организации лишь орудием воспитания и организации рабочих, одной из форм подготовки их к социалистическому революционному преобразованию.
«Общества рабочих в любой форме имеют сейчас огромное значение благодаря тому, — писал сам Варлен, — что они приучают людей ж-общественной жизни, подготавливая их к более всеобъемлющей будущей социальной организации. В этих обществах рабочие привыкают не только слушать и понимать, но и учатся самостоятельно заниматься собственными делами, организовываться. Они начинают осознавать свои материальные и духовные интересы исключительно с коллективной точки зрения, ибо их индивидуальный, непосредственный, личный интерес с этого момента сливается с интересами коллектива».
Варлена трудно упрекнуть в догматической приверженности к какой-либо одной форме деятельности. Кооперативные дела, конечно, отнимали у него немало времени. Но если и не по времени, то по значению несравненно более важной и сложной для него становится деятельность в Интернационале. Ему все труднее сотрудничать с То-леном, Фрибуром и другими прудонистами, возглавлявшими французскую секцию. Они упорно защищали самые нелепые догмы Прудона… В один из первых сентябрьских дней 1866 года Варлен присутствует вместе с другими французскими делегатами на заседании I конгресса Интернационала в Женеве. Здесь, в просторном зале одной из столичных пивных, рабочие разных стран встретились, чтобы совместно выработать способы улучшения своей участи. После шумного конфликта с французскими бланкистами начались серьезные дебаты. Вот зачитывается записка, подготовленная Толеном от имени французской делегации, излагающая позицию французских рабочих по важнейшим социальным вопросам. Варлен слышит уже хорошо знакомые ему слова и мысли.
— …Труд велик и благороден… он источник всех богатств… Стачки вредны. Вместо того чтобы устраивать стачки, гораздо лучше установить принцип равного обмена… Бесплатное и обязательное образование не заслуживает поддержки. Государство повсюду вносит однообразие, неподвижность; истинное образование, развивающее личность, — это образование в семье… Тем самым решается вопрос о женском труде; у женщины слишком много дел у себя дома, чтобы идти работать еще в мастерскую…
Варлен с грустью слушает все эти уже хорошо известные ему вещи, столь далекие от реальной жизни. Выступать против стачек? Ведь это значит вырвать из рук рабочего класса эффективное оружие в борьбе за улучшение своего положения! Да и все остальное в том же духе.
Затем французскую записку переводят на английский и французский. Следуют выступления, которые тоже дважды переводят. У Варлена есть время, чтобы подготовиться к тому, что он уже решил сделать: выступить против важных положений французской записки! Неприятно обнаруживать перед иностранными товарищами раскол в национальной делегации. И казалось, именно Варлен, этот столь скромный и застенчивый человек, менее кого-либо другого способен сделать это и открыто отмежеваться от признанных рабочих руководителей, которых даже считают основателями Интернационала. Но он поступает именно так, заранее зная, что из 15 французских делегатов его поддерживает только его друг гравер Бурдон.
— Мы сожалеем, что нам приходится выражать наше несогласие с большинством нашего бюро по важному и серьезному вопросу народного образования. Конечно, мы за то, чтобы отец контролировал обучение своих детей. Но если даже изнурительная работа и оставит ему какое-то время для одного ребенка, то где же он возьмет его для других?.. А какова будет судьба детей, отцы которых сами не хотят ими заниматься? Нет, в это дело должно вмешаться общество…
Столь же решительно Варлен выступает и против предложения прудонистов лишить женщину права на труд. И по другим вопросам, таким, как стачки, профсоюзы, допуск в Интернационал трудящейся интеллигенции и т. п., Варлен еще раньше выражал свою самостоятельную точку зрения, которая часто бывала близка к смыслу решений, принятых в конце концов конгрессом. Женевский конгресс был первой важной победой марксистских принципов над различными мелкобуржуазными социалистами, особенно прудонистами. Варлен приветствовал такой исход конгресса. После пяти дней его работы швейцарские социалисты устроили для делегатов небольшой праздник. Варлен с удовольствием слушал пение рабочего хора, участвовал в прогулке по берегам славящегося своей красотой Женевского озера. Он говорил Бурдону:
— Наконец-то вместо остроумных, но пустых теорий нам указали практическую цель! Хватит морочить головы рабочим научными и громкими фразами. Сейчас рабочие хотят не слов, а действий!
III
Решения конгресса, конечно, пришлись не по вкусу прудонистам. По-прежнему еще далеко до простого взаимопонимания между большинством французских социалистов и Генеральным советом Интернационала. Правда, осенью 1866 года Маркс в беседах с друзьями, в письмах не раз замечал, что французы начинают делать кое-что настоящее. Это был отклик на деятельность Варлена. Но французские прудонисты по-прежнему раздражают Маркса своей неспособностью или нежеланием воспринять научную и революционную теорию и тактику. Лишь Варлен, поддерживаемый несколькими друзьями, практически шел к этому. Но и для него оставалось еще много неясного. Ведь в Женеве далеко не все вопросы и точки зрения были хотя бы изложены; конкретных и точных решений явно не хватало, люди по-разному понимали и применяли лозунги и принципы, казалось бы, единые для всех. В ту далекую эпоху формы общения между членами Интернационала из разных стран еще крайне несовершенны. Им приходилось довольствоваться случайной, запоздалой или искаженной информацией о взглядах друг друга. Как в таких условиях обеспечить единство воли и действий разных отрядов Интернационала? Многие французские социалисты часто испытывали растерянность, замешательство, разочарование, у них опускались руки, и они пассивно плелись за событиями. Но не таков был Эжен Варлен. Он воплощал в себе активность, энергию, упорство и — что тоже немаловажно — терпение. Поэтому понятно стремление многих парижских рабочих — активистов Интернационала видеть Варлена своим руководителем. Разговоры об этом начались сразу после конгресса в Женеве. В самом деле, кто лучше Варлена мог представлять французский социализм в Интернационале? Ведь его политика оказалась столь близкой к линии Генерального совета. А кто лучше его мог обеспечить связь парижского руководства с рабочими корпорациями? И вот в начале 1867 года Варлен возглавляет бюро, а Толен и Фрибур становятся его заместителями. Вряд ли это могло понравиться им, особенно Толену с его тщеславием и претенциозностью. Нелегким было положение Варлена. Тем более что обстановка требовала от бюро активных политических действий. А ведь прудонисты их не признавали, даже считали опасными и вредными.
В конце 1866 и в начале 1867 года очень обострились отношения между Францией и Пруссией, повсюду заговорили о войне. Бюро французской секции обменивается посланиями с немецкими социалистами. Под влиянием Варлена это послание оказалось одним из первых в истории проявлением пролетарского интернационализма в борьбе за сохранение мира и социализм. Так Варлен побуждает своих ненадежных коллег следовать за ним в политических акциях Интернационала.
Особенно знаменательна позиция парижского бюро по отношению к забастовкам. Экономическое положение Франции в начале 1867 года стало резко ухудшаться, и это в первую очередь ударило, конечно, по рабочим, которым не оставалось ничего другого, как прибегнуть к забастовкам. В апреле вспыхивает стачка на шахтах Фюво. Варлен требует, чтобы бюро Интернационала немедленно заявило о своей солидарности. Толен и Фрибур, принципиальные противники стачек, все же соглашаются поставить свои подписи под декларацией. Острейший конфликт вспыхивает затем в Рубэ. Фабриканты решили заставить рабочих обслуживать сразу два станка, но отказались прибавить зарплату. Возмущенные ткачи разбили станки, а когда против них выслали войска, они встретили их на баррикадах. В этом деле Варлен проявил одновременно твердость и проницательность. Бюро Интернационала выразило сожаление в связи с разрушением машин, но поддержало справедливое требование рабочих о повышении зарплаты, об улучшении условий труда, осудило систему штрафов, рабовладельческие порядки. Оно призвало всех рабочих проявить солидарность со «страдающими братьями из Рубэ».
Особенно сильно способствовала росту влияния Интернационала во Франции деятельность бюро во время стачки парижских бронзовщиков. Хозяева решили запретить рабочим вступать в созданное ими общество. Немедленно вспыхнула забастовка, к которой присоединились рабочие других специальностей. Варлен организовал сбор денег для помощи бастующим в других городах Франции и за границей. Рабочие победили — зарплата повысилась на четверть, их право вступать в свои общества было признано.
В 1867 году Варлен развивает бурную деятельность в связи с готовящейся в Париже новой промышленной выставкой. Императорские «социалисты», как и в 1862 году в связи с выставкой в Лондоне, пытаются организовать посещение выставки делегациями рабочих и предлагают оплатить это. Варлен убеждает рабочих отклонить подачки бонапартистского режима. Он становится редактором двух томов отчетов рабочих-делегатов о выставке. Он же пишет предисловие к этому интереснейшему собранию документов. Популярность Варлена растет. Но растет и неприязнь к нему прудонистов, стоявших за То-леном. Выступавший прежде в качестве главного теоретика прудонизма Фрибур в середине 1867 года даже пришел к выводу о невозможности дальше защищать идеи своего учителя в Интернационале и отказался от активной деятельности, а вскоре и вообще вышел из Интернационала.
Осенью 1867 года, когда выбирается новое парижское бюро Интернационала, его рядовые члены неожиданно узнают, что Варлен не избран в новый состав комиссии Интернационала. Не избран? Или устранен? Такие вопросы задают многие, ибо кому не известно, что Варлен серьезно расходится во взглядах с учениками Прудона, что он не только побуждал бюро Интернационала занимать открытую политическую позицию, хотя это совершенно несовместимо со взглядами «великого учителя», но и высказывал за последнее время мысль об объединении всех французских рабочих социалистических организаций любого характера под руководством Интернационала. Ведь это же в зародыше идея политической рабочей партии! Прудонистам такая цель совершенно не по вкусу. А поскольку в их руках большинство членов французской секции, отстранение Варлена — признак серьезной внутренней борьбы между революционным и прудонистским течениями. Однако, как покажут последующие события, нет худа без добра…
А пока что события развиваются таким образом, что оставаться вне политики для Интернационала уже просто невозможно. Республиканская оппозиция бурно нарастала, а империя совершала одну непоправимую ошибку за другой. Как все обреченные правители постепенно теряют разум, так и Наполеон III совершал все новые глупости. Неурожай, наступление экономического кризиса были той почвой, на которой всеобщее недовольство переросло в возмущение позорной мексиканской авантюрой или посылкой войск на помощь папе римскому. В ноябре Интернационал участвует в массовой республиканской демонстрации. Бонапарт, уже и без того крайне раздраженный провалом своих попыток приручения рабочего класса и поддержкой забастовок Интернационалом, решил, что это уже слишком. Против французской секции Интернационала возбуждают судебный процесс. Хотя обвиняемые — Толен и его друзья — пытались доказывать свою лояльность и отсутствие антиправительственных планов, их приговорили к штрафу по 100 франков каждого, а организацию Интернационала во Франции запретили.
Еще до приговора 19 февраля привлеченные к суду члены комиссии Интернационала подали в отставку. В префектуре полиции решили, что секции Интернационала больше не существует. Так могло быть, если бы французские рабочие не имели среди своих лидеров таких людей, как Варлен.
Уже 8 марта избрана новая комиссия во главе с Варденом. В нее вошли еще восемь рабочих, среди которых гравер Бурдон, красильщик Бенуа Малой, талантливый самоучка, в будущем член Коммуны. Большинство новой комиссии решительно поддерживало Варлена. Они объявили себя преемниками прежней комиссии. Но фактически они были скорее ее соперниками, ибо в их действиях скорее чувствовалось революционное, варленовское направление, нежели традиционно прудонистское.
Собираться на улице Гравилье, в старой штаб-квартире Интернационала, уже нельзя. Полиция хорошо знала это место. Заседания, теперь нелегальные, подпольные, происходят на улице Шайон, впрочем, в том же районе Парижа. Немедленно возобновляется текущая работа по подготовке к новому конгрессу Интернационала. И хотя в новой комиссии тоже есть правоверные прудонисты, такие, как столяр Шарбоно, большинство на стороне Варлена. Несмотря на возражения Шарбоно, решили поддержать идею борьбы за сокращение рабочего дня. Эта точка зрения и была одобрена состоявшимся вскоре конгрессом в Брюсселе. Однако новая комиссия Интернационала имела очень мало времени, чтобы заниматься теоретическими спорами. В том же марте месяце, когда она развернула свою деятельность, в Швейцарии началась забастовка 2500 рабочих-строителей и наборщиков. Они требовали сокращения рабочего дня до 10 часов и увеличения зарплаты. Хозяева не уступали, и вскоре забастовщики оказались под угрозой либо поражения, либо голодной смерти. Они направили своих представителей сначала в Париж, а потом — ив Лондон, ведь они были членами Интернационала.
Услышав призыв о помощи, Варлен немедленно взялся за сбор денег. Он рассылает письма рабочим корпорациям, проводит многочисленные собрания, требует, уговаривает. Он обращается в редакции, всюду возбуждая сочувствие к женевским рабочим. 5 апреля Варлен опубликовал в газете «Опиньон насьональ» статью, в которой от имени Интернационала объявил о проведении подписки. Ему удалось собрать десять тысяч франков, и он с радостью вручил их представителям женевских забастовщиков. Интересно, что английские тред-юнионы дали швейцарцам только 500 франков, в 20 раз меньше, хотя их численность и денежные ресурсы по сравнению с возможностями французской секции Интернационала выглядели просто необъятными. Но там не нашлось Варлена…
А императорское правительство получило возможность убедиться, что первый процесс против Интернационала нисколько не ослабил ненавистную организацию. Во главе ее оказались теперь значительно более энергичные люди, и главное — они были революционерами. В министерстве внутренних дел решили провести новый процесс. Уже в конце апреля в мансарду на улице Дофин ворвались полицейские и произвели обыск. 22 мая Эжен Варлен вместе со своими товарищами предстал перед судом.
Суд — всегда угроза для обвиняемого. Может быть, стоит подумать о том, как лучше защитить себя? Два месяца назад Толен явно был озабочен именно этим и действовал соответствующим образом. Но Варлен другой человек. Поэтому он думал только о том, как на суде, будучи в роли обвиняемого, лучше послужить делу Интернационала. Надо превратить суд в политическую демонстрацию, открыто объявить войну буржуазии, показать тем самым рабочему классу путь борьбы, ее цели и смысл. Конечно, рассчитывать на снисхождение судей уже не придется.
Когда Варлен рассказал о своих замыслах, его друзья не только тут же согласились, но и единодушно решили поручить ему говорить от имени их всех. И вот в одном из залов Дворца правосудия за деревянным барьером сидят девять рабочих — спокойные и решительные. Судьи, прокурор, секретари в своих мантиях выглядят, если внимательно к ним присмотреться, точно так, как на знаменитых рисунках Домье. Подсудимым задают обычные вопросы. Затем прокурор произносит обвинительную речь. Если бы самому Варлену поручили сделать отчет о своей работе, то из-за своей обычной скромности он вряд ли нарисовал бы такую впечатляющую картину деятельности французской секции Интернационала. Прокурор приводит множество фактов и заявляет, что привлеченная к суду комиссиия стала «штабом забастовок».
— Парижская секция, — продолжает он, — благодаря активности своих членов и размерам ресурсов, которыми она располагает, была поистине головой и сердцем всех французских организаций Интернационала…
Особенно много прокурор говорит непосредственно о Варлене, его имя произносится особенно часто. Варлен слушает с удовлетворением, и, конечно, не потому, что это подчеркивает его личную роль — он совершенно лишен и тени тщеславия, — а потому, что, видя в рядах публики много журналистов, он надеется, что рабочие, среди которых немало таких, которые и не слышали об Интернационале, теперь узнают о нем. Так оно и случилось, кстати. Прокурор кончил, и подсудимым предлагают сказать что-либо в свое оправдание. Варлен поднимается и начинает рассказывать об Интернационале, его истории, его принципах. Речь Варлена, спокойная, уверенная, заставляет публику забыть, что говорит простой рабочий. Нет, это речь политического деятеля, его язык, интонации, культура таковы, как будто перед слушателями человек, окончивший не меньше чем Сорбонну. Да, чувствуется, что этот переплетчик знаком с книгами не только по их переплетам, что не зря он провел так много бессонных ночей за учебой. Между тем Варлен переходит к характеристике истинного существа судебного процесса против Интернационала. И здесь он превращается из подсудимого в сурового судью.
— Если перед лицом закона вы — судьи, а мы обвиняемые, то с точки зрения принципов мы представляем две партии: вы — партию порядка любой ценой, партию застоя; мы же — партию преобразований, партию социализма. Рассмотрим объективно, каков же тот социальный строй, в намерении изменить который нас обвиняют. Несмотря на то, что Великая революция провозгласила «права человека», в настоящее время несколько человек могут, когда захотят, пролить целые потоки народной крови в братоубийственной войне, хотя народ везде одинаково страдает и везде желает одного и того же. Всюду миллионы трудящихся страдают в нужде и невежестве, терпят беспощадное угнетение и остаются в плену старых предрассудков, закрепляющих их рабство. В то же время небольшой кучке людей достаются все наслаждения жизни, и богачи не знают, куда девать свои богатства…
Рабство погубило древний мир. Современное общество тоже погибнет, если не прекратит страданий большинства, если правители будут продолжать думать, что народ должен трудиться и терпеть лишения, чтобы содержать в роскоши привилегированное меньшинство…
Среди этой роскоши и нищеты, угнетения и рабства мы находим только одно утешение: мы знаем из истории, как непрочен тот порядок, при котором люди умирают с голода у порогов дворцов, переполненных всеми благами мира.
Присмотритесь внимательнее к тому, что окружает вас, — и вы увидите глухую ненависть между имущим классом, охраняющим современный порядок вещей, и рабочим классом, который хочет завоевать себе лучшее будущее. Богатый класс вернулся к предрассудкам столетней давности, среди него царит разврат, всякий его член думает только о себе. Все это — признаки близкого падения; земля уходит из-под ног богачей, берегитесь!
Речь Варлена не научный трактат, и нелепо было бы искать в ней ортодоксально точные научные формулы. Но это поистине крик души пролетариата, выраженный одним из его представителей. Многое становится понятным в событиях тех времен и особенно истоки бессмертной Коммуны, когда знакомишься с трагической картиной жизни рабочего класса, которую Варлен рисует в своей речи:
— Пролетарий родится в нищете, от истощенных родителей, ребенок нередко страдает от голода, плохо одет, живет в жалкой лачуге. Мать, вынужденная работать, оставляет его без призора. Он чахнет в грязи, он подвержен тысячам случайностей; часто его поражают болезни, преследующие его потом до могилы…
Несчастный несет свой крест страданий и лишений; ему нечего вспомнить в зрелые годы. С ужасом смотрит он на приближающуюся старость: если у него нет семьи или семья его без средств, с ним поступят как со злоумышленником и ему придется испустить дух в доме призрения для нищих.
И подумать только, что этот человек производит в четыре раза больше, чем потребляет!
Речь Варлена услышали не только те, кто был на суде, — она стала известной всей Франции. Варлен гордо и высоко поднял знамя Интернационала, он рассеял всевозможные дикие вымыслы и еще раз показал благородство идеалов социалистического движения. Речь Варлена была зачитана на одном из заседаний Генерального совета Интернационала в Лондоне; ее перевели на многие языки. В конце прошлого века русские революционеры нелегально издали ее на русском языке и распространяли среди рабочих.
Что касается суда, он не ограничился запрещением Интернационала и штрафом по 100 франков, как это было на первом процессе; теперь каждому предстояло, кроме того, отбыть три месяца тюрьмы.
С 6 июля по 6 октября 1868 года Варлен заключен в тюрьму Сент-Пелажи, находившуюся недалеко от Ботанического сада, рядом с одной из столовых «Мармит», куда он зашел прежде, чем явиться для отбывания своего срока. И вот Варлен внутри этого старого здания, служившего некогда убежищем для кающихся грешниц. Имя их покровительницы — святой Пелагеи — сохранила и существующая с 1792 года тюрьма. Кого только не было в ее камерах, начиная с жирондистов, ожидавших здесь казни! Если бы тюремные стены могли рассказать о всех, кого они видели! Впрочем, на этих стенах писал бодрые куплеты заключенный в Сент-Пелажи Беранже…
Когда человек впервые переступает порог тюрьмы и хотя бы на время становится ее узником — это всегда рубеж в его судьбе, подобно иным крупным событиям жизни, разделяющим ее на части, словно памятные вехи. Что касается Варлена, то эта веха обозначила наступление его зрелости как революционера. Разумеется, ни тени сожаления, ни признака уныния нельзя обнаружить на его лице, несущем на себе печать одухотворенности.
В тюрьме вместе с Варденом сидел Клюзере, будущий генерал Коммуны. Генералом он оказался очень неудачным. Но будем благодарны ему хотя бы за то, что он оставил в своих воспоминаниях описание облика Варлена.
«Он был высоким, худощавым, с черными, седеющими волосами, очень густыми и немного вьющимися. Можно было подумать, что они покрыты тонким слоем серебристой пудры. Его не очень большой лоб обрисовывался изумительно пропорционально. Но чем Варлен покорял людей, так это своими глазами. В жизни я не встречал подобных глаз. Они были не очень большими, но светились таким огнем, что сразу приковывали ваше внимание, которое вскоре сменялось уважением и привязанностью. Эти темные живые глаза сияли такой добротой, таким благородством и умом, что они пронизывали вас насквозь и пробуждали такие же ответные чувства.
У него был крупный, прекрасной формы нос, нижняя губа была полной, и, однако, никакой чувственности не ощущалось в его облике. Он казался ловким, но слабым, ему словно не хватало мускулов. Но тело в нем не составляло главного, главным была его душа. Она концентрировала все его силы в едином стремлении к освобождению пролетариев от несчастной судьбы. Только во имя этой возвышенной идеи Варлен и жил».
Политические заключенные в Сент-Пелажи пользовались довольно либеральным режимом. Как ни низко пала империя, все же ее тюремщики разрешали им переписку и свидания с посетителями. Но с тем большим нетерпением считал Варлен дни, оставшиеся до освобождения. С воли передавали новости, которые звали к действию. Миновали времена монотонного, ровного хода событий, когда воздух, казалось, застыл в ожидании бури. Сейчас повсюду чувствовалось ее приближение. Здание империи, уже давно давшее трещины, зашаталось. Император и его клика в замешательстве метались от одной глупости к другой, самонадеянно воображая, что они еще в состоянии, действуя кнутом и пряником, спасти свою прогнившую власть. Они запрещают Интернационал, но одновременно вынуждены разрешить деятельность профсоюзов. Затем принимаются так называемые либеральные законы о печати и собраниях. В Париже и в провинции осенью 1868 года появилось около 70 оппозиционных газет и журналов. Среди них есть всякие — от умеренно-либеральных до самых бунтарских. В тюрьме Варлен однажды увидел какой-то новый журнал в обложке красного цвета. Это был «Лантерн» («Фонарь»), который начал выпускать Анри Рошфор, литератор-республиканец, человек левых, но довольно сумбурных взглядов, талантливый, смелый и, главное, остроумный. Обложку журнала украшал фонарь, но авторы имели в виду отнюдь не просветительские функции. Ведь тут же была нарисована веревка: в самом деле, фонарь при случае может с успехом заменить виселицу. Император и его окружение служат для «Фонаря» мишенью остроумных и злых насмешек. А ведь во Франции смешное убивает. Министры империи хорошо знают это, и в августе журнал запрещен, а Рошфор приговорен к 13 месяцам тюрьмы. Он бежит в Бельгию и выпускает свой журнал там. На границе всю почту тщательно проверяют. Но кому придет в голову, что экземпляры «Фонаря» доставляются в гипсовых бюстах самого императора? «Фонарь» читают во всей Франции, хотя цена за него порой доходит до 100 франков за номер. Он пользуется сенсационным успехом.
Но это лишь один признак пробуждения, охватившего страну. Забастовки рабочих и демонстрации республиканцев следуют одна за другой и носят все более грозный характер. И вот в самый разгар новой полосы в злосчастной истории Второй империи, 6 октября, Варлен оказался на свободе. Он возвращается в свою каморку на улице Дофин, и младший брат Луи, давно приобщенный к политическим страстям, увлеченно рассказывает, как много сейчас в жизни нового. Луи даже не в состоянии перечислить проявления симпатии к своему старшему брату; рабочие с нетерпением ждут Варлена.
IV
Первое, что почувствовал Варлен, вернувшись из тюрьмы, не было, впрочем, для него неожиданностью. Влияние и авторитет Интернационала после двух судебных процессов и его официального запрещения не только не ослабели, но небывало усилились. Речь Варлена на суде по-прежнему у всех на устах, его имя рабочие произносят с гордостью и надеждой. Раньше многие подозрительно относились к Интернационалу, считая его чуть ли не замаскированной бонапартистской организацией. Пищу для темных слухов давали некоторые действия Толена и его друзей, которые встречались с принцем Жеромом Бонапартом и всерьез беседовали с ним о наполеоновском «социализме». Теперь конец сплетням, так же как и безраздельно прудонистскому периоду в истории французской секции Интернационала. Начинается новая, революционная и важнейшая глава этой славной истории. Имя Эжена Варлена служит ее заглавием.
Многие из рабочих раньше не интересовались Интернационалом. Теперь же Варлена непрестанно осаждают вопросами, можно ли еще вступить в Интернационал? Он терпеливо объясняет, что организация запрещена и формально не существует. Рабочие понимающе улыбаются; ведь они убеждены, что Интернационал не может не существовать! Впрочем, сам Варлен убежден в этом более твердо, чем кто бы то ни было. Да, Интернационал не исчез, хотя единой организации с общим руководящим центром уже не было. Влияние Интернационала расширилось, но это скорее не влияние, а необычайно возросшая популярность, магическое действие самого слова. Варлен сразу понял, что надо воссоздать организацию. Но уже не в прежней форме и масштабах. Слишком ограниченной была численность секции Интернационала по сравнению с численностью бурно развивавшихся профсоюзов; ведь они теперь могли создаваться на законном основании. Нельзя допустить, чтобы Интернационал оказался изолированным от них. Надо объединить все рабочие организации страны под эгидой Интернационала. Вот цель, которую поставил перед собой отныне Варлен. Достичь ее было трудно: невозможно даже просто призвать к этому хотя бы через газету — Интернационал запрещен! Значит, надо терпеливо искать сближения с множеством людей, находить с ними общий язык и взгляды. К тому же появился сильный конкурент. Существовала комиссия рабочих делегатов на Всемирную выставку. С июля 1867 года ее руководители стали собираться в пассаже Рауль. Представители почти всех парижских рабочих корпораций обсуждали здесь свои насущные вопросы.
Но как далеки они были от революционных идей Интернационала! И все же Варлен действует. Сначала Интернационал возрождается в замаскированной форме «Кружка социальных опытов» и «Общества объединенных трудящихся». Уже в конце 1868 года Варлен добивается его сближения с комиссией рабочих делегатов, а еще через четыре месяца удалось согласовать первый проект слияния всех рабочих организаций Парижа. Словом, Варлен погружен в кропотливую, напряженную, каждодневную организационную работу. Деятельную поддержку ему оказывает Бенуа Малой, с которым они еще недавно вместе сидели в Сент-Пелажи и успели там переговорить о многом. Этот спокойный, трудолюбивый, несколько романтичный человек очень уважал Варлена, и они действовали тогда рука об руку.
За полгода, истекших после выхода Варлена из тюрьмы, к Интернационалу присоединяются пять рабочих парижских корпораций: переплетчиков (здесь Варлена боготворят по-прежнему), литографов, ювелиров, сапожников, жестянщиков. Варлен восстанавливает и укрепляет связи с лидерами секций Интернационала в Руане, Лионе, Марселе.
Как всегда, он в самой гуще общественной жизни. Конец 1868, весь 1869 и начало 1870 года — пора непрерывных публичных собраний. Теперь они разрешены, и люди могут собираться и обсуждать любые вопросы, кроме религии и политики. На каждом собрании специальные полицейские чиновники следят за этим. Но ораторы с истинно французским остроумием умеют обходить эти запреты, и все хорошо понимают иносказательные речи. Народ, так долго не слышавший живого слова, хлынул на эти собрания. Варлен регулярно их посещал. Его часто видят в залах Фавье и Риволц, в театре Мольера на улице Сен-Мартэн. Он тоже выступает, но чаще лишь внимательно слушает. Как загораются лица рабочих, когда речь заходит об идеях социальной справедливости и свободы! И Варлен вновь и вновь утверждается в своей решимости бороться за эти идеи. Здесь он встречается с друзьями, здесь настойчиво и терпеливо ищет помощников в деле возрождения Интернационала. Впрочем, эти народные митинги подчас вызывают у него тревогу. Ведь свои взгляды проповедуют не только социалисты. Гораздо чаще звучат голоса буржуазных республиканцев, которые явно хотят вырвать рабочих из-под влияния социализма и снова, как это было уже не раз, использовать этих простаков с мозолистыми руками как свое слепое орудие.
Конечно, республиканских деятелей из «либерального союза» вроде Фавра или Тьера, этих известных политических мошенников и реакционеров, разоблачить было не так уж трудно. Сложнее обстояло дело с более левыми, такими, как «радикальный демократ» Леон Гамбетта. Этот знаменитый оратор приобрел огромную популярность своим громовым красноречием. Ведь он заговаривал даже о социальной справедливости. Обстановка становилась все сложнее. В мае предстояли выборы в Законодательный корпус. Борьба между империей и республиканской оппозицией приобрела небывалый размах. Какую же позицию занимают социалисты? К сожалению, единой общей позиции нет и в помине. Прудонисты по-прежнему предлагают не вмешиваться в политику. Они просто уступают поле боя буржуазным республиканцам. Варлен настойчиво убеждает своих товарищей активно вступить в борьбу, чтобы подчеркнуть разрыв между рабочими и буржуазией. Ценой упорных усилий Варлену удалось убедить большинство социалистов выдвинуть особую избирательную программу парижских рабочих. В этом интереснейшем документе вместе с демократическими лозунгами уже есть и содержащие социалистические тенденции требования, такие, как превращение в национальную собственность банков и железных дорог. Правда, рассчитывать на успех рабочих, социалистических кандидатов особенно не приходится. Слишком слаба была еще их политическая организация. Видимо, поэтому Варлен и снял заранее свою кандидатуру, выдвинутую в одном из округов Парижа. Оставалось только поддерживать наиболее левых буржуазных демократов, чтобы нанести удар по империи. В результате выборов оппозиция получила полтора миллиона новых голосов. Во всех крупных городах победили республиканцы. Лишь деревня спасла режим от полного поражения. Борьба развертывалась так остро, что дело дошло до массовых столкновений с полицией. Власти арестовали свыше 500 человек. Варлен вместе с другими членами Интернационала организует сбор денег для семей арестованных.
Некоторые из руководителей французских социалистов упрекали Варлена, что он слишком увлекся политикой в ущерб социальным задачам рабочего класса. Так не раз говорил, например, Эмиль Обри. Этот хладнокровный, упорный человек, рабочий-литограф создал секцию Интернационала в Руане. Но он не хотел ни в чем отклоняться от идей Прудона. Поэтому Обри не мог понять глубокой правильности тактики Варлена, который терпеливо в многочисленных письмах и разговорах пытался преодолеть прудонистские заблуждения руанского социалиста. «Вы, по-видимому, считаете, — пишет ему Варлен летом 1869 года, — что в той среде, где я живу, политическими революциями интересуются больше, чем социальными преобразованиями. Должен вам сказать, что для нас революции, политическая и социальная, неотделимы: одна немыслима без другой. Политическая революция сама по себе не будет иметь никакого значения. Но мы хорошо понимаем (этому нас учат обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся), что мы не сможем осуществить социальной революции, пока будем жить под властью такого основанного на произволе режима, как тот, при котором живем теперь».
Да, 29-летний Варлен выступает уже как опытный политик. Простой рабочий сумел подняться настолько высоко в своем интеллектуальном развитии, что был в состоянии самостоятельно проводить верный политический курс в сложнейших условиях Франции, охваченной предреволюционным кипением. Маркс с восхищением отзывался тогда о революционном поведении французских рабочих, о социалистах, блестяще разоблачавших буржуазных республиканцев и проводивших самостоятельную политическую линию. «И вот кипит котел у чародейки-истории», — писал Маркс и выражал надежду, что и в Германии, где его идеи в отличие от Франции уже были восприняты многими социалистами, дело пойдет так же, как во Франции.
В начале сентября 1869 года Варлен едет в Базель на очередной конгресс I Интернационала. Франция представлена самой крупной делегацией. О борьбе французских социалистов много и одобрительно говорилось в отчете Генерального совета, который был написан Марксом. Варлен и большинство французов воодушевлены этим отчетом. Варлен не раз выступает на конгрессе и рассказывает о деятельности Интернационала во Франции, о преследованиях, которым он подвергся.
— Международная ассоциация трудящихся в Париже не умерла, — заявляет Варлен, — напротив, она более жизнеспособна, чем когда-либо!
Это верно по существу, хотя сама французская делегация показала крайнюю организационную слабость секций Интернационала во Франции. По всем основным вопросам она расколота по крайней мере на три части. Какую же позицию занимает Варлен? Ответ на этот вопрос по так-то прост. Сам Варлен вообще довольно скупо и редко выражал свою точку зрения по теоретическим вопросам, вокруг которых в Интернационале кипели страсти. Ведь он прежде всего практик, к тому же сдержанность его характера особенно сказывалась в явной осторожности, с которой он подходил к теоретическим проблемам. Главное внимание он всегда уделяет тому, чего уже сейчас непосредственно требовала жизнь, практическая борьба.
Тем не менее совершенно бесспорно, что Варлен был одним из тех деятелей международного рабочего движения, которые в наибольшей степени способствовали практическим успехам Интернационала. Замечательных результатов он добился в расширении его влияния во Франции, в привлечении к нему передовых рабочих. Именно он, как никто другой из французов, эффективно содействовал устранению реакционного прудонизма, помогая тем самым Марксу в распространении научного социализма.
В Базеле Варлен был среди тех, кто оказался очень близок к идеям Маркса по вопросу о коллективной собственности на землю, о роли профсоюзов. Но по третьему вопросу, из-за которого шел спор, о праве наследования, Варлен проголосовал против предложений Маркса. Сам Варлен говорил на конгрессе, что не считает этот вопрос особенно насущным. Но фактически он просто, видимо, не разобрался в нем, и это можно понять, поскольку решение этого вопроса может быть различным в разных обстоятельствах. В «Коммунистическом Манифесте» Маркс и Энгельс выступали за отмену права наследования как за одну из необходимых мер переходного периода к новому социальному строю. Но во время Базельского конгресса Маркс высказался против того, чтобы рассматривать это в качестве важнейшего требования рабочего класса. Ведь если рабочие смогут добиться отмены права наследования, то что им мешает отменить частную собственность вообще? Ведь главное это, а не право наследования. Иначе думал Бакунин, уводивший пролетариат от правильного пути борьбы. Варлен голосовал за предложение Бакунина.
На этом основании, а также и потому, что Варлен писал в бакунинскую газету «Эгалите», и возникла версия о бакунизме Варлена. Конечно, яркая, самобытная личность знаменитого русского революционера вызывала симпатии Варлена. Ему импонировала страстность этого человека с бурным темпераментом и легендарной биографией. Но он быстро понял, что его пылкая убежденность — всего лишь громогласное заблуждение. Ведь это факт, что вся политическая деятельность Варлена решительно противоречит анархистским, импульсивным и сумбурным действиям бакунистов. Правда, он специально не выступал против них. И это тоже можно понять, ибо Варлен считал тогда главной целью объединение всех рабочих организаций Франции под руководством Интернационала. А ведь во главе многих из них, например в Лионе и Марселе, стояли друзья Михаила Бакунина.
Во всяком случае, здесь еще есть над чем поразмыслить историкам. Ну, а Базельский конгресс в целом был новым успехом социализма. Он звал к борьбе, к социальной революции, что как нельзя более отвечало настроению Варлена. В заключение решили созвать через год следующий конгресс Интернационала в Париже! Да, в том самом Париже, где еще царила империя и где само слово «Интернационал» отождествлялось с государственным преступлением! Какой оптимизм, какая вера в революционные перспективы и возможности французского рабочего класса, наиболее ярким и сильным руководителем которого явно становился Эжен Варлен!
Конечно, в смысле теоретических познаний, образованности Варлен отставал от некоторых социалистов.
— Хотя это произошло не по моей вине, — сказал он как-то, — но мне крайне тяжело, что я ничего не знаю.
Варлен, как всегда, слишком скромен. Ведь в действительности никто из тогдашних французских рабочих деятелей не мог сравниться с ним в умении найти правильные тактические решения, в проведении правильной политики. И эта поразительная способность объяснялась его кровной близостью к массам, пролетарским чутьем, которое подчас важнее книжной эрудиции.
А в это время, как говорил Варлен, «неслась целая лавина стачек». Во второй половине 1869 года забастовочное движение превратилось в настоящую войну между трудом и капиталом. Перечислить все стачки просто невозможно; ведь не было ни одного дня, чтобы где-то рабочие не бастовали. Чаще всего забастовки происходили одновременно в разных городах Франции. Особенно ожесточенной была стачка шахтеров Кантенских коней. Здесь 17 июня в Рикамари произошли столкновения рабочих с войсками. 11 рабочих было убито; власти привлекли к суду 72 шахтеров. Выстрелы снова загремели во время стачки шахтеров Обена в октябре 1869 года, где от пуль погибло 14 человек. Не все стачки кончались победой. Подчас рабочие, сломленные голодом, вынуждены возвращаться на работу, не добившись никаких уступок. Победа завоевывалась там, где стачки были хорошо подготовлены, где забастовщики получали помощь от своих товарищей. Этим и занимался сейчас Варлен. Фактически к нему сходились важнейшие нити руководства грандиозным забастовочным движением. Он пишет десятки писем в день, встречается и беседует с множеством людей. Нужны были деньги, много денег. Через руки Варлена проходят сотни тысяч франков. Он тщательно, расчетливо относится к забастовочным фондам, собранным среди рабочих. Иногда он сдерживает рвение рабочих. «Подождите с забастовкой, ведь у нас больше нет ни гроша», — пишет он в одной из многочисленных записок, которые он рассылал во все концы Франции.
Но Варлен отнюдь не переоценивает значения борьбы рабочих за удовлетворение экономических требований. Ведь хозяева вскоре различными махинациями сводили на нет вырванные у них уступки. «Стачка, — писал Варлен, — представляет порочный круг, в котором как бы бесконечно вращаются усилия рабочих… Однако с точки зрения организации революционных сил труда она является превосходным средством».
Организация революционных сил — вот главная задача Варлена. Он добивается того, чтобы стачка, как правило, заканчивалась присоединением рабочих к Интернационалу, хотя его организации в общефранцузском масштабе еще не существует. Фактически же количество членов Интернационала бурно растет, увеличившись только в последние месяцы 1869 года на несколько десятков тысяч человек. Поль Лафарг писал в октябре Марксу: «Самое важное сейчас то, что создается социалистическая партия». Несколько позже он сообщает Марксу, что в этом деле Варлен «пользуется наибольшим влиянием».
Варлен методически шаг за шагом добивается сплочения пролетарских сил. 14 ноября 1869 года благодаря в первую очередь его усилиям создается Федеральная палата рабочих обществ. Сначала в федерацию входят 20 таких обществ, а через несколько месяцев их уже 40. Варлен был избран секретарем федерации. Вскоре недалеко от Ратуши на площади Кордери нашли помещение с залом, напоминавшим классную комнату. Варлен предоставил секциям Интернационала возможность проводить здесь свои заседания. Это способствовало сближению федерации с Интернационалом. Отныне на площади Кордери расположился штаб парижского пролетариата.
Здесь все чаще поднимаются политические вопросы. Варлен доказывает своим товарищам, среди которых еще многие с прудонистским пренебрежением относятся к политике, необходимость участия во все сильнее разгоравшейся борьбе против империи. Более того, Варлен отстаивает смелую мысль о том, что рабочий класс должен возглавить антибонапартистское движение.
«Нынешнее положение Франции, — заявляет Варлен, — не позволяет социалистической партии держаться в стороне от политики. В настоящий момент вопрос о близком падении империи берет верх над всем остальным; социалисты во избежание политического банкротства должны стать во главе этого движения».
Именно поэтому Варлен выступил за то, чтобы на частичных выборах в Законодательный корпус в ноябре 1869 года социалисты поддержали кандидатуру Анри Рошфора. Он не питал никаких иллюзий в отношении знаменитого памфлетиста. Варлен знал, что тот лишь левый радикал, и не более. Но популярность Рошфора могла принести пользу социализму. Варлен сразу поддержал идею объединения социалистов с Рошфором для издания совместной газеты. 19 декабря выходит первый номер «Марсельезы». Кроме Варлена, в выпуске газеты участвуют и другие видные социалисты. Здесь бланкисты Флуранс и Риго, революционные демократы Валлес, Мильер и другие. Среди них люди разных взглядов. Но они решили объединиться и использовать газету не только как орудие борьбы против империи, но и как трибуну социализма. «Основатели намерены не только вести пропаганду, — писал Варлен, — но также сплотить воедино социалистическую партию в Европе, установить при помощи газеты постоянную связь между группами — одним словом, подготовлять европейскую социальную революцию». В газете «Марсельеза» Варлен напечатал немало статей. Они показывают Варлена как одного из наиболее зрелых социалистических публицистов тогдашней Франции. Глубиной мысли, четкостью постановки политических проблем он явно превосходит профессиональных журналистов социалистического направления.
Правда, в отношении теоретических проблем социализма и Варлен, подобно писавшим в «Марсельезе» Верморелю или Мильеру, сохраняет немало иллюзий. Хотя он в политике выступает против прудонистов, в его взглядах сохраняются некоторые отголоски теорий Прудона. В марте 1870 года в статье «Рабочие общества» Варлен высказывает свои соображения о будущем социализме. Он отвергает идею централизации экономической жизни и пишет, что трудящиеся должны сами «свободно располагать и владеть орудиями производства» и «приносить на обмен продукты своего труда по цене, равной издержкам производства, с тем, чтобы образовалась система взаимности услуг между работниками различных профессий».
А положение в стране все обостряется. Империя пытается спасти себя различными маневрами. 2 января формируется либеральное правительство Эмиля Оливье. Но уже через неделю события вызывают новый взрыв всенародного возмущения. 10 января принц Пьер Бонапарт, двоюродный брат императора, убил молодого журналиста, сотрудника «Марсельезы» Пьера Нуара. Это наглое убийство среди бела дня возмутило весь парижский народ. 12 января в Нейи, откуда гроб с телом убитого должен отправиться на кладбище, собирается свыше ста тысяч человек. Воздух оглашается криками: «Да здравствует республика!», «Долой Бонапартов!», «К Пер-Лашез!» Этот последний лозунг означает, что народ должен пройти через центр Парижа, по Елисейским полям. Но там его ждут десятки тысяч солдат. Империя, не веря в успех своих либеральных маневров, жаждет кровопролития. Неистовый революционер Гюстав Флуранс нетерпеливо зовет к восстанию. Анри Рошфор, который вчера в «Марсельезе» вновь заклеймил царствующее семейство убийц, колеблется. Старый революционер Делеклюз видит угрозу западни.
Хотя Интернационал и рабочие профсоюзы не приняли никаких решений и их руководители накануне даже не совещались, все они здесь. В толпе и Варлен. Он видит опасность этой провокации. К счастью, Делеклюз удержал Флуранса, и кровопролитие предотвращено. Варлен своим авторитетом также стремится доказать товарищам, что преждевременное восстание заранее погубит революцию. В письмах, беседах, выступлениях он требует методически готовить революцию. В результате, как он писал Обри, руководителю Интернационала в Руане, «мы решили внимательно следить отныне за политическим движением и во всех случаях предварительно обсуждать необходимые шаги. Настроение сейчас повышенное, революция подвигается, и мы не должны допустить, чтобы нас захлестнула стихия».
Отныне жизнь Варлена становится особенно напряженной. Кроме организации революционных сил, он отдается делу непосредственной подготовки и осуществления революции. Предостерегая от необдуманных, стихийных действий, он требует хорошо выбрать момент выступления. Он договаривается с социалистами Марселя, Лиона и других городов о том, что они должны поддержать Париж. Варлен стремится подготовить и объединить действия всех промышленных центров. Он предостерегает от опасности доверия буржуазным республиканцам, говорит о необходимости показать их подлинное антиреволюционное лицо. И, наконец, он упорно предлагает социалистам думать о том, какие немедленные меры следует принять сразу после революции, — о том, как приступить к созданию нового общества. Варлен пишет и рассылает множество писем. В них вырисовывается все более целеустремленная революционная тактика, сочетающая осторожность и осмотрительность с беззаветной революционной страстью.
А события буквально обгоняют друг друга. 19 января вспыхивает новая стачка в Крезо. Владелец шахт и заводов этого района Шнейдер является одновременно председателем Законодательного корпуса. Он направляет против рабочих четыре тысячи солдат. Следуют столкновения, аресты, суды. Интернационал в лице Варлена и его друзей энергично поддерживает забастовщиков. Затем в феврале возникает сильное волнение из-за ареста Рошфора. В тюрьму брошены и другие члены редакции «Марсельезы». Варлен публикует заявление протеста и вновь призывает не торопить революцию нетерпением и стихийными жестами: «Революция должна сама выбрать свой час!»
Но полиция уже получила ордер на арест Варлена.
При этом пытаются арестовать его так, чтобы он оказал сопротивление и дал повод для осуждения. В воскресенье 13 февраля, когда Варлен с группой товарищей выходит после заседания правления кооператива «Мармит», их окружают полицейские. Друзья хотят защитить Варлена, но он удерживает их и срывает провокацию. Варлен в тюрьме Санте. В его комнате на улице Дофин произведен тщательный обыск. 14 дней Варлену не предъявляют никаких обвинений и даже не допрашивают. 27-го его неожиданно освобождают. Чувствуется, что это лишь репетиция, что власти готовят серьезный удар по Интернационалу. Друзья уговаривают Варлена быть осторожнее и умерить свой революционный пыл.
«И вы хотите, — отвечает Варлен одному из них 8 марта, — чтобы я был менее революционен при подобном положении вещей, которое ухудшается с каждым днем? Когда совершенно исчезнут с лица земли произвол и несправедливость, когда на земле будут царствовать свобода и справедливость, только тогда я не буду революционером, но до той поры знайте, что чем больше будут обрушиваться на меня удары деспотизма, тем больше я буду озлоблен против него и тем больше буду для него опасен. Напрасно вы думаете хотя бы одно мгновенье, что я пренебрегаю социальным движением ради политического! О нет! Я делаю революционное дело исключительно с социалистической, истинно социалистической точки зрения… Но вы должны основательно понять, что никаких социальных реформ мы не можем осуществить, пока не уничтожен старый политический строй!»
В письме весь Варлен. За скромной внешностью обаятельного, благородного, своеобразно-утонченного, еще совсем молодого человека скрывается душа мужественного, твердого как сталь революционера, знающего поистине «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть»!
Итак, Варлен на свободе, а следовательно — в борьбе. Он едет в Лион. Здесь 13 марта он председательствует на большом митинге в зале Ротонда по случаю основания единой лионской секции Интернационала. Здесь же состоялось совещание делегатов других крупнейших секций Франции. Обсуждается вопрос о политической линии социалистов. Руководитель социалистов из Марселя Бастелика и Ришар из Лиона, друзья Бакунина, склоняются к воздержанию от политики. Варлен энергично убеждает их не обрекать рабочий класс на пассивность. Ему удается в значительной степени преодолеть анархистские настроения своих друзей.
Из Лиона Варлен выезжает в Крезо. 18 марта, ровно за год до Коммуны, он проводит совещание, на котором под его влиянием принимается решение основать здесь секцию Интернационала.
Кстати, вскоре в Крезо побывал по заданию редакции «Марсельезы» Бенуа Малой. Он писал оттуда парижскому социалисту Комбо: «Я прошу тебя пожать от моего имени руку Варлену и сказать ему, что его пребывание принесло ему необычайную популярность, что мне был здесь оказан наилучший прием благодаря его письму, а не мандату Марсельезы».
А Варлен уже в Париже. Преодолевая сопротивление прудонистов, он добивается объединения 14 парижских секций. Это объединение официально произошло 18 апреля. Редакция «Марсельезы» собрала 1300 членов Интернационала и делегатов рабочих обществ. Председателем единодушно избирается Варлен. Его выступление встречено бурей аплодисментов. Утверждается устав парижской федерации Интернационала. На собрании царила радостная атмосфера революционного энтузиазма и стремления к сплоченной организации. Лафарг, присутствовавший там, с восторгом писал Марксу: «Как счастливы были бы Вы, рыцарь классовой борьбы, присутствовать при проявлении этих чувств!»
Усилия Варлена приносят плоды; уже созданы четыре местные федерации Интернационала: парижская, лионская, марсельская, руанская, множество секций в других городах. Число членов Интернационала колоссально возросло!
Но Варлен занимается не только организацией Интернационала. Ожесточенные забастовки непрерывно и все более грозно потрясают страну. Еще 21 марта вспыхнула новая стачка на заводах Шнейдера в Крезо. 8 апреля начинают бастовать две тысячи металлистов в Фуршамбо. В середине апреля бросают работу литейщики Парижа. Как и прежде, Варлен откликается на каждую стачку. Организует денежную помощь забастовщикам, помогает им советами, разъясняет смысл стачек в печати. И, конечно, стремится привлечь забастовщиков к организованному социалистическому движению, к Интернационалу. Друзья поражались неиссякаемой энергии Дарлена. Когда же он успевал спать? Ведь не надо забывать, что, будучи одним из крупнейших руководителей французского рабочего класса, Варлен не бросал ремесло переплетчика и зарабатывал на жизнь своими руками. Ему и в голову не приходила мысль жить за счет скудных ресурсов рабочих организаций, за счет тех, кому он столь беззаветно отдавал все свои поистине сверхчеловеческие усилия!
А империя, балансируя на краю пропасти, лихорадочно ищет способы удержать власть. 20 апреля издается новая конституция и назначается плебисцит. Избирателям предлагается ответить на поистине иезуитский вопрос: одобряют ли они либеральные законы, изданные империей за десять лет? Если ответить отрицательно — значит отвергнуть либеральный курс, который все же дал кое-что; ответить утвердительно — значит одобрить дальнейшее существование империи. Варлен и его друзья призывают рабочий класс воздержаться от голосования и продолжать борьбу за демократическую и социальную республику.
Правительство накануне плебисцита решает одним ударом обезглавить главного врага — Интернационал. Полиция состряпала легенду о подготовке покушения на жизнь императора. Принадлежность к Интернационалу вновь объявляется преступлением. 30 апреля отдан приказ об аресте социалистических лидеров.
Но Варлена нет в Париже. Еще 21 апреля он выехал в Крезо, чтобы помочь жертвам полицейских преследований в ходе стачки и поддержать дух деморализованной секции Интернационала. Оттуда он едет в Шалон-сюр-Сен, где останавливается у адвоката и старого революционера Бойсе. Здесь ему сообщают, что отдан приказ о его аресте и что полиция ищет его. Бойсе советует ему скрыться и предлагает необходимую сумму денег, чтобы уехать за границу. Сначала Варлен соглашается и уже садится в поезд, идущий в Швейцарию. Но, пораздумав, он пересаживается в другой, чтобы ехать в Париж и разделить судьбу своих арестованных товарищей. Конечно, за его домом уже наблюдает полиция, и с вокзала он отправляется к старому другу, переплетчику Ланселену. Здесь сразу же собираются рабочие-активисты. Они и слышать не хотят о том, чтобы Варлен отдался в руки властей. Кто может заменить его в надвигающихся событиях? И что изменит его выступление на суде, если приговор заранее известен? Нет, в интересах общего дела он обязан скрыться, решают все единодушно, и Варлен подчиняется этому решению. Полицейские агенты выслеживают его на Лионском вокзале, но он уезжает в Брюссель с Северного.
В Бельгии верные друзья встречают его с распростертыми объятиями. Первым делом ему необходимо, чтобы существовать, найти работу. Но как только хозяева узнают его имя, он наталкивается на решительные отказы. Он уже приобрел международную репутацию революционера! Варлен выбирает себе звучащее по-фламандски имя Анри Барфельда и живет под этим вымышленным именем. Зарабатывает он гроши, но его потребности невелики; с нищетой он никогда не разлучался.
V
В изгнании Варлен живет только известиями с родины. Он следит за третьим процессом Интернационала, где его друзья мужественно отстаивают социалистическое дело. Они осуждены. Заочно приговорен к году тюрьмы и Варлен. Французский Интернационал снова обезглавлен. Но намного ли это продлит существование империи? Луи Бонапарт бросается к крайнему средству — к войне. Начало франко-прусской войны наносит новый удар социалистическому движению во Франции; народ поддался шовинистической эпидемии. Варлен с тоской следит за событиями в Париже, видя, как разрушается то, ради чего он сделал столь много. Еще неокрепшие, идейно противоречивые, слабо связанные между собой секции Интернационала не выдержали испытаний. В письмах к друзьям Варлен выражает глубокую горечь и негодование по поводу всех этих событий.
А сообщения о первых сражениях французов с пруссаками прозвучали, как гром среди ясного неба. Хваленая наполеоновская армия, которая шла к Рейну под крики «На Берлин!», сразу же стала терпеть поражение за поражением. Враг за несколько дней захватил Эльзас и Лотарингию, осадил Страсбург. Иллюзии рассеялись. 9 августа толпы парижан, преимущественно рабочих, окружили Законодательный корпус. Но у них не было вождей, а буржуазные республиканцы боялись социальной революции как огня. Империя устояла.
19 августа Варлен пишет в Париж Марии Яцкевич, переплетчице и члену Интернационала: «Что предпринимает Интернационал среди этого большого шовинистического движения? Вы не представляете себе, как я томлюсь и скучаю в изгнании. Меня беспокоит все, что происходит сейчас в Париже, хотя парижане проявили себя недостойными моего уважения во время последних событий, связанных с войной, — я бы хотел быть в Париже, чтобы лично видеть народные манифестации и действовать сообразно необходимости… Что же случилось с Интернационалом среди этой двойной волны шовинизма, влекущей две великие нации, на которые мы так надеялись, к ужасному взаимному истреблению?.. Почему парижский народ при первых же неудачах не сверг империю и не поставил революционную Францию лицом к лицу с прусским королем? По крайней мере в случае продолжения войны было бы за что драться, тогда как теперь тысячи людей проливают кровь за Наполеона III и Вильгельма I. Как все это прискорбно!»
Варлен мечтает о революции. Он уже узнал, что 14 августа кучка заговорщиков, друзей Бланки, пыталась с оружием в руках захватить казарму пожарных в Ла Впллет. Как всегда, Бланки не повезло, народ его не поддержал, отчаянный штурм не удался. И Варлен пишет в том же письме: «Я хотел бы видеть, как империя и все связанное с ней будут свергнуты революционным движением. Но, право, инициаторы этого нападения — безумцы: они не догадываются, что, прежде чем призвать парод к восстанию, надо пощупать у него пульс, чтобы узнать — есть ли жар…» И Варлен просит срочно написать ему о делах французских секций Интернационала. Варлен не представляет себе революции без массовых организаций пролетариата….
Между тем новые события развиваются стремительными темпами. Армия Наполеона III после жалкого топтания на месте 2 сентября в сражении под Седаном терпит сокрушительное поражение. Император сдается в плен. Уже 4 сентября в Париже — революция, оказавшаяся тем более легкой и бескровной, что империя как бы рухнула сама собой. Толпы народа окружили Законодательный корпус и заставили лидеров оппозиции провозгласить республику. Образовалось правительство «национальной обороны». Оно состояло из людей, которые с самого начала оборонялись лишь от одного врага — от рабочего класса. Правда, в него включили Рошфора, чтобы придать правительству «революционный» характер. Но Рошфор не пользовался реальной властью, а вскоре вообще вышел в отставку. Остальные члены правительства были именно теми буржуазными республиканцами, которым Варлен давно уже не доверял и не раз разоблачал их антипролетарскую душу. Узнав о крушении империи, Варлен немедленно выезжает в Париж.
Первым делом Варлен отправился на площадь Кор-дери. По темной и узкой лестнице он быстро поднимается на третий этаж. Вторая дверь справа открывается в зал заседаний парижской секции Интернационала, зал широкий, но низкий, на голых стенах которого кое-где наклеены политические афиши. В глубине на эстраде стол, составленный из еловых досок, лежащих на козлах. За столом и у стен на скамьях десятка полтора человек. Варлена радостно встречают друзья. Многие из них, осужденные на недавнем, третьем процессе Интернационала, только что из тюрьмы. Варлен быстро узнает новости. Империя пала, но положение сложное. Что должен делать Интернационал в новых условиях? Раньше война была ненавистна социалистам. Императорская клика сама стремилась к ней, война была династической, агрессивной. Но сейчас враг двигается к Парижу, он нагло заявляет о намерении отторгнуть от Франции Эльзас и Лотарингию. Следует ли поддерживать правительство «национальной обороны» или выступать против него, поскольку его возглавляют заведомые враги рабочего класса? Большинство членов Интернационала, так же как и подавляющее большинство рабочих, за войну, но войну всенародную, революционную, как во времена Великой революции в 1792–1794 годах. Однако разве способно на это правительство, возглавляемое закоренелым реакционером генералом Троило и прожженным политиканом Жюлем Фавром, имевшим заслуженную репутацию не только злобного врага рабочих, но и мошенника, уличенного в подлогах, двоеженстве и других грязных делах?
Мало способствовал прояснению смутной ситуации и приехавший из Лондона представитель Генерального совета Интернационала Огюст Серрайе. Этот молодой рабочий-сапожник стал пылким социалистом. Сейчас он горячо требовал революционных действий против правительства. К сожалению, правильные тактические предложения часто перемежались у него с наивными иллюзиями, он был очень слаб в политическом отношении. Серрайе говорил и с Варленом, который не почувствовал в словах своего собеседника реального представления о положении во Франции. Тем более что Серрайе привез с собой воззвание Генерального совета, написанное Марксом. Призывы Серрайе трудно было согласовать с некоторыми местами воззвания. Маркс, указывая на весьма сомнительный состав правительства и предостерегая от доверия к нему, писал: «…французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство, тогда как неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы отчаянным безумием. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг… Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, чтобы основательнее укрепить организацию своего собственного класса».
Варлен, подобно своим товарищам, тоже чувствовал себя в затруднительном положении. Он решил прежде всего исполнять свой гражданский долг и поэтому энергично берется за организацию Национальной гвардии, народного ополчения в VI округе Парижа, где он теперь поселился, на улице Турнон, в доме 16, недалеко от его прежнего жилища на улице Дофин, тоже на левом берегу Сены. Варлена назначили командиром 193-го батальона, в котором насчитывалось 1504 бойца. Среди офицеров этого батальона поляк Домбровский, впоследствии генерал Коммуны.
Но Варлен отнюдь не пренебрегает политикой. Он больше всего озабочен организацией революционных сил и терпеливо ищет путей и средств восстановления влияния Интернационала. Он видит новую и грозную силу, появившуюся недавно: Национальную гвардию. В Париже было сформировано 254 батальона, в которых насчитывалось около 300 тысяч человек, то есть почти все годное к военной службе мужское население. Конечно, во главе Национальной гвардии стоял командующий, назначенный правительством из числа самых реакционных генералов. Но почему бы вооруженному народу не иметь своего, демократически избранного, единого парижского центра? Уже существовали в каждом из двадцати округов Парижа народные комитеты бдительности. Но более серьезное значение имело создание в начале сентября Центрального республиканского комитета 20 округов, который не случайно избрал местом заседаний площадь Кордери. Варлен — один из самых энергичных инициаторов создания этого комитета. Уже в сентябре в комитете заговорили о необходимости Коммуны…
Каждый день приносит разочарование тем, кто поверил в искренность руководителей правительства «национальной обороны», обещавших организовать такую оборону. Никаких активных действий французская армия не ведет, она отступает, и 18 сентября пруссаки полностью окружают Париж. Начинаются осада, голод, артиллерийские обстрелы. А бездействие правительства все очевиднее.
Революционеры из бланкистов организуют массовые демонстрации. Парижане требуют проведения муниципальных выборов, оружия и решительных боевых действий. 8 октября Гюстав Флуранс, один из самых известных и смелых сторонников Бланки, повел к Ратуше 19 батальонов Национальной гвардии. Варлен отвергает заговорщические действия бланкистов. Но теперь речь идет о массовых выступлениях. И он участвует в демонстрации.
Это привело к последствиям, которые можно было ожидать, ибо возглавляемый Варленом 193-й батальон Национальной гвардии отнюдь не отличался революционностью. Здесь немало буржуа, уже и до этого нападавших на Варлена. Они твердили, что командир вовлечет батальон в борьбу против правительства. Варлен не из тех, кто готов цепляться за должности и чины. Он подает в отставку. Тем более что у него были занятия поважнее. Он пытается восстановить прежнюю силу и влияние Интернационала, от которых сейчас мало что осталось. Практически от прежней организации сохранилась лишь довольно малочисленная группа активистов, а основная масса членов растаяла. Развал начался еще при империи из-за судебных преследований. Потом националистический угар, охвативший массы рабочих и ремесленников, обратил все их помыслы не к борьбе с хозяевами, а к защите оказавшейся в опасности родины. Почти все рабочие Парижа вступили в Национальную гвардию и жили на жалованье в полтора франка, или 30 су в день. Теперь они даже не могли платить взносов в секции Интернационала. К тому же руководство французской секции Интернационала все еще не имело ясной политики, программы борьбы, оно не смогло выдвинуть какие-то свои лозунги, за которыми бы пошли тысячи. Еще силен дух аполитичного прудонизма, и Вардену вновь и вновь приходилось упорно рассеивать предубеждения своих товарищей в отношении политической деятельности. Сейчас, в грозной революционной обстановке, несравненно большим влиянием пользовалась партия Бланки, характер которого, его пламенные призывы так соответствовали тогдашним настроениям народа. Бланкисты практически имели свою организованную партию, а организация Интернационала оказалась обессиленной, почти не существующей. А без организации в политической борьбе нельзя сделать ничего серьезного. Поэтому Варлен в это время и не играет крупной роли в развертывавшихся событиях, хотя он неизменно в их гуще, порой как рядовой участник демонстраций и митингов.
Конечно, надвигавшаяся революционная буря радовала сердце Варлена. Париж страдал, голодал, негодовал, но как кипели революционные страсти, как горячо народ рвался к борьбе! С тем более тяжелым чувством Варлен наблюдал хаос идей, царивший среди революционеров, их явную неспособность к последовательным, целеустремленным действиям. Бессилие Интернационала особенно тревожило его. Варлен считал, что для подготовки к революции секциям Интернационала потребуется еще год-два. За это время можно было бы составить основательную революционную программу, сплотить социалистов. Но как развернутся события? Что, если, обрушившись внезапно, они застанут врасплох нестройные и сильно поредевшие ряды членов Интернационала?
Но надо было жить и бороться. Варлен не может сидеть сложа руки, даже если будущее и не сулит ничего определенного. Солдат, бросающий поле боя из-за неверия в своих командиров, из-за того, что борьба, как ему кажется, безнадежна, все равно считается дезертиром. Что бы ни происходило вокруг, надо прежде всего выполнять свой долг — таков основной жизненный принцип Варлена.
Железное кольцо осады все теснее сжимает горло Парижа. Народ голодает, а правительство «национальной обороны» предоставляет ему полную свободу умирать с голоду. Хлеб, продаваемый парижанам, больше напоминает глину. Съедены животные Зоологического сада. Конина — деликатес! Пошли в ход собаки и крысы. Но и этим кушаньем может полакомиться не каждый: фунт собачьего мяса стоит пять франков, крысы идут по два-три франка за штуку! А ежедневное жалованье национального гвардейца составляло полтора франка.
Варлен занят теперь организацией продовольственного снабжения жителей рабочего района Батиньоль. Он стал секретарем мэрии XVII округа Парижа, где заместитель мэра — его друг Бенуа Малой. А ему нужен был человек безукоризненной честности и твердой воли, чтобы спасать от голода детей рабочих. Малой не раз восторгался Варленом, который, экономя каждый сантим общественных денег, напряженно работал, чтобы добыть для голодающих людей пропитание. В архивах чудом сохранились счетные книги мэрии XVII округа, которые вел Варлен. С какой аккуратностью, тщательностью учтены здесь каждый франк, каждый фунт хлеба! Ему пригодились знания, которые он приобрел в юности, изучая счетоводство на вечерних рабочих курсах. Варлену нисколько не претила эта скучная, кропотливая, однообразная работа; он делал это для народа! Одновременно с работой в мэрии он занят делами рабочих кооперативов, прежде всего основанного им «Мармита», который помог пережить блокаду многим рабочим семьям.
Чтобы находиться поближе к своей работе, Варлен в ноябре переселяется с улицы Турнон в Батиньоль, где снимает комнатушку в дешевой гостинице на улице Лакруа, 27. Это было его последнее жилище…
Немало забот требует от Эжена и семья. Конечно, его брат Ипполит обходится и без его помощи; он тоже вступил в Национальную гвардию. Но надо помогать младшему, Луи, который неизлечимо болен и не может прокормиться сам. К тому же война обрушилась и на родителей Эжена. Вместе с другими жителями, бегущими от наступавших немцев в Париж, они вынуждены бросить свой домишко. Старику Эме Варлену особенно обидно, ибо как раз выдался хороший урожай винограда. И вот все добытое тяжким трудом пришлось бросить. Поселились старики у брата матери, у дядюшки Дюрю, где Эжен начинал свою самостоятельную жизнь. Старики не перестают волноваться за свой дом. Однажды, узнав, что немцы еще не дошли до Клэ, отец не выдерживает и пешком идет домой. Дом цел, и в нем не немцы, а французские солдаты. Но, боже мой, от этого не легче. Солдаты опустошили бочки с вином и перевернули все вверх дном. Немцы приближаются, и старик, убитый горем от потери всего, едва передвигаясь вместе с толпой беженцев, возвращается в Париж совершенно больным. Несколько недель спустя он умирает в больнице Сент-Антуан, и Эжен Варлен везет на кладбище своего скромного, трудолюбивого, доброго отца.
Тем временем положение в Париже непрерывно обостряется. Ранним утром 22 января 1871 года в районах Батиньоля и Бельвиля тревожно загрохотали барабаны Национальной гвардии. К мэрии XVII округа по одному или группами по нескольку человек спешили национальные гвардейцы. В густом, холодном тумане мелькали их фигуры. Среди первых здесь были Варлен и Бенуа Малой. Долго стояли, обменивались слухами, новостями. Толком никто не знал, что же предстоит делать. Затем вслед за барабанщиком с трехцветным знаменем, на конце древка которого прикреплен фригийский колпак — символ революции, двинулись к Ратуше. Настроение у всех мрачное, но решительное. Уже два дня гвардейцы возмущенно обсуждали результаты вылазки Национальной гвардии в Бюзенвале. Правительство «национальной обороны» наконец-то согласилось атаковать пруссаков и дать Национальной гвардии, рвавшейся в бой, возможность скрестить оружие с врагом. Гвардейцы проявили чудеса храбрости, захватили укрепления и важные пункты, хотя потеряли много бойцов. А затем последовала команда отступить. Никто до этого не понимал тактических маневров генерала Трошю. Но под Бюзенвалем даже у самых наивных окончательно раскрылись глаза. Одно слово у всех на устах: измена! Так оно и было, ибо если даже прусские офицеры сами направляли бы действия парижских национальных гвардейцев, то и тогда вряд ли удалось бы провести столь пагубную для французов операцию. Но, с точки зрения Трошю, Жюля Фавра и других руководителей правительства «национальной обороны», в этой затее был несомненный, хотя и зловещий смысл. Они хотели дать наглядный урок вооруженному населению Парижа: дальнейшая оборона невозможна. Трошю и Фавр уже давно тайно готовили капитуляцию, о которой сейчас узнали все. Эти два иезуита действовали настолько грубо, что возмущение достигло предела. Еще вчера национальные гвардейцы освободили Флуранса из тюрьмы Мазас. А сегодня его друзья Риго, Дюваль, Сапиа вели гвардейцев к Ратуше. Если 31 октября прошлого года плачевно закончившийся поход на Ратушу был еще относительно мирным, то теперь настроение накалилось. Говорили только о свержении правительства, повторяя заключительные слова знаменитой «красной афиши»: «Место народу! Место Коммуне!»
Было уже три часа, когда 91-й батальон, во главе которого шел Варлен и его друзья, появился на улице Риволи. В этот момент с Гревской площади перед Ратушей раздался треск выстрелов. Перестрелка длилась недолго. Правительство встретило гвардейцев непродолжительным, но жестоким огнем из окон Ратуши. Было убито и ранено около 50 человек. Совершенно неорганизованные батальоны национальных гвардейцев отступили. Вновь, как обычно, узкая группа отважных, но непредусмотрительных заговорщиков-бланкистов не позаботилась о предварительной организации дела. Вот почему Варлен и другие члены Интернационала не доверяли Бланки. Правда, Варлен в отличие от многих своих друзей никогда лично не уклонялся от поддержки революционных выступлений, как это было и 22 января. Но действовать совместно с другими группами социалистов, особенно с бланкистами, самыми решительными из всех, Интернационал не смог. Среди руководителей Интернационала не было единства, большинство их не ставило вопроса о захвате власти. Варлен понимал, что, располагая столь ограниченным влиянием, Интернационал самостоятельно не способен организовать эффективное выступление. За два дня до событий 22 января Варлен участвовал в очередном заседании па площади Кордери. Обсуждалось намерение булочников — объявить (в разгар голода!) забастовку! Варлен высказался против. На заседании много говорилось о необходимости создания своей газеты. Ничего определенного не решили, хотя никого не надо было убеждать, что газета нужна. Но где взять денег? На заседании царил пессимизм. Оптимизма не обнаружилось и на следующем заседании, 26 января, где Варлен констатировал с грустью, что парижское бюро Интернационала по-прежнему штаб без армии, в котором к тому же царит разброд. Парижские секции Интернационала оказались расколотыми на две части.
После того как 28 января правительство официально согласилось на капитуляцию, 8 февраля должны были состояться выборы в Национальное собрание. Огюст Серрайе, представитель Генерального совета Интернационала, еще в октябре прошлого года не смог найти общего языка с французскими интернационалистами. Тогда он объединил поддержавшие его одиннадцать секций и в противовес прежнему федеральному совету организовал второй такой совет. На выборах в Национальное собрание он отказывался от любого сотрудничества с другими левыми. Никакого реального успеха деятельность Серрайе не принесла и на выборах. Варлен, неплохо относившийся к самому Серрайе, тем не менее считал, что если ослабленный, дезорганизованный Интернационал выступит обособленно, то его влияние будет вовсе сведено к нулю. Союз с бланкистами, якобинцами, такими, как Делеклюз, просто с левыми республиканцами оставался единственным выходом. Варлен поэтому поддерживал выдвижение единого списка от Интернационала, Федеральной палаты рабочих обществ и комитета 20 округов. Четверо из этого списка — друг Варлена Малой, а также Пиа, Гамбон и Толен — были избраны депутатами. Выдвигалась кандидатура и самого Варлена. Но избирательная кампания за него практически не велась. Не удалось организовать предвыборных собраний, не было своей газеты, и, конечно, крайне не хватало денег. И хотя Варлен не прошел, он тем не менее собрал 58 тысяч голосов. А ведь Бланки, пользовавшийся огромной популярностью, получил всего 50 тысяч!
Как ни смутна и хаотична была обстановка проведения выборов, в Париже их итог оказался совершенно ясен: народ против позорной капитуляции, против национальной измены, за обновление и оздоровление Франции, за республику. Но ведь Париж, как ни велико его значение, еще не вся Франция. В целом по стране выборы дали удручающий результат. Из 700 депутатов 400 оказались отъявленными монархистами. Единственно, что мешало осуществлению их вожделений, — раскол среди них. Одни были за реставрацию королевской власти Бурбонов, другие склонялись к орлеанской династии, а третьи оставались бонапартистами. Их объединяла только ненависть к Парижу. Великий город, совершивший за сто лет три революции, приводил их в бешенство. Оперный театр в Бордо, где собралось Национальное собрание, еще не видел такого зрелища. Здесь бесновалось все, что было во Франции отсталого, косного, трусливого и подлого. Пусть пруссаки берут, что им нужно, мир любой ценой, лишь бы обуздать красный Париж! Депутатов от Парижа оплевывали, народ, пославший их, оскорбляли, гнусные выдумки выдавались за истину. Особую ненависть вызывала Национальная гвардия Парижа. Ей, а не продажным политикам и опозорившимся генералам ставили в вину капитуляцию. Национальное собрание достойным образом выразило свою жалкую суть, передав власть Адольфу Тьеру, которого Маркс назвал «чудовищным недоноском». Война против Парижа, уничтожение Национальной гвардии, лакейское раболепие перед иноземным врагом, расправа с рабочим классом — вот его политика с самого начала!
Неужели мало перестрадали труженики Парижа, чтобы на них обрушилось это новое бедствие, которое в их устах выражалось двумя словами: «деревенщина» — Национальное собрание, избранное отсталой и одураченной провинцией, и «футрике» — карлик, это чудовище Тьер? Менее чем за один год парижанам пришлось увидеть трагический фарс крушения империи, позорный разгром французской армии, вражескую осаду, голод, двуличие, подлость Трошю и Фавра. Казалось, чаша терпения и так уже переполнена. Но нет! На трудовой Париж, задыхающийся от возмущения и негодования, сжимающий кулаки от гнева, сыплются одно за другим новые оскорбления, притеснения, новые бедствия.
Тьер и «деревенщина», ослепленные ненавистью к революционному Парижу, принимают одно преступное решение за другим. Они отменяют прежний порядок выдачи жалованья национальным гвардейцам, эти несчастные 30 су, которые кое-как поддерживали существование рабочих семей. Они назначают командующим Национальной гвардией генерала Ореля де Паладина, опозорившего себя бездарностью и трусостью. «Он не умеет сражаться, зато умеет расстреливать своих солдат», — говорили о нем. Они отменяют отсрочку внесения квартирной платы, и сотням тысяч бедняков грозит выселение. Они закрывают республиканские газеты и приговаривают к смертной казни любимцев народа Бланки и Флуранса. Отменяется отсрочка погашения долгов по векселям, и множеству мелких ремесленников и торговцев грозит полное разорение. Они мешают доставке в Париж продовольствия. Они угрожают, клевещут на великий город, объявляя его скопищем бандитов, анархистов, варваров, разрушителей. Наконец, избрав Версаль, бывшую королевскую резиденцию, местом заседаний Национального собрания, они лишают бессмертный город, славный Париж звания столицы Франции!
Тьер и монархическое охвостье «деревенского» парламента надеялись, что Париж, истощенный, измученный осадой, деморализованный военным разгромом, путаницей, демагогией, предательством, покорно склонит голову. Произошло обратное. Он гордо поднимает ее и с поистине сверхчеловеческой смелостью обнаруживает в народном движении гениальную прозорливость масс. Оскорбленное позорной капитуляцией искренне патриотическое чувство сливается с решительным стремлением к социальным и демократическим преобразованиям. Начиная с середины февраля город бурлит. В десятках народных клубов, в рабочих кооперативах, в кружках, объединившихся вокруг редакций демократических газет, просто в кафе и пивных идут яростные споры. Особенно грозный характер они приобретают в батальонах Национальной гвардии, где люди выступают, держа в руках ружья. 300 тысяч вооруженных мужчин, в большинстве своем рабочих, — такая сила, которой правительство не в состоянии пока ничего противопоставить. Середина февраля — период безвластия, быстро превращающегося в двоевластие, что особенно ярко обнаружилось 24 февраля. В этот день годовщины революции 1848 года улицы Парижа представляют собой величественное, небывалое зрелище грандиозной народной демонстрации. Центром ее стала площадь Бастилии, где некогда разразилось самое легендарное событие Великой французской революции. В 1840 году на месте разрушенной королевской тюрьмы воздвигли монументальную колонну, увенчанную скульптурным изображением Гения свободы. Здесь похоронены жертвы революции 1848 года. Сюда и шли труженики Парижа 24 февраля 1871 года. Батальон за батальоном с оркестрами, барабанами, с пением «Марсельезы» и «Карманьолы» направлялись национальные гвардейцы к июльской колонне. Ораторы поднимались на пьедестал и призывали к борьбе за республику, за социальную республику! Эта последняя формула звучала все чаще, вызывая энтузиазм. И вместе с трехцветными национальными флагами повсюду развевались впервые с 1848 года красные флаги рабочего восстания. Кто-то поднялся на вершину колонны и прикрепил алый флаг к руке Гения свободы. Там он оставался до самого падения Коммуны…
А Интернационал? Какова его роль в этом бурном народном движении? В разгар демонстраций на июльской колонне появился лозунг: «Да здравствует всемирная социальная республика!» Его повторяли тысячи уст. И все же Интернационал здесь был ни при чем. Более того, его федеральный совет решил не участвовать в демонстрации. Как же случилось, что организация, которая в наибольшей степени воплощала чаяния французского рабочего класса, оказалась в стороне? И что делает Эжен Варлен, наиболее проницательный из всех французских деятелей Интернационала?
А происходило вот что. В середине февраля Варлену при содействии еще нескольких активистов удалось покончить с расколом парижских секций Интернационала. Федеральный совет вновь стал единым и продолжал свои заседания в том же зале на площади Кордери. По-прежнему много говорили и спорили о восстановлении и усилении влияния Интернационала, о необходимости иметь свою газету. Крупную роль играет теперь Лео Франкель, 27-летний сын венгерского врача, рабочий-ювелир. Раньше он жил в Германии. Там он начал читать произведения Маркса и его последователей и стал социалистом. Затем Франкель переезжает во Францию, присоединяется к Интернационалу и быстро приобретает авторитет и влияние. Больше, чем кто-либо другой во французской организации Интернационала, он был знаком с идеями научного коммунизма. В ту пору Франкель усиленно помогал Варлену в укреплении Интернационала. Но удивительно, что Франкель часто выступает заодно с теми, кто еще сохранил традиционное прудонистское пренебрежение к политике! Так было и на заседании федерального совета Интернационала 22 февраля. Решался вопрос об отношении к демонстрации, к которой с энтузиазмом стремился весь трудовой Париж. Прудонист Комбо заявил, что демонстрация несвоевременна, что Интернационалу не следует связываться с ней. Член совета Ролле также предостерегал от участия в демонстрации, поскольку она может вызвать репрессии властей. Слово взял и Франкель.
— Хотя я лично, — заявил он, — очень симпатизирую демонстрации, я не считаю ее необходимой в нынешних обстоятельствах. Мы должны безотлагательно заняться научными и организационными вопросами, углубленно изучать специальные вопросы — жилищный и массовой безработицы. Секции должны принять участие в этой работе и вести ее быстро. Необходимо согласовать все наши выводы и предложения и кратко изложить их в наказе, который мы передадим Малону и Толену, заседающим в Национальном собрании, с тем чтобы они ознакомили его с волей рабочих. Поэтому я предлагаю прекратить обсуждение вопроса о демонстрации.
И это говорилось в то время, когда революция уже, собственно, начиналась! Заниматься только «научными вопросами», когда вот-вот заговорят пушки? А надежды на то, что монархическое Национальное собрание, заседавшее в Бордо, займется социальными проблемами рабочего класса? Такая смесь наивных иллюзий и политической слепоты — редкое явление… Французская организация Интернационала оказалась ниже тех требований, которые предъявляла ей жизнь. Поддержав Франкеля, она сама устранилась от массового революционного движения. Но тем более ясно предстают перед нами сто лет спустя после Коммуны политическая прозорливость и революционная интуиция Эжена Варлена!
VI
Нелепое решение отказаться от участия в демонстрации парижского пролетариата могло обескуражить кого угодно, но не Варлена. Все его действия в эти революционные дни явились последовательным продолжением той линии, которую он терпеливо и настойчиво проводил уже давно. Еще в сентябре прошлого года, сразу после возвращения во Францию, Варлен понял бессилие Интернационала, его изолированность от массовых организаций, стоявших в центре событий. Еще тогда он попытался оживить его и начал активно действовать в комитете 20 округов. Но этот комитет не обладал властью и был, как говорили тогда, лишь центром впечатлений, а не руководства. Конечно, Варлен сразу понял, какой огромной силой является Национальная гвардия. Ведь это же вооруженный народ! Но, пробыв некоторое время командиром одного из ее батальонов, Варлен убедился, что гвардия еще далека от революционных стремлений, что она еще не разуверилась в правительстве «национальной обороны». Потребовалось полгода осады, голода и, наконец, капитуляция перед врагом, чтобы Национальная гвардия осознала, что только она может спасти республику и родину и что главный враг — собственные правители. И вот теперь это сознание стало реальным фактом огромной важности, который определял положение в столице, где уже фактически не было больше правительства. Правда, Национальная гвардия еще не имела собственного руководящего центра. Но теперь и этот недостаток устранялся. Во время выборов в Национальное собрание начинает зарождаться такой центр. После собрания в танцевальном зале Тиволи-Воксхолл 15 февраля образовалась комиссия для разработки устава Национальной гвардии. Проект устава обсуждался 24 февраля на новом собрании представителей батальонов в том же помещении. Теперь здесь активно участвует Варлен, который еще раньше установил связи со многими авторитетными среди гвардейцев людьми. Устав, превращавший Национальную гвардию в независимую от правительства силу, собрание предварительно одобрило. Затем Варлен взял слово и внес предложение, которое было горячо поддержано: «Национальная гвардия признает только выбранных ею командиров». Участники собрания сразу же отправились к площади Бастилии. Это и было началом всенародной демонстрации. Она продолжалась 25 февраля и приобрела особенно большой размах 26-го. Шествия этих дней оказались смотром боевых революционных сил. Варлен был одним из их вдохновителей.
Но ведь федеральный совет Интернационала отказался поддержать демонстрацию. Быть может, Варлен порывал тем самым с Интернационалом, поскольку он пока один оказался среди вождей революционных масс? Ни в коем случае! Федеральный совет дал право членам Интернационала участвовать в демонстрации, но только от своего имени. Все действия Варлена направлены к одной цели — объединить Интернационал с Национальной гвардией, преодолеть прудонистские и сектантские настроения своих товарищей и придать народному революционному движению социалистический характер. На днях должен быть избран Центральный комитет Национальной гвардии, и социалисты обязаны в него войти! Варлен остро ощущал дуновение революционной бури и почувствовал, что после грандиозных трехдневных манифестаций члены федерального совета уже не смогут и дальше оставаться в стороне от революции, уступая руководящую роль мелкобуржуазным демократам, у которых нет ясной социалистической цели.
1 марта на заседании федерального совета Варлен с необычайной для него категоричностью и твердостью потребовал, чтобы Интернационал перестал пассивно топтаться на месте и послал бы своих представителей в Центральный комитет Национальной гвардии. Заседание оказалось долгим и трудным. Предложение Варлена натолкнулось на сопротивление. Возражали не только ярые прудонисты, в чем не было ничего удивительного, поскольку учение Прудона воплощало страх перед революцией. Против требования Варлена выступил и Франкель, который все никак не мог отделаться от крайне узкого понимания классовой пролетарской политики. Для него такая политика означала, в сущности, изоляцию рабочего класса от других революционных сил. Национальную гвардию, состоявшую в основном из рабочих, он непонятно почему считал буржуазной!
— Это похоже на компромисс с буржуазией, — говорил Франкель о предложении Варлена, — этого я совсем не хочу. Наша дорога — интернациональная, мы не должны сходить с этого пути.
Пенди, в свою очередь, утверждал, что участие в Центральном комитете может скомпрометировать Интернационал, что в комитете много «подозрительных». Между тем Интернационал компрометировали как раз те, кто упорно уклонялся от участия в революции. Варлен терпеливо убеждал товарищей, он пошел на компромисс и требовал хотя бы ограниченного участия Интернационала в руководстве революционными силами народа. Пусть только четверо из Интернационала войдут в ЦК, пусть они даже действуют формально от своего имени. Варлен доказал колеблющимся, что Интернационал покроет себя позором, что его пассивность равносильна предательству.
— Срочно необходимо, чтобы члены Интернационала сделали все возможное, чтобы их избрали в ротах делегатами и, таким образом, они вошли в состав Центрального комитета… и попытались овладеть руководством этой организации… Если мы останемся в стороне от такой силы, наше влияние исчезнет, а если мы соединимся с этим комитетом — мы сделаем большой шаг к социальному будущему!
В конце концов Варлену удалось склонить большинство к участию четырех членов Интернационала в ЦК Национальной гвардии, с оговоркой, что «они будут действовать в индивидуальном порядке». Во всяком случае, лед был сломан, первый шаг к сближению Интернационала с революцией сделан. Последующие события показали поистине историческое значение этого шага. Участие Интернационала в Коммуне во многом предопределило ее великое социальное значение. Действия Варлена привели к тому, что Маркс мог с полным правом назвать потом Коммуну «славнейшим подвигом нашей партии». Тем самым Варлен оказал бесценную услугу освободительному движению пролетариата. Он проявил поразительную революционную смелость. Эжен Варлен, этот столь мягкий человек, само воплощение скромности, показал на этот раз всю подспудную силу своего характера. Простой рабочий поднялся до роли наиболее дальновидного политического деятеля французского рабочего движения своего времени.
Теперь руки у Варлена развязаны, и он мог действовать. А действовать было необходимо. События развертывались с головокружительной быстротой. Национальная гвардия все более безраздельно царила в городе. Войска генерала Винуа, на которого так рассчитывал Тьер, братались с народом. Национальная гвардия захватила все имевшееся в городе оружие и боеприпасы. Находившиеся в Париже члены правительства с часу на час ожидали революционного взрыва. Тьер, уехавший 27 февраля в Бордо, чтобы предоставить Национальному собранию позорный предварительный мирный договор, не спал ночи, переживая кошмары. А Жюль Фавр в панике телеграфировал ему из Парижа: «Агитация продолжается и выражается в определенных опасных симптомах… Национальная гвардия абсолютно деморализована, и ее батальоны, принимающие участие в беспорядках, слушаются только комитета, который можно назвать повстанческим… Положение незавидное, и я боюсь ухудшения».
3 марта в Тиволи-Воксхолле происходит новое собрание представителей 200 батальонов Национальной гвардии. Избирается временный Центральный комитет. Избран Варлен, который сразу оказывает влияние на деятельность комитета. Кроме него, еще три представителя Интернационала стали членами ЦК — Алавуан, Дюран и Пенди.
Варлен предлагает Центральному комитету немедленно переизбрать всех командиров и вернуть на боевые посты тех, кто ранее был устранен, и снять с этих постов тех, кто откажется подчиняться Центральному комитету. Предложение принимается, и вскоре сам Варлен, а также такие известные революционеры, как Флуранс, Жаклар, Эд, становятся во главе батальонов. ЦК при поддержке Варлена одобряет план создания «республиканской федерации Национальной гвардии» для защиты «всей страны». Национальная гвардия намерена подчиняться только своему ЦК. Если военные власти станут этому препятствовать, «генеральный штаб будет арестован».
Начиная с 6 марта заседания Центрального комитета переносятся на площадь Кордери, туда, где находится штаб-квартира Интернационала. А его роль в событиях благодаря Варлену растет, хотя не до таких размеров, как ему хотелось. 10 марта созывается новое общее собрание Национальной гвардии и председательствует на нем член Интернационала Пенди. Тот самый столяр Пенди, который еще совсем недавно вместе с Франкелем возражал против сближения Интернационала с ЦК Национальной гвардии. Медленно, но твердо Варлен преодолевает пассивность своих товарищей из Интернационала и сопротивление мелкобуржуазных элементов ЦК. Если бы у Варлена было время, он сумел бы обеспечить реальный контроль Интернационала в ЦК, а это значит, что социалисты стали бы во главе революционного народа. Варлен, как всегда сдержанный и внешне очень спокойный, преисполнен энтузиазма. 11 марта один социалист, поймав Варлена в доме на Кордери, просит разъяснить ему обстановку. Варлен отвечает:
— Уже сейчас благодаря новой системе выборов командиров большая часть Парижа по обоим берегам Сены в руках социалистов… Недели через две-три весь Париж будет под контролем социалистов — командиров батальонов. А потом мы обратимся к населению провинции и создадим силы вооруженного пролетариата во всей Франции!
Не слишком ли оптимистичен Варлен? Не закружилась ли у него от успехов голова? Неужели он рассчитывает легко, без боя привести рабочий класс к власти? Разве он не знает, что по приказу Тьера к Парижу уже стягиваются верные правительству войска, что генералы, позорно проигравшие войну внешнему врагу, жаждут взять реванш в борьбе против своего народа? Нет, Варлен как будто далек от иллюзий и зидит всю сложность предстоящей борьбы. В середине марта Варлен беседовал с русским журналистом Евгением Утиным по поводу назревавшей гражданской войны.
— Обезоружить без боя мы себя не позволим, — говорил Варлен. — Не мы вызывали и вызываем на бой, нам бросают перчатку, и нам ничего не остается, как поднять ее… Бой завязался, быть может, скоро он примет более суровый, страшный характер, но я вам скажу только одно: чем бы ни кончилось первое открытое сражение, борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не станем победителями!
Намерения Варлена, таким образом, вырисовываются совершенно четко: Интернационал должен «овладеть руководством» Центрального комитета Национальной гвардии, чтобы, опираясь на ее силу, идти к «социальному будущему», идти не только в Париже, но во всей Франции. Ничего нельзя сказать против этого плана. Собственно, никто, кроме Варлена, в Париже с такой ясностью не видел перспектив борьбы. И все же, увы, замыслы Эжена были лишь эскизом, наброском, мечтой. Если бы этот план воодушевлял действия более или менее крупной, сплоченной организации единомышленников! Но такой организации не было. Не было и времени для ее создания. Времени трагически не хватало даже для подготовки к непосредственной схватке с врагом, неизбежность которой Варлен видел. И марта он сказал, что для этого надо две-три недели. А до революции оставалось всего каких-то семь дней! Что же было сделано в эти дни?
15 марта делегаты от 215 батальонов избрали постоянный состав ЦК Национальной гвардии. В комитет вошли еще несколько членов Интернационала (Асси, Журд, Клемане) и революционеров-бланкистов (Ранвье, Моро, Эд и другие). Комитет стал более социалистическим, он полнее отражал волю пролетариата. Делегаты в этот день избрали своим командующим легендарного Гарибальди. Но его не было в Париже, и этот выбор был не столько актом стратегической подготовки к бою, сколько выражением прекрасных, но малопрактичных эмоций. А сколько делалось ошибок! Так, начальником артиллерии избрали психически ненормального алкоголика, ставшего потом предателем, Люлье. Этот профессиональный офицер внушил доверие, поскольку он на нескольких собраниях случайно оказался трезвым. Но в общем настроение ЦК было отличное. Докладчик — архитектор и социалист Арнольд говорил на собрании 15 марта:
— Мы должны бодрствовать и сплачивать наши ряды, лишь таким образом мы наконец установим единственно спасительный строй для нашей родины и для всего человечества — демократическую и социальную республику!
Энтузиазма хватало с лихвой, но практические дела шли туго. 17 марта Центральный комитет долго заседал, определяя полномочия своих членов и распределяя между ними обязанности. Создали военную комиссию, но она еще не приступила к делу, приняв только от своих предшественников документы и протоколы. Заседание ЦК 17 марта кончилось поздно. Договорились собраться на другой день в И часов вечера в помещении школы на улице Бофруа, недалеко от площади Бастилии. Расходились в половине четвертого ночи, в то самое время, когда войска, посланные Тьером, уже начали свое движение к Монмартру, чтобы захватить пушки Национальной гвардии…
Утром 18 марта Варлена, как и всех жителей Батиньоля, разбудила тревожная дробь барабанов. Торопливо одевшись, он почти бегом отправился к окружной мэрии. Он остановился лишь на минуту, чтобы прочитать свежую афишу:
«Правительство решило действовать. Преступники, захотевшие учредить правительство, будут преданы законным судам… Пусть хорошие граждане отделятся от дурных и помогут силам порядка… Во что бы то ни стало порядок должен быть восстановлен немедленно во всей его целости и неприкосновенности».
Вокруг мэрии уже толпились сотни вооруженных национальных гвардейцев. Варлена сразу окружили, и из торопливых рассказов он быстро уловил, что на Монмартре идет бой с войсками Тьера, пытавшимися захватить пушки Национальной гвардии. Отдаленные звуки редких выстрелов подтверждали это. Трижды прозвучал гром пушечного залпа. С немалым трудом удалось собрать ротных командиров. Выяснилось, что почти полностью собрались 155-й и 222-й батальоны, к которым присоединились сотни людей из других батальонов. В суматохе и беспорядке шла перекличка. Между тем звуков стрельбы со стороны Монмартра больше не слышно. Никаких известий или точных указаний не поступает. Варлен отдает приказ ожидать его распоряжений и, взяв с собой двоих гвардейцев, отправляется в ЦК, на улицу Бофруа, куда он сумел добраться примерно в час дня. Там в одной из классных комнат школы он нашел десяток членов ЦК. Никто как следует не знал, что случилось и что надо делать дальше. Варлен принимает решение: что бы ни произошло, надо действовать! Он быстро пишет на клочке бумаги приказ:
«Предъявителю сего гражданину Варлену предоставляется право делать то, что он сочтет необходимым в XVII округе и других районах Парижа». Члены ЦК Гролар, Бланш, Фабр и Руссо ставят свои подписи.
Но этого Варлену недостаточно. Он убеждает всех, кто находился в школе, что надо немедленно захватить все важнейшие пункты Парижа. На себя он решил взять Вандомскую площадь, где в военном министерстве, вероятнее всего, может находиться штаб врага. Тут же он пишет второй документ:
«Батальонам XVII округа приказывается совместно с батальонами XVIII округа немедленно занять Вандомскую площадь». Несколько членов ЦК подписывают и эту бумагу. Варлен просит их оставаться на месте и направлять батальоны на захват важнейших центров столицы, особенно Ратуши, а затем отправляется обратно в Батиньоль. Двое гвардейцев, ожидавших Варлена. чудом поймали фиакр, который помчал их к Батиньолю. Там Варлен приказывает построить батальоны. Около половины пятого они стройными колоннами отправляются к Вандомской площади. Царит воодушевление; все знают уже, что войска генерала Винуа поспешно отступают. В рядах гвардейцев выделяются своими красными штанами солдаты регулярной армии: они перешли на сторону народа. Рядом с колоннами бегут мальчишки, женщины. Непрерывно раздаются возгласы: «Да здравствует Коммуна!», «Смерть пруссакам!», «Смерть Футрике!» Спокойный и сосредоточенный, Варлен на ходу обдумывает, как быстрее занять штаб Ореля де Паладина и министерство юстиции. К площади, в центре которой возвышалась огромная колонна с фигурой Наполеона на вершине, подошли в сумерках. Без единого выстрела удалось занять все административные здания, покинутые их обитателями. Неужели Тьер решил без боя оставить город? Может быть, вообще удастся избежать кровопролития? Варлен ни на минуту не забывал, что по границам восточной части Парижа все еще стоят прусские войска, которые могут вмешаться в случае вооруженных столкновений в городе. Расставив посты и приказав установить заграждение на улицах, выходящих на Вандомскую площадь, Варлен снова отправился на улицу Бофруа, в Центральный комитет. В 11 часов вечера он отправляет записку члену ЦК Арнольду, который возглавлял вместе с Бержере батальоны Монмартра:
«Я прибыл в Центральный комитет. Общее движение продолжается в нашу пользу, хотя мы еще не везде добились успеха. Фальто с отрядами XV округа занимает район Люксембурга. Говорят, но это еще не точно, что мы занимаем Дворец юстиции. Ратуша еще не взята, как и казарма Наполеона; они заполнены и охраняются войсками, жандармами и полицейскими. Было несколько стычек на подступах; у нас несколько убитых. В этих пунктах действуют крупные силы. Сейчас, когда я пишу, мне сообщили, что Ратуша занята и что жандармы бегут из Лувра. Одновременно передают, что на Марсовом поле, у Дворца инвалидов происходят крупные передвижения войск. Будьте бдительны! Все идет хорошо, но надо остерегаться возобновления вражеского наступления. Э. Варлен».
Наступления не последовало. Тьер, сидевший 18 марта в министерстве иностранных дел, увидев проходивший мимо батальон Национальной гвардии, в страхе спустился по черному ходу, сел в карету и умчался в Версаль, а вслед за ним туда же бежала вся свора бонапартистских генералов, сановников, дельцов с женами, любовницами и лакеями. Воздух в Париже стал чище, и природа, словно радуясь этому, на другой день, в воскресенье 19 марта, озарила великий, теперь свободный город теплым весенним солнцем. Центральный комитет Национальной гвардии заседает в Ратуше, традиционном местопребывании приходивших к власти революционных правительств. Но впервые за пять революций над Ратушей развевается не трехцветное, а красное знамя. Здание заполнено гвардейцами, у дверей часовые, на площади возведены баррикады, стоят пушки, и в одном из роскошных залов собрались члены ЦК. Участник Коммуны, писатель-революционер Жюль Валлес так описывает представшую перед ним тогда картину:
«Где же Центральный комитет? Комитет?.. Он рассыпался по этой комнате. Один пишет, другой спит; этот разговаривает, сидя на кончике стола, тот не переставая рассказывает какую-то смешную историю, чинит револьвер, у которого что-то застряло в глотке… Сейчас их не больше шести-семи человек в этом огромном зале, где еще не так давно танцевала империя в раззолоченных мундирах и бальных туалетах. А сегодня под потолком с виньетками из геральдических лилий заседает полдюжины молодцов в грубых башмаках, в кепи с шерстяным галуном, в куртках и солдатских шинелях без эполет и аксельбантов — Правительство».
Да, это правительство, причем совершенно не похожее на другие. Здесь нет депутатов, солидных буржуа, генералов, аристократов, знаменитых адвокатов, которые обычно всегда выхватывали министерские портфели из-под носа народа, делавшего революции. Это сам народ; особенно много рабочих: шахтер из Крезо, переплетчик, литейщик, механик, столяр, каменщик — вот их ремесло. Такого еще не бывало, чтобы люди, придя к власти, не желали ничем отделяться от выдвинувшего их народа. Кто-то из членов ЦК заикнулся о том, чтобы увеличить себе жалованье. Немедленно послышались возмущенные протесты.
— Когда не существует ни контроля, ни сдерживающей узды, — заявил Эдуар Моро, — безнравственно назначать себе какое-нибудь жалованье. Жили мы до сих пор на 30 су. Проживем и дальше.
Но вопрос о деньгах возник немедленно, ибо 30 су надо было выплачивать каждому национальному гвардейцу. А в кассе Национальной гвардии оставалось менее одной тысячи франков, тогда как ежедневно надо было иметь около полумиллиона. Варлен на первом же заседании решительно заговорил о финансах. Ведь без этого нечего было и думать обо всем другом. Ему и банковскому служащему, члену Интернационала Журду ЦК поручил решить проблему денег. А это решение оказалось тем более трудным делом, что большинство членов ЦК категорически отвергали любые методы принудительной экспроприации. Они надеялись на примирение и компромисс с Версалем.
Утром 19 марта Варлен и Журд, сопровождаемые небольшим отрядом национальных гвардейцев, легко заняли министерство финансов. Удалось быстро выяснить, что деньги есть, около 5 миллионов. Но ключи от сейфов увезли в Версаль. Первой мыслью было взломать сейфы и забрать деньги. Но ЦК в этот момент вел переговоры с «законной властью», мэрами и депутатами Парижа. Варлен и Журд бросились к Ротшильду. Он обещал заем в 500 тысяч франков. Этого было мало. Только тогда подумали о главном источнике, о Французском банке. Финансовая цитадель французской буржуазии находилась рядом. Хотя банк охранял отряд Национальной гвардии, состоявшей из чиновников и буржуа, захватить его не составляло никакого труда. Но подавляющее большинство членов ЦК больше всего опасалось обвинения в грабеже. Варлен и Журд в 6 часов вечера явились к директору банка Рулану. Услышав требование денег, Рулан ничуть не удивился.
— Я ждал вашего визита, — заявил он. — После всякой перемены правительства банк на следующий день должен был являться на помощь новому. Не мое дело судить о событиях, Французский банк не занимается политикой, вы фактическое правительство. Банк дает вам сегодня миллион. Будьте добры только упомянуть в вашей квитанции, что эта сумма взята за счет города…
Любезность директора была весьма естественной. Он понимал, что ЦК хозяин положения в городе и ему ничего не стоило взять банк под свой контроль. «Не занимающийся политикой» директор банка проводил совершенно определенную политику: любой ценой не допустить перехода банка в руки народа.
Во всяком случае, в 10 часов вечера Варлен сообщил Центральному комитету, что плата роздана национальным гвардейцам.
Прошел день, а деньги от банка больше не поступали. Напрасно Варлен ждал присылки второго миллиона: хозяева банка осмелели, поскольку в эти дни в Париже происходили выступления буржуазии против революции. Тогда Варлен и Журд отправляют заместителю управляющего банком де Плеку (Рулан уже бежал в Версаль) энергичное письмо:
«Итак, заставлять парижан голодать — вот каким оружием пользуется партия, называющая себя «честной». Голодные люди не бросают оружия, напротив, голод толкает массы к убийствам. Мы хотели избежать всего этого, и банк мог помочь нам, но он предпочел стать на сторону тех, кто любой ценой намерен свергнуть республику. Мы подымаем брошенную нам перчатку!.. Мы выполнили свой долг. И если наша примирительная позиция была вами принята за трусость, то мы докажем, что вы ошиблись. Если банк намерен выдать нам требуемый миллион, то он должен прислать его в министерство финансов до 12 часов дня. С этого момента, если деньги не будут присланы, мы примем самые энергичные меры».
Кроме письма, к банку послали два батальона. Это подействовало, и деньги были выданы национальным гвардейцам.
В первые критические дни после 18 марта от решения вопроса с деньгами зависело все. Центральный комитет успешно справился с труднейшей задачей: он обеспечил нормальную жизнь города, намеренно дезорганизованную Тьером. Подобно Варлену и Журду, в министерстве финансов и в других правительственных органах члены ЦК оказались более способными и расторопными организаторами, чем опытные чиновники старого режима. Но ЦК допустил серьезные просчеты, имевшие роковые последствия. Вместо того чтобы завершить успех 18 марта походом на Версаль, Тьеру дали возможность не только удрать, но и получить время для подготовки военных действий против революционного Парижа. Едва взяв власть, ЦК сразу же заявил о намерении быстро сложить свои полномочия и передать их избранному всеобщим голосованием муниципальному собранию — Коммуне. Это делалось из самых благородных побуждений. ЦК не хотел гражданской войны, хотя Тьер уже, собственно, начал ее. Над сознанием членов Центрального комитета тяготел кошмар прусского вмешательства. Ведь свыше ста тысяч немецких солдат стояли вдоль восточной границы Парижа. С поразительной наивностью победители 18 марта рассчитывали на мирные переговоры с мэрами Парижа, которым Тьер официально передал власть в городе, и с парижскими депутатами Национального собрания.
На долю Варлена выпала трудная миссия ведения этих запутанных, двусмысленных переговоров, которые в конце концов оказались со стороны большинства мэров и депутатов коварным маневром. Правда, не все они сами понимали это. Лишь такие люди, как Тирар, сознательно пытались дать Тьеру возможность выиграть время. Среди них были даже социалисты: известный прудонист Толен, считавшийся основателем французской секции Интернационала, Мильер, который вместе с Варденом пропагандировал социалистические идеи на страницах газеты «Марсельеза», наконец, товарищ Варлена по Интернационалу Бенуа Малой.
— Берегитесь, — заклинал Мильер, — если вы развернете знамя социальной революции, правительство бросит всю Францию на Париж, и я вижу в будущем роковые июньские дни. Час социальной революции еще не пробил. Надо или отказаться от нее, или погибнуть, увлекая в пропасть всех пролетариев. Прогресс достигается более медленным путем. Сойдите с высот, на которые вы взошли. Ваше восстание, торжествующее сегодня, может быть подавлено завтра. Извлеките из него все, что возможно; не упускайте возможность получить хотя бы что-то малое… Я вас заклинаю уступить место собранию депутатов и мэров. Ваше доверие не будет обмануто!
Варлен слушает это, и сердце у него сжимается; он сам сознает трагическую неподготовленность революции. Он знает также, что большинство членов ЦК не помышляют о социальном перевороте. Однако капитулировать, отдать завоеванную власть? Нет, революционер не может так поступить! Конечно, не у реакционного Национального собрания надо просить согласия на социальную революцию. Ее совершит народ, а пока надо сохранить власть в его руках путем выборов Коммуны. И на категорический вопрос одного из мэров о программе ЦК Варлен отвечает изложением его ближайших целей:
— Мы хотим избрания Коммуны, муниципального совета, но этим не ограничиваются наши требования, и вы это прекрасно знаете! Мы хотим муниципальных свобод для Парижа, уничтожения префектуры полиции, права для Национальной гвардии самой выбирать всех своих офицеров, в том числе и главнокомандующего, полного прощения неоплаченных квартирных долгов на сумму меньше 500 франков и пропорционального снижения прочих долгов за квартиры, справедливого закона об уплате по векселям, наконец, мы требуем, чтобы версальские войска отошли на 20 миль от Парижа!
Но депутаты убеждены, что собрание «деревенщины» в Версале не примет эти требования. Даже Бенуа Малой настойчиво уговаривает Варлена отказаться от них и капитулировать.
— Не сомневайтесь, — говорит он, — что я разделяю все ваши желания, но положение очень опасно. Ясно, что собрание не захочет ничего слушать, пока Центральный комитет остается главой Парижа. Если же Париж вернется к своим законным представителям, они смогут добиться выборов муниципального совета, выборов для Национальной гвардии и даже отмены закона об оплате векселей.
Долго и тяжело шли эти переговоры, прерываясь и возобновляясь. Вместе с Варленом по поручению ЦК в них участвовали Журд, Арнольд и Моро. В конце концов они отчаялись добиться чего-либо и покинули переговоры. Остался один Варлен, окруженный несколькими десятками противников. Ценой отчаянных и напряженных усилий Варлену удалось, пойдя на уступки, достичь видимости компромисса. Он видел опасность кровавого побоища и стремился во что бы то ни стало избежать его, избавить парижских рабочих от кровопролития.
Участник Коммуны Лиссагаре так описывает этот эпизод: «Варлен, оставшись один, подвергся нападению всей банды. Истощенный, измученный (борьба продолжалась пять часов), он кончил тем, что уступил, со всеми оговорками, какие только были возможны. На чистом воздухе к нему вернулась ясность мысли, и, вернувшись в Ратушу, он сказал своим товарищам, что теперь видит западню, и посоветовал отвергнуть требования мэров и депутатов».
Итак, в конечном итоге Варлен проявил твердость и отверг требования вольных или невольных пособников Тьера. Но все же эти переговоры были ошибкой, напрасной тратой времени, которое можно было бы использовать с большей пользой, двинувшись на Версаль. Впрочем, трудно было тогда разобраться в хаосе, путанице событий, лозунгов, стремлений. Никто в Париже не был в состоянии выработать правильную единую политическую линию. Да и была ли она вообще возможна, учитывая крайне противоречивый состав людей, оказавшихся в Центральном комитете? Кроме того, затруднительное положение, в котором находился Варлен, усиливалось неопределенной позицией Интернационала. Он не принял никакого участия в событиях 18 марта, колебался несколько дней и только 24 марта по предложению Франкеля опубликовал манифест в поддержку ЦК Национальной гвардии. Подписи Варлена нет под этим документом. Ведь в эти дни он буквально сбивался с ног: добывал деньги, налаживал работу министерства финансов, заседал в ЦК, вел переговоры с мэрами. Возможно также, это связано с характером манифеста, пронизанным прудонистскими иллюзиями. Тем не менее манифест все же был шагом вперед и новым успехом линии Варлена, направленной на активное вмешательство Интернационала в революцию. К сожалению, шагом неуверенным, робким и очень запоздалым.
Между тем после запутанной интермедии переговоров между ЦК и мэрами, тянувшейся восемь дней, выборы в Коммуну все же состоялись. Причем мэры и депутаты согласились на это, хотя и с разными оговорками. В воскресенье 26 марта Париж избрал 78 членов Коммуны. Большинство парижского населения, которое отличалось мелкобуржуазной природой и такой же психологией, охотно шло на выборы, ибо стремилось к какой-то стабильности, какому-то «порядку», «законности». Рабочий класс отнесся к выборам с радостной надеждой. В Коммуне рабочие видели установление своей рабочей власти. Неуверенно, с сомнениями и страхом голосовала буржуазия. Для нее смысл событий таил в себе очень много тревожных загадок. Все это происходило в спешке, тревоге, когда надежды и энтузиазм одних смешивались с тревожными предчувствиями других. Поэтому состав Коммуны оказался еще более сложным и разношерстным, чем состав передавшего ей власть Центрального комитета Национальной гвардии.
VII
28 марта Варлен вместе с другими членами только что избранной Коммуны стоит на трибуне, сооруженной перед главным входом в Ратушу. Он видит людское море, заполнившее Гревскую площадь и прилегающие улицы. Множество красных флагов символизирует давно и страстно желанную им социальную революцию. Коммуна провозглашена под восторженные крики толпы и гром пушечного салюта. Это поистине лучезарный день для всех революционеров и социалистов!
Но Варлен и сегодня сохраняет свою сдержанность. Он даже, пожалуй, еще более задумчив, чем обычно, и как-то выделяется среди окружающих его старых друзей по Интернационалу, также избранных в Коммуну. На их лицах столько восторга и надежды! Здесь переплетчик Клемане, который некогда привел Варлена на улицу Гравилье, где был штаб парижской секции, резчик Тейс, учившийся вместе с ним на вечерних рабочих курсах. Немного позже, после дополнительных выборов в апреле, членом Коммуны станет и Жюль Андрие, когда-то обучавший молодого Варлена древним языкам. Бенуа Малой, вместе с которым Варлен так успешно боролся в последние годы империи за расширение влияния Интернационала, тоже на трибуне перед Ратушей, как и Лео Франкель. Этот иностранец, уроженец Венгрии, завоевал доверие и уважение парижских рабочих горячей и искренней преданностью идеям социализма. Своим присутствием он как бы олицетворяет интернациональный характер Коммуны. Еще не так давно, вплоть до 23 марта, он с недоверием относился к движению, породившему Коммуну. Но теперь этот 27-летний энергичный и страстный человек, потрясенный величественной церемонией провозглашения Коммуны, охвачен оптимизмом.
— Мы должны осуществить коренное преобразование социальных отношений, — взволнованно говорит Франкель со своим характерным немецким акцентом. — Если нам это удастся, то революция 18 марта останется в истории как наиболее плодотворный из всех бывших до сих пор переворотов, и в то же время она лишит почвы все будущие революции, так как в социальной области уже нечего будет более добиваться. Поэтому мы должны любой ценой достичь этой цели. Необходимо торопиться, так как прежде всего надо заложить фундамент социальной республики!
Для Франкеля, как и для подавляющего большинства тех, кто присутствовал при волнующей церемонии провозглашения Коммуны, этот день был не только днем величайшего торжества, но и величайших иллюзий. Однако не для Варлена. Он, конечно, всей душой разделял помыслы и надежды своего друга. Разве не он сам твердил о том же, когда несколько недель назад настойчиво убеждал руководителей Интернационала, и прежде всего Франкеля, участвовать в ЦК Национальной гвардии и не уклоняться от революции? Но — странное на первый взгляд дело — Варлен теперь почти ничего не говорит о социальной революции. За все время Коммуны он не произносит социалистических деклараций, не выступает со статьями, подобными тем, которые он писал много раз, призывая к социализму.
В отличие от многих социалистов Варлен прежде всего человек реального взгляда на вещи. Он намного раньше Франкеля и других деятелей Интернационала почувствовал стихийную социалистическую природу движения, которое завершилось созданием Коммуны. Ведь поднялся рабочий класс, само существование которого служит отрицанием буржуазного общества. Но он видел теперь и многое другое. Конечно, в Коммуне около трех десятков рабочих. Однако она оказалась менее революционной по сравнению с Центральным комитетом Национальной гвардии, столь поспешно отказавшимся от власти.
В Коммуну избрано 15 буржуа, заведомых противни-Вов социализма. Некоторые из них присутствуют здесь, рядом, на всенародном празднике провозглашения Коммуны. Даже среди представителей Интернационала в Коммуне далеко не все столь же смело выступают за социальные преобразования, как Франкель. Например, старик Беле, весь пронизанный добрыми намерениями, является лишь фабрикантом, увлекшимся из филантропических побуждений идеями Прудона. Для него социализм сводится к некоторому улучшению участи рабочих, но ни в коем случае не к ликвидации буржуазии.
В Коммуну попали многие сторонники Огюста Бланки, честные и смелые революционеры. Но у них нет никакой конкретной социальной программы. К тому же они обескуражены отсутствием своего учителя. Он тоже избран в Коммуну, но Тьер успел еще 17 марта арестовать его в провинции. Кроме бланкистов, в Коммуне немало якобинцев, искренних республиканцев с разными оттенками социалистических симпатий. Среди них есть благородные люди, такие, как Делеклюз, но есть и политические шарлатаны вроде Феликса Пиа. Этот известный, не раз освистанный драматург воспринимает и Коммуну в качестве театрального представления. Двуличный и трусливый демагог, он ничего не добивается, кроме шумной карьеры. Особенно же много в Коммуне людей, называющих себя радикалами. Они искренне выступают за демократическую и социальную республику, хотя и не особенно ясно представляют себе, что же это такое.
Якобинцы и радикалы едины в стремлении во всем копировать Великую французскую революцию конца XVIII века. Словом, в Коммуне встретились революционеры позавчерашнего дня с революционерами завтрашнего дня — социалистами, подобными Варлену или Франкелю. Причем последние оказались в меньшинстве.
Пестрый, противоречивый состав Коммуны как в зеркале отражал сложность, неоднородность всего движения, породившего революцию 18 марта. Даже среди рабочих — боевого, наиболее решительного ядра революции — было много таких, кто просто не представлял себе возможность полного преобразования общества и ликвидации частной собственности. Ведь только часть из них были промышленными рабочими, а большинство являлось ремесленниками. И они зачастую действовали, исходя из оскорбленной позорным миром патриотической гордости, из-за ненависти к монархистам и стремления защитить республику. Нечего и говорить о массе мелкой буржуазии, о всех этих лавочниках, владельцах бесчисленных кустарных мастерских и мелких подрядчиках. Любое посягательство на частную собственность представлялось им чудовищным святотатством.
Вот почему Варлен воздерживается сейчас от социалистических деклараций, почему он так сдержан и вообще скуп на слова. Он говорит только о тех задачах Коммуны, вокруг которых может объединиться подавляющее большинство ее членов. В самый разгар манифестации на площади у Ратуши, в пять часов вечера 28 марта 1871 года, Варлену передали записку: командир 35-го батальона Национальной гвардии просил срочно объяснить ему смысл событий. Он тут же пишет ответ: «Мы можем вас заверить, что мы стоим на страже муниципальных вольностей повсюду, как в маленьких, так и в больших городах, и что мы твердо убеждены в том, что раз будет установлена муниципальная автономия Коммуны, то вытекающие из этого свободы обеспечат порядок и взаимное доверие, то есть новую эру мира и всеобщего благоденствия. Привет и братство. Э. Варлен».
Это в основном та же ограниченная программа, которую несколько дней назад Варлен изложил на переговорах с мэрами и депутатами. В чем же смысл политики Варлена? Его очень интересно определил русский революционер, очевидец и участник Коммуны Петр Лавров, который писал так: «Дело шло об автономном городе, где вооруженная сила находилась бы в руках пролетариата и его избранников. Это было продолжение той политики, при помощи которой Варлен и его товарищи хотели в промежуток 3—18 марта организовать сначала Национальную гвардию Парижа, а потом всю Национальную гвардию Франции как вооруженную силу социалистического пролетариата. Пользуясь раздражением республиканской и патриотической буржуазии Парижа против явно монархической тенденции версальского собрания и постыдного мира, им заключенного, социалисты Парижа хотели вместе с буржуазией совершить сперва политическую революцию, которая создала бы повсюду единственную вооруженную силу, находящуюся в их руках, и затем уже, с помощью этой вооруженной силы, они совершили бы революцию экономическую».
Таким образом, целью Варлена неизменно остается «экономическая революция», то есть социализм. Но Варлен прекрасно учитывает всю сложность, даже запутанность положения и стремится проводить максимально реалистическую политику. Конечно, в Коммуну попало немало людей, которые никак не могли быть истинными представителями революции. Как и во всякой революции, здесь оказались и деятели иного покроя: слепые поклонники прежних революций или самовлюбленные болтуны, способные лишь на стереотипную декламацию. Но они — неизбежное зло, и от них можно постепенно освободиться. Для этого нужны лишь время и выдержка. Словом, все побуждало Варлена бороться за утверждение и укрепление Коммуны. Нельзя ждать от нее чудес и немедленного воплощения в жизнь абстрактных утопий. Полное социальное преобразование общества — сложный исторический процесс. Варлен сознавал это и без всяких иллюзий пошел под знаменем Коммуны.
Между тем торжественная манифестация приближалась к концу. Члены Коммуны, обменявшись мнениями, решили, что пора им приступать к делу, и направились в здание Ратуши на свое первое заседание. И сразу начались затруднения, правда, вначале довольно комического свойства. Часовые остановили членов нового правительства, поскольку у них не оказалось пропусков. После выяснения дела они вступили в Ратушу. Но здесь их никто не встретил. Члены Коммуны долго бродили по коридорам в поисках свободного помещения, натыкаясь на лежащих вповалку или стоявших группами национальных гвардейцев. Вокруг царила обстановка боевого походного лагеря. Наконец вспомнили о зале заседаний муниципального совета, который, впрочем, оказался запертым. Пришлось искать слесаря, но, когда двери наконец распахнулись, все увидели, что в зале темно: нет ламп. Ждали, пока их принесут. В конце концов около 10 часов вечера все же настал момент, когда 76-летний Беле, старейший из всех, объявил заседание открытым.
Первое заседание любого вновь избранного коллективного органа неизбежно носит в какой-то мере стихийный и неподготовленный характер. Поэтому не было ничего удивительного, что люди, имевшие в основном опыт шумных публичных митингов с их не поддающимся организации хаотическим энтузиазмом, провели это первое заседание довольно бестолково и шумно. И если бы только первое…
Сразу же было внесено предложение об избрании Бланки почетным председателем… Завязался спор о том, должны ли заседания быть закрытыми или публичными, о том, чем же должна быть Коммуна. Прозвучали формулы такого рода: «Это революционное собрание», «Военный совет, а не Коммуна»… Вносится предложение об отмене смертной казни… Какому-нибудь парламенту для обсуждения идей, высказанных па одном заседании Коммуны, потребовалось бы несколько месяцев методических прений. Тут же произошел и первый серьезный политический конфликт. Избранный членом Коммуны торговец ювелирными изделиями Тирар, тот самый, который по прямому заданию Тьера лицемерно вел переговоры с Центральным комитетом, чтобы дать версальцам время для укрепления сил, требует слова.
— Мои полномочия чисто муниципальные, и, так как здесь заговорили об отмене законов и Коммуне как о военном совете, я не имею права оставаться…
Он подает в отставку, сопровождая свое заявление ироническим замечанием:
— Мои искренние пожелания полного успеха вашим предприятиям!
Наглое выступление агента Тьера вызывает возмущение, но его отпускают. С первого мгновения Коммуна проявляет необычайное благодушие…
Уход Тирара послужил сигналом. Люди буржуазных кварталов, оказавшись в непривычном обществе и к тому же в меньшинстве, сразу поняли, что им здесь делать нечего. Одни из них сразу, другие спустя два-три дня ушли из Коммуны, сократившейся сразу па двадцать человек. Теперь все яснее определилось, что возник не просто муниципальный совет Парижа, а революционное правительство из представителей народа: рабочего класса и городской мелкой буржуазии. Но сможет ли действовать это невиданное правительство? Его участники, казалось, явно не подготовлены к этому. Никто из них не предполагал, что все они окажутся у власти, которая потребует от них единства мысли и действия и скрепит их общей судьбой. Конечно, их объединяла пепависть к Версалю и Тьеру, к Национальному собранию «деревенщины». Они все единодушно выступали за республику. Наконец, большинство их испытывало сильное, хотя и очень смутное тяготение к идеалу социальной справедливости. Но зато сколько здесь различий, противоречий, взаимного непонимания и недоверия! Не случайно первая прокламация Коммуны обещала лишь решить вопросы об отсрочке оплаты векселей и внесения квартплаты, а также защищать республику от монархического собрания. Никто в Коммуне не предложил конкретной политической и тем более социальной программы. Не было ее и у десятка видных членов Интернационала, которые вошли в Коммуну. Ее не было и у Варлена. Он, как никто другой, остро сознавал трагическую неподготовленность социалистов. Ведь именно он затратил необычайно много усилий для такой подготовки. Но события роковым образом опережали его планы. Вспомним, как еще не так давно Варлен говорил, что для подготовки Интернационала к революции надо два года. Жизнь дала лишь несколько месяцев. В начале марта Варлен хотел иметь три педели для установления влияния Интернационала в Центральном комитете Национальной гвардии. Но революция началась через семь дней…
Варлен не произнес пи слова на первом заседании Коммуны. Он молча слушал, наблюдал и думал. Видимо, самое правильное — пе выдвигать пока открыто социалистическую программу; противоречивый состав Коммуны обещал слишком мало шансов на ее принятие. Крайне опасно было бы вызывать раскол в самом начале…
Между тем часы на здании Ратуши бьют полночь, заседание закрывается в атмосфере оптимизма и энтузиазма под возгласы: «Да здравствует республика! Да здравствует Коммуна!» Депутаты расходятся, и национальные гвардейцы почтительно расступаются, давая им дорогу. Варлен чувствует взгляды этих людей, старых и молодых, сжимающих ружья в мозолистых руках и с надеждой смотрящих на своих избранников. Замученные каторжным трудом, они прониклись верой в идеи социализма, загорелись мечтой и героически пошли за них в бой. Ведь в конце концов Коммуна оказалась духовным детищем Интернационала! Нет, нельзя, невозможно обмануть доверие этих великих в своей скромности бойцов революции. Такие люди, как Варлен, ныне вознесенные к власти волей народа, не могли пе почувствовать огромной ответственности за победу или поражение, за жизнь или смерть парижского пролетариата. Возможность гибели, ссылки, любые опасности ничто по сравнению с необходимостью оправдать доверие народа. И Варлен видел перед собой только один путь: победить или умереть за дело рабочего класса. Еще до 18 марта он предвидел ужасные трудности, смертельные опасности предстоящей борьбы. Теперь они представлялись в еще более ярком и грозном свете и побуждали Варлена к наивысшей ответственности в словах и поступках, к осмотрительности и осторожности.
Между тем Коммуна, ставшая у власти в результате революции и по воле народа, должна была практически начать управлять великим, самым знаменитым городом мира. Никаких четких планов, программы деятельности и политики у ее членов не было.
Не существовало даже единого мнения о том, чем же должна быть Коммуна: городским муниципальным советом или французским правительством. Спасло дело то, что Коммуна руководствовалась тем гениальным чутьем проснувшихся масс, которое Ленин считал источником всего самого славного, что она сделала за 72 дня своего существования. Коммуна и не подумала имитировать систему управления прежних антинародных режимов; она решительно приступила к созданию государства совершенно нового типа.
29 марта на своем втором заседании Коммуна создает десять специальных комиссий, своего рода министерств. Варлен был избран в комиссию финансов, которыми он уже занимался до этого по поручению Центрального комитета Национальной гвардии. Вместе с ним в эту комиссию вошли Журд, Беле, Виктор Клеман и Режер. Правда, одновременно Варлен был выдвинут в центральную исполнительную комиссию, но получил недостаточное количество голосов и не прошел. В Коммуне уже зарождались различные группировки, причем более сплоченные, чем группа членов Интернационала. И уже начали отдавать предпочтение «своим» людям.
Впрочем, в тот момент, когда военная угроза еще не предстала во всей своей грозной реальности, комиссия финансов имела наибольшее значение из всех десяти комиссий. Все понимали, что без денег реальная жизнь огромного города, покинутого прежними администраторами, могла остановиться, что в любой момент жизненные функции перестанут действовать и воцарятся разруха, голод, всеобщий хаос. В этом состояла самая страшная опасность первых дней Коммуны.
Но при всей важности финансовой комиссии многим все же казалось странным, что Варлен, входивший в число пяти-шести лиц, который в отличие от подавляющего 242 большинства совершенно неизвестных до этого членов Коммуны давно уже считались крупными руководителями революционного движения, сразу не выдвинулся на первый план, на столь естественную для него роль вождя французского пролетариата. И это объясняется не только необычайной личной скромностью Варлена. Революционеры того времени, особенно члены Интернационала, решительно отвергали принцип единоличного руководства и какое-либо возвышение отдельных лиц. Они считали это проявлением реакционного и монархического начала. Ведь не случайно же в Коммуне вообще не было поста председателя или генерального секретаря. Коммуна, выполнявшая одновременно законодательные и исполнительные функции, была коллегиальным органом. Конечно, в критические, напряженные моменты, требовавшие немедленных решений, это создавало затруднение, хотя и свидетельствовало о глубоком демократизме революционного народного правительства, каким была Коммуна. Сам Варлен, называвший себя антиавторитарным коммунистом, испытывал отвращение к любой единоличной власти. Вообще по своему характеру Варлен не индивидуалист, не одиночка; он человек партии, коллектива. В данном случае Интернационала.
А его французская секция по-прежнему находилась в плачевном состоянии, которое особенно ощущалось во внезапно наступивших драматических событиях. Вплоть до 15 мая, то есть до самых последних дней Коммуны, члены Интернационала ни разу даже не собрались, чтобы попытаться определить свою политическую линию в Коммуне. Вдобавок ко всему якобинцы и бланкисты подчас с явным предубеждением относились к Интернационалу, виднейшим представителем которого и был Варлен. Право играть роль вождя признавали, да и то далеко не все, лишь за Бланки. Но он, запертый в тюремной камере, даже и не знал о происходящем в Париже. Словом, Коммуна не имела признанного всеми вождя. Во главе революции не оказалось человека выдающихся, гениальных способностей, который был так нужен. И это не могло не сказаться роковым образом на ее судьбе…
Получилось так, что важнейшие военные и политические посты оказались занятыми представителями большинства Коммуны: якобинцами и бланкистами. Они вносили в дело много шума, энтузиазма, даже героизма, но слишком мало здравого смысла, трезвого расчета, предусмотрительности и осторожности. Не придавая особого значения социальным и экономическим делам, они охотно уступили их представителям Интернационала. И это было неоценимым благодеянием для Коммуны. Именно благодаря французским интернационалистам Коммуна смогла продержаться так долго. Именно они своим деловым подходом, своей крайней добросовестностью, пониманием всей важности экономических и социальных проблем смогли в неимоверно трудных условиях обеспечить успешное функционирование сложной машины городского управления, сознательно дезорганизованной Тьером, отдавшим строжайший приказ всем чиновникам не подчиняться указаниям Коммуны и бросить свои посты. Только четвертая часть чиновников продолжала работать. Интернационалисты, в основном бывшие рабочие, обеспечили деятельность муниципальных служб, используя всего 10 тысяч сотрудников, тогда как прежде их было 60 тысяч. Варлен и Журд в финансовой комиссии, Тейс в Управлении почт, Авриаль в Управлении военного снаряжения, Камелина на Монетном дворе, Файе и Комбо в Управлении прямых налогов, Алавуан в Национальной типографии, наконец, Лео Франкель в комиссии обмена и труда — повсюду члены Интернационала вносили дух беспредельной честности и бескорыстия, организованности и трудолюбия, глубокого сознания важности административных и социальных задач Коммуны. Десятилетиями чиновники административных служб прежних режимов осваивали искусство управления и организации. Охваченные энтузиазмом, вдохновляемые идеями социализма, члены Интернационала овладевали им в считанные часы. Управленческий аппарат Коммуны и результаты его деятельности — гордость Коммуны.
А в каких невероятно сложных условиях приходилось действовать социалистам! Когда рабочий Альбер Тейс явился в Управление почт, чтобы возглавить его, он увидел картину полного хаоса. Касса, все документы, марки были увезены в Версаль. На стенах он обнаружил повсюду расклеенные приказы чиновникам немедленно отправиться туда же под страхом отставки и лишения пенсии. Тейс немедленно собрал оставшихся, приказал сопровождавшему его отряду Национальной гвардии закрыть все двери и провел собрание, на котором убедил многих служащих оставаться на своих постах. За несколько часов он реорганизовал сложный механизм управления и на второй день пустил его в ход. Письма доходили не только в пределах Парижа, но и вопреки версальской блокаде до остальных городов Франции, и не только Франции, но и за границу. Уже после поражения Коммуны даже буржуазные газеты признавали, что никогда почта не работала так хорошо, как в то время, когда она действовала под руководством простого рабочего.
Одну из самых интересных страниц в историю Коммуны вписала деятельность комиссии труда и обмена, в которую входили только члены Интернационала: Лео Франкель, Бенуа Малой, уже упоминавшийся Тейс, а затем Лонге и Серрайе. Историки Коммуны правы, когда они отмечают, что эта комиссия под руководством Франкеля занималась не столько действиями, сколько изучениями и исследованиями, что ее неотложные практические задачи, такие, как вопросы квартплаты и сроки платежей, пришлось решать финансовой комиссии Варлена и Журда. Тем не менее именно Лео Франкель исключительно ярко выражал те социалистические тенденции, которые были подспудной сущностью Коммуны.
— Мы не должны забывать, — сказал Франкель 12 мая, — что революция 18 марта совершена исключительно рабочим классом. Если мы, чей принцип — социальное равенство, ничего не сделаем для этого класса, то я не вижу смысла в существовании Коммуны.
Франкель создал подкомиссию из рабочих, изучавшую практические меры по улучшению положения рабочего класса. По ее предложению Коммуна приняла декрет, запрещавший штрафы и вычеты из зарплаты, в округах были созданы бюро для приискания работы. Франкель и его помощники занялись изучением возможностей повышения зарплаты рабочих. По его инициативе Коммуна приняла 16 апреля знаменитый декрет о предприятиях, покинутых их владельцами. Он предусматривал учреждение комиссии, которая должна была взять на учет брошенные хозяевами мастерские и представить доклад о мерах, которые надо принять, чтобы с помощью рабочих кооперативов пустить в ход эти мастерские. В декрете говорилось также об учреждении третейского суда, призванного определять условия окончательной передачи мастерских рабочим обществам и размер компенсаций, которые эти общества должны заплатить хозяевам. Конечно, речь еще не шла здесь о подлинной экспроприации экспроприаторов. Но тенденция к этому, несомненно, в декрете проявилась.
Человек увлекающийся, Франкель порой переоценивал значение проводимых им мер. Так, по поводу декрета о запрещении ночного труда пекарей он заявил, что это «единственный истинно социалистический декрет из всех, изданных Коммуной». Между тем декрет, действительно защищавший рабочих и направленный против хозяев, не шел дальше подобных мер, которые уже в то время санкционировал, к примеру, английский парламент. Но никому и в голову не пришло заподозрить его в приверженности к социализму.
Но, как бы то ни было, Франкель высоко держал в Коммуне знамя социалистических идей. В это время он был близок с Варденом. Не случайно они вдвоем обратились с письмом к Марксу, продолжая переписку, которую Франкель начал еще раньше. Это письмо, к сожалению, не сохранилось. Однако сохранившийся черновик ответного письма Маркса от 13 мая 1871 года позволяет догадываться о содержании письма Варлена и Франкеля. Они просили Генеральный совет Интернационала о политической поддержке, просили советов. Маркс, в частности, писал Варлену и Франкелю: «Я написал в защиту вашего дела несколько сот писем во все концы света, где существуют наши секции. Впрочем, рабочий класс был за Коммуну с самого ее возникновения.
Даже английские буржуазные газеты отказались от своего первоначального злобного отношения к Коммуне. Время от времени мне даже удается контрабандным путем помещать в них сочувственные заметки.
Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени на мелочи и личные счеты. Видно, что наряду с влиянием рабочих есть и другие влияния. Однако это не имело бы еще значения, если бы вам удалось наверстать потерянное время».
Конечно, Маркс не мог считать французских деятелей Интернационала своими близкими единомышленниками. И все же он сохранял с ними духовную близость в той мере, насколько это позволяли сложные связи между Лондоном и осажденным Парижем. Маркс выражал глубокое сожаление по поводу крайне скудной информации, получаемой им из Парижа. Поэтому в письме Маркса заметна некоторая предусмотрительная сдержанность. И все же Маркс не колеблясь брал на себя ответственность за дела Коммуны, что так ярко сказалось в представленном им Генеральному совету Интернационала воззвании «Гражданская война во Франции».
Несомненно также, что Маркс считал Варлена и Франкеля крупнейшими представителями Интернационала в Коммуне. Правда, Варлен ведет себя иначе, чем Франкель. Он значительно меньше в это время говорит о социализме и гораздо больше делает для спасения Коммуны. И он ставит перед собой только реально выполнимые задачи, как это, кстати, советовал тогда делать коммунарам Маркс.
Если собрать все оценки роли Варлена в Коммуне, все мнения его современников, друзей и врагов, мнения историков, дружественных или даже враждебных Коммуне, то все они сходятся на том, что, несмотря на внешне не слишком эффектный характер, деятельность Варлена была наиболее последовательным воплощением всего лучшего, что было во французской секции Интернационала и в самой Коммуне. Но естественно, что в ней не могли не сказаться слабость французской секции Интернационала, ее промахи, ошибки, ее трагическая неподготовленность к мартовской революции.
Финансовую политику Коммуны обычно связывают прежде всего с именем Франсуа Журда, поскольку он работал в комиссии финансов с самого начала и до конца, тогда как Варлен входил в нее лишь до 20 апреля. Этот бывший банковский служащий, обладавший ясным умом и спокойным характером профессионального бухгалтера, во время Коммуны был еще очень молод, ему исполнилось всего 28 лет. Сначала член ЦК Национальной гвардии, а затем и член Коммуны, Журд выражал в своей деятельности правоверно прудонистские взгляды. Его никак нельзя было назвать революционером. Сам Журд впоследствии, после поражения Коммуны, рассказывал: «Варлену было поручено занять министерство финансов, а мои познания в финансовой области обязали меня разделить с нищ ответственность за самое трудное дело в парижской администрации. Когда мы прибыли в министерство финансов, мы нашли там только нескольких чиновников и одного солдата, охранявшего вход…»
Крупную роль в комиссии финансов играл тайже уже упоминавшийся Шарль Беле, человек преклонного возраста, имевший большой жизненный опыт. За его плечами политическая деятельность при реставрации и июльской монархии, во время революции 1848 года, когда он поддерживал июньские репрессии Кавеньяка против парижских. рабочих. Став личным другом и верным учеником Прудона, он тщетно старался осуществить идеи своего учителя на принадлежавшем ему заводе паровых машин. Крахом завершилась и его затея с созданием учетного банка, призванного осуществить прудонистские химеры. Но это не излечило Беле от слепого преклонения перед учением Прудона, перед его наиболее антиреволюционными и утопическими теориями.
Вот с этими-то людьми и пришлось Варлену заниматься сложнейшими финансовыми делами Коммуны. Естественно, что революционные и социалистические убеждения Варлена были очень далеки от прудонистских взглядов Журда и тем более от насквозь буржуазного образа мыслей Беле. Но тем не менее он лояльно сотрудничал с ними. Более того, глубокая порядочность, исключительная честность и работоспособность Журда ему очень импонировали. С Журдом у Варлена установились дружеские отношения.
Как же могло случиться, что несомненный революционер Эжен Варлен проводил, по существу, ту же самую финансовую политику, что и люди совсем не революционного направления? Почему он, уже признанный в последние годы империи крупнейший руководитель революционного крыла французских организаций Интернационала, не оказал на эту политику своего решающего влияния?
Чтобы ответить на эти вопросы, следует прежде всего вспомнить об общей линии Варлена в Коммуне. Самым главным он считал ее сохранение в качестве рабочего правительства. А для этого надо было, по его мнению, ничем не осложнять ее и без того сложное, даже отчаянное положение, не отталкивать хотя бы временных союзников пролетариата, не вносить в Коммуну, в которой не оказалось социалистического большинства, дополнительных факторов раскола и внутренних конфликтов.
Может быть, Варлен просто занял пассивную позицию, предоставляя решать все дела Журду и Беле? Нет, это не так. Он работал, пожалуй, больше всех. Когда в мае, уже после ухода Варлена из комиссии финансов, Журд делал доклад Коммуне, горячо одобрившей его деятельность, он специально подчеркнул, что успех деда был бы немыслим без участия Варлена.
Однако посмотрим, как все это происходило на практике. Коммуна возложила на свою финансовую комиссию полномочия министерства финансов. Перечислять эти полномочия было бы слишком утомительно, так они многочисленны. Достаточно сказать, что все, начиная с ведения войны и кончая содержанием больниц и школ, требовало денег. Без них невозможно было бы даже обеспечить уборку и освещение улиц. И если бы речь шла о жизни города в обычной обстановке! Но война с Версалем поглощала более 90 процентов всех денег Коммуны. События требовали множества чрезвычайных расходов. В городе оказалось свыше 300 тысяч безработных, которых надо было кормить. При условии жесточайшей экономии, при тщательном учете каждого сантима на все это за девять недель существования Коммуны потребовалось 46 миллионов франков.
Финансовая комиссия обязана была достать эти огромные деньги, разумно распределить на многочисленные нужды и проследить за тем, как они расходуются. Когда Варлен и Журд 30 марта явились в министерство финансов, то они обнаружили в кассах всего лишь немногим более четырех миллионов франков. Кроме того, во Французском банке было девять с половиной миллионов городских денег. И это все. Предстояло прежде всего наладить поступление обычных доходов от прямых налогов, рыночных, табачных, акцизных и других сборов. Задача была труднейшая, ибо здесь, как и во всем городском хозяйстве, по приказу Тьера все было дезорганизовано, запутано, а чиновники, ведавшие финансами, бежали. Именно на долю Варлена и выпало решать эту фантастически сложную проблему даже для самого опытного финансиста. И она была решена.
Но эти источники дали лишь 30 миллионов франков. Недостающие 16 миллионов выдал авансом из собственных фондов после долгих препирательств и переговоров Французский банк. Всего этого хватило, чтобы кое-как свести концы с концами ценой сверхчеловеческих усилий Варлена, Журда и их помощников.
Если дела других комиссий, особенно военной и общественной безопасности, стоили Коммуне множества тяжких забот, бесконечных прений, споров, конфликтов, ускоривших ее гибель, то за финансовую, не менее жизненно важную, она была спокойна. Добросовестный свидетель и летописец истории Коммуны Лиссагаре писал, что «по сравнению с финансовой комиссией военная была темной комнатой, где бродили ощупью».
Комиссия Варлена и Журда решила также неотложные задачи социального характера. Уже говорилось, что правительство Тьера в своей слепой ненависти к Парижу незадолго до Коммуны отменило отсрочку внесения квартплаты и погашения долгов по векселям. Последовал взрыв возмущения, ускоривший приход Коммуны. Финансовая комиссия способствовала быстрому решению вопроса с квартирной платой. Десятки тысяч рабочих семей сохранили крышу над головой. Комиссия подготовила также декрет об отсрочке погашения долгов. 12 апреля Коммуна по предложению Варлена постановила отложить все судебные преследования за просрочку платежей. Много забот комиссии доставила проблема ломбарда, в котором бедняки получили ссуды под залог своих вещей. Война, осада, революция сопровождались безработицей, и почти никто не в состоянии был вернуть ссуду и получить свои жалкие пожитки. Нередко это были орудия труда, инструменты, швейные машинки. Сначала Коммуна приостановила распродажу вещей, а затем залоги ценой меньше 20 франков стали возвращать. Финансовая комиссия взялась изыскать средства для компенсации потерь ломбарда. С этим делом тоже запоздали, но все же его начали осуществлять в мае. Множество других мер, вроде установления пенсий вдовам и сиротам погибших национальных гвардейцев, устройства детских приютов и убежищ для стариков, провела финансовая комиссия.
И все же сделано было мало по сравнению с огромными возможностями, которые не мог не видеть Варлен, о которых он так много говорил и писал за несколько лет до Коммуны!
Прежде всего оставили в неприкосновенности прежнюю налоговую систему, всей своей тяжестью ложившуюся на бедняков. А ведь можно было заставить платить богатых! В Париже в руках кучки буржуа находились огромные средства. В кассах частных банков и предприятий хранились многие миллионы. Но финансовая комиссия Коммуны не посягнула ни на один франк. Затронув привилегии богатых, нетрудно было резко и быстро улучшить жизнь бедняков. Но даже нищенскую плату в 30 су в день национальным гвардейцам не удалось повысить. Коммуна не заставила раскошелиться богатых, и Журд спокойно и даже с какой-то гордостью докладывал Коммуне: «Мы никогда не посягали на собственность!» А Коммуна одобряла этот курс! Быть может, недоставало инициативы, и стоило лишь, к примеру, Варлену предложить декрет об обложении богачей чрезвычайным налогом и все было бы в порядке? Увы, дело обстояло гораздо сложнее. Франкель два раза пытался добиться значительно менее революционного решения об установлении 8-часового рабочего дня. Тщетно! Дважды Коммуна отказалась решать этот вопрос. Дело в том, что подавляющее большинство ее членов считало недопустимым посягательство на частную собственность. Даже социалисты, примыкавшие к Интернационалу, считали это опасным. Более того, они стремились не разжигать классовые противоречия, словно забывая о том, что Коммуна вела классовую борьбу в самой ожесточенной форме с помощью ружей и пушек.
Социалист, член Интернационала Шарль Лонге возглавлял официальный орган Коммуны «Журналь офисьель», на страницах которого 30 марта можно было прочитать следующее: «Печальное недоразумение, которое в июньские дни 1848 года вооружило друг против друга два общественных класса, заинтересованных, хотя и не в равной степени, в великих экономических реформах, — эта гибельная ошибка, которая сделала июньское подавление столь кровавым, не могла уже возобновиться. Противоположность классов перестала существовать».
В этом же издании 3 апреля, когда война версальцев против революционного Парижа уже началась, появились такие утверждения: «Теперь всякий раздор сгладится, потому что все солидарны, потому что никогда не было так мало социальной ненависти, социальных противоположностей».
Газета «Ла Коммюн», в которой сотрудничали видные прудонисты — члены Интернационала, писала в день провозглашения Коммуны, как бы давая ей наказ: «В особенности не забывайте, что население такого города, как Париж, состоит из различных элементов. Будьте справедливы ко всем классам общества, охраняйте все интересы».
Вот какие иллюзии царили в сознании многих социалистов, особенно в первые дни Коммуны, ибо вскоре версальцы помогли многим излечиться от них. Но определенный курс был принят, и Коммуна отвергала все, что в какой-то мере задевало интересы буржуазии, особенно мелкой.
Итак, несмотря на самое активное участие Варлена, этого несомненного революционера, чуждого всяких иллюзий в определении и проведении финансовой политики Коммуны, эта политика не стала орудием и средством социального преобразования. Более того, она далеко не в полной мере способствовала тому, что в тот момент Варлен считал единственно своевременным и необходимым: мобилизации всех сил и средств для спасения Коммуны в смертельной борьбе с Версалем. И здесь речь идет об одной из самых злополучных ошибок Коммуны — об ее отношении к Французскому банку. Началось это еще при власти Центрального комитета, не решившегося сделать то, с чего начинаются обычно революции, — нанесение удара по самому уязвимому месту противника, по его ресурсам, его кассе. Центральный комитет не осмелился захватить банк. Именно Варлену пришлось иметь дело с банком, о чем уже рассказывалось. Но в те дни еще была какая-то возможность оправдания нерешительности ЦК; ведь шли переговоры с депутатами и мэрами, которые тоже вел Варлен. Надеялись на компромисс, причем надеялись наивно. После избрания Коммуны снова встал вопрос о банке, где хранились огромные деньги, с помощью которых Коммуна не только быстро решила бы множество своих проблем, но и нанесла бы очень болезненный удар Тьеру, который, как он сам говорил, был тогда нищ, как церковная крыса. Не захватив банка, Тьеру дали возможность получить из него в десятки раз больше денег, чем брала Коммуна, денег, предназначенных для ее подавления! Ситуация невероятная, чудовищная, абсурдная и для Коммуны гибельная! Как же это могло произойти?
Вести дела с банком Коммуна поручила члену финансовой комиссии Шарлю Беле, этому буржуа с прудонистской, то есть псевдосоциалистической, окраской. Он 29 марта отправился в банк, где его встретил вице-директор де Плек. Ломая руки, этот версальский агент взволнованно запричитал:
— О господин Беле, помогите мне спасти это: это состояние нашей страны, это состояние Франции!
Старика, помешанного на буржуазной «законности», на идее святости частной собственности, не пришлось долго упрашивать. Вернувшись в Ратушу, он заявил исполнительной комиссии Коммуны:
— Необходимо уважать банк со всеми его привилегиями и преимуществами. Надо, чтобы он стоял высоко с его безупречным кредитом и с его билетами, обмениваемыми на звонкую монету франк за франк. В этом заинтересована вся Франция, следовательно, и Версаль. Но настолько же, и даже больше, заинтересован и Париж, а вместе с Парижем и Коммуна. Если мы приступим к захвату банка, если мы займем его Национальной гвардией… произойдет ужасающий кризис, за который на Париж ополчится весь свет, а на Коммуну — все парижское население!
Коммуна согласилась со всеми этими невероятными аргументами! Да, банк был достоянием Франции, в нем она была заинтересована, но какая Франция — вот в чем вопрос? Французский банк с его тремя миллиардами франков был достоянием буржуазии, и только буржуазная Франция была заинтересована в том, чтобы Коммуна не посягала на него. И напротив, пролетариат Франции должен был и мог овладеть этими богатствами, накопленными его же трудом. Увы, в Коммуне не нашлось никого, кто решительно потребовал бы этого.
Коммуна благосклонно слушала речь Беле в защиту банка 29 марта. Открытая война Версаля против Парижа еще не началась, и многие надеялись на какой-то компромисс. Однако и позже, когда на улицах Парижа уже рвались версальские снаряды, когда коммунары, истекая кровью, защищали Коммуну, она продолжала благоговейно хранить богатства своего смертельного врага. 2 мая Журд говорил на заседании Коммуны, что «чрезвычайно существенно оберегать Французский банк и даже помогать ему». И Коммуна снова согласилась с этим. Не нашлось никого, кто бы поставил под сомнение эту невероятно близорукую политику! Что касается Варлена, то он, в отличие от Беле и Журда не защищал столь ретиво золото буржуазии. Однако он не предлагал и захватить его. Вместе с Журдом он тщательно экономил каждый сантим, чтобы Коммуна хотя бы не умерла с голоду, когда рядом лежали колоссальные деньги, притом деньги врага, которые если и не спасли бы Коммуну, то хотя бы как-то облегчили ее положение. За массивными стенами Французского банка спокойно хранились груды золотых слитков, а мимо этих стен проходили одетые в лохмотья, голодные батальоны Национальной гвардии. Они шли на смерть в битве против хозяев этого золота…
Разумеется, не сомнительные аргументы Беле побуждали Варлена хранить нейтралитет в этом деле. Были соображения и посерьезнее. Прежде всего захват банка, конечно, задел бы интересы не только кучки его богатейших хозяев, но и массы мелких держателей акций, которых насчитывалось до 15 тысяч. В банке учитывались векселя и на небольшие суммы, начиная со 100 франков. Их многочисленные владельцы, то есть мелкая буржуазия, тоже были бы болезненно затронуты. Поэтому Коммуна и вела себя так осторожно.
Наконец, считали, что богатства банка служат своеобразным залогом того, что Франция выплатит Пруссии пятимиллиардную контрибуцию по мирному договору. Опасались, что захват банка вызовет прямое вмешательство прусских войск, по-прежнему стоявших по восточной окружности Парижа.
Кстати, Морис Шури, глубокий знаток Коммуны, в одном из своих последних исследований приходит к такому заключению: «Даже то, что можно рассматривать как ошибку Коммуны, то есть стремление комиссара финансов Журда не трогать запасов Французского банка, основано на его озабоченности сохранением возможности кредита в пользу рабочих кооперативов, чтобы позволить им конкурировать с капиталистическими предприятиями».
Но дело даже не в этих, впрочем, весьма спорных соображениях. Нейтральную позицию Варлена по отношению к Французскому банку можно понять только в связи со всей его политической линией. А ее суть заключалась в том, что он в отличие от некоторых своих восторженно оптимистических товарищей с самого начала видел положение в его истинном свете. До 18 марта у него был продуманный план постепенного пробуждения Интернационала к активной политической деятельности и превращения Национальной гвардии в орудие пролетарской революции. Для этого лишь нужно было время. Внезапный поворот событий 18 марта перечеркнул этот план. Варлен не считал, что мартовская революция позволяет сразу осуществить коренное социальное преобразование общества. Он видел, что условий для этого пока нет. Еще неразвитый, неорганизованный, в основном ремесленный пролетариат, почти не отделившийся от основной массы мелкобуржуазного населения, хотя и не хотел уже жить по-старому, но еще не готов был к коренному социальному перевороту. Вся социально-экономическая структура Франции не созрела для этого. Главное же — у пролетариата не было своей политической организации — партии. Зачатки ее, созданные Варленом и его друзьями в последние годы империи, секции Интернационала и профессиональные рабочие общества не выдержали императорских преследований, испытания войны и последовавших за ней событий и фактически распались. Варлен считал, что в этих условиях Коммуна в лучшем случае непосредственно даст возможность лишь максимально демократизировать республиканский строй и достичь определенных социальных завоеваний для рабочих. Этот успех и будет исходной позицией для дальнейшей, требующей немалого времени борьбы за социализм. Но и такие, тоже весьма смутные замыслы, как вскоре понял Варлен, оказались нереальными. В начале апреля, после трагической неудачи стихийной массовой вылазки коммунаров, завершившейся отступлением и гибелью ее героических, но неопытных полководцев Флуранса и Дюваля, после новых военных поражений Варлен понял, что половинчатый исход ожесточенной борьбы невозможен, что Коммуна обречена на верную гибель. Теперь Варлен уже не видел иной перспективы, кроме поражения столь неподготовленного и плохо руководимого пролетарского восстания. Охваченный глубокой тоской, Варлен сознавал, что и сам он, быть может, и не в той степени, как другие деятели Интернационала, тоже оказался не готов к великим испытаниям, грозно и властно втянувшим его в свой фатальный водоворот.
Отныне вся деятельность Варлена в Коммуне направлялась чувством бесконечной преданности делу пролетариата, чувством социалистического долга, но отнюдь не какой-либо последовательной программой или планом. Варлен видел, что события опередили, спутали его прежние замыслы, что обстановка невероятно осложнилась. Он испытывал мучительные сомнения, колебания и неуверенность в правильности многого из того, что делала Коммуна.
Вспомним его, каким он был в последние годы империи, когда его энергичные, целеустремленные действия так способствовали расширению влияния Интернационала! Теперь же перед нами словно другой человек. Даже внешне он изменился, стал необычайно замкнутым, молчаливым, говорили даже — скрытным. Выражение какой-то меланхолии не сходило с его лица. Но это был тот же Варлен, но в других условиях. Таких, которые сильнее любой самой выдающейся личности. Нередко в этих случаях люди, не слишком преданные идеям и принципам, уходят, махнув рукой. Убежденные и благородные, напротив, сознательно приносят себя в жертву ради принципа, ради торжества идеала в будущем, они вопреки всему выполняют свой долг. Таков был Варлен.
К счастью, напряженная, изнурительная работа оставляла Варлену мало времени для мучительных и тяжелых раздумий. С раннего утра он в министерстве финансов. Если Журд занимается вопросами квартплаты, ломбарда, сроками платежей по векселям, работой благотворительных организаций и городским бюджетом, то в обязанности Варлена входит организация сбора налогов и расходов собранных денег. Здесь налог «октруа», сборы с торговли табаком, вином, почтовые и гербовые налоги, сборы с рынков и лавочников, таможенные обложения и, наконец, прямые налоги. Это была сложнейшая и крайне запутанная система, приведенная к тому же в полное расстройство прежней администрацией. Варлен должен был просматривать горы бумаг, реестров, балансов, отчетов. Более нудную, изнуряющую работу трудно вообразить. Надо было вести борьбу с множеством злоупотреблений, ликвидировать излишества и беспорядок и, конечно, подавлять саботаж многочисленных тайных сторонников Версаля. Каждый день Варлен обнаруживает и закрывает каналы утечки денег. Так, он вводит строгий порядок учета расходования налоговых квитанций, организует новую четкую систему раздачи жалованья национальным гвардейцам и многое другое. Однажды выяснилось, что сборы «октруа» передаются во Французский банк, а не в Коммуну. Варлен немедленно наводит порядок. Приходится заниматься самыми неожиданными вещами, вроде организации доставки газет, посылки людей в провинцию для пропаганды дела Коммуны. Финансовая комиссия так или иначе контролировала работу всех остальных комиссий, и, поскольку в них было очень мало порядка, Варлен превратился в неофициального, но методического организатора, вносящего элементы дисциплины в хаос и путаницу, царившую во многих учреждениях Коммуны.
В полдень в кабинет к Варлену обычно заходит Журд, и они обсуждают дела, советуются, решают. Между ними установились хорошие, деловые отношения, почти не возникало разногласий. Правда, речь шла в основном о конкретных технических вопросах. О том, что больше всего волновало и тревожило Варлена, он почти не говорил. Честнейший и добросовестнейший Журд не обладал политическим кругозором Варлена, его творческим, революционным мировоззрением; единомышленниками они не были, ибо четкий и прямолинейный ум Журда, усвоив идеи Прудона, на этом и остановился.
После полудня Варлен и Журд выходят и пешком идут по улице Бургонь обедать. Неподалеку от военного министерства они заходят в скромный ресторанчик. Обед обходится им по 25 су с каждого. Варлен, через руки которого проходят миллионы, по-прежнему ведет спартанский образ жизни. Одет он, как всегда, аккуратно, но очень скромно; он напоминает по виду учителя, и только его бледное и выразительное лицо, обрамленное седеющими волосами, привлекает внимание своей одухотворенностью, а в эти дни какой-то скорбной задумчивостью.
Журд моложе Варлена, у него пышные волосы и сдержанное благородство в словах и движениях. Он столь же скромен в своих потребностях и расходах, как и Варлен. Оба получают жалованье, не превышающее заработок рабочего. Впрочем, такой порядок декретировала Коммуна, мудро решив, что выдвижение на любой пост ни в коем случае не должно сопровождаться повышением доходов. История не знала еще столь бедного и столь безупречно честного правительства. В самом деле, супругу его министра финансов гражданина Журда, можно увидеть в эти дни на берегу Сены; она обычно полоскала там белье…
VIII
После обеда Варлен отправляется в Ратушу на заседания Коммуны. О, эти заседания! Они порой вызывали у Варлена больше досады, чем даже известия о военных поражениях Национальной гвардии. Заседания продолжались часа по четыре. Нередко в один день было два, а то и три заседания. Окна зала выходили во внутренний двор Ратуши, где всегда толпились национальные гвардейцы, и шум, доносившийся оттуда, часто заглушал сами по себе шумные и беспорядочные прения. Заседания проводились без твердой и согласованной повестки дня, вопросы заранее не готовились, и иной раз важнейшие решения оказывались плодом неожиданной импровизации. Сказывалась, конечно, традиционная беспечность французов, любовь к фразе и парламентскому краснобайству, излишек оптимизма, личные амбиции. Пускаясь в споры по второстепенным вопросам, часто забывали, что в десяти километрах находится злобный и беспощадный враг, угрожающий им всем гибелью.
Причем с течением времени заседания Коммуны не только не становились организованнее, но все больше превращались в ожесточенную перебранку. Коммуна становилась клубком ожесточенных конфликтов и жестоких распрей. Беспорядочный и шумный, часто бесплодный характер заседаний мог обескуражить кого угодно. Однажды после очередного бурного спора член Коммуны Остен не выдержал и заявил с негодованием:
— Я хочу сделать признание, выражение это не слишком сильное, но оно, быть может, верное. Мне 48 лет, я никогда не был членом народного собрания. Я выходец из рабочего класса, мне не знакомы хитросплетения политики, я наблюдаю здесь вещи, которые меня изумляют. Я рассчитывал найти в этом собрании нечто более высокое, более достойное!
В Коммуну затесалось, что бывает при всех революциях, немало случайных людей. Они-то и шумели больше всех. Значительная часть членов Коммуны, около трети, как правило, отсутствовали. Это были как раз те, кто действительно делал дело; самые энергичные, умные и преданные революции люди находились либо на боевых позициях, либо в городских учреждениях Коммуны. А заседали и разглагольствовали больше всех неспособные и бестолковые. И от них-то подчас зависели важнейшие решения. Не удивительно, что Коммуна принимала какое-либо решение и на следующем заседании вдруг голосовала за нечто прямо противоположное. На обсуждение мелких вопросов иногда уходили часы, а важнейшие решения принимались без всякого обсуждения. Так, например, был принят программный манифест Коммуны.
Варлен редко выступал на заседаниях Коммуны, хотя и старался, насколько ему это удавалось, посещать их все. Если он и вмешивался в дебаты, то исключительно по конкретным, сугубо деловым вопросам. Никаких общих политических деклараций, никакого стремления свести счеты с противниками. Правда, он всегда поддерживал Лео Франкеля, выступавшего за проведение социалистических мер. Но и молчаливое присутствие Варлена, одного из самых авторитетных людей Коммуны, имело свое значение. Часто ораторы невольно оглядывались на ходу на него, пытаясь разгадать реакцию Варлена. А сосредоточенный и замкнутый Варлен не мог не думать о том, что столь удачно найденная форма демократического управления, какой была Коммуна, так профанируется из-за отсутствия сплоченного большинства единомышленников, из-за ее разнородного, противоречивого состава, из-за злосчастного стечения множества неблагоприятных обстоятельств, что она попадает в какой-то заколдованный круг, из которого тщетно пытается выбраться. Насколько возможно, Варлен всегда стремился затушить разногласия. Короткими репликами он направлял споры в русло делового, серьезного обсуждения. Это особенно проявилось в ходе заседания 21 апреля, на котором Варлен был председателем. Но и в этот день обсуждение шло настолько сумбурно, что даже обычно столь невозмутимый Варлен не выдержал и резко заявил:
— Я считаю, что мы тратим здесь, пожалуй, слишком много времени. Однако те, кто кричит громче всех, не делают больше всех!
Но не только изматывающие нервы заседания в Коммуне, не только кропотливая и чудовищно напряженная работа в министерстве финансов поглощали силы Варлена. На его ответственности еще и VI округ Парижа, район Люксембурга на левом берегу Сены, который он представлял в Коммуне. И здесь у Варлена хватает по горло забот и тревог. Жители этих кварталов считали Варлена своим вождем и свято верили каждому его слову. Не менее горячо жаждут встреч с ним и его старые друзья в Батиньоле, которые тоже выбирали его в Коммуну. Во всех взорах, обращенных к нему, Варлен читает тревожные вопросы. Обстановка ухудшается, коммунары терпят новые поражения, и все хотят знать, что ждет их впереди. Варлен очень скуп на слова. И что он может им сказать? Предвидя в душе неизбежность катастрофы, Варлен ничем не может ободрить их. Разве только своим хладнокровием, железной выдержкой и просто своим присутствием. Он чувствует, как это необходимо, и урывает хоть час в день, чтобы побывать среди тех, кому он столько лет внушал веру в социалистический идеал.
Чтобы реально представить себе, что же практически представляла собой жизнь Варлена как члена Коммуны, обратимся к воспоминаниям одного из его товарищей, Артура Арну. Свой рассказ об ошибках Коммуны он заключает так:
«Да позволят мне теперь изложить смягчающие обстоятельства. Их было много.
Прежде всего, мы были обременены работой, изнемогали от усталости, не имея ни минуты покоя, ни одного мгновения, когда спокойное размышление могло бы оказать свое спасительное воздействие. Имеют ли представление о том, каково было наше существование в течение этих семидесяти двух дней? Какая разрушительная работа иссушала и разрушала наш мозг?
В качестве членов Коммуны мы обыкновенно заседали два раза в день. В два часа и вечером до глубокой ночи. Эти два заседания прерывались лишь настолько, чтобы слегка закусить.
Кроме того, всякий из нас принимал участие в одной из комиссий, исполняющих работу разных министерств и обязанных управлять одним из следующих дел: народным образованием, военным, продовольствием, внешними сношениями, полицией и т. д., заведования которыми было достаточно, чтобы поглотить все силы человека.
С другой стороны, мы были мэрами, гражданскими офицерами, обязанными управлять своими округами.
Многие из нас были командирами Национальной гвардии, и между нами не было, может быть, ни одного, кто не должен был в любую минуту бежать на аванпосты, идти в форты, чтобы ободрять сражающихся, выслушивать их требования, удовлетворять их или самому обсуждать военное положение.
Каждый из нас в этих ужасных условиях, где малейшая ошибка, малейшее неверное движение могли все погубить, должен был брать на себя и благополучно выполнять тысячи разнообразных дел, достаточных, чтобы занять восемь или десять человек.
Мы не спали. Что касается меня, то я не помню, чтобы я в течение этих двух месяцев раздевался и ложился десять раз. Кресло, стул, скамья на несколько мгновений, часто прерываемых, служили нам постелью…
Ни одно заседание, добавим, не проходило без неожиданных происшествии, которые отвлекали ум от разумного и зрелого обсуждения и будили наши страсти…»
Да, так оно и было. Что касается Варлена, то все сказанное Арну о тяготах, лежавших на плечах членов Коммуны, надо увеличить по крайней мере в два раза, ибо речь идет о человеке необычайной добросовестности, самоотверженности, доходящей до самоотречения и к тому же мучительно сознававшего в те дни неотвратимость близкой катастрофы. Он не обладал состоянием блаженной самоуверенности и поверхностного оптимизма, облегчавшего жизнь тех, кто продолжал с жаром твердить, что Тьер никогда не войдет в Париж, что буржуазия — верная опора Коммуны и что победа близка.
Между тем события продолжают подтверждать самые тревожные опасения Варлена. После неудачной вылазки 3 апреля военное положение, несмотря на успехи мощных контратак генерала Домбровского, все более ухудшается. В то время как армия Тьера увеличивается день ото дня за счет военнопленных, которых ему возвращает Бисмарк, армия Коммуны слабеет. Неустойчивые, колеблющиеся люди после шока 3 апреля стремятся покинуть ряды Национальной гвардии. Коммуна окончательно отказывается от наступательной тактики и остается в пассивной обороне. Военный делегат генерал Клюзере либо бездействует, либо нелепыми приказами ослабляет Национальную гвардию. По выражению одного из членов Коммуны, военная комиссия превращается в «организованную дезорганизацию».
17 апреля версальцы захватывают замок Бекон, на другой день — вокзал в Аньере и деревню Буа-Коломб. На северо-западном участке фронта коммунарам пришлось отступить на правый берег Сены. Кольцо осады сжимается все теснее, город наводняют шпионы и диверсанты Тьера.
А раздоры в Коммуне усиливаются. Неорганизованность перерастает в хаос. Паническая боязнь единоличного руководства, доведенная до абсурда, дала свои плоды. Никто конкретно ни за что не отвечал. Все зависело лишь от доброй воли каждого. Не было председателя Коммуны, не было председателей комиссий, не было главнокомандующего, не было мэра Парижа. Исполнительная комиссия не смогла превратиться в руководящий центр. 20 и 21 апреля Коммуна наконец попыталась реорганизовать и укрепить свою власть. Теперь каждую комиссию возглавил делегат, входивший одновременно в исполнительную комиссию. Состав всех комиссий переизбрали. Варлен стал членом продовольственной комиссии. Один из видных историков Коммуны, П. М. Керженцев, пишет: «Новая система значительно улучшила организованность Коммуны, но она имела и ряд существенных недостатков. Система выборов делегатов и комиссий привела к тому, что некоторые члены комиссий были более влиятельными, чем делегаты. Например, один из наиболее авторитетных членов Коммуны, Варлен, был только членом комиссии, а делегатом был гораздо менее авторитетный человек — Виар. Делеклюз был только членом военной комиссии и, таким образом, не участвовал в исполнительной комиссии. В таком же положении был виднейший бланкист Тридон».
Варлен приступил к выполнению своих новых обязанностей в комиссии продовольствия. А она приобрела в этот момент очень важное значение, ибо Тьер приказал своим войскам перерезать все пути доставки продовольствия в Париж. Ну, а новая исполнительная комиссия оказалась столь же беспомощной, как и первая. 22 и 23 апреля Коммуна узнала о фактах поразительной безответственности и халатности генерала Клюзере. Однако обсуждение привело лишь к тому, что он вообще перестал информировать Коммуну о ходе военных действий, которые развивались все более неблагополучно. 26 апреля версальцы заняли селение Мулино и приблизили свои траншеи к важнейшим опорным пунктам на юге Парижа, фортам Исси и Ванв. А в ночь на 30 апреля гарнизон Исси, не получая не только подкреплений и боеприпасов, но даже приказов от командования, оставил его. К счастью, версальцы не решились занять форт, и на другой день отряды коммунаров вернулись. Но известие о сдаче Исси вызвало в Коммуне подобие паники, открывшей новый акт грозной трагедии. Наконец-то догадались сместить бездарного, но невероятно напыщенного шарлатана Клюзере и отправить его в тюрьму. Теперь уже самым беспечным стало ясно, что необходимо предпринять какие-то решительные меры. Еще за два дня до этого был поставлен вопрос о создании Комитета общественного спасения. Идею подали те, кто в ходе Коммуны пытался слепо копировать Великую французскую революцию. Не понимали коренного отличия революционных событий конца XVIII века от революции 1871 года, а это непонимание восполняли поверхностным, чисто словесным подражанием, не имевшим ровно никакого смысла. Усилить свою власть и организацию Коммуна могла бы, конечно, и сама по себе, не создавая новую, на этот раз совершенно бутафорскую организацию.
Коммуна раскололась на два лагеря. Большинство — бланкисты и неоякобинцы — было за создание Комитета общественного спасения. Если бы они действительно создали орган, способный твердо руководить, включили бы в него энергичных и авторитетных людей, то, возможно, это укрепило бы Коммуну. Но зачем было облекать весьма разумную, даже необходимую меру в ветхие одеяния давно прошедшей эпохи?
Члены Интернационала — противники малейших посягательств на неограниченную демократию — решительно выступили против создания нового комитета. Они кричали об опасности диктатуры и чуть ли не о замаскированной монархии.
Варлен тоже голосовал против создания комитета. Правда, отнюдь не из опасений «диктатуры», ибо он понимал, что в конце концов благо революции важнее любых абстрактных принципов. Эта линия Варлена проявилась уже и раньше в связи с дополнительными выборами в Коммуну 16 апреля. Выборы прошли при очень ограниченном количестве избирателей: буржуазия либо бежала до этого из Парижа, либо бойкотировала выборы, а пролетарии сражались на аванпостах. Во всяком случае, часть членов Коммуны, тех самых, кто теперь говорил об опасности «диктатуры», выступила против утверждения результатов выборов на том основании, что формально нарушен закон 1848 года, предусматривающий участие определенного минимума избирателей. Варлен решительно осудил тогда позицию поборников «чистой демократии» и голосовал вместе с большинством за утверждение выборов.
Однако сейчас он проголосовал против создания Комитета общественного спасения вместе с «меньшинством». Он также испытывал недоверие к замыслам авторов идеи комитета и был принципиальным противником диктаторских мер, считая их приемлемыми только в отдельные, исключительные моменты революции. Но ведь сейчас и наступил такой момент! Варлен отлично сознавал это, но он видел, что «большинство», как показал опыт его политического и военного руководства Коммуной, не способно создать энергично действующий революционный орган, который не поставил бы под угрозу революцию вместо ее спасения.
И все же, выступив с «меньшинством» против усиления власти Коммуны, Варлен вместе с ними совершил серьезную ошибку. Раскол в Коммуне доставил немало злорадного удовольствия версальцам и болезненно отозвался в рядах героических защитников Коммуны.
«Меньшинство», а вместе с ним и Варлен, отказалось участвовать в выборах членов Комитета общественного спасения. Голосовало только 37 человек из 80 членов Коммуны. Это само по себе заранее компрометировало орган, на который наивные люди возлагали особые надежды. Когда же стал известен состав комитета, то приуныли даже многие сторонники его учреждения. В комитет избрали прежде всего злобного шута Феликса Пиа, что уже не сулило ничего хорошего. В него вошли Лео Мелье, человек смутных политических взглядов, отнюдь не блиставший способностями, Шарль Жирарден, вскоре ставший дезертиром. Только два бланкиста, Ранвье и Арно, что-то собой представляли; первый был в общем сильной личностью, но его пылкая, увлекающаяся натура могла занести его куда угодно, второй — тоже человек темпераментный, но явно не созданный для роли вождя с железной волей.
Комитет начал действовать, внося еще больше путаницы в существовавший до этого хаос. Среди немногих его в какой-то мере правильных действий можно отметить лишь меры, принятые в отношении интендантства. С самого начала борьбы работа интендантства вызывала множество жалоб. Бойцы, находившиеся в жестоком огне, порой не получали необходимого. Им постоянно не хватало продовольствия, обмундирования, боеприпасов. Многочисленные тыловые органы и штабы имели все в изобилии. Рассказывали, что версальские офицеры говорили своим солдатам, указывая на оборванных коммунаров: «Это же уголовники. Посмотрите, как они одеты!» В довершение всего пошли слухи, что ведавшие интендантством братья Мэ разворовывают имущество Коммуны. 2 мая Комитет общественного спасения смещает братьев Мэ и назначает главным начальником Управления по снабжению Национальной гвардии Эжена Варлена. Это назначение имело весьма многозначительный характер. Ведь назначение доследовало после раскола на «большинство» и «меньшинство», и обе фракции стали относиться с нескрываемой враждебностью друг к другу. Комитет общественного спасения, представлявший исключительно «большинство», тем не менее назначил на очень важный пост Варлена, представителя враждебного комитету «меньшинства». Так велики были его авторитет и вера в его способности организатора!
5 мая на заседании Коммуны зачитывается заявление: «Гражданин Варлен, временно делегированный в интендантство, просит о переводе его из комиссии продовольствия в военную комиссию. Э. Варлен». Коммуна единогласно подтверждает новое назначение и удовлетворяет просьбу Варлена. А он развертывает в интендантстве исключительно активную деятельность. Никогда еще он не работал так напряженно. К тому же его работа в интендантстве совпала с периодом крайнего обострения положения Коммуны во всех отношениях: военном, внутриполитическом и моральном. Варлен проводит ряд радикальных мер, помогающих предотвратить полный развал дела снабжения героических бойцов Коммуны, получающих в эти тяжелые дни все необходимое. Он упрощает структуру интендантства, вводит строгий контроль и жесткую экономию во всех звеньях снабжения. Для него не существовало мелочей; он все считал в этот момент важным. Характерный эпизод. Один из генералов Коммуны прислал счет на оплату сшитого им у бывшего императорского портного мундира из роскошного драпа. Варлен отказал в оплате и написал на счете: «У Коммуны нет денег для дорогих нарядов».
Но Варлен отнюдь не был сухим, черствым администратором. Ко всем он относится с вниманием и благожелательностью, высоко уважая человеческое достоинство каждого. Его предшественников в интендантстве решили предать суду за хищения и взяточничество. Несмотря на чудовищную нагрузку, Варлен находит время и сам тщательно расследует дело. Он убеждается в невиновности братьев и пишет им следующее письмо.
«Граждане!
Я был назначен на ваше место в интендантстве в тот день, когда комитет решил вас арестовать.
Основанием для этих мер явились многочисленные жалобы на деятельность интендантства.
Моей первой заботой после обеспечения деятельности всех служб было выяснение того, что было истинным или ложным в обвинениях, выдвинутых против вас, и я смог быстро убедиться, что жалобы, обвинения по поводу вашей деятельности в значительной мере не обоснованы, и, уж во всяком случае, они относятся не к вам. Поэтому я тут же потребовал вашего немедленного освобождения.
Сейчас, после того как в течение пятнадцати дней я возглавляю созданную вами организацию, которую до этого правительство версальцев сумело полностью дезорганизовать, я счастлив подтвердить, что я не нашел ничего в актах вашей администрации, что могло бы скомпрометировать вашу добропорядочность.
Я надеюсь, кроме того, что, когда я должен буду дать отчет в выполнении своей миссии, я смогу воздать должное вашим усилиям по обеспечению деятельности сложных органов военного снабжения.
Привет и братство.
Глава интендантства, член Коммуны
Э. Варлен».
Варлен по своей душевной природе всегда испытывал какую-то боль, страдание при виде несчастья, несправедливости, которые обрушивались на других людей, будь то лично знакомые ему отдельные личности или вся масса бедняков, парижских рабочих. А на их долю выпало за последний год столько суровых испытаний! В первые дни после революции 18 марта они радостно воспрянули духом, в их глазах Варлен видел сияние надежды. Но по мере того, как Коммуна сталкивалась со все более тяжелыми трудностями, настроение озабоченности и тревоги охватывало людей. Варлен с молчаливым, но напряженным вниманием вглядывается в лица коммунаров. Кажется, что он ищет у них ответа на вопросы, которые так мучают его самого.
А разношерстная толпа парижан теперь резко отличается от тех, кто заполнял лучшие улицы и бульвары города еще несколько лет назад. Не видно элегантных экипажей, солидно прогуливающихся с зонтами буржуа и разряженных дам, некогда заполнявших пышными юбками всю ширину тротуаров. Казалось, что люди из предместий переселились в центральные районы Парижа. Многие с оружием в руках и в военной форме, поражающей разнообразием и бедностью. Они напоминают какую-то смесь из солдат разных армий. Галуны на синих парусиновых брюках национальных гвардейцев, часто украшенных еще и грубыми заплатами. Мешковатые коричневые блузы смешиваются с вязаными жилетами, пальто без пуговиц с красными рубахами гарибальдийцев. С трогательным щегольством коммунары украшают свои импровизированные мундиры галунами, кистями, петушиными перьями, торчащими на шляпах и кепи, на бескозырках моряков. Их вооружение также необычайно разнообразно: ружья, карабины, револьверы производства разных стран и, к несчастью, разных времен, чаще всего уже давно прошедших. Выделяются женщины Коммуны. Одни одеты в мужские военные костюмы, другие упорно пытаются сохранить традиционную элегантность парижанок, даже с тяжелым ружьем в руках.
Варлена, естественно, интересует не живописный облик коммунаров, а их мысли, настроения. Правда, лишь несколько раз за время Коммуны он смог побывать на собраниях столь многочисленных теперь народных клубов, где люди изливали душу в безыскусных речах, в которых столько же искреннего чувства, страсти, мечты, сколько и наивности, простодушия и часто непонимания сложности обстановки, беспочвенного, слепого оптимизма.
Однажды в одном из коридоров Ратуши Варлена остановила Натали Лемель, его давний друг. Эта энергичная женщина тоже была переплетчицей и в последние годы империи являлась одним из самых надежных помощников Варлена в борьбе за создание рабочих кооперативов. Это она помогала Варлену организовать сеть рабочих столовых «Мармит». Сейчас Натали Лемель стала одной из виднейших руководительниц женщин-коммунарок. Она со страстью высказывает Варлену свои опасения за судьбу Коммуны, возмущается робостью, непоследовательностью ее руководства. Почему не прислушаются к голосу народа? Почему требования, звучащие в народных клубах, остаются гласом вопиющего в пустыне? Варлен терпеливо рассказывает ей о сложном положении в правительстве Коммуны. Он, конечно же, придет на заседания клубов и в церковь Сен-Сюльпис в VI округе, который Варлен представляет в Коммуне, и в церковь святого Ефстафия — у ее стен он когда-то начинал свою жизнь в Париже…
И вот он в огромном помещении, готические своды которого теряются в темноте. На скамье для церковного причта сидят руководители клуба, на столе перед ними две керосиновые лампы; света не хватает для огромного зала, все происходит в полутьме, и причудливые тени колышутся на громаде колонн. Многие по привычке, входя в храм, инстинктивно снимают шапки, но большинство сидят в головных уборах. Все скамьи заняты, люди стоят в боковых приделах. Высоко прилепившаяся к одной из колонн кафедра для проповедника служит революционной трибуной. Серебряный звон колокольчика, обычно возвещавший начало церковной службы, на этот раз оповещает о начале заседания. Вслед за тем раздается мощный гул органа. Но под сводами звучит не религиозная музыка. Это «Марсельеза»! Странное, фантастическое зрелище! Кажется, что в древнем храме собрались приверженцы какой-то новой религии, исповедующие ее со страстью первых христиан древности. На кафедре Натали Лемель…
— Мы подошли к великому моменту, — говорит она с волнением, — когда нужно умереть за родину. Долой слабость и неуверенность! Все в бой! Все должны выполнить свой долг! Надо раздавить версальцев!..
Ораторы, мужчины и женщины, сменяются часто; они не привыкли произносить длинных речей. Но тем убедительнее звучат их голоса, особенно голоса женщин, впервые в храме бога громко произносящих требования и просьбы, обращенные отнюдь не к всевышнему.
— В первую очередь, — говорит очередной оратор, — надо покончить с социальным бедствием, эксплуатацией рабочих хозяевами, которые богатеют за счет рабочего пота. Долой хозяев, которые считают рабочих простой машиной. Пусть рабочие объединятся в ассоциации, соединят свой труд, и они станут счастливыми. Другой язвой современного общества являются богачи, которые только пьют, забавляются и ничего не делают. Их надо выкорчевать с корнем, так же как попов и монахинь. Мы не будем счастливы, пока не исчезнут хозяева, богачи и попы!
Такой смелой социальной программы Варлену не доводилось слышать и на заседаниях Коммуны. Именно здесь царит дух подлинной революционной смелости, придавшей Коммуне все ее значение. «Коммуна — молодое деревце, его надо поливать кровью аристократов», — заявляет оратор огромного роста в форме солдата Национальной гвардии. Глядя на его решительную фигуру, можно не сомневаться, что он готов пролить и свою кровь за революцию. Но вот на кафедре бланкист Троель, известный председатель одного из клубов. Он говорит о том, что самым непосредственным образом касается Варлена:
— Коммуна сильно нуждается в том, чтобы ей влили в вены свежей крови, ибо она ковыляет и спотыкается. Если бы я имел честь состоять в ней, я сделал бы все возможное, чтобы выгнать из нее по меньшей мере две трети ее членов, а затем покончить одним ударом с буржуазией. Я считаю, что для этого есть только одно средство — это захватить Французский банк. Надо выдавать каждому добровольцу 5 тысяч франков, чтобы обеспечить семьи убитых и раненых. Надо расстреливать каждого, кто не хочет идти в бой. Надо послать 200 миллионов в кассу Интернационала. Вернуть немедленно вещи, заложенные в ломбарде. Время идет, революции, как и люди, смертны, часто они уходят слишком быстро!
Подобные мысли не раз приходили в голову самому Варлену. Но сколько раз он убеждался в невозможности их осуществления! Ведь Коммуна боится осложнить свое и без того сложное положение радикальными мерами. Однако не переходит ли ее осторожность, умеренность и терпение в нечто такое, что противоречит настроениям народа?
Но вот на трибуне старуха, которая объявляет, что она прачка и проработала 40 лет, не имея ни одного дня отдыха, даже на пасху! Она говорит хриплым и слабым голосом:
— Если бы я была правительством, я бы устроила таким манером, чтобы и рабочие могли отдыхать. Я бы заставила построить дома за городом, где рабочие могли бы отдохнуть, конечно, не все сразу, и чуточку развлечься. Если бы народ имел каникулы, как и богачи, он бы так не жаловался. Вот что я вам хотела сказать, граждане!
На кафедру взбирается тщедушный старичок и начинает протестовать против мероприятий Коммуны по борьбе с проституцией и по поднятию уровня общественной морали. Он требует передать жен и дочерей богатых рабочим.
— Узаконь эту меру, чересчур стыдливая Коммуна, иначе мы приступим к делу сами, и, уверяю тебя, со всей решительностью, — заявляет старик, вызывая хохот и насмешливые возгласы.
Оратор продолжает:
— Увы, я говорю не о себе, потому что мой возраст позволит мне участвовать лишь в качестве зрителя в этом великом и славном торжестве, которое положит начало подлинной общности. Впрочем, даже если результат будет не таким грандиозным, как это мне представляется, пролетариат заслужил этот праздник. Слишком долго богатые присваивали себе самых красивых девушек, оставляя пролетариям только уродливых, глупых и сварливых!
Да, исторические документы сохранили память и о такого рода курьезных требованиях, вызывавших лишь справедливые насмешки. В клубах звучали иногда безответственные, наивные призывы. Но главным здесь было другое — могучее стихийное стремление к социальной справедливости, к освобождению от капиталистического гнета. Оно проявлялось в смутной, еще слабо осознанной форме, но именно в народе зарождался и зрел социалистический идеал Коммуны. И чем больше пролетарии сознавали рабочий характер правительства Коммуны, тем требовательнее они к ней относились, смело критикуя слабости своего правительства. Впрочем, одновременно они доказывали преданность ему, и не столько словами, сколько своей героической борьбой с версальцами. Варлен с грустью думал о том, что простые невежественные рабочие порой гораздо лучше чувствуют задачи Коммуны и ее историческую ответственность, чем некоторые ее сладкоречивые руководители…
Хотя положение становится все серьезнее, распри в Коммуне усиливаются, Варлену, как и другим руководителям Коммуны, приходится тратить много времени не на организацию борьбы против версальцев, а на ликвидацию затруднений, вызванных враждой разных группировок. В начале мая возник серьезный кризис из-за притязаний Центрального комитета Национальной гвардии. Этот комитет, так поспешно передавший власть Коммуне в марте, потом словно пожалел об этом и сразу начал соперничать с Коммуной. Первый кризис возник еще в начале апреля, когда ЦК, состав которого значительно изменился, решил самостоятельно поставить генерала Клюзере во главе Национальной гвардии без ведома Коммуны. Тогда удалось кое-как урезонить ЦК. Кстати, Варлену тоже пришлось участвовать в урегулировании этого конфликта. В течение всего апреля ЦК продолжал притязать на власть, и Коммуна терпела это. В начале мая его притязания особенно усилились. Только что созданный Комитет общественного спасения и здесь сыграл пагубную роль. Он разделил все военные дела (а делить их было практически невозможно) на две части: ведением войны должен был заниматься новый военный делегат Россель, а военной администрацией — Центральный комитет. Это сразу дезорганизовало и без того очень напряженную работу военных органов. 6 мая к Варлену явились совершенно неизвестные люди, расшитые галунами, в сверкающих сапогах, заявив, что ЦК прислал их заменить его. Варлен с двух слов понял, что его гости не имеют никакого представления о сложных делах интендантства. Примерно в том же положении оказался и Журд, которому ЦК объявил, что отныне он сам будет распоряжаться расходованием денежных средств. Решение Комитета общественного спасения грозило парализовать и окончательно расстроить всю систему обеспечения военных действий. Только в результате категорических выступлений Варлена и Журда на заседании Коммуны 8 мая удалось устранить пагубные последствия вредных действий Комитета общественного спасения и ограничить притязания ЦК Национальной гвардии.
Вред, нанесенный Коммуне бессмысленными и просто опасными приказами Комитета общественного спасения, особенно сильно проявился в связи с трагедией Мулен-Саке. Так называлась пригородная ферма, расположенная на юго-восточном участке обороны Парижа, которую укрепили и превратили в редут, занятый сильным отрядом коммунаров. 3 мая генерал Врублевский получил приказ Комитета общественного спасения отправиться на помощь форту Исси. В ночь с 3-го на 4-е версальцы внезапно напали на Мулен-Саке. Было убито 50 и взято в плен 200 национальных гвардейцев. Когда на другой день Коммуна потребовала от Росселя объяснений, он сослался на приказ Комитета общественного спасения Врублевскому, отданный без его ведома. Феликс Пиа с присущим ему наглым апломбом категорически отрицал, что он отдавал такой приказ. На другой день Коммуне представили оригинал приказа с подписью Пиа. Этот шарлатан сослался на свою «забывчивость». Почти одновременно Пиа выступил в своей газете «Ванжер» с капитулянтской статьей, в которой предлагал Тьеру мир без всяких требований сохранить политические или социальные завоевания Коммуны. Несмотря на всеобщее возмущение, Комитет общественного спасения даже не отмежевался от предательского шага своего наиболее крикливого представителя. Обстановка в Коммуне и борьба между «большинством» и «меньшинством» накалилась до предела. 7 мая заседание Коммуны вообще было сорвано, поскольку явилось очень мало людей. Оказалось, что «большинство» в этот день проводило сепаратное совещание в мэрии I округа. 8 мая заседание состоялось, но его содержанием явился новый ожесточенный спор двух фракций.
В ночь на 9 мая коммунары оставили форт Исси, важнейшую стратегическую позицию, превращенную уже в ГРУДУ развалин. Новый удар, полученный Коммуной, был усугублен предательскими действиями полковника Росселя. Он, не советуясь ни с кем, приказал расклеить в огромном количестве по всему Парижу такое сообщение: «Трехцветное знамя развевается над фортом Исси, оставленным вчера вечером его гарнизоном. Военный делегат Россель».
Не довольствуясь этим, он составил пространное заявление об отставке, в котором возложил ответственность за военные неудачи на Коммуну. Этот документ он послал в газеты, которые и опубликовали его, к великому ликованию версальцев. Одновременно поползли слухи о тайных встречах Росселя с некоторыми бланкистами, где обсуждался план свержения Коммуны и установления диктатуры Росселя. За установление этой диктатуры открыто высказался ЦК Национальной гвардии.
9 мая состоялось драматическое заседание Коммуны. Когда Делеклюз с волнением сообщил собранию о сеющей панику прокламации Росселя и о других событиях, оцепенение вскоре сменилось гневом. Делеклюз в заключение своей страстной речи решительно осудил Комитет общественного спасения. Варлен немедленно пишет на листке бумаги: «Так как Комитет общественного спасения поставил под угрозу общественное спасение вместо того, чтобы обеспечить его, мы предлагаем упразднить его». Варлен поставил свою подпись и передал записку Арнольду, тоже члену военной комиссии. Тот подписал и передал дальше. На листке появилось еще 11 подписей, главным образом представителей «меньшинства».
Разгорелись ожесточенные прения, которые показали, что новые несчастья не объединили Коммуну. Напротив, Феликс Пиа выступил с ожесточенными нападками на «меньшинство», обвиняя его в трусости и потворстве изменникам. Послышались требования ареста сторонников «меньшинства». После перерыва «большинство» удалилось на сепаратное совещание. Затем общее заседание возобновилось и был избран новый Комитет общественного спасения. В него вошли только сторонники бланкистско-якобинского «большинства» — Делеклюз, Ранвье, Гамбон, Эд, А. Арну. 10 мая происходили выборы гражданского делегата при военном министерстве. После плачевного опыта с двумя профессиональными офицерами (Клюзере и Россель) решили выбрать штатского человека. Выдвинули две кандидатуры: Делеклюза и Варлена. Это действительно были самые достойные и авторитетные люди в Коммуне. Однако раскол между «большинством» и «меньшинством», противоречия внутри самого «меньшинства» привели к тому, что кандидатуру Варлена после обсуждения сняли. Избрали больного и старого Делеклюза.
На следующем заседании возник вопрос о замещении места Делеклюза в Комитете общественного спасения. Выдвигается две кандидатуры: Варлен и бланкист Бийорэ. Теперь, когда «большинство» объявило открытую войну «меньшинству», голосовали только в соответствии с принадлежностью кандидатур к тому или иному клану. Поэтому Бийорэ получил 27 голосов, а Варлен — 16.
Выборы нового состава Комитета общественного спасения, делегата при военном министерстве и замещение места Делеклюза в комитете, явившиеся успехами «большинства», еще более углубили разделявшие две фракции разногласия. 11 мая «большинство» на сепаратном совещании решило усилить борьбу против «меньшинства». 13 мая из состава комиссии общественной безопасности вывели Вермореля, а Лонге сместили с поста главного редактора «Журналь офисьель». Но это было только начало. 15 мая обновляется весь состав военной комиссии. Из нее исключают Варлена, Авриаля, Арнольда и Тридона. Среди сторонников «меньшинства» враждебность к «большинству» тоже усиливалась, особенно после того, как, явившись на заседание Коммуны 14 мая, они увидели лишь нескольких человек из группы «большинства». Заседание было сорвано. Тут же решают провести, подобно «большинству», свое отдельное заседание. Договорились собраться сегодня же в здании Управления почт. Там обсудили и приняли декларацию «меньшинства», которую решили огласить на следующем заседании Коммуны. Однако 15 мая заседание опять срывается из-за отсутствия «большинства». Окончательно раздраженные члены «меньшинства» тут же решили опубликовать декларацию в газетах, и 16 мая она была напечатана. Под декларацией стояло 22 подписи, из них 18 подписей членов Интернационала, в том числе и Варлена.
В декларации говорилось, что Коммуна «отреклась от своей власти, передав ее диктатуре, которую она назвала Комитетом общественного спасения». Члены «меньшинства» заявляли, что будут приходить на заседание Коммуны только тогда, когда она будет судить кого-либо из своих членов, а все время и силы посвятят работе в округах и вооруженной борьбе с Версалем. Декларация, впрочем, заканчивалась утверждением, что «все мы — большинство и меньшинство — преследуем одну и ту же цель — политическую свободу, освобождение трудящихся».
Декларация содержала немало спорных и даже совершенно неверных утверждений. Ее авторы совершали грубую ошибку, отрицая необходимость сильной власти в том отчаянном положении, в котором оказалась Коммуна. Но самым непростительным шагом «меньшинства» явилось опубликование этой декларации в газетах. Версальцам это доставило еще больше удовольствия, чем публикация в печати заявления Росселя, что, кстати, резко порицали представители «меньшинства».
Во время всей этой завершившейся столь нелепо истории Варлен занимал крайне сдержанную позицию. Более того, он в апреле голосовал вместе с «большинством» по вопросу утверждения частичных выборов, когда впервые наметился раскол. Но плачевный опыт деятельности Комитета общественного спасения, агрессивная позиция «большинства» и принципиальная враждебность к любым диктаторским тенденциям не могли не побудить Варлена выступить вместе со своими товарищами — членами Интернационала. Чувство солидарности было в большой степени свойственно Варлену.
Декларация «меньшинства» вызвала серьезное волнение среди коммунаров. Они не понимали и осуждали позицию Интернационала. Критически высказывалась даже наиболее близкая к нему газета «Ла Коммюн», хотя она при этом и обрушивалась на «большинство». В статье «Истерия» говорилось: «Что это такое? Интеллигентное меньшинство удаляется из зала заседаний и уходит не на Авентинский холм восстания, а под сень пассивного покоя. Оно уступает место невежественным и грубым элементам, смешным клубным крикунам, комедиантам, разыгрывающим 1793 год…»
Что касается бланкистской газеты «Пер Дюшен», то она называла членов «меньшинства» трусами, негодяями, мерзавцами, изменившими народу, уподобившимися дезертирам, убегающим с поля боя. Газета требовала предать их военному трибуналу и расстрелять.
17 мая все же 15 представителей «меньшинства» явились на заседание Коммуны. Бурные споры закончились принятием резолюции, осуждающей «меньшинство». Впрочем, это был еще очень благоприятный исход. Прокурор Коммуны Риго явился на заседание, имея в кармане ордера на арест членов «меньшинства». Только возражения Делеклюза помешали ему. На заседании 19 мая снова возникли столкновения между враждебными группировками. На последнем заседании 21 мая та и другая стороны все же смягчили свои позиции, особенно «меньшинство», которое подчинилось требованию своих избирателей и федерального совета Интернационала, собравшегося по этому поводу, и вновь заняло свои места в Ратуше.
В конце концов произошло нечто вроде примирения. Председателем на последнем заседании Коммуны был Жюль Валлес, сторонник «меньшинства». «Большинство» тоже проголосовало за него. Однако многие, подобно Варлену, с горечью сознавали, что раскол не делает чести ни «большинству», ни «меньшинству». Да, Коммуна забыла о своей великой ответственности, она оказалась ниже тех требований, которые предъявили ей грозные события. Коммуна не только не смогла организовать героически поднявшиеся массы пролетариата; она не смогла организовать сама себя.
«Большинство» не поняло смысла событий и слепо копировало внешнюю сторону: слова, лозунги, символы Совсем иной революции далекого прошлого. Оно унизилось до узкой злобы и ограниченности, преследуя сторонников «меньшинства» и провоцируя их на раскол.
Но это нисколько не оправдывало «меньшинство». Его борьба против «диктатуры» оказалась борьбой с ветряными мельницами, ибо Комитет общественного спасения, нерешительный и слабый, совсем не походил на революционную диктатуру, которая была совершенно необходима, но которой фактически не оказалось. Если и имелись основания выступать против «большинства», то они заключались в том, что бланкисты и якобинцы забыли или не поняли великий социалистический идеал восстания рабочего класса. Но, как ни странно, об этом забыли и сами социалисты из «меньшинства», хотя именно им, деятелям Интернационала, принадлежала великая заслуга в том, что они дали Коммуне социалистический идеал. Тем самым они дали ей воодушевленных, героических бойцов, которые умирали под пулями версальцев в то самое время, когда члены Коммуны бесплодно сводили счеты и занимались яростными, бессмысленными распрями.
Обстановку этой грустной истории Лиссагаре передает так: «…Разногласия перешли в личную вражду. Зал заседаний был маленький, плохо проветриваемый, плохо изолированный от шума и криков, которые раздавались в Ратуше… В этой душной, нагретой комнате быстро создавалось напряженное, лихорадочное настроение и загорался раздор — мать поражения. Он, однако, затихал, — пусть народ знает это так. же хорошо, как и их ошибки, — когда они задумывались о народе и когда их душа подымалась выше жалких личных споров… Все социальные декреты проходили единогласно, потому что, хотя они и любили выдумывать разделявшие их разногласия, они все были социалисты… И никто даже в момент величайшей опасности не осмелился заговорить о капитуляции».
IX
Момент крайней опасности наступал. В 3 часа дня в воскресенье 21 мая версальские войска вошли в Париж. Они не взяли его штурмом, они не бросались на приступ укреплений, ибо на них никого не было. Уже несколько дней, как ворота Сен-Клу и другие проходы в город никем не охраняются. Массированный артиллерийский обстрел из нескольких сотен орудий, а главное — развал военной организации Коммуны сделали свое дело.
В семь часов вечера в зал заседания входит бледный Бийорэ, член Комитета общественного спасения, и зачитывает сообщение генерала Домбровского: «Версальцы вступили через ворота Сен-Клу. Я принимаю меры, чтобы их прогнать…»
— Батальоны отправились, — добавляет Бийорэ, — Комитет общественного спасения на страже.
После этого никто не видел Бийорэ; он сбежал, вскоре исчез и пресловутый Комитет общественного спасения так, что никто этого не заметил.
На другой день утром человек двадцать членов Коммуны собираются в Ратуше. Решено разойтись по своим округам и каждому руководить у себя обороной. Никакого общего плана. Только теперь, наконец, загремели барабаны и загудел набат. Патетическую речь с призывом взяться за оружие произнес Феликс Пиа и после этого скрылся.
Настало время для всех показать, кто чего стоит. Настал момент, когда Коммуна в лице ее подлинных и главных героев — восставших пролетариев, проявит себя во всем своем историческом величии. Пришел день страшного суда; одних он наградит смертью и сиянием бессмертной славы; других приговорит к вечному позору и презрению…
Варлен давно предвидел наступление конца, и он готов. Довольно мучительных сомнений, тоскливых раздумий; теперь нужно умереть! Варлен опоясывает себя пурпурным шарфом с золотыми кистями. Этот отличительный знак члена Коммуны раньше он почти никогда не надевал. Он немедленно отправляется на левый берег, в свой округ, в район Люксембурга. Здесь, в Латинском квартале, около Сорбонны, ему многое памятно и все знакомо. Неподалеку от мэрии VI округа на площади Сен-Сюльпис, где Варлен немедленно приступил к организации обороны, улица Дофин. Там юный Эжен некогда переплетал книги, а больше читал их; там определил свою судьбу.
Версальцы уже близко, они захватили вокзал Монпарнас. Варлен распределяет отряды 67, 135, 147-го батальонов Национальной гвардии. Центром обороны будет площадь Круа-Руж, подступы к которой на расходящихся от нее улицах покрываются баррикадами. Улицы Вавен, Ренн, Гренель должны стать звеньями линии обороны, чтобы преградить врагу путь к Люксембургскому дворцу и Пантеону. Разбираются мостовые, и брусчатка укладывается камень к камню в стены выше человеческого роста. А потом сюда тащат мебель, матрасы, экипажи, бочки, идет в ход все. И каждая баррикада хочет иметь пушку, а лучше две. Коммунары яростно спорят из-за них, из-за снарядов, из-за «шаспо» — винтовок новейшего образца, которых хватает далеко не всем. На каждой баррикаде водружается красное знамя. Варлен руководит постройкой баррикад, начатой еще в ночь с 21 на 22 мая, распределяет людей, назначает командиров. Все надо делать на ходу, заранее никакого плана обороны не приготовили.
Случайно сохранился один из письменных приказов, которые отдавал Варлен. Вот его текст:
«Париж, 22 мая 1871, 9 1/2 часов.
Гражданину Сальвадору поручается построить серию баррикад на улице Ренн, улице Вожирар и обеспечить защиту перекрестка.
Э. Варлен.
Командующий 6-м легионом».
Франческо Сальвадор, литератор и композитор, музыкой которого восхищался Берлиоз, в мае был назначен директором консерватории. Еще до мартовской революции он являлся членом ЦК Национальной гвардии. Сальвадор один из самых бесстрашных помощников Варлена в VI округе. 24 мая версальцы схватили его и расстреляли.
В этих кварталах среди жителей многие с нетерпением ждут версальцев. Коммунары подозрительны, но твердая решимость отражается на лицах. Они уже надеются только на себя и не доверяют никому. Здесь оказался журналист и член Коммуны Жюль Валлес; он хочет найти себе применение и то снимает, то надевает свой красный пояс члена Коммуны. Коммунары останавливают его, требуют снарядов, патронов, хлеба и объяснений. Но он сам ничего не знает и ничего не имеет. Ему угрожают.
— И после этого Коммуна смеет еще поднимать голос!
Но Коммуну здесь представляет не только Валлес. Как всегда, деловой Журд с сундуком денег, аккуратно раздающий жалованье гвардейцам. Здесь член Комитета общественного спасения бланкист Эмиль Эд помогает Варлену организовать оборону левого берега. Растерявшийся Валлес вызывает снова подозрения. Ему приказывают стать к стенке… Валлес вспоминает: «Но вот является Варлен — идол квартала, — и перед ним внезапно все смолкает. Я свободен!»
Уже днем 22 мая версальцы начали штурм баррикад на улице Ренн. Их много, гораздо больше, чем защитников баррикад: на каждого по десять человек. Но зато каждый из коммунаров знает, за что он сражается, и готов к смерти. Все сознают, что они обречены, что трудовой Париж не объединен никаким единым стратегическим планом, что он раскололся на множество маленьких коммун, каждая из которых дерется на свой страх и риск. Это вселяет в людей какую-то отчаянную гордую смелость. Никто не ждет помощи и не рассчитывает на других, и никто не хочет отступать. Но слишком неравны силы. И вот уже появляются отряды, оставившие дворец Почетного легиона и отступившие от горящего здания сюда, на площадь Круа-Руж.
Натиск усиливается и с юга, версальцы наступают от Монпарнасского вокзала. Их напор удерживает мощная баррикада во главе с полковником Лисбоном. Этот бывший драматический актер в тирольской шляпе никогда еще не играл так великолепно и такую благородную роль! Красное знамя на баррикаде то и дело сбивают снаряды, но его снова водружают на место. Кругом уже десятки трупов, соседние кафе и магазины наполнены ранеными. Но баррикада держится. А Варлен в центре всей системы баррикад, он стоит у фонтана Сен-Сюльпис, окруженный группой гвардейцев. В нескольких метрах разрываются снаряды, бросая под ноги дымящиеся осколки. Вот когда пригодилось хладнокровие Варлена! Он действует спокойно, методично, как будто у него в запасе огромные резервные силы, которые он вот-вот пустит в ход и обратит в бегство врага. Но никаких резервов нет, и помощь не придет. Тем больше оснований держаться до конца!
Сегодня, 23 мая, прекрасный, солнечный, совсем летний день, прелесть которого нарушают клубы порохового дыма, грохот снарядов, свист пуль и крики сражающихся. В Париже несколько районов сопротивляются особенно мужественно. К северу, за Сеной, в Батиньоле, упорно держатся отряды, руководимые другом Варлена по Интернационалу Бенуа Малоном. Южнее от него бывший офицер Поль Брюнель умело превратил площадь Согласия в западню для версальских войск. Расставленные Брюнелем пушки усеивают огромную площадь трупами врагов. А к востоку от района, где дерется Варлен, по направлению к Орлеанскому вокзалу, раздается ожесточенная канонада битвы, которую великолепно ведет генерал Врублевский, не только сдерживая натиск превосходящих сил, но и предпринимая успешные контратаки.
«Такое же энергичное сопротивление, — пишет историк Коммуны Луи Дюбрейль, — оказал и Варлен, храбрец из храбрецов, воодушевлявший своей непоколебимой верой сражавшихся в VI округе на баррикадах перекрестка Круа-Руж, Ренн и Вавен».
Почти весь день 23 мая Варлен находится на баррикадах, защищающих перекресток Круа-Руж. Вой становится все ожесточеннее. Чтобы помешать версальцам стрелять с крыш и из окон домов, коммунары поджигают здания. Кончаются снаряды. Уже сотни трупов лежат позади баррикад. Некому их убрать. Артиллерия врага разбивает баррикады. Их восстанавливают под огнем, но ненадолго. К вечеру почти все здания квартала уже разрушены снарядами или сожжены. Держаться дальше невозможно. Варлен вместе с Лисбоном и тридцатью бойцами уходят на улицу Вавен. Здесь они ведут бой с наступающими моряками дивизии генерала Брюа. Затем мимо Люксембургского сада они отходят к Пантеону. Вокруг него последний центр сопротивления Латинского квартала. Три баррикады защищают подходы к Пантеону. На одной из них Варлен с горсткой своих людей вступает в бой. Вместе с Лисбоном и Жаком Аллеманом, рабочим-печатником, Варлен пытается собрать в один батальон скопившихся здесь гвардейцев из разных мест левого берега. Но они уже превратились в толпу, не поддающуюся организации. Версальцы идут к Пантеону сразу с трех сторон. В 4 часа дня 24 мая Варлен, Лисбон и остатки их отрядов отходят к Сене. Сзади и особенно слева, там, где они сражались вчера, сплошное море огня. Это мешает версальцам преградить им путь, и они вступают на Аустерлицкий мост. За островом Сите встают огромные столбы дыма; горят Ратуша, префектура полиции, Тюильри. По пути к ним присоединяются уцелевшие бойцы из других отрядов и рассказывают, что версальцы расстреливают всех пленных. Варлен узнает об убийстве Рауля Риго, прокурора и самого молодого члена Коммуны. Если в глубине сердца кое у кого еще и таилась надежда на спасение, то теперь всем ясно, что только чудо может избавить их от смерти. Варлен и его отряд направляются в Сент-Антуанское предместье. Здесь, на бульваре Вольтера, собираются остатки батальонов Коммуны. Теперь центр Коммуны в мэрии XI округа. Люди, повозки, пушки, лошади загромождают все вокруг. На широкой лестнице женщины, сидя на ступеньках, торопливо шьют мешки для баррикад. Повсюду прямо на земле спят измученные коммунары, у костров жарят конину, рассказывают друг другу об ужасных расправах версальцев с пленными, о настоящей охоте на коммунарок, которым приписывают поджоги. Ночь на 25 мая проходит тревожно. Пушечная канонада не стихает. Все вокруг озарено отблесками гигантского зарева, охватившего западную сторону парижского неба. Столбы огня и дыма достигают гигантских размеров. Кто-то рядом с Варленом сравнивает Париж с Москвой, захваченной Наполеоном и сожженной своими жителями.
На другой день, 25 мая, в мэрии XI округа собрались 22 члена Коммуны и Центрального комитета Национальной гвардии. Обсуждают положение, которое все более безнадежно. Коммуна зажата теперь на небольшом куске восточной части Парижа, в рабочих кварталах города. Площади Бастилии и Шато д’О становятся важнейшими опорными пунктами борьбы. Обсуждается вопрос о подозрительном посредничестве посольства Соединенных Штатов с целью заключения «перемирия». Некоторые готовы согласиться на это предложение. На деле речь шла о том, чтобы побудить коммунаров сдаться немцам, которые передали бы их версальцам. Но, к счастью, благодаря бдительности простых коммунаров удалось избежать опасной западни.
А в это самое время яростный, еще небывало ожесточенный бой идет на площади Шато д’О. Вокруг шквал огня, снарядов и пуль. Тяжело ранен отважный Брюнель. Полковнику Лисбону снаряд раздробил обе ноги. Было около семи вечера, когда здесь показался Делеклюз. Старый революционер, больной и слабый, понял, что конец близок. Будучи не в состоянии сражаться, он все же решил выполнить свой долг и умереть. Худой старик с седой головой, опоясанный красным шарфом члена Коммуны, идет в самый огонь, и множество пуль пронзают его тело…
В начале этого рокового дня Делеклюз обратился к тем, кто еще остался из руководителей Коммуны, с просьбой передать обязанности военного делегата другому. И сразу прозвучало имя Эжена Варлена. Если у некоторых и мелькнуло выражение изумления, то это было связано с пронзившей их мыслью: а почему же они раньше не догадались сделать это, не заметили такого очевидно необходимого решения, которое теперь, увы, не могло быть ничем иным, кроме достойного финала трагедии Коммуны.
Не сказав ни слова, Варлен немедленно берется за дело. Территория Коммуны так мала, так немного у нее теперь защитников, и так мало времени осталось ей существовать! Но забот от этого не меньше. Программа нового военного делегата проста: драться до конца! Все требуют подкреплений, снарядов, патронов, а их нет. Варлену нечего дать последним защитникам Коммуны, кроме своего мужества. Вот один из оперативных документов того дня, записка Варлена Ферре, руководившему невдалеке жестоким боем:
«Гражданин Ферре!
Я не могу сейчас прислать вам подкреплений, но держитесь во что бы то ни стало. Полковник и штаб 11-го легиона возвращаются в свой округ.
Э. Варлен.
3 ч. 25-го.
Гражданский делегат по военным делам».
В мэрии невообразимый шум, непрерывно приходят люди и требуют невозможного: подкреплений! С трудом удавалось установить расположение батальонов и баррикад. Варлен, уже несколько суток не смыкавший глаз, даже в этих немыслимых условиях остается олицетворением порядка и выдержки. Ему, во всяком случае, удается предотвратить возникновение паники и хаоса. А главное, бойцы на баррикадах знают, что командует Варлен, а они верят ему.
Приводят контуженного Лео Франкеля. Ему помогла добраться сюда член Интернационала, руководительница парижских коммунарок, молодая русская женщина Елизавета Дмитриева, знаменитая своей смелостью и необыкновенной красотой. Приносят тяжело раненного Вермореля. Этот талантливый журналист, неугомонный пропагандист социалистических идей, никогда раньше не походил на человека, способного воевать. Его внешность семинариста, неловкость, его смешная фигура не вязались с понятием воинской доблести. Но именно он в последние дни Коммуны проявил поразительную смелость и предприимчивость. Он лежит на диване и вдруг, открыв глаза, видит перед собой Ферре, активного деятеля «большинства» Коммуны, с которым он, представитель социалистического «меньшинства», так яростно спорил, отвергая обвинение в «трусости».
— Вы видите, — говорит Верморель, — меньшинство умеет умирать за революцию…
Ферре бросается к Верморелю и обнимает его. А ведь в самом деле, здесь вместе с Варленом немало людей из «меньшинства», из Интернационала, таких, как Жунд, Франкель, Тейс, Камелина. Все, впрочем, как будто забыли недавние споры и разногласия. Один из французских знатоков истории Коммуны, Эмиль Терсен, описывая события 25 мая 1871 года, подчеркивает: «…Особенно выделялись своим мужеством и энергией члены бывшего «меньшинства». Все время, пока Коммуна стояла у власти, совесть социалистов удерживала их от излишних жестов и слов, от бесполезных театральных выходок; она побуждала их действовать конкретно и практически целесообразно. И та же социалистическая сознательность привела их теперь на передний край борьбы, последнее доступное для них поприще».
Пожалуй, ни к кому из французских членов Интернационала не подходят так точно эти слова, как к Эжену Варлену.
К вечеру 25 мая защитники площади Шато д’О почти все уже перебиты. На каждого коммунара приходится по 25–30 версальских солдат. Особенно тяжело стало горстке защитников легендарной площади (сейчас это площадь Республики) после того, как был тяжело ранен их командир Брюнель. Вскоре площадь Шато д’О занимают версальцы. Они появились и на площади Вольтера, где бронзовый мыслитель, во многих местах пробитый пулями, встретил их своей неизменной и загадочной сардонической улыбкой.
В ночь на 26 мая Варлен и все остальные покидают мэрию XI округа. Штаб Коммуны перемещается на улицу Аксо, в дом 81, на самой восточной границе Парижа, в Венсенском предместье, в садах которого в эти дни цветет вишня. С утра небо покрывают тучи. Полил дождь. Говорят, что это результат чудовищной канонады. Но пожары не прекращаются, теперь огонь охватывает еще и доки Ла Виллет.
На улице Аксо собирается десяток членов Коммуны. Приходят представители Центрального комитета Национальной гвардии. Они все еще домогаются власти. Им предоставляют право осуществлять диктатуру при условии, что ЦК будет действовать совместно с военным делегатом Коммуны Варленом.
Утром 27 мая Варлен идет с Тейсом по улице Боливара. Им надо срочно уладить дело с боеприпасами для батареи на высотах Бют-Шомон, еще находящейся в руках коммунаров. На углу улицы Бельвиль они видят большую толпу. В центре, окруженные конвоем, шли человек пятьдесят. Это были заложники из тюрьмы Ла Рокет. Еще в начале апреля, после зверского убийства версальцами Флуранса и Дюваля, Коммуна единодушно приняла декрет о заложниках. Она объявила, что за каждого убитого коммунара будет расстреляно трое агентов Версаля или других врагов Коммуны. Бывшие шпионы императорской полиции, жандармы, священники — всего около шестидесяти человек объявляются заложниками. Единственной крупной фигурой среди них был парижский архиепископ Дарбуа. Но Коммуна, грозная на словах, оказалась очень нерешительной и мягкой на деле. Ни один из заложников не был казнен, хотя версальцы еще до 21 мая жестоко расправились с сотнями пленных коммунаров. Ну, а после 21-го в Париже началась чудовищная кровавая оргия, затмившая все, что знала до сих пор история. Ни возраст, ни пол, ни степень виновности не имели значения. Убивали всех: национальных гвардейцев, мужчин, женщин, стариков, детей, убивали по прихоти, убивали в опьянении садистской ненависти к рабочему классу, к революционному Парижу. И теперь об этом уже знали все, кто еще уцелел от зверских рас-прав, кто еще сражался на этом клочке Парижа, понимая, что впереди — смерть.
Вчера по приказу Ферре были расстреляны архиепископ Дарбуа и еще несколько заложников, всего шесть человек. Остальных не тронули. Но их пришлось вывести из тюрьмы: версальцы должны были с минуты на минуту занять ее. Огромная толпа немедленно окружила конвой с заложниками. Здесь были бойцы, чудом оставшиеся в живых, и просто жители пролетарских кварталов. Все они уже знали, что происходит; они видели своими глазами ужасы версальских расправ. Они знали, что и им предстоит быть жертвами, что их ничто не спасет. С ненавистью, граничащей с безумием, они требовали немедленно расстрелять тех, в ком они видели смертельных врагов. В толпе появилось несколько членов Коммуны и Центрального комитета. Среди них Огюст Серрайе и Жюль Валлес, которые пытаются остановить толпу, требующую смерти заложников. Их отталкивают, оскорбляют. Валлес замечает старика с ружьем, которого он знал как борца против жестокостей империи. Он просит его помощи:
— Скорее идите к нам на помощь, через пять минут их убьют!
Старик в ответ кричит изумленному Валлесу:
— Смерть им! Смерть! Дайте же мне пройти! Их шестьдесят?.. Это как раз то число, которое мне нужно! Я только что видел, как версальцы расстреляли шестьдесят человек, пообещав сначала оставить их в живых.
— Послушайте, — умоляет Валлес.
— Убирайтесь к черту, или я вас пристрелю!
Ярость, волнение, суматоха вокруг заложников дошли до того, что по ошибке вместе с ними расстреляли одного коммунара. Фоше, автор недавно вышедшей во Франции трехтомной истории Коммуны, пишет: «Если бы Варлена все не знали так хорошо, то члены Коммуны, пытавшиеся вмешаться, были бы также расстреляны». Расстрел заложников в этот момент Варлен считает бессмысленным, даже вредным. Ведь Тьер использует это для ханжеского оправдания своих зверств. Конечно, Варлен понимает чувства народа, затронутого за живое и слепо идущего навстречу настроениям минуты. Но разве не он говорил несколько лет назад в своей знаменитой речи на процессе Интернационала: «Жестокость — единственное средство гибнущего строя»? Варлену даже в эти роковые дни и часы неизмеримо дорого нравственное, моральное превосходство Коммуны над Версалем, ее органическая гуманность, человечность. Нет, Коммуна должна сойти в могилу с незапятнанной репутацией провозвестницы будущего подлинно человеческого общества! Варлен резко обращается к стоящему рядом члену ЦК Национальной гвардии Луи Пиа:
— Вы требовали власти. Мы ее вам дали. Вы, комитет, хозяева здесь. Используйте ваше влияние, покажите, что вы можете быть полезными, докажите, что вы не убийцы, спасите этих несчастных!
Но вооруженные люди из толпы посылают Пиа ко всем чертям. Тогда Варлен сам пытается говорить. Но рев людей, требующих смерти врагов, заглушает его голос. Он хочет пробиться к полковнику Гуа, командующему конвоем. Вдруг его хватает за руку старый Эдуард Руйе, ветеран трех революций:
— Вы их не спасете. А главное — не надо, чтобы когда-нибудь могли сказать, что члены Коммуны присутствовали при казни.
Заложников уводят в соседний сад, и сразу за стеной начинается без всякой команды беспорядочная стрельба. Потом все стихает, и в воздухе слышны только звуки духового оркестра, играющего веселый вальс, — это пруссаки, стоящие здесь, совсем рядом, скрашивают тяготы оккупационной службы. Впрочем, они на страже: баварские солдаты сразу открывают огонь, когда коммунары пытаются выйти из окружения; ведь Тьер договорился об этом с Бисмарком.
Расстрел заложников глубоко потряс Варлена. Он видел смерть вокруг, видел неописуемые жестокости версальцев, понимал, что ждет его и всех, кто еще не попал в руки падалей. Как жесток человек и как жестоко время! Обращаясь к Валлесу, Варлен вдруг заговорил:
— Да, нас заживо изрубят в куски. Наши трупы будут волочить в грязи. Тех из нас, кто сражался, убьют, раненых прикончат. А если кто-нибудь и уцелеет и его пощадят, то отправят гнить на каторгу. Да, но история в конце концов увидит все в более ясном свете и скажет, что мы спасли республику!
Ночью с 26 на 27 мая бои немного стихают, но ружейная перестрелка и артиллерийский обстрел не прекращаются. Многие дома Бельвиля — горят, подожженные зажигательными снарядами версальцев. Генералы Тьера хотят «выкурить» коммунаров. В смрадном тумане мелькают фигуры коммунаров. Варлен обходит еще оставшиеся баррикады между бульваром Бельвиль и улицей Труа-Борн. Надо использовать ночь для ремонта баррикад, послать людей туда, где осталось всего по нескольку человек. Но о каком-либо планомерном руководстве уже не может быть и речи. С рассветом бои возобновляются с новой яростью. По всем стратегическим и политическим расчетам Тьера, Коммуна уже мертва, но она еще борется. Ожесточенные схватки завязываются на этих клочках Парижа в Менильмонтане и Бельвиле, на кладбище Пер-Лашез, на холмах Бют-Шомон. Коммунары дерутся с еще небывалым ожесточением, сражаются отчаянно, хотя и безуспешно. Теперь им не улыбаются ни земля, ни небо. Оно хмуро и плачет проливным дождем.
Как должное воспринимаются подвиги, совершаемые на каждом шагу. Героизм последних бойцов Коммуны стал уже привычным. Расстреляв все патроны, люди грудью бросаются на штыки. Женщины, старики, дети творят чудеса. С какой-то гордостью они идут на смерть. Ненависть и презрение к врагу вытесняют страх. Необычайная насмешливая дерзость коммунаров поражает врагов с ужасом взирающих на яростные улыбки коммунаров И всегда, умирая, они восклицают: «Да здравствует Коммуна!» Обреченные на смерть, они идут к ней навстречу, приветствуя свой идеал!
На одной из баррикад Варлен видит такую сцену. Молодой коммунар стоит на груде камней с красным знаменем в руках, вызывающе, не обращая внимания на свистящие вокруг пули. Вот он стал втискивать свое тело между огромной бочкой и стеной дома, к которому она прислонена.
— Эй, стой как следует, ты, лентяй, — кричит ему снизу товарищ.
— Да нет, — бросает тот с улыбкой, — я прислонился, чтобы не упасть, когда меня убьют!
К вечеру, истратив все снаряды, отходят защитники Бют-Шомон. Сломлено и отчаянное сопротивление на кладбище Пер-Лашез. Но оттуда еще слышны выстрелы: у стены расстреливают взятых в плен коммунаров.
Во второй половине дня в одном из домов на улице Аксо состоялось последнее собрание оставшихся членов Коммуны и ЦК. Все сознавали, что наступил последний час. Бланкист Эдуард Вайян предложил послать к ближайшему прусскому офицеру парламентера с просьбой быть посредником и сообщить версальцам, что оставшиеся члены Коммуны сдадутся на их волю при одном условии— что будет прекращена резня и гарантирована свобода защитникам Коммуны, Валлес поддержал это предложение. Однако, посовещавшись, решили, что капитуляция была бы ошибкой, что величие Коммуны состоит и будет состоять в будущем в том, чтобы погибнуть в бою.
Эжен Варлен, не спавший несколько суток, совершенно разбитый усталостью, измученный лихорадочной деятельностью, попросил подполковника Парана взять пока на себя военное руководство. На несколько часов Варлен забылся в тяжелом сне. Он проснулся, когда уже наступила ночь.
Вместе с Камелина, членом Интернационала, который при Коммуне был директором Монетного двора, и Луи Пиа, членом ЦК, Варлен вышел на улицу. Они прошли по улице Бельвиль до улицы Пиренеев. Камелина предложил подняться по узкой улочке, представлявшей собой крутую лестницу, на вершину холма, откуда виден как на ладони весь Париж. Грандиозное и трагическое зрелище предстало перед ними. Париж был в огне. Театр у ворот Сен-Мартен и хлебные склады походили на два гигантских костра. Столбы пламени, колеблясь и мерцая, поднимались в темное небо. Огромные снопы искр взвивались к звездам. Тут и там рвались снаряды. Вдали трещали выстрелы. Облака дыма покрывали плотной завесой целые кварталы. Взволнованные, они молча спустились и пошли по улице Курон. Дойдя до бульвара Бельвиль, они пожали друг другу руки и разошлись. Варлен направился к баррикаде на углу улиц Сен-Мор и Фонтен-о-Руа. Здесь, рядом с домом, в котором юный Эжен жил после ухода из мастерской своего дяди Дюрю, Варлен с ружьем в руке сражался до полудня 28 мая. Но вот держаться стало невозможно. Версальцы, проникая через дворы и соседние улицы, начали окружать баррикаду. Ее командир Луи Пиа и около пятидесяти гвардейцев решили поднять белый флаг. Но Варлен отказался присоединиться к ним и побежал на другую баррикаду, пересекавшую улицу Рампоно. Здесь вместе с Шарлем Гамбоном Варлен стрелял до тех пор, пока не кончились патроны. Тогда Гамбон бросился в одну сторону, Варлен — в другую. Все было кончено. Теперь только залпы карательных взводов нарушали тишину.
Варлен, совершенно не скрываясь, шел как во сне. Наконец, когда было около трех часов дня, он машинально опустился на скамейку в сквере на углу улиц Лафайет и Каде. Варлен и не думал прятаться, он не пытался изменить свою внешность, как делали многие. Он совершенно забыл о себе. Просто чудо, что его до сих пор не схватили. Варлен давно видел неизбежность поражения Коммуны. Но чудовищность катастрофы превзошла самые мрачные предчувствия. Он думал о том, что вся его жизнь, смыслом которой было социальное освобождение рабочих, перечеркнута, исковеркана. Пятнадцать лет напряженных усилий, когда удавалось порой достичь немалого, пошли прахом. Сможет ли возродиться социалистическое движение? Неужели ему предстоит увидеть торжество военной диктатуры, возможно, восстановление монархии? Погруженный в свои мысли, Варлен не замечал ничего вокруг.
А в это время его пристально разглядывал священник, сидевший за столиком на террасе кафе. Он узнал Варлена и указал на него проходившему мимо версальскому офицеру. С помощью нескольких солдат лейтенант Сикр схватил Варлена. Ему связали ремнями руки за спиной и повели под конвоем по улице Рошешуар, потом по шоссе Клиньянкур к Монмартру.
Имя Варлена, хорошо известное еще задолго до Коммуны, прохожие передавали из уст в уста. Постепенно образовалась огромная толпа, которая следовала вместе с конвоем. Здесь было немало просто любопытных людей, но много оказалось таких, для кого поражение Коммуны явилось праздником, кто вылез теперь из подвалов и торжествовал. Вслед за войсками Тьера в Париж вернулись многие бежавшие отсюда в Версаль. Они радовались, видя связанного и окруженного штыками Варлена. Из толпы раздались злобные крики и оскорбления. Когда шествие вступило на узкие улочки Монмартра, движение замедлилось и солдаты с большим трудом прокладывали себе путь в толпе. И тут в Варлена полетели камни и комья грязи. Наиболее яростные прорывались через цепь солдат и рвали волосы, одежду Варлена, впивались ногтями в его лицо. Солдаты, зараженные бешенством толпы, стали бить Варлена прикладами, колоть штыками. А он спокойно и твердо шел вперед. Даже его обычная сутулость исчезла, он не опускал голову, не уклонялся от сыпавшихся на него ударов и смотрел куда-то вдаль сквозь беснующуюся и ревущую толпу. Его лицо совершенно разбито, он весь покрыт кровью, какой-то негодяй, изловчившись, выколол ему глаз. Его спина, грудь стали мишенью, в которую бросали булыжники. Почти два часа продолжался этот путь к вершине Монмартра. Обливаясь кровью, Варлен начал спотыкаться и падать. Солдаты стали подталкивать его ударами штыков и прикладов. Вскоре он уже не мог двигаться, и его пришлось нести. А толпа словно опьянела от крови, и избиение продолжалось.
Его тащили на улицу Розье. Там 18 марта солдаты, перешедшие на сторону народа, расстреляли двух ненавистных им бонапартистских генералов Леконта и Тома. Вину за это Тьер приписывал Коммуне. На этом месте с 23 мая уже происходили массовые казни сотен ни в чем не повинных жителей соседних домов.
Сюда и притащили наконец Варлена, к генералу Лавокупо. Варлен назвал свое имя, но не стал отвечать на вопросы. Последовал короткий приказ, и его поволокли в небольшой сад, чтобы поставить к стене. Но ноги его не держали. Тогда Варлена усадили на садовую скамейку. Лейтенант Сикр отдал приказ, и солдаты, стоя в трех шагах от Варлена, подняли свои «шаспо». Внезапно, как от какого-то внутреннего толчка, окровавленные, разбитые губы Варлена зашевелились, и раздался его громкий и внятный голос:
— Да здравствует Коммуна! Да здравствует республика!
Слова прозвучали как команда, и загремели выстрелы. Варлен повалился на бок. Солдаты бросились добивать его прикладами, но лейтенант остановил их:
— Оставьте, он мертв!
Потом убийцы обокрали мертвого Варлена. Они вытащили из его карманов бумажник, в котором оказалось 248 франков 15 сантимов. Лейтенант Сикр разделил деньги между солдатами. Себе он взял его серебряные часы, на которых было четко выгравировано: «Эжену Варлену от признательных рабочих-переплетчиков».
Никто не знает, где похоронили Варлена.
Пусть рассказ о жизни одного из самых замечательных героев и мучеников Коммуны завершат его товарищи-коммунары. Все они отдавали ему дань восхищения и любви. Вот типичные отзывы о нем.
«Варлен весь принадлежит воинствующему социализму, — писал Артур Арну, — образ его всегда останется одним из самых светлых, самых благородных. Нельзя забыть его молодой прекрасной головы, покрытой уже седыми волосами, этого глубокого взгляда черных глаз, этого задушевного и ровного голоса и исполненного достоинства обращения. Он говорил мало, не выходил из себя никогда. В нем соединились великодушие героя и меланхолия мыслителя».
«Вся его жизнь была примером, — пишет Лиссагаре. — Упорным напряжением воли, отдавая учебе то короткое вечернее время, которое оставляла ему мастерская, он создал сам себя. Он учился не для почестей, но чтобы развиться и освободить народ. Он стал душой рабочих ассоциаций конца империи. Неутомимый, скромный, говорящий мало, но всегда кстати и освещавший тогда одним словом запутанный вопрос, он сохранил революционное чувство, которое часто притупляется у интеллигентных рабочих. Один из первых 18 марта, лучший работник в продолжение всей Коммуны, он стоял до конца на баррикадах, отдал всего себя для освобождения рабочих».
Уже сто лет Варлен остается гордостью французского рабочего класса. Его имя навечно вписано в славную историю мирового освободительного движения пролетариата.
В дни «кровавой недели» Париж стал царством смерти для лучшей части его жителей. Гибель Варлена и Делеклюза символизировала судьбу десятков тысяч коммунаров. Казармы, сады и парки стали местами массовых казней. Красивейший город мира превратили в гигантский эшафот, а каждого версальского солдата сделали судьей и палачом. Расстреливали не только тех, кого схватили с оружием в руках. Достаточно было чем-то вызвать подозрение: одеждой, выражением лица, поспешным движением. Генерал Галифе, самый знаменитый из палачей Коммуны, подавал пример.
В самом начале книги читатель уже встретил выдержки из дневника Эдмона Гонкура, описывавшего облик праздничного революционного города. Почти во все время Коммуны Гонкур отсиживался в подвале своего особняка. Теперь он вместе с остальными буржуа выполз на улицы, смотрел вокруг и продолжал свои записи:
«Пятница, 26 мая. Я шел вдоль линии железной дороги и находился недалеко от вокзала Пасси, как вдруг увидел толпу мужчин и женщин, окруженных солдатами. Пройдя сквозь сломанную изгородь, я очутился на обочине аллеи, где стояли пленные, готовые к отправке в Версаль. Пленных много — я слышу, как офицер, передавая полковнику какую-то бумагу, вполголоса произносит: «Четыреста семь, из них шестьдесят шесть — женщины».
Мужчины построены по восемь человек в ряд и привязаны друг к другу веревкой, стягивающей им запястья. Одеты они кто во что горазд — их застали врасплох: большинство без шапок, без фуражек, ко лбу и щекам прилипли волосы, мокрые от мелкого дождя, — он сыплет сегодня с самого утра…
В числе женщин есть одна удивительная красавица, своею суровой красотой напоминающая юную Парку. Это брюнетка с густыми вьющимися волосами, с глазами стального цвета, щеки ее горят от невыплаканных слез. Она стоит в вызывающей позе, готовая броситься на врага, излить на офицеров и солдат поток брани, который не может вырваться из ее искаженных яростью уст…
Полковник, отъехав на фланг колонны, выкрикивает громким голосом и, по-моему, нарочито грубо, чтобы нагнать страху: «Всякому, кто отвяжет свою руку от руки соседа, — смерть на месте!» И это жуткое «смерть на месте!» четыре или пять раз повторяется в его коротком спиче, который сопровождается сухим, щелкающим звуком: пеший конвой заряжает ружья».
Гонкур не пишет о том, что вскоре конвой остановит Галифе или другой палач и начнется дикая расправа. Впрочем, в следующей записи дневника, датированной 28 мая, рассказывается: «Зажатая между всадниками, движется толпа людей во главе с каким-то чернобородым мужчиной — лоб у него перевязан носовым платком. Я замечаю в этой группе и другого раненого, соседи поддерживают его под руки, — видимо, он не в силах идти. Люди эти необычайно бледны, взгляд их затуманен — он так и стоит у меня перед глазами… Конвой гонит этих людей почти бегом до казармы Лобо, и за ними с непонятной поспешностью, гремя, захлопывается дверь… Почти в ту же минуту грянули выстрелы, многократно усиленные эхом стен и ворот… Наконец все смолкает… В эту минуту, похожий на кучку пьяных, из ворот выходит карательный отряд, на штыках у некоторых — кровь».
«Вторник, 29 мая. Иногда раздаются пугающие звуки: рушатся дома, расстреливают пленных».
В мемуарах, воспоминаниях врагов или друзей Коммуны до нас дошло описание множества сцен, леденящих душу. Горы трупов загромождали улицы города, их не успевали убирать. Убитых пытались топить в Сене, в прудах. Их обливали керосином и поджигали. Чудовищный трупный смрад окутал великий город. Боязнь эпидемий несколько умерила ярость палачей. Впрочем, отправляемых в Версаль и в другие места пленных содержали так. что они завидовали мертвым. Сколько же было убитых? Тьер скрывал цифры. Впрочем, убийцы и не утруждали себя подсчетами. Во всяком случае, люди, которые близко и внимательно наблюдали работу человеческой бойни, определяют число убитых во время «кровавой недели» в 30–40 тысяч человек. Что касается арестованных, то их число известно более или менее точно: 34 772 человека. Только 16 процентов из них явно не принадлежали к рабочим. Такая же пропорция и в отношении убитых без суда. Всего было убито, сослано на каторгу или бежало в изгнание более 100 тысяч человек.
Долго еще продолжалась чудовищная комедия судебных процессов, на которых победители просто расправлялись с побежденными, но более медленным способом. И здесь коммунары стояли перед палачами-судьями с гордо поднятой головой. Версальцы пытались использовать суд над видными коммунарами для того, чтобы осудить и заклеймить Коммуну, вызвать к ней ненависть. Они особенно надеялись на процесс Теофиля Ферре, бланкиста и члена комиссии общественной безопасности Коммуны. Версальцы приписывали ему ответственность за казнь заложников. Ферре удалось зачитать на суде свое заявление, в котором он показал смысл борьбы между Версалем и Коммуной, доказал ответственность Тьера и других версальцев за все несчастья, обрушившиеся тогда на Францию. Свою мужественную речь он закончил так:
— Я член Парижской коммуны и нахожусь в руках моих победителей. Они хотят моей головы — пусть берут ее. Никогда я не захочу спасти свою жизнь подлостью. Свободным я жил, свободным хочу умереть. Прибавлю только одно: судьба капризна. Я завещаю будущему заботу о моей памяти и о мести за меня!
Ферре был приговорен к смерти, а через полмесяца после его казни устроили суд над Луизой Мишель. Ее яркая личность как бы символизировала массовое участие женщин в Коммуне. Луиза Мишель, учительница и поэтесса, посвятила свою жизнь революционной борьбе. Во время Коммуны она часто выступала в клубах и требовала беспощадной борьбы с Версалем. Активно действовала она в комитете бдительности XVIII округа Парижа. Она всегда рвалась в бой, переодеваясь в мужской костюм национального гвардейца. Ее часто видели на аванпостах, а в последнюю неделю Коммуны — на баррикадах. Об отчаянной смелости Луизы Мишель ходили легенды. 16 декабря 1871 года она предстала перед судом. На ней была черная вуаль вдовы: Луиза любила недавно казненного Теофиля Ферре. На суде она не только не просила снисхождения, но беспощадно клеймила палачей Коммуны:
— Я не хочу защищаться, я не хочу, чтобы меня защищали. Я всем существом принадлежу социальной революции и принимаю полную ответственность за все свои поступки!..
Да, я участвовала в поджоге Парижа! Я хотела противопоставить вторжению версальцев барьер огня. У меня не было сообщников, я действовала только по собственному почину… По-видимому, всякое сердце, которое бьется за свободу, имеет у вас одно только право — право на кусочек свинца. Я требую для себя этого права. Если вы оставите мне жизнь, я не перестану кричать о мщении, я буду призывать своих братьев отомстить убийцам…
— Я лишаю вас слова, — перебил ее председатель.
— Я кончила, — ответила Луиза. — Если вы не трусы, убейте меня! — Луизу Мишель вместе со многими коммунарами отправили в ссылку в Новую Каледонию.
30 ноября 1872 года версальский суд рассматривал дело Эжена Варлена, зверски растерзанного и убитого еще 28 мая 1871 года. Разумеется, речь не шла о виновниках незаконной расправы. Им дали ордена вместе с юридическим «обоснованием» убийства Варлена: его посмертно приговорили к казни. Кампания судебных процессов, задуманная для отвлечения внимания от массовых убийств коммунаров без всякого суда, только еще больше разоблачила преступления банды версальских убийц, их нечеловеческую жестокость и звериную ненависть к восставшему народу Парижа. Тьер, этот необычайно болтливый и хвастливый палач, не раз проговаривался, что невероятно жестокая расправа с коммунарами — результат ненависти буржуазии к социализму, к рабочему классу. Еще в дни «кровавой недели» он радостно телеграфировал префектам: «Улицы покрыты трупами. Это ужасное зрелище послужит уроком». А потом он еще более откровенно заявил: «С социализмом покончено, и надолго!»
Неужели славная Коммуна боролась и погибла напрасно? Неужели она действительно задержала развитие социалистического движения, как уверял Тьер и как твердят буржуазные историки поныне? Неужели неисчислимые жертвы были принесены напрасно? Неужели наши замечательные герои Варлен, Делеклюз, остальные деятели Коммуны, все коммунары боролись и умирали зря? Нет. На этот раз кровавый карлик и вся буржуазия жестоко ошиблись. Правда, им удалось потопить Коммуну в крови, уничтожить лучших французских революционеров. Собственно, ведь и наиболее прозорливые коммунары отдавали себе отчет, что победа Коммуны маловероятна. Вспомним, как, понимая это, страдал Эжен Варлен. Но он до конца отдал все свои силы Коммуне, не поколебался отдать и саму жизнь. Так поступали и другие социалисты. Верморель был избран населением Монмартра в Коммуну, когда он находился вдали от Парижа. Лефрансэ в своих воспоминаниях рассказывает, что он подумал тогда: «Его место останется пустым». Но 29 марта Лефрансэ с изумлением увидел, как Верморель быстро поднимается по ступенькам главной лестницы Ратуши.
— Как, вы здесь?
— Вне всякого сомнения, — отвечал Верморель. — Я жалею только о том, что не мог присутствовать на первом заседании. Но чтобы прибыть в Париж, я должен был пробираться через многочисленные посты шпионов и замести следы, так как они следовали за мной по пятам от самого Лиона, где я узнал о результатах выборов.
— Как вы могли решиться приехать? Зачем вы ввязались в нашу драку?
— Мы, возможно, все погибнем, я это знаю. Ну что же! Я размышлял целый день, узнав о том, что меня избрали. Отчетливее, чем вы и другие, я понимаю, что у нас мало надежд на успех при этих ужасных обстоятельствах, которые нам навязали. Очень легко, прикрываясь пессимизмом, скрестить руки и остаться наблюдателем. Проблема поставлена, условия для ее осуществления тяжелые. Но нужно по крайней мере попытаться ее решить. Таков был мой ответ самому себе… и вот я здесь!
Вспомним, что и многоопытный Делеклюз понимал, как мало шансов на победу и как велика возможность поражения. Но социалисты Варлен, Верморель, якобинцы Делеклюз, Флуранс и другие чутьем подлинных революционеров глубоко прониклись сознанием необходимости борьбы за революцию в любых условиях, даже идя на верную смерть. Как люди, беззаветно преданные своему идеалу, они чувствовали, что будущее принадлежит тем, кто умеет приносить жертвы!
Но то, до чего они доходили чутьем, интуицией, то прозорливо и глубоко, на основе научных законов общественного развития, сознавал Маркс. Ведь не случайно еще в начале сентября 1870 года, то есть более чем за полгода до Коммуны, Маркс писал французским членам Интернационала, что их выступление было бы безумием. Но разве Маркс не приветствовал с восторгом революцию 18 марта? Может быть, к этому времени он решил, что появились благоприятные шансы на исход борьбы? Нет, дело обстояло сложнее. Он считал, что даже независимо от непосредственного успеха или поражения Коммуны социалисты все равно свершили славнейший подвиг. И в связи с сомнениями, которые высказал ему по этому поводу один из друзей, Маркс разъяснял ему в письме от 17 апреля 1870 года: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов». И Маркс указывал далее на крайне тяжелые для парижских революционеров обстоятельства, в частности на присутствие под Парижем прусских войск. «Парижане знали это очень хорошо, — продолжал Маркс. — Но это знали и буржуазные версальские канальи. Потому-то они и поставили перед парижанами альтернативу: либо принять вызов к борьбе, либо сдаться без борьбы. Деморализация рабочего класса в последнем случае была бы гораздо большим несчастьем, чем гибель какого угодно числа «вожаков». Борьба рабочего класса с классом капиталистов и государством, представляющим его интересы, вступила благодаря Парижской коммуне в новую фазу. Как бы ни кончилось дело непосредственно, на этот раз новый исходный пункт всемирно-исторической важности все-таки завоеван».
Да, парижские «вожаки» пошли на борьбу и на гибель, ибо они чувствовали, что бывают в истории моменты, когда отчаянная борьба масс даже за безнадежное дело необходима во имя дальнейшего воспитания этих масс и подготовки их к следующей борьбе.
Позднее В. И. Ленин показал, почему Коммуна, оказавшаяся в исключительно сложном положении, «неизбежно должна была потерпеть поражение», почему «Париж, первый поднявший знамя пролетарского восстания… обречен на верную гибель».
«Для победоносной социальной революции, — писал Ленин, — нужна наличность, по крайней мере, двух условий: высокое развитие производительных сил и подготовленность пролетариата. Но в 1871 году оба эти условия отсутствовали. Французский капитализм был еще мало развит, и Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии (ремесленников, крестьян, лавочников и пр.). С другой стороны, не было налицо рабочей партии, не было подготовки и долгой выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких профессиональных союзов и кооперативных товариществ… Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени, свободы оглядеться и взяться за осуществление своей программы».
Увы, Коммуне не хватало и многого другого, о чем не раз писал Ленин. Но вопреки всему залпы пушек коммунаров, пусть слабые, нестройные, а вскоре и совсем замолкшие, прозвучали над миром как сигнал о начале эпохи упадка буржуазного строя. Коммуна нанесла буржуазии страшный, непоправимый удар. Падение Коммуцы не только не похоронило социализм, как об этом поспешил прокаркать опьяненный кровью Тьер, но пробудило новые, свежие силы всемирного социализма, более зрелого, опытного и потому более страшного для капитализма.
«Умри и возродись!» — сказала история Коммуне словами Гёте, и глубокая боль в сердце всемирного пролетариата, вызванная гибелью коммунаров, породила такую ненависть к буржуазии, такое стремление продолжать их дело, что социалистическое движение сразу вышло из пеленок и вступило в пору возмужания. Иллюзии, навеянные различными школами утопического, мелкобуржуазного социализма, стали быстро рассеиваться, как рассеялся дым над горевшим в мае 1871 года Парижем.
Не зря буржуазия подняла такой яростный крик, когда сразу после падения Коммуны Маркс опубликовал свое произведение «Гражданская война во Франции», в котором разъяснил драгоценный опыт Коммуны. Пролетариат приобретал ценнейшее оружие для подготовки и осуществления социальной революции. До сих пор социалисты разных стран, стремясь к установлению нового общественного строя, совсем не представляли, каким образом это сделать. Еще в 1852 году Маркс высказал гипотезу, догадку, что пролетариат должен не просто овладеть старой государственной машиной, но сломать ее, разрушить. И вот рабочие Парижа под давлением объективных потребностей борьбы стихийно совершили именно то, что предвидел Маркс. Коммуна, таким образом, дала возможность разработать и обосновать главное, основное в учении марксизма о государстве.
Коммуна уничтожила постоянную армию, полицию, чиновничий аппарат. Она показала, чем и как заменить старую государственную машину, создав государственные учреждения совершенно нового типа, учреждения, основанные на проведении демократии с наибольшей полнотой и последовательностью. Коммуна показала объективную необходимость диктатуры пролетариата. Она стихийно открыла государственную форму, при которой может произойти экономическое освобождение рабочего класса. И это сразу прозорливо заметил и научно определил Маркс. Он явился, таким образом, душеприказчиком Коммуны, передав ее наследие мировому освободительному движению пролетариата.
Но великое наследие необходимо было затем использовать практически. Это сделал Ленин, которому Коммуна помогла разработать цельную, реальную теорию социалистической революции.
Коммуна имела также самое непосредственное влияние на развитие рабочего движения. «Как ни велики были жертвы Коммуны, — писал Ленин, — они искупаются значением ее для общепролетарской борьбы: она всколыхнула по Европе социалистическое движение, она показала силу гражданской войны, она рассеяла патриотические иллюзии и разбила наивную веру в общенациональные стремления буржуазии. Коммуна научила европейский пролетариат конкретно ставить задачи социалистической революции».
После поражения французского пролетариата в революции 1848 года понадобилось двадцать лет, чтобы социализм обнаружил признаки жизни. А после гибели Коммуны уже через пять лет социализм во Франции очнулся от оглушившего его удара. Еще продолжались военные суды по делам коммунаров, а в 1876 году в Париже уже заседал первый рабочий конгресс. Через несколько лет появилась социалистическая партии с программой, основанной на научном социализме, и Маркс с удовлетворением отметил, что во Франции возникло наконец настоящее рабочее движение. Образовались социал-демократические партии в Германии, Швейцарии, Дании, Португалии, Италии, Бельгии, Голландии, США. Для всех этих партий, для социалистов всех направлений Коммуна стала знаменем, объединявшим всех, святыней, которой дорожили все, символом, мыслью, гордостью всемирного пролетариата. Уже благодаря одному только этому обстоятельству оказались оправданными неисчислимые жертвы, на которые сознательно или стихийно шли коммунары.
Последствия Коммуны для всех направлений прогрессивного развития человечества поистине неисчислимы. Например, из-за страха, вызванного Коммуной, французские монархисты так и не смогли реставрировать монархию, и во Франции навсегда утвердилась республика.
Коммуне Европа обязана тем, что более сорока лет здесь не было больших войн. Правители европейских стран все эти годы испытывали постоянный страх, что война вызовет революцию. Боязнь потерять власть делала их миролюбивыми. «Французские государственные деятели, — писал известный историк дипломатии Тейлор, — только в 1912 году избавились от страха, что новая война приведет к Коммуне». Он признавал также, что первая мировая война была развязана потому, что «государственные деятели 1914 года освободились от страха, поскольку революции кончились. Это облегчало для них возможность смотреть на войну как на орудие политики».
Но то, что буржуазным политическим деятелям казалось «концом революции», в действительности явилось приближением того момента, когда Коммуна воскресла и предстала перед изумленной буржуазией в могучем облике Великой Октябрьской социалистической революции.
Сразу после Февральской революции, в марте 1917 года, «Ленин в своих «Письмах из далека» призвал русский пролетариат идти «по пути, указанному опытом Парижской коммуны 1871 года». В начале апреля, вернувшись в революционную Россию, Ленин сразу заявил по поводу только что возникших Советов, что «в России существует государство типа Парижской коммуны». Во время подготовки пролетарской революции Ленин вновь обращается к изучению и анализу опыта Коммуны, что особенно ярко отразилось в его книге «Государство и революция». Вся деятельность Ленина по руководству Октябрьской революцией несет на себе печать самого тщательного учета, использования и развития опыта Коммуны. Вскоре после победы революции, в начале марта 1918 года, Ленин сравнивал тяжелое положение Коммуны и неизмеримо более прочные позиции молодой Советской власти. «Мы находимся в других условиях, — говорил он, — благодаря тому, что мы стоим на плечах Парижской коммуны».
В 1924 году французские коммунисты привезли в Москву драгоценный подарок — чудом сохранившееся знамя парижских коммунаров, развевавшееся над баррикадами в 1871 году. Оно находится ныне в Москве, символизируя неразрывную преемственность Коммуны и Великого Октября. В победе нашей революции, а затем и в победе социализма в других странах, в мировом коммунистическом движении Коммуна обрела подлинное бессмертие.
Надо ли после этого доказывать, что тем самым бессмертны и люди Коммуны? Могут сказать, что эти люди, даже лучшие из них, такие, как Варлен, Делеклюз и другие, делали ошибки, проявляли слабости, имели недостатки. Верно, но это нисколько не умаляет величия их подвига. Коммуна была не театральным представлением, для которого драматург с помощью своего воображения и мастерства создает героев, наделяет их выдающимися качествами и вкладывает в их уста тщательно им продуманные монологи.
Нет, Коммуна была величественной трагедией, какую не в состоянии создать даже самый гениальный художник. А ее действующие лица не заучивали роли и не декламировали их с рассчитанным эффектом. Они просто жили, страдали и умирали ради великой идеи человеческого счастья. И они сами были живые люди. В них стреляли настоящими пулями, из их ран текла живая кровь, и им было действительно больно. Вот таких-то людей мы и называем героями, тех самых, которые хотели не стать кем-то, а сделать что-то! Значением, смыслом этого героизма и определяется их бессмертие.
Они шли порой в потемках, даже вслепую, и все же делали свое дело. Они проявляли полное забвение своих интересов, полное пренебрежение своей личностью. Они не знали ничего, кроме служения своему идеалу, своему делу. А ведь «дело прочно, когда под ним струится кровь»! Таким и оказалось дело Коммуны, за которое не напрасно отдали жизнь Варлен, Делеклюз и другие герои этой книги.
ИЛЛЮСТРАЦИИ