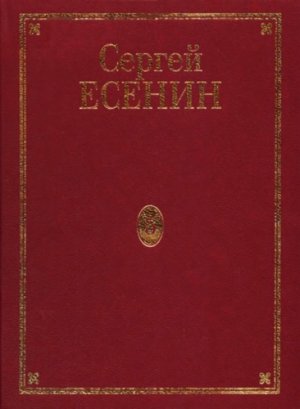
Художественная проза
Яр
Часть первая
Глава первая
По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу.
Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла.
Из чапыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам.
По коленкоровой дороге скрипел обоз; под обротями трепыхались вяхири, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши.
Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли.
— Волки, — качнулась высокая тень в подлунье.
— Да, — с шумом кашлянули притулившиеся голоса. В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона...
Ваньчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной.
На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опоражнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал за поросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья.
— Кабы не лес крали, — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку.
В запотевшие щеки дунуло ветром.
Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой.
— Кто едет? — процедил его охрипший голос.
— Овсянники, — кратко ответили за возами.
— То-то!
К кружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу.
— В чапыжнике, — глухо крякнул он, догоняя сивого мерина.
Филипп вышел на дорогу и упал ухом на мятущие порошни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет.
— Идут, — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу.
Ваньчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался с жилкой пролитого из махотки молока.
— Эй, Фанас, — дернул его Филипп за казенотовую поддевку. — Волки пришли на свадьбу.
— Никакой свадьбы не будет, — забурукал Ваньчок. — Без приданого бери да свадьбу играй.
Филипп, засмехнувши, вынул из запечья старую берданку и засыпал порохом.
— Волки, говорю, на яру.
— Ась? — заспанно заерзал Ваньчок и растянулся на лавке. Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю.
— Чукан, Чукан, — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом.
Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу.
Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро.
Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чапыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны.
По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хрястнули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья.
Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха.
К дохнувшей хмелем крови, фыркая, подбежал огузлый самец.
Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб.
В застывшей сини клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался, как на подвесках. Самец потянул в себя изморозь и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу.
Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег.
Оследил кругом для приметы место и вывел пальцем ружье.
На снегу мутнела медвежья перебежка; след вел за чапыгу.
Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, приклоняясь к земле.
Околь бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун.
По спине пробежала радостью волнующая дрожь, коленки опустились и задели за валежник.
Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копну снега, пустился бежать.
«Упустил», — мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чапыжник, он помчал ему наперескок.
Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону.
На левой стороне по еланке вспорхнули куропатки, он тряхнул головой и шарахнулся назад, но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку.
«Упустил-таки», — заколола его проснувшаяся мысль.
С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся.
Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами.
Из кустов, в коротком шубейном пиджаке, с откинутой на затылок папахой, вынырнул высокого роста незнакомец.
Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты.
Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчанье.
Филипп откинул бараний ворот.
— Откулева?
— С Чухлинки.
— Далеконько забрел.
— Да.
Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками.
— Я ведь гнал-то.
— Ты?
— Я...
Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками зажевал снег.
— Коли гнал, поделимся.
Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку.
— Скидывай кожух-то?
— Я хотел тебе сказать — не замай.
— А что?
— Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил.
Незнакомец весело закачал головою.
— Так ты, значит, беги за салазками?
— Сейчас сбегаю.
Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна.
— А как тебя зовут-то?
— Карев, — тихо ответил, запихивая за пояс нож.
Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье.
Под иконами ворочался Ваньчок и, охая, опускал под стол голову.
— Блюешь?..
— Брр... — задрыгал ногами Ваньчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. — Похмели меня...
— Вставай... проветришься...
Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань.
Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом, по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться.
Ваньчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи прилипшие к бороде и усам высевки.
Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок.
— Медведя убили...
— Самдели?
— Без смеха.
Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их.
— Ты идешь?
— Иду...
— И я пойду.
Подковылял к полатям и вытащил свою шубу.
— Пойдем... подсобишь.
Ваньчок нахлобучил шапку и подошел к окну; на окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль.
— Там выпьем.
Шаги разбудили уснувшего Чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню, и грыз ошейник; с губ его кружевом сучилась пена.
Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей.
С поникших берез падали, обкалываясь, сосульки и шуршали по обморози.
Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени.
По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная, в чапыгу и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ваньчок и Филипп.
— Ух, какой! — протянул, покачиваясь, Ваньчок и, падая, старался ухватиться за куст. — Ну и лопатки!
— Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то, — заговорил Филипп, — да угости пришляка тепленьким.
— А есть разве?
— Есть.
Ваньчок подполз к Кареву и вынул бутыль.
— Валяй прям из горлышка.
Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем.
Ваньчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом.
— Волков я тоже думаю взвалить.
— А где они?
— Недалече.
В протычинах взвенивал коловшийся под валенками лед.
Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку.
С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник.
— Пугаются, — крякнул Филипп и скинул ношу на салазки.
Крученый тяж повернулся концом под грядку.
— Эй, вставай, — крикнул он над ухом Ваньчка и потянул его за обвеянный холодом рукав.
— Не встану, — кричал Ваньчок и, ежась, подбирал под себя опустившиеся лыками ноги.
Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутой мшаниной в потянутые изморосью промоины.
В небе туманно повис черемуховый цвет и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой.
Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику.
Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег и колол растянутые плечи холодом.
Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос; на салазках верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ваньчок.
Глава вторая
Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.
Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.
На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли свадьбу.
Свадьба вышла в дождливую погоду; по селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи.
После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешанными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружко.
Он вытащил из-под сена вязку кренделей, с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему нести и ввел в сдвохлую от телячьей вони кухню.
Из горницы, с завязанным на голове пучком, вышел поп, вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю.
— Чи-их! — фыркнуло около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли.
— К твоей милости, — низко свесился дружко.
— Зубок привез?
— Привез.
Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину и ткнул в красниковую любовину пальцем.
— Хорошая.
Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью.
— Расколешь, — заботливо поддерживая донышко, крикнул работник.
— Небось, — выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол, с оголенными икрами полезла в подпол.
— Смачная! — лукаво мигнул работнику дружко и обернулся к попу:
— Так ты, батюшка, не мешкай.
В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон.
— На колымагу! — замахал рукою дружко. — Выходит сейчас.
— На колымагу так на колымагу, — крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно.
— Есть, — щелкнул дьячок под салазки.
— Опосля, опосля, — зашептал дружко.
— Чего опосля?..
С взбитой набок отерханной шапкой и обгрызанным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп.
— Едем.
Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур.
Куры, с кудахтаньем и хлопая крыльями, падали наземь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом.
— Ишь ты, какой сурьезный, — говорил, шепелявя, дьякон, — в засычку все норовишь не хуже попа нашего, того и гляди в космы вцепишься.
Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона.
— Ты больно широко раздвинулся, — заметил он ему.
Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил за дышло ноги и мысленно ругался: «Как петух, черт сивый!»
— Эй, матушка, — крикнул дружко на коренного, но колесо зацепило за вбитый кол. — Н-но, дьявол! — рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами.
— А ты, пожалуй, нарочно уселся так, — обернулся поп опять к дьякону, — грязь-то вся мне в лицо норовит.
— Это, батюшка, Бог шельму карает, — огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь.
— Тпру, тпру! — кричал взбудораженный дружко и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем.
Лошади рванули, но уже не останавливались.
Подъехав к крыльцу, дружко суматошно ссадил хохотавшего с дьячком попа и повернул за дьяконом.
Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник.
— Не тпрукай, дурак, когда лошади стали, — искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому.
Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста — с крестной матерью.
Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади с приданными сундуками гремели несправленные дроги.
Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жердь, загородила дорогу.
Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала:
— Пей, гусь, да пути не мочи.
Выпившие мужики оттащили жердь в канаву и с криком стали бросать вверх шапки.
Дьячок сидел с дьяконом и косился — как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино.
Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки.
Около налоя краснел расстеленный полушалок, и коптело пламя налепок.
Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца.
По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове-соседке.
Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ёрником!
— Женится — переменится, — говорил Анисиму уважительный кум. — Я сам такой смолоду олахарь был.
Молодайка оказалась приглядная; после загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи.
Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались.
До замужества Анна спуталась со своим работником.
Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто.
Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца, да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаенная боль.
Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь.
В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье.
Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку; она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала.
Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют.
Но бывает так, что постучится запоздалый путник и, пригретый, забывает, что он пришел на минуту, и остается навсегда.
Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте.
На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов двадцати, и согласился на найм.
Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху.
Анна с батраком ходила в ригу и в два цепа молотили овес.
Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому.
После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку.
Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы.
Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел.
— Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим, — говорила она и, закинув за подмышки зарукавник, развязывала снопы.
Незаметно они сблизились. Садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны.
Степан иногда хватал ее за груди и, щекоча, валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу.
Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки.
Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях...
Вечером на масленицу Костя ушел в корогод и запевал с бабами песни; Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть.
На улице громко рассыпались прибаски и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся саврасый жевал в кошелке овес.
Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца.
Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подокрался и закрыл ей ладонями глаза.
Анна обернулась и отвела его руки.
— Пойдем, — покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом...
В избу вошел с веселой улыбкой Костя.
Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку.
Костя сел на лавку и закачал ногами; теперь еще ясней показалось ему все.
Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени.
— Ничего, Степан, не бойся, — подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок, — ты парень хороший...
Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли.
— Я ничего, Степан... стариков только опасайся... ты, может быть, думаешь, я сержусь? Нет!.. Оденься и пойдем посидим в шинке.
Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин.
Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью.
Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю.
Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад, но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался.
Он как-то особенно нежен стал к жене.
На прощеный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку.
Домой ее привезли на санях, сарафан был скороблен ледяным застывом.
Ночью с ней сделался жар, он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове.
Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце.
— Ничего, — говорил он спокойно и ласково. — Завтра к вечеру все, как рукой, снимет.
Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы.
На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту.
В кошель он воткнул кожаные сапоги, онучи, пороховницу и сухарей, а Анна сунула ему рушник.
Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником.
Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью.
Анна присела с краю.
— Благословите меня, — сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо. Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть.
Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку.
— К Страстной вертайся, — сказал отец и, взяв клин, начал справлять топорище.
Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел.
Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью.
Анна шла, наклонив голову, и захлестывала от ветра каратайку.
У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем.
Хвои шумели.
— Ну, прощай, Анна! — проговорил тихо и кротко. — Не обижай стариков, — немного задумался и гладил ее щеку.
— Совсем я...
Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгавшие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага.
— Костя! — гаркнула она. — Вернись!
— Ись... — ответило в стихшем ветре эхо.
Глава третья
— Очухайся! — кричал Филипп, снимая с Ваньчка шубу. Ваньчок, опустив руки, ослаб, как лыко.
Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на полатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот.
— Снегом его, — тихо сказал Карев.
— И то снегом...
Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу.
Ваньчка раздели наголо, дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ваньчка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу.
В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал.
От Ваньчка пошел пар, зубы его разжались, и глухо он простонал:
— Пи-ить...
Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься.
Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху.
Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его.
— С перепою, — тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб.
Карев присел к столу и стал чистить водяниковую наволочку картошки.
Отломив кусочек хлеба, он посолил его и зажевал.
Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой.
Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку.
— Пей, — поднес он стакан Кареву. — Небось, не как ведь Ваньчок.
— Самовар бы поставить, — почесался Филипп и вышел в теплушку.
— Липа? Лип?.. — загукал его сиповатый голос. — Проснися!
Немного погодя в красном сборчатом сарафане вошла девушка.
Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею.
Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку.
— Убью, — усмехнулся он и спустил щелкнувший курок.
— Не боюсь, — тихо ответила и зазвенела в дырявой махотке березовыми углями.
Лимпиаду звали лесной русалкой, она жила с братом в сторожке, караулила Чухлинский лес и собирала грибы.
Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним.
Двух лет потеряла отца, а на четвертом году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли.
Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр.
Жена его Аксинья ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу.
Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод.
— Тетенька ушла, — сказал он ей, как они пришли из церкви. — Теперь мы будем жить с Чуканом.
Филипп сам мыл девочку и стирал белье.
Весной она бегала с Чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег.
— Отчего он не тает? — спрашивала Чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом.
Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине, скользкие ноги.
Когда ей стукнуло десять годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в Чухлинку, к теще, ходить в школу.
Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату.
На шестнадцатом году за нее приезжал свататься сын дьячка, но Филипп пожалел, да потом девка сама заартачилась.
— Лучше я повешусь на ветках березы, — говорила она, — чем уйду с яра.
Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая, дуга, она бежала, улыбаючись, к загородке и отворяла околицу.
Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ваньчок и сватал ее без приданого.
Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой.
Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал:
— Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь.
— А я возьму тебя и съем, — шутила она и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды.
Юшка вертелся и не давался искаться.
— Пусти ты, — отпихивал он ее руки.
— Ложись, ложись, — тянула она его к себе. — Я расскажу тебе сказку.
— Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку? — пришлепывая губами, выговаривал Юшка. — Расскажи мне ее... мне ее, бывалоча, мамка рассказывала.
Самовар метнул на загнетку искрами.
— Готов, — сдунув золу, сказала Лимпиада и подошла к желтой полке за чашками.
— Славная штука, — ухмыльнулся Филипп, — Рублев двести смоем...
— Чтой-то я тебя, братец, не знаю, — обернулся он к Кареву: — Говоришь, с Чухлинки, а тебя и не видывал.
— Я пришляк, у просфирни проживаю.
— Пономарь, что ль, какой?
— Охотник.
Лимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар.
Ободнялая снеговая сыворотка пряжей висела на ставне и шомонила в окно.
— Зорит... — поднял блюдце Карев. — Вот сейчас на глухарей-то хорошо.
От околицы заерзал скрип полозьев. Ваньчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину.
— Ишь наклюкался, — рассмеялась Лимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. — Гусь жареный, тоже свататься приехал!
— Ох, — застонал Ваньчок и откинул полу.
— Кто там? — отворил дверь Филипп.
— Свои, — забасил густой голос.
Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков.
— Есть дичь-то? — затеребил бороду брюхатый, низенького роста барышник.
— Есть.
— А я тут проездом был, да вижу огонь, дай, мол, заверну наудалую.
— Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал; одно слово, пестун четвертной стоит.
Карев, поворачивая тушу, улыбался, а Лимпиада светила гасницей.
— Бейся не бейся, меньше двух с половиной не возьмем.
Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков.
— Ну, так, знычит, Филюшка, двести с четвертью да за волков четверть.
— Коли не обманываешь, ладно.
Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек.
— Получай, — слюнявя пальцы, отсчитывал он.
— Счастлив, брат, ты, — ткнул в бок Филипп Карева, — и скупщик, как нарочито, пожаловал.
Карев весело помаргивал глазами и глядел на Лимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала.
— Так ты помоги, — скинул тулуп Кузьмич.
Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь.
— Ишь, какой здоровый! — смеялись скупщики.
— Мерина своротил, — щелкнул кушаком Филипп. — Как дерболызнул ему, так ан навзничь упал.
— Он убил-то?..
— Он...
На розвальни положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой.
— Н-но, — крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом.
Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно.
Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку.
— Не надуешь проклятого.
— Хитрой мужик, — подхватили скупщики и задергали башлыками.
— Дели, — выбросил Филипп на стол деньги.
— Сам дели.
— Ну, не ломайся.
Ваньчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу.
— Кто это? — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева.
— Всю память заспал, — ухмыльнулся Филипп.
— Нет, самдели?
— Забыл, каналья?
— Эй, дядя, — поднялся Карев, — аль и впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?
— Смеетесь, — поднес к губам корец.
— А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали.
К столу подошла Лимпиада. Ваньчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову.
— Тебе полтораста, а мне сто, — встал Карев и протянул руку.
— Как же так?
— Так... я один... А ты с сестрой, вишь.
Ваньчок завистливо посмотрел на деньги.
— Ай и скупщики были?..
— Были.
— Вон оно что...
Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел.
— Погоди, — останавливал Филипп, — выспишься.
— Нет, поторапливаться надо.
В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы.
На крыльцо выбегла Лимпиада.
— Заходи, — крикнула она, махая платком.
— Ладно.
Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое, крыло.
На засохшую ракиту вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом.
С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы.
— Садись, касатик, подвезу! — крикнула поравнявшаяся на порожняке баба.
— И то думаю.
— Знамо, лучше... ишь как щеки-то разгорелись.
Хлестнула кнутом, и лошадь помчала взнамет, разрывая накат и поморозь.
— Что ж пустой-то?
— Продал.
— Ишь, Бог послал. У меня намедни сын тоже какого ухлопал матерого, четвертную, не стуча по рукам, давали.
— Да, охота хорошая.
За косогором показалась деревня.
— Раменки, — крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь.
Около околицы валялась сдохлая кобыла, по деревне пахло блинным дымом.
На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья.
На плетне около крайней хаты висела телячья шкура.
— Подбирай, бабушка, — крикнул весело и припал на постельник.
За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя.
Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку, ветер дул ей в лицо.
Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу, но табак от тряски и ветра рассыпался.
Ствол гудел, и казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост.
— Остановись, тетенька, закурю.
Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась.
Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями, спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла.
— Экай ты какой, — крикнула укоризненно баба, — погоди уж.
Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли.
— Закуривай, — оттопырила на красной подкладке полы и громко засмеялась.
Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки.
Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по мохрастым концам шаль.
Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег.
Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвой.
За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз.
Глава четвертая
Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице, в яровой долине.
В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, пьянчужка, скопырнулся как-то в плотину и утоп.
Жена его Фетинья не могла заплатить ему зажитое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток».
Афонюшка, девятнадцатигодовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик.
Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха.
Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой.
В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды.
Бор шумел хвойными макушками и с шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки.
— Фюи, фюи, — шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга.
— Ух, ух, — лазушно хлопал крыльями сыч.
Нравилось Афоньке сидеть так.
Он все ждал кого-то неизвестного. Но к нему не шли.
— Придут, — говорил он, гладя мухортую собаку. — Где-нибудь и нас так поджидают.
Так прожил он десять лет, но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься.
На пятом ходу хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку.
Мать Кузькина с радостью отдала его брату; на ней еще была обуза — шесть человек.
Она оторвала от кудели ссученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею.
— Мотри, Богу молись, — наказывала ему.
Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу.
— А далеко будем ехать-то? — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе.
— Две ночи спать будешь, — ухмыльнулся он, — а на половину третьей приедем...
Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея.
Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику.
— Заблудишь, — ворчал Афонька, — не броди далеко.
— Я, дяденька, не боюсь теперь, — смышлено качал желтой курчавой головой Кузька. — Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину, она красная, кислая, и птица ее не склюет.
— Ишь какой догадливый, — смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке.
По праздникам они ходили на охоту, Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь...
Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою.
Кузька ложился в траву и смотрел в небо.
Синь, как вода, застыла в воздухе; алели паутинки, и висли распластанные коршуны.
Над сосной шумно повис взъерошенный косач; Афонька спустил курок... Облаком заклубился дым.
— Где он, где он? — крикнул, вскакивая, Кузька и побежал к кустам.
За кустами, под спуском, голубело озеро; по озеру катились круги...
— Вот он, вот он! — кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду.
Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки.
Косач был подстрелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето.
Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец.
— Лови, лови! — кричал Афонька.
— Эх ты, сопляк, — протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам.
— Гони в кусты! — кричал он, плеская брызгами.
Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною.
— Погоди, — сказал Афонька, — я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет.
Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою.
— Буль, буль, — забулькало над головами лилий.
— Кши, дьявол! — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу.
Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону.
Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку.
У кустов показалась вихрастая голова Афоньки, он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост.
Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья.
Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам.
— Не нарвись! — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой.
Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду.
Как застывшая кровь, висели гроздья ягод; чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач.
Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник.
— Тех, тех, тех, — щелкал в березняке соловей. — Тинь, тинь, тинь, — откликались ему желтоперые синицы.
В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало, и раздался хряст сучьев.
На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным поветелем.
Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб.
Ружье трахнуло, и лось, как подкошенный, упал на мшанину.
Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту.
«Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки.
Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом за кочковатую выбень.
Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и с силой размахнул назад.
Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли.
Пахло паленым порохом, на синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого, вздыхающего ветра.
Долго Афонька не показывался на мельницу.
Сельчане, приезжавшие с помолом, думали — он к сестре уехал.
Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа.
Потом он очнулся.
«Господи, не помешался ли я?»
Перекрестился и выполз наружу.
В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли; он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в Чухлинку за попом.
Осунулся Афонька и лосиные рога прибил, вместе с висевшей на них фуражкою, около жернова.
Крепко задумался он — не покинуть ли ему яр, но в крови его светилась, с зеленоватым блеском, через черные, как омут, глаза, лесная глушь и дремь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом и боялся, что лес изменит ему, прогонит его.
В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям, он уж не ждал, а тосковал по ком-то и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга.
Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь.
Он обвязался, как путом, круг этой мысли и стал копить деньги.
Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь.
Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье.
Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам.
Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох.
В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев.
С крыши звенели капли, около ставень, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи.
— Здорово, дедунь, — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы.
Афонюшка слез с печи, лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест.
— Здорово, — кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу: — нет ли, родненький, сухарика; второй день ничего не жевал.
Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку.
— Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим...
Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров.
Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь.
Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется.
— Останься, — грустно поникнул он головою. — Один я...
Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился.
На Фоминой неделе Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз.
— Глух наш яр-то, жисть надо поджечь в нем, — толковал он с Каревым. — Всю молодость свою думал поставить церковь; трать, — вынул он пачку бумаг, — ты, как Кузька, стал мне... словно век я тебя ждал.
Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон.
Оба сидели на заваленке; Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки. — Не гляди, что мы ковылем пахнем, — грустно усмехнулся он, — мы всю жисть, как вино, тянули...
— Что ж, захмелел?..
— Нема, только икота горло мышью выскребла.
К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз, пахло овсом и рожью... лошадиным потом.
С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла.
Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро набок и заглотала.
Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок.
Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон.
Рыжебородый сотский, сдвинув на грядки мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу.
Жернов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды.
Карев смотрел, как на притолке около жернова на лосиных рогах моталась желтая фуражка.
В сердце светилась тихая, умиленная грусть.
В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка.
— Чтоб те пусто взяло, — выругался сотский, спуская осторожно мешок. — Не мудрено и брыкнуться...
— Крута лестница-то, крута... — зашамкал, упыхавшись, Афонюшка. — Обвалилась намедни плоская-то; новую заказал.
Карев дернул рычаг, и жернов, хрустя о камень, брызнул потоками искр.
— Сыпь! — крикнул он сотскому и открыл замучнелые совки.
Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука.
Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком.
— Хруп, — обратился он к Кареву, — спусти еще.
На лестнице показалась баба; лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку.
«Людям обрадовался», — подумал он с нежной радостью и подпустил помолу.
Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка.
— Что такую рваную повесили! — крикнула она со смехом, кидая под жернов фуражку, и задрожала...
— Фуражка, фуражка! — застонал Афонюшка и сунулся под жернов.
Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь.
На полу рассыпались красные ягоды.
Думы смялись... Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуя, аллилуя...
Глава пятая
Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем.
Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент.
Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника.
Рядом валялось ружье и с чесаной паклей кожаная пороховница.
Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки, и шомонила вода.
Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов.
Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь.
Пегасый жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами.
Скакал прямой поляной к сторожке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь.
С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и махала зарукавником.
Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась; спрыгнул и поздоровался.
— Дома?
— Тут.
Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну.
— Ставь, — крикнул Лимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар.
Лимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне.
С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки.
— Хватит! — крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу.
— Вот что, Филюшка, — сказал он, расстегивая пиджак, — Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне три тысячи. А ведь с ними каши не сваришь.
Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами.
— Что ж надумал? — обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы.
— Школу на Раменках выстроить...
— Что ж, это разумно... А то тут у нас каждый год помирают мальцы... Шагай до Чухлинки по открытому полю версты четыре... Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело, поневоле схватишь скарлатину или еще что...
— Так и я думаю... сказать обществу, чтоб выгоняло подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед.
От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня.
Карев глядел молча на Лимпиаду, она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки.
Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали.
Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась.
Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям.
Тогда она запрягала лошадь в таратайку и посылала Филиппа спроведать его.
Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказанья.
Он пришел в лунную майскую ночь. Шмыгнул, как тень, за сосну и притаился.
Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочатыг. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки.
В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться.
В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыханье.
— Кто там? — крикнул он, откидывая кошель.
— Я... — тихо и кратко было ответом.
— Кто ты?
— Я...
— Я не знаю, кто ты, — смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. — А если пришел зачем, так подходи ближе.
Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луною крыльцо.
— Чего ж ты таишься?
К крыльцу, ссутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами.
— Так, — брызнул он сквозь зубы слюну.
Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы.
— Ты бел, как мельник, — сказал отрывисто парень. — Я думал, ты ранен и с губ твоих течет кровь... Ты сегодня не ел калину?
Карев качнул головою:
— Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает.
— Что ж ты здесь делаешь? — обернулся он, доставая кочатыг и опять протыкая в петлю лыко.
— Дорогу караулю...
Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою.
— Зря все это...
Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку.
— Как тебя величают-то?..
— Аксютка.
Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо.
— Правда, Аксютка... Когда крестили, назвали Аксеном, а потом почему-то по-бабьему прозвище дали.
— Чай хочешь пить? — поднялся Карев.
— Не отказываюсь... я так и норовил к тебе ночевать.
— Что ж, у меня места хватит... Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил... она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней...
— Расставь-ка таганы, — указал он на связанные по верхушке три кола.
Аксютка разложил на кулижке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец.
Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег.
— Не воруй, Аксютка, — сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. — Жисть хорошая штука, я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи... поймают тебя, изобьют... зачахнешь, опаршивеет все, а не то и совсем укокошат.
Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался.
— Ладно тебе жалеть-то, — махнул он рукой, — либо пан, либо пропал!
Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли.
— Ох, — повернулся Аксютка, — хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною.
— Ну-ка...
Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку.
— Пошел я по весне с богомолками в лавру Печерскую. Накинул за плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся.
С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми.
В корогоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка, всю дорогу перхала.
Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет, ну и стал присватываться к ней.
С ней шла годов восемнадцати али меньше того внучка.
Я и так к девке, и этак, — отвиливает чертовка. Долго бился, половину дороги почти, и все зря.
Потихонечку стала она отставать от бабки, стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась.
Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвила меня косником каштановым, так и прилипла на шею.
Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрей; да чтоб того... незаметно было.
Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю:
— Смотри, мол, карга, какой я путевый; внука-то твоя как исповедуется со мной.
Стала и бабка со мной про Божеское затевать, а я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея Божьего человека, инда захныкала.
Покоробило исперва меня, да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло.
Пришли все гуртом на постоялый двор, я и говорю бабке... что, мол, бабушка, вшей-то набирать в людской, давай снимем каморочку; я заплачу... Двохлая такая была старушонка, все время перхала.
Полеглись мы кой-как на полу; я в углу, а они посередке.
Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях.
Ощупал и тихонечко к изголовью подполз.
Шушпан ее как-то выбился, сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то...
А она, старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула.
Спугался я, в горле словно жженый березовый сок прокатился.
Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне.
Хвать старуху за горло и туловищем налег...
Под пальцами словно морковь переломилась...
Сгреб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит... Куда, думаю, бежать...
Вперед пойду — по спросу урядники догадаются; назад — люди заметят... Повернул я налево и набрел через два дня на село.
Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щипульник; ночью все старуха бластилась и слышалось, как это морковь переломилась...
Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана...
Вошел, снял картуз и уселся за столик.
Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко «жулика»: «Из своих», — подумал я и лукаво подмигнул.
— А, Иван Яклич! — поднялся он. — Какими судьбами?..
— Такими судьбами, — говорю. — Иду Богу молиться.
Сели мы с ним, зашушукались. — Дельце, — говорит, — у меня тут есть. Вдвоем, как пить дадим, обработаем.
«Была бы только ноченька сегодня потемней».
Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы.
Сидим, пьем чай, глядим — колымага подъехала, из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой.
Долго сидели мы, потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли.
— К яру пойдем, — говорил он мне, — слышал я — ночевать у стогов будет.
Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках...
Слышим — колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, тпрукая, стал распрягать.
Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи.
Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-претемная.
Сидим, ждем, меня нетерпенье жжет, не спит все, — думаю.
Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям; он спал за задком на веретье.
Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся...
Но тут я увидел... я почувствовал, как шею мою сдавил аркан.
Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче.
— Да, — протянул Аксютка, — как вспомнишь, кровь приливает к жилам.
Карев подкладывал уже под скипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Аксюткину трубку.
— Что же дальше-то было?
Аксютка вынул платок и отмахнул пискливого комара.
— Ну и дока! — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник, и стал грызть на моих руках веревку.
Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног.
Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать...
Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась.
Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги.
Покуль я развязывал, он ему штук пять вогнал.
Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный... к нему... Только он хотел вонзить тычинку, — я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко...
Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю, да так... и Богу душу отдал.
Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевало грудь сердце.
Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи, и ухал филин.
Глава шестая
На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей.
Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щипульник. На плече Карева висел длинный мешок. Вьюркие щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени.
— Кто-то идет, — оглянулся Аксютка, — кажись, баба, — и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками.
Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Лимпиада.
Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу.
— Какая ты сегодня нарядная...
— А ты какой ненарядный, — рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы.
Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу.
— Вот и к разу попала. Растагарю костер и ухи наварю...
— Во-во! — замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватил Аксютка.
— Ведь он ворища, — указала пальцем на него. — Ты, небось, думаешь, какой прохожий?..
— Нет, — улыбнулся Карев, — я знаю.
Аксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав. — Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?
— К кому ж мы пойдем?
— Как к кому?.. Там у меня тетка...
— Хорошо, — согласился он, — только вперед Аксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся.
Лимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу.
С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы.
— Ну, теперь садись с нами к костру, — шумнул Карев. — Да выбирай зараня большую ложку.
Лимпиада весело хохотала и указывала на Аксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку.
— Аксютка, — крикнула, встряхивая раскосмаченную косу, — иди поищу.
Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза.
Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки.
Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья.
Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну.
В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи, в грязном фартуке сапожник Царек.
Царька обступили корогодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую.
Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям.
«Подружки-голубушки, — выговаривал, как камышовая дудка, гребешок. — Ложитесь спать, а мне, молодешеньке, дружка поджидать».
— Будя, — махнула старуха, — слезу точишь.
Царек вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс.
— В расходку, — кричал в новой рубахе Филипп, — ходи веселей, а то я пойду.
Лимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать.
На нем была белая рубашка, и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища.
С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками.
В избу ввалился с тальянкой Ваньчок и, покачиваясь, кинулся в круг.
— Ух, леший тебя принес! — засуетился обидчиво Филипп, — весь пляс рассыпал.
Ваньчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа.
— Ты не ругайся, — сдавил он мехи. — А то я играть не буду.
— Ты чей же будешь, касатик? — подвинулась к Кареву старуха.
— С мельницы, — ласково обернулся он.
— Это что школу строишь?..
— Самый.
— Надоумь тебя царица небесная. Какое дело-то ты делаешь... Ведь ты нас на воздуси кинаешь; звезды, как картошку, сбирать.
Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться.
— Я тут, как кирпич, толку... Деньги-то ведь не мои.
— Зрящее, зрящее, — зашамкала прыгающим подбородком. — Ведь тебе оставил-то он...
Лимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек.
За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна.
Аксютка запер хату и пошел в Раменки.
Ему хотелось напиться пьяным и побуянить. Он любил, когда на него смотрели как на страшного человека.
Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ваньчка и, поровнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник.
— Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал! — крикнула она и пнула в лицо ногой.
Ребятишки, собираясь по кулижкам, часто грезили о нем, каждый думал — как вырастет, пойдет к нему в шайку.
— Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые, — говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, — потому знает, что я крепче всех люблю его.
— А я кашеваром буду, — тянул однотонно Федька, — Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю.
— Сибирь, — передразнивал Микитка. — А мы, пожалуй, вперед тваво возьмем Сибирь-то, уж ты это не говори.
— Ты все сычишься наперед, — обидчиво дернул губами Федька. — Твоя вся родня такая... твой отец, мамка говорит — только губами шлепает. А мы все время на Чухлинке лес воруем. Нам Ваньчок, что хошь, сделает.
— Поди-ка, съешь кулака, — волновался Микитка. — А откуда у нас жерди-то, чьи строги-то на телегах?.. это вы губами-то шлепаете, мы у вас в овине всю солому покрали, а вы и не знаете... накось...
Аксютка вошел в избу сотского и попросил бабку налить ему воронка.
Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полоник.
— Где ж Аким-то? — спросил, оглядывая пустую лежанку.
— У свата.
— Обсусоливает все, — смеясь, мотнул головой.
— Что ж делать, касатик, скучно ему. Вдовец ведь...
Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля.
— Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драченку, да все вышли. Оладьями, хошь, угощу?
Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду.
Аксютка выглядел, какие порумяней, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу.
У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за сотским и старался ударить ему в голову.
Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и переломившийся о голову сотского кол окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь.
Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа.
Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку.
— Бей живореза! — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам.
Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени.
Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи.
Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной...
— Эх, Аксютка, Аксютка, — стирал кулаком слезу старый пономарь, — подломили твою бедную головушку!..
— Что ж ты стоишь, чертовка! — ругнул он глазеющую бабу. — Принесла бы воды-то... живой, чай, человек валяется.
Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами.
— Подкачнуло тебя, окаянного, мою душу загубил и себя потерял до срока.
— То-то не надо бы горячиться, — укорял пономарь. — Оно, вино-то, что хошь, сделает.
Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь.
— На... а... мель... — дрогнул он всем телом и упал навзничь.
— На мельницу, вишь, просится, — жалобно заохала бабка. — Везите его скорей...
Парень, бивший топором Аксютку, болезно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы.
Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой.
Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью...
Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку.
Карев сидел с Лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы и к крыльцу подъехали с Аксюткой.
Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату.
— Ложись, ложись, — шептал бледный, как снег...
Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину.
Аксютка встал и провел по губам рукой...
— Поди... — глухо прошептал, поманув Карева. — Хвастал я... никого не убивал, — закашлялся он. — Это я так все... выдумал...
Карев прислонил к его голове мокрую тряпку.
Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц.
На плесе шомонили вербы, и укромно шнырял ветерок.
— Липа, — крикнул Аксютка, хватаясь за грудь. — Сложи мне руки... помирать хочу...
Лимпиада с красными глазами подбежала к постели и опустилась на колени.
— Крест на меня надень... — опять глухо заговорил он. — В кармане... оторвался... Мать надела.
Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый косник, продела в ушко креста.
Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер.
За окошком кугакались совы.
Часть вторая
Глава первая
Покосилась изба Анисима под ветрами, погнулся и сам старый Анисим.
Не вернулся Костя с охоты, а после Пасхи пришло письмо от Вихлюйского стрелка.
Почуял старый Анисим, что неладное принесло это письмо, еще не распечатывая.
«Посылаю свое почтение Анисиму Панкратьеву, я знал хорошо твоего сына и спяшу с скорбью поведать, что о второй день Пасхи он переправлялся через реку и попал в полынью.
На льду осталась его шапка с адристом, а его, как ни тыкали баграми, не нашли».
Жена Анисима слегла в постель и, прохворав полторы недели, совсем одряхлела.
Анна с бледной покорностью думала, что Костя покончил с собой нарочно, но отпихивала эту думу и боялась ее.
Степан прилип к ней, и смерть Кости его больше обрадовала, чем опечалила.
Старушка-мать на Миколу пошла к обедне и заказала попу сорокоуст.
Вечером на дом пришел дьякон и отслужил панихиду.
— Мать скорбящая, — молился Анисим, — не отступись от меня.
В седых волосах его зеленела вбившаяся трава и пестиками щекотала шею.
Анисим махал над шеей рукой и думал, что его кусает муха.
— Жалко, жалко, — мотал рыжей бородой дьякон, — только женили и на, поди, какой грех.
— Стало быть, Богу угодно так, — грустно и тихо говорил Анисим, с покорностью принимая свое горе. — Видно, на роду ему было написано. От судьбы, говорится, на коне не ускачешь.
Запечалилась Наталья по сыну. Не спалось ей, не елось.
— Пусти меня, Анисим, — сказала она мужу. — Нет моей мочи дома сидеть. Пойду по монастырям православным поминать новопреставленного Константина.
Отпустил Анисим Наталью и пятерку на гайтан привязал.
«Тоскует Наталья, — думал он, — не успокоить ей своей души. Пожалуй, помрет дома-то».
Помаленьку стала собираться. Затыкала в стенку веретена свои, скомкала шерсть на кудели и привесила с донцем у бруса.
Пусть, мол, как уйду, поминают.
Утром, в Петровское заговенье, она истопила печь, насушила жаровню сухарей и связала их в холщовую сумочку.
Анна помогала ей и заботливо совала в узел, что могло понадобиться.
В обеды старуха гаркнула рубившему дрова Анисиму, присела на лавку и со слезами упала перед иконами на колени.
От печи пахло поджаренными пирогами, на загнетке котенок тихонько звенел заслоном.
— Прости Христа ради, — обняла она за шею Анисима. — Не знаю, ворочусь ли я.
Анисим, скомкав шапку, утирал заголубевшую на щеке слезу.
— А ты все-таки того... — ласково обернулся к ней. — Помирать-то домой приходи.
Наталья, крестясь, подвязала сумочку и взяла камышовый костыль.
— Анна, — позвала он бледную сноху, — поди, я тебя благословлю.
Анна вышла и, падая в ноги, зарукавником прикрыла опухшие глаза.
— Господь тебя благословит. Пройдет сорокоуст, можешь замуж итить... Живи хорошенько.
— Пойдем, — крикнула она Анисиму, — за околицу проводить надо.
Анна надела коротайку и тихо побрела, поддерживая ей сумку, к полю.
— А ты нет-нет и вестку пришли, — тягуче шептал Анисим, — оно и нам веселей станет. А то ведь одни мы...
Тихо, тихо... В смолкших травах чудилось светлое успокоение... Пошла, оборачиваясь назад, и, приостановившись, махала костылем, чтобы домой шли.
От сердца как будто камень отвалился.
С спокойной радостью взглянула в небо и, шамкая, прошептала:
— Мати Дево, все принимаю на стези моей, пошли мне с благодатной верой покров твой.
Анисим стоял с покрытой головой и, закрываясь от солнца, смотрел на дорогу.
Наталья утонула в лоску, вышла на бугор и сплелась с космами рощи; он еще смотрел, и застывшие глаза слезились.
— Пойдем, папаша, — дернула его за рукав Анна. — Теперь не воротишь ведь.
Шли молча, но ясно понимали, что печаль их связала в один узел.
— Не надо мне теперь землю, — говорил он, безнадежно оглядывая арендованное поле. — Затянет она меня и тебя разорит. Ты молодая еще, жить придется. Без приданого-то за вдовой не погонятся, а так весь век не проживешь, выходить все равно придется.
— Тебе видней, — отвечала Анна. — Знамо, теперь нам мускорно.
Покорился Анисим опутавшей его участи. Ничего не спихнул со своих ссутуленных плеч.
Залез только он ранее срока на печь и, свесив голову, как последней тайны, ждал конца.
Анна позвала Степана посмотреть выколосившуюся рожь.
Степан взял назубренный серп и, заломив картуз, пошел за Анной.
— Что ты думаешь делать? — спросила она его.
— Не знаю, — тихо качнул головою и застегнул ослаблый ремень.
— Я тоже не знаю, — сказала она и поникла головою.
Вошла в межу, и босые ноги ее утонули в мягкой резеде.
— Хорош урожай, — сказал, срывая колос, Степан. — По соку видно, вишь, как пенится.
Анна протянула руку за синим васильком и, поскользнувшись с межи, потонула, окутанная рожью.
— Ищи, — крикнула она Степану и поползла в соседнюю долю.
— Где ты? — улыбаясь, подымался Степан.
— Ау, — звенел ее грудной голос.
— Вот возьму и вырву твои глаза, — улыбался он, посадив ее на колени. — Вырву и к сердцу приколю. Они синей васильков у тебя.
— Не мели зря, — зажимала она ему ладонью губы. — Ведь я ослепну тогда.
— А я тебя водить стану, — отслонял он ее руку, — сумочку надену, подожочек вытешу, поводырем пойду стучать под окна: подайте, мол, Аннушке горькой, которая сидела тридцать три года над мертвым возлюбленным и выплакала оченьки.
Вечером к дому Анисима прискакал без фуражки верховик и, бросив поводья, без привязи, вбежал в хату.
— Степан, — крикнул он с порога, — скорей, мать помирает!
Степан надел картуз и выбежал в сени.
— Погоди, — крикнул он, — сейчас обратаю.
Лошади пылили и брызгали пенным потом.
Когда они прискакали в село, то увидели, что у избы стояла попова таратайка.
В избе пахло воском, копотливой гарью и кадильным ладаном.
Акулина лежала на передней лавке. Глаза ее, как вшитая в ложбинки вода, тропыхались.
Степан перекрестился и подошел к матери.
Родные стояли молча и плакали.
— Степан, — прохрипела она, — не бросай Мишку...
Желтая свечка задрожала в ее руках и упала на саван.
Одна осталась Анна. Анисим слез с печи, надел старую хламиду и поплелся на сход. Она оперлась на подоконник и задумалась. Слышно, как тоненько взвенивала осокой река и где-то наянно бухал бучень.
«Одна, совсем одна, — вихрились в голове ее думы, — свекор в могилу глядит, а у Степана своя семья, его так и тянет туда.
Теперь, как померла мать, жениться будет и дома останется. Может быть, остался бы, если не Мишка... Подросток, припадочный... ему без Степана живая могила.
Бог с ним, — гадала она, — пускай делает, как хочет». В душе ее было тихое смирение, она знала, что боль, которая бередит сердце, пройдет скоро, и все пойдет по новому руслу.
К окну подошел столяр Епишка. От него пахло водкой и саламатой.
— Ты, боярышня круглолицая, что призадумалась у окна?
— Так, Епишка, — грустно улыбнулась она. — Невесело мне.
— Али Иван-царевич покинул?
— Все меня бросили... А может, и я покинула.
— Не тужи, красавица! Прискачет твой суженый, недолго тебе томиться в терему затворчатом.
— Жду, — тихо ответила она, — только, видно, серые волки его разорвали.
— Не то, не то, моя зоренька, — перебил Епишка, — ворон живой воды не нашел.
Кис Анисим на печи, как квас старый, да взыграли дрожжи, кровь старая; подожгла она его старое тело, и не узнала Анна своего свекра.
Ходил старик на богомолье к Сергию Троице, пришел оттолева и шапки не снял.
— Вот что, — сказал он Анне, — нечего мне дома делать. Иди замуж, а я в монахи; не вернется наша бабка. Почуял я.
Ушел старый Анисим, пришел в монастырь и подрясник надел.
Возил воду, колол дрова и молился за Костю.
— На старости спасаться пришел, — шамкал беззубый, седой игумен, — путево, путево, человече... В писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон, — Бог видит душу-то. У него все мысли ее записаны.
Анисим откидывал колун и, снимая с кудлатой головы скуфью, с благоговением чмокал жилистую руку игумена.
По субботам он с богомолками отсылал Анне просфорочку и с потом выведенную писульку.
«Любая сношенька, живи хорошенько, горюй помалу и зря не крушинься.
Я молюсь за тебя Богу, дай тебе Он, Милосердный, силы и крепости.
Житье мое доброе и во всем благословение Божьей Матери.
Вчера мне приснилась Натальюшка. Она пришла ко мне в келью с закрытым лицом. Гадаю, не померла ли она... утиральник твой получил... спасибо... посылаю тебе артус, девятичиновную просфору, положи их на божницу и пей каждое утро со святой водой, это тебе хорошо и от всякого недуга пользительно».
Анна радостно клала письмо за пазуху и ходила перечитывать по базарным дням к лавочнику Левке.
По селу загуторили, что она от Степки забрюхатела.
Глава вторая
Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.
Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, Чухлинский пасик.
Пасик — еланка и орешник, место буерачное и неприглядное.
Но мужики каждой осенью дробились на выти и почти по мешку на душу набирали орехов.
Весной там паслись овцы, и в рытых землянках жили пастухи.
Филипп досадовал, что чухлинцы не могли приехать по наказу сами.
Спустился в долину и увидел вбивавшего колья около плотины Карева.
— Далеко?
— Да в Чухлинку, — сердито махнул он, заворачивая к мельнице.
— Отрезали ведь, — поморщился и стер со лба остывающий пот.
— Плохое дело...
— Куда хуже.
— Ты погоди ехать в Чухлинку, — сказал Карев. — Попьем чай, погуторим, а потом и я с тобой поеду.
День был ветряный, и сивые тучи, как пакля, трепались и, подхваченные ветром, таяли.
Филипп отпустил повод, завязал его за оглоблю и отвел лошадь на траву.
Летняя томь кружила голову, он открыл губы и стал пить ветер.
— Ох, — говорил Карев, — теперь война пойдет не на шутку. Да и нельзя никак. Им, инженерам-то, что! Подкупил их помещик, отмерили ему этой астролябией без лощин, значит, и режь. Ведь они хитрые бестии. Думают: не смекнут мужики.
— Где смекнуть второпях-то, — забуробил Филипп, — тут все портки растеряешь.
— Я думаю нанять теперь своих инженеров и перемерить участки... Нужно вот только посмотреть бумаги — как там сказано, с лощинами или без лощин. Если не указано — плевое дело. У нас на яру ведь нет впадин и буераков, кроме этой долины, а в старину земли делили не как сейчас делят.
— Говоришь — война будет, значит, не миновать... Кто их знает: целы ли бумаги.
Тучи клубились шерстью и нитками сучили дождь.
Карев надел кожан, дал Филиппу накрыться веретье, и поехали на Чухлинку.
Дорога кисла киселем, и грязь обдавала седоков в спины и в лицо.
Лес дымил как задавленным пожаром; в щеки сыпал молодятник-мох, и веяло пролетней вялостью.
Переехали высохший ручей и стали взбираться на бугор.
Сотский вырезал из орясника палку, обстрогал конец и, нахлобучив шапку, вышел на кулижку.
— На сход, — кричал он, прислоняясь к мутно-голубым стеклам.
Скоро оравами затонакали мужики, и следом за ними шли, поникнув, пожилые вдовы.
Староста встал с крыльца и пошел с корогодом в пожарный сарай.
— Православные, — заговорил он, — Филипп приехал сказать, что инженеры отрезали у нас Пасик.
Мужики завозились, и с нырявшим кашлем кой-где зашипел ропот.
Обсуждали, как их обманывают и как доказать, что оба участка равны по старой меже.
Порешили выписать инженеров и достать бумаги.
Карев опасался, как бы бумаги не пропали.
Он искал старожилов и расспрашивал, с кем дружил покойный барин и живы ли те, при ком совершался акт.
Тяжба принимала серьезный характер; он разузнал, что и сам помещик был свидетелем, когда барин одну половину отмежевал казне, а другую — крестьянам.
— Уж ты выручи нас, — говорили мужики, — мы тебя за это попомним...
Карев, усмехаясь, вынимал кисет и, отрывая листки тоненькой бумаги, угощал мужиков куревом.
— Ничего мне не надо; табак пока у меня завсегда свой, а коли, случится на охоте, кисет забуду, так тут попросил бы одолжить щепоть.
Смеялись и с веселым размахиваньем шли в трактирчик.
— Одурачить-то мы их одурачим, — возвращался он к старому разговору, — вот только б бумаги не подкашляли...
Лимпиада, покрыв стол, стала ждать брата и, прислонясь к окну, засверкала над варежкой спицами.
Ставни скрипели, как зыбка.
Она задумалась и не заметила, как к крыльцу подкатила таратайка.
Ворота громыхнули, Чукан с веселым лаем выскочил наружу, и Лимпиада, встрепенувшись, отбросила моток.
— Ты что ж это околицу-то прозевала, — весело поздоровался Карев.
Лимпиада, закрасневшись, выставила свои, как берестяные, зубы и закрылась рукавом.
— Забылася, — стыдливо ответила она.
— Эх ты, разепа, — шутливо обернулся он, засматривая ей в глаза.
Вошел Филипп и внес мокрый хомут; с войлока катился бисер воды и выводил змеистую струйку.
— Гыть-кыря! — пронеслось над самым окном.
— Кто это? — встрепенулся Филипп. — Никак пастухи...
— Федот, Федот, — замахал он высокому, безбородому, как чухонец, пастуху, — ай прогнали?
— Прогнали, — сердито щелкнул кнутом на отставшую ярку пастух.
— Вот, сукин сын, что делает, — злобно вздохнул Филипп, — убить не грех.
— На Афонин перекресток гоним, — крикнул опять пастух, — измокли все из кобеля борзого... петлю бы ему на шею.
Лимпиада искоса глядела на Карева, и когда он повертывался, она опускала глаза.
Тучи прорванно свисли над верхушками елей, и голубые просветы бражно запенились солнцем. По траве серебряно белела мокресть.
— Пойдем в лес сходим, — сказал Филипп. — Нужно на перемет посмотреть, в куге на озере я жерлику поставил; теперь, после дождя, самый клев.
Сосны пряно кадили смолой; красно-желтая кора вяло вздыхала, и на обдире висли дождевые бусы.
— Ау, — крикнула Лимпиада, задевая за руку Карева.
— У-у-у! — прокатилось гаркло по освеженному лесу.
Карев отбежал и тряхнул сосну, с веток посыпался бисер и, раскалываясь, обсыпал Лимпиаду. Волосы ее светились, на ресницах дрожали капли, а платок усыпали зеленые иглы.
— Недаром тебя зовут русалка-то, — захохотал он, — ты словно из воды вышла.
Лимпиада, смеясь, смотрела в застывшую синь озера...
Помещик узнал через работника, что крестьяне вызывают на перемер инженеров и подали в суд.
— Проиграет твое, — говорил робко работник. — Там за них какой-то охотник вступился; бедовая, говорят, голова.
Помещик угрюмо кусал ус и обозленно стучал ногами.
— Знаю я вас, мошенников... михрютки вы сиволапые! Так один за другого и тянете.
— Я ничего, — виновато косился работник, — я сказать тебе... может, сделаешь что...
Помещик, косясь, уходил на конюшню и, щупая лошадь, кричал на конюха:
— Деньги только драть с хозяина. Опять не чистил, скотина... Заложи живо овса!..
Конюх, суетясь, тыкался в ларь, разгребал куколь и, горстью просеивая, насыпал в меру.
Мякина сыпалась прямо в глаза вилявшей собаке и щекотала ей ноздри.
— Ты еще что мешаешься, — ткнул ее помещик ногой, — вон пошла, стерва!
«Ишь, черт дурковатый, — думал конюх, — не везет ни в чем, так и зло на всех срывает!»
— А где он живет? — обратился к вошедшему за метлой работнику.
— Он живет в долине, на Афонином перекрестке помол держит.
— Так, так, — кивал головой конюх, — сказывают, охотой займается еще.
— Так ты вот что, Прохор, — обратился помещик к конюху. — Заложи нам гнедого в тарантас и сена положи. А ты, брат, пей поскорей чай да со мной поедешь.
Карев увидел, как к мельнице подкатил тарантас и с сиденья грузно вывалился барин.
Он, поздоровавшись, сел на лавку и заговорил о помоле.
«Хитрит, — подумал Карев, — не знает, с чего начать».
— Трудно, трудно ужиться с мужиками, — говорил он, качая трость. — Я, собственно... — начал он, заикнувшись на этом слове, — приехал...
— Я знаю, — перебил Карев.
— А что?
— Хотите сказать, чтобы я не совался не в свои сани, и пообещаете наградить.
— Н-да, — протянул тот, шевеля усом, — но вы очень резко выражаетесь.
— Я говорю напрямую, — сказал Карев, — и если б был помоложе, то обязательно дал бы вам взбучку.
Помещик сузил глазки и стал прощаться.
Работник насмешливо прикусил губы и хлестал лошадь. Тарантас летел, как паровоз.
— Гони сильней, — ткнул он его ногой.
— Больше некуда гнать, — оглянулся работник, — а ежели будешь тыкаться, так я так тыкну, что ты ребер не соберешь.
Глава третья
Стояла июльская жара. Пахло ожогом трав и сухой соломой. Колосился овес.
Мужики собрались на сходку и порешили косить луга.
Десятские взяли общественные канаты и пошли за реку отыскивать занесенные в половодье на делянках ямы.
Они осторожно, не сминая травы, становились на раскосы и прикидывали веревку.
К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги и забренчали косы.
По лугу потянулись гуськом подводы и, покачиваясь, ехали за песчаную луку.
За лукой, на бугорке, считая свою выть от ямы, они скидывали, окосив траву, шалаши, уставляли их поплотней и устилали сочной травой.
Из телег летели вилы, грабли, связки дров и хламная рухлядь.
Потом, осторожно взяв косы, вешали их на попки шалаша и втаскивали во внутрь сундучок с посудой и снедью.
Шалаши лицом друг к другу ставили в два ряда и позади, распрягая лошадей, подняв оглобли, притыкали накрытые веретьями телеги.
В это утро к Кареву пришел Филипп и стал звать на покос.
— А я и работника не наймал, — говорил он, улыбаясь издалека. — На тебя надеялся... Ты не бойся, нам легко будет, на семь душ всего; а ежели Кукариху скинуть — и того меньше...
Карев весело поднял голову и всадил в дровосеку топор.
— А я уж вилы готовлю.
Филипп по порядку отыскал четвертую стоянку и завернул на край.
У костра с каким-то стариком сидел Карев и, подкладывая плах, говорил о траве.
— Трава хорошая, — зашептал Филипп, раздувая костер. — Один медушник и кашка.
— А по лугам один клевер, — заметил старик. — И забольно так по впадинам чесноком череда разит.
Небо щурилось и морщилось. В темной сини купола шелестели облака.
Мигали звезды, и за бугром выкатывался белый месяц.
Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки поползли по росному лугу.
Карев пил из железной кружки чай и, обжигая губы, выдувал колечко.
Пели коростели, как в колотушку, стучал дупель, и фыркали лошади.
Филипп постелил у костра кожух, накрылся свиткой и задремал.
Старик, лежа, согнув кольцом над головой руки, отсвистывал носом храповитую песню, и на шапку его сыпался пепел.
Карев на корточках вполз в шалаш и, не стеля, бросился на траву.
Зарило.
— У... роса-то, — зевнул Филипп, — пора будить.
Было свежо и тихо. Погасшие костры светились неподмоченной золой.
— Костя... а Кость... — трепал он за ногу, — Кость...
Карев вскочил и протер глаза. Во рту у него было плохо от вчерашней выпивки, он достал чайник и стал полоскать.
— Ого-го-го... вставать пора, — протянулось по стоянке.
Филипп налил брусницы водой, заткнул клоком скошенной травы и одну припоясал, свешивая на лопатку, сам, а другую подал Кареву.
Косы звякнули, и косари разделились на полувыти.
— Наша вторая полувыть, — подошел к Филиппу вчерашний старик. — Меримся, кому от краю.
Филипп ухватился за окосье, и стали перебираться руками.
— Мой конец, — сказал старик, — мне от краю.
— Ну, а моя околь, — протянул Филипп, — самая удобь. Бабы лучше в чужую не сунутся.
— Бреди за ним по чужому броду, — указал он Кареву на старика, — меряй да подымай косу.
Карев побрел, и сапоги его как вымазались в деготь; на них прилип слет трав и роса.
— А коли побредешь, — пояснил старик, — так держи прям и по цветкам норови, лучше в свою не зайдешь и чужую не тронешь.
Они пошли вдоль по чужой выти и стали отмерять. Карев прикинул окосьем уже разделенную им со стариком луговину и отмерил себе семь, а старику — три; потом он стал на затирку и, повесив на обух косы и фуражку, поднял ее.
По росе виднелся широкой прошвой вырезанный след.
Карев снял косу, вынул брус и, проводя с обуха, начал точить.
Филипп шагнул около брода, и трава красиво прилегла к старикову краю, как стояла, частой кучей.
На рассвете ярко, цветным гужом, по лугу с кузовами и ведрами потянулись бабы и девки и весело пели песни.
Карев размахивал косой, и подрезанная трава тихо вжикала.
— Вж... Вж... — неслось со всех концов, и запотелые спины, через мокрые рубахи, обтяжно вырезали плечи и хребет.
Пахло травой, потом и, от слюнявых брусниц, глиной.
— Ох, и жара! — оглянулся Филипп на солнце. — До спада надо скосить. С росой-то легче.
Карев снял брусницу, подошел к маленькому, поросшему травой, озеру и стал ополаскивать.
Зачерпнув, он прислонил к губам потный подол рубахи и стал пить через него.
Потом выплеснул с букашками на траву и пошел опять на конец.
Филипп гнал уж ряд к озеру. Вдруг на косу его легло, как плеть, что-то серое и по косе алой струйкой побежала кровь.
— Утка, — поднял он, показывая ее Кареву, за синие лапы.
Из горла капала кровь и падала на мысок сапога.
С двумя работницами пришла Лимпиада и, сбросив кузов, достала с повети котел.
— Прось, — обратилась к высокой здоровенной бабе, — ты сходи за водой, а мы здесь кашу затогарим.
Костры задымили, и мужики бросили косить.
Карев подошел к старику и поплелся, размахивая фуражкой, за ним следом.
— Дед Иен, погоди, — крикнул отставший Филипп, — дакось понюхаем из табатерки-то.
К вечеру по окошенному лугу выросли копны и бабы пошагали обратно домой.
Дед Иен подошел к костру, где сидел Карев, и стал угощать табаком.
Мужики, махая кисетами, расселись кругом и стали уговаривать деда рассказать сказку.
— Эво, что захотели! — тыкал в нос щепоть зеленого табаку. — Вот кабы вы Петруху Ефремова послухали, так он вам наврал бы — приходи любоваться.
— Ну и ты соври что-нибудь, — засмеялся Филипп, — ты думаешь — мы поверять, что ль, будем.
Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву.
— Имелася у одного попа собака, такая дотошная, ин всех кур у дьякона потяпала. Сгадал поп собаку поучить говорить по-человечьи. Позвал поп работника Ивана и грить ему так: «Пожжай, балбес, в Амирику, обучи пса по-людски гуторить. Вот тебе сто рублев, ин нехватки, так займи там. У меня оттулева много попов сродни есть». Хитрой был попина. Прихлопывал он за кухаркой Анисьей. Да тулился, как бы люди не мекали. Пшел Иван, знычит, в яр, надел собаке оборку на шею и бух в озер. Минул год, к попу стучится: «Отопри-де, поп, ворота». Глазеет поп. Иван почесал за ухом и грить попу: «Эх, батько, вышколили твою собаку, хлеще монаха псалтырь читала, только, каналья, и зазналась больно, не исть хлебушка, а давай-подавай жареного мяса; так и так, грю ей, батько, мол, наш не ахти богач, зря, касатка, не хрындучи. Никаких собака моих делов не хочет гадать. «К ирхирею, гарчит, побегу, скажу про него, гривана, что он с кухаркой ёрничает». Спугался я за тебя и порешил ее». — «Молодчина, — похвалил его поп. — Вот тебе еще сто рублей».
Дед Иен кончал и совал в бок соседа.
— Ну-с, Кондак, это только присказка, а ты сказку кажи.
Мужики слухали и, затаив дыхание, сопели трубками.
Полночь проглотила гомон коростелей. Карев поднялся и пошел в копну. В лицо пахнуло приятным запахом луга, и синее небо, прилипаясь к глазам, окутало их дремью.
Просинья тыкала в лапти травяниковые оборки и, опустив ногу на пенек, поправляла портянку.
Дед Иен подошел сзади и ухватил ее за груди.
— Ай да старик! — засмеялись бабы. — Ах ты, юрлов купырь! — ухмыльнулась Просинья. — Одной ногой в гроб глядишь, а другой в сметану тычешь. Ну, погоди, я тебе сделаю.
Дед Иен взял, не унимаясь от смеха, косу и сел на втулке отбивать.
Из кармана выпала табакерка и откатилась за телегу.
Просинья подошла к телеге, взяла впотайку ее двумя пальцами и пошла на дорогу.
С муканьем проходили коровы, и на скосе дымился помет.
Просинья взяла щепку и, открыв табакерку, наклала туда помету.
Крадучись, она положила опять ее около его лаптей и отошла.
Дед слюнявил молоток и тонко оттягивал лезвие.
Он сунул руку в карман и, не замечая табакерки, пошел в шалаш.
Перетряхивал все белье, смотрел в котлы и чашки, но табакерки не было.
«Не выскочила ли? — подумал он. — Кажется, никуды не ховал».
Просинья, спрятавшись за шалаш, позвала народ, и, сквозь дырочки, стали смотреть...
— Ишь, где оставил, — гуторил про себя Иен, — забывать стал... Эх-хе-хе!
Он открыл крышку и зацепил щепоть... Глаза его обернулись на запутавшуюся на веревке лошадь, и он не заметил, что в пальцах его было что-то мягкое.
В нос ударило поганым запахом, он поглядел на пальцы и растерянно стал осматривать табакерку.
— Ах ты, нехолявая, — ругал он Просинью, — погоди, отдыхать ляжешь, я с тобой не то сделаю. Ты от меня огонь почуешь в жилах.
— Сено перебивать! — закричали бабы и бросились врассыпную по долям. Карев взял грабли и побежал с Просиньей.
Лимпиада побегла за ним и на ходу подтыкала сарафан.
— Ты куда же? — крикнул ей Филипп. — Там ведь Просинья. — Она замешливо и неохотно побегла к другой работнице и зашевелила ряды.
— Труси, труси, — кричал ей издалека Карев, — завтра навильники швырять заставим.
Лимпиада оглядывалась и, не перевертывая сена, метила, как бы сбить Просинью и стать с Каревым.
Она сгребла остальную копну и бросилась помогать им.
— Ты ступай вперед, — сказала она ей, — а я здесь догребу.
— Ишь какая балмошная! — ответила Просинья. — Так и норовит по-своему.
— Девка настойчивая, — шутливо кинул Карев.
— Молчи, — крикнула она и, подбежав, пихнула его в копну.
Карев увидел, как за копной сверкнули ее лапти и, развеваясь, заполыхал сарафан.
— Догонит, догонит! — кричала Лимпиаде с соседней гребанки баба.
Он ловко подхватил ее на руки и понес в копну.
Лимпиада почувствовала, как забилось ее сердце, она, как бы отбиваясь, обняла его за шею и стала сжимать.
В голове закружилось, по телу пробежала пена огня. Испугался себя и, отнимая ее руки, прошептал:
— Будя...
Глава четвертая
Карев лежал на траве и кусал тонкие усики чемерики.
Рядом высвистывал перепел и кулюкали кузнечики.
Солнце кропило горячими каплями, и по лицу его от хворостинника прыгали зайчики.
Откуда-то выбежал сельский дурачок и, погоняя хворостинного коня, помчал к лесу.
Приподняв картуз, Карев побрел за ним.
Был праздник, мужики с покоса уехали домой, и на недометанные стога с криком садились галки.
Около чащи с зарябившегося озера слетели утки и, со свистом на полете, упали в кугу.
Дурачок сидел над озером и болтал ногами воду.
— Пей, — нукал он свою палку, — волк пришел, чуешь — пахнет?
— Поди сюда, — поманул он пальцем Карева. Отряхивая с лица накусанную траву, Карев подошел и снял фуражку.
— Ты поп? — бросил он ему, сверкая глазами.
— Нет, — ответил Карев, — я мельник.
— Когда пришел? — замахал он раздробленной палкой по траве.
— Давеча.
— Дурак.
Красные губы подернулись пьяникой, а подбородок задергал скулами.
— Разве есть давеча? Когда никогда — нонче.
— Дурак, — крикнул он, злобно вытаскивая затиснутую палку, и, сунув ее меж ног, поскакал на гору.
— Отгадай загадку, — гаркнул он, взбираясь на верхушку. — За белой березой живет тарарай.
— Эх, мужик-то какой был! — сказал, проезжая верхом, старик. — Рехнулся, сердечный, с думы, бают, запутался. Вот и орет про нонче. Дотошный был. Все пытал, как земля устроена...
«Это, грил, враки, что Бог на небе живет».
Попортился. А може, и Бог отнял разум: не лезь, дескать, куды не годится тебе.
Озорной, кормилец, народ стал. Книжки стал читать, а уже эти книжки — сохе пожар. Мы, бывало-ча, за меру картошки к дьячку ходили аз-буки узнать, а болей не моги.
Ин, можа, и к лучшему, только про Бога и шамкать не надо.
Желтой шалью махали облака, и тихо-тихо таял, замирая, чей-то напевающий голос:
С Горки шли купаться на бочаг женихи, и, разводя ливенку на елецкую игру, гармонист и попутники кружились, выплясывая казачка.
Кто-то, махая мотней, нес, сгорбившись, просмоленный бредень и, спотыкаясь, звенел ведром.
На скошенной луговине, у маленького высыхающего озера, кружились с карканьем вороны и плакали цыбицы.
Карев взял палку и побежал, пугая ворон, к озерку. На дне желтела глина, и в осоке, сбившись в кучу, копошились жирные, с утиными носами, щуки.
«Ух, сколько!» — ужахнулся он про себя и стал раздеваться.
Разувшись, он снял подштанники, а концы завязал узлом.
Подошел к траве и, хватая рыбу, стал кидать в них.
Щуки бились, и надутые половинки означались, как обрубленные ноги.
— Вот и уха, — крякнул он, — да тут, кажется, лини катаются еще.
Не спалось в эту ночь Кареву.
«Неужели я не вернусь?» — удивлялся он на себя, а какой-то голос так и пошептывал: «Вернись, там ждут, а ты обманул их». — Перед ним встала кроткая и слабая перед жизнью Анна.
«Нет, — подумал он, — не вернусь. Не надо подчиняться чужой воле и ради других калечить себя. Делать жисть надо, — кружилось в его голове, — так делать, как делаешь слеги к колымаге».
Перед ним встал с горькой улыбкой Аксютка. «Так я хвастал...» — кольнула его предсмертная исповедь.
Ему вспоминался намеднишний вечер, как дед Иен переносил с своего костра плахи к ихнему огню, костер завился сильней и обгоревшие полена дольше, как он заметил, держали огонь и тепло.
Из соседней копны послышался кашель и сдавленный испугом голос.
— Горим, — крикнул, почесываясь, парень, — пожар!
Карев обернулся на шалаш, и в глаза ударило пламя с поселка Чухлинки.
Бешено поднялся гвалт. Оставшиеся мужики погнали лошадей на село.
— Эй, э-эй! — прокатилось. — Вставай тушить!
К шалашу подъехал верхом Ваньчок. — Филипп! — гаркнул он над дверью. — Ай уехали?
— Кистинтин здесь. — Прошамкал, зевая, дед Иен. — Что горит-то?
— Попы горят, — кинул Ваньчок. — Разве не мекаешь по кулижке?
— Ано словно и так, да слеп я, родной, стал, плохо уж верю глазам.
— Ты что, разве с пожара? — спросил Карев, приподнимая, здороваясь, картуз.
— Там был, из леса опять черт носил, целый пятерик срубили в покос-то.
— Кто же?
— Да, бают, помещик возил с работниками, ходили обыскивать. А разве сыщешь... он сам семь волков съел. Проведет и выведет... На сколько душ косите-то, — перебил разговор он, — на семь или на шесть?
— На семь с половиной, — ответил Карев. — Да тут, кажется, Белоборку наша выть купила.
— Ого, — протянул Ваньчок, — попаритесь; Липка-то, чай, все за ребятами хлыщет, — потянул он, разглаживая бороду.
— Не вижу, — засмеялся Карев. — Плясать вот — все время пляшет.
— Играет, — кивнул Ваньчок. — Как кобыла молодая.
Пахло рассветом, клубилась морока, и заря дула огненным ветерком.
— Чайничек бы догадался поставить, — обернулся он, слезая с лошади.
— Ано на зорьке как смачно выйдет: чай-то, что мак, запахнет.
Филипп положил в грядки сенца и тронулся в Чухлинку. Нужно было закупить муки и пшена.
Он ехал не по дороге, а выкошенной равниной.
Труском подъехал к перевозу и стал в очередь.
Мужики, столпившись около коровьих загонов на корточках, разговаривали о чем-то и курили.
Вдруг от реки пронзительно каркнул захлебывающийся голос: «Помогите!»
Мужики опрометью кинулись бегом к мосту и на середке реки увидели две барахтающиеся головы.
Кружилась корова и на шее ее прилипший одной рукой человек.
— Спасайте, — крикнул кто-то, — чего ж глазеть-то будем! — Но, как нарочно, в подводе ни одной не было лодки.
Перевозчик спокойно отливал лейкой воду и чадил, вытираясь розовым рукавом, трубкой.
Филипп скинул с себя одежу и телешом бросился на мост.
Он подумал, что они постряли на канате, и потряс им.
Но заметить было нельзя; их головы уже тыкались в воду.
Легким взмахом рук он пересек бурлившую по крутояру струю и подплыл к утопающим; мужик бледно-мертвенно откидывал голову, и губы его ловили воздух.
Он осторожно подплыл к нему и поднял, поддерживая правой рукой за живот, а левой замахал, плоско откидывая ладонь, чтобы удержаться на воде.
Корова поднялась и, фыркнув ноздрями, поплыла обратно к селу.
Шум заставил обернуться перевозчика, и он, бросив лейку, побежал к челну.
Филипп чуял, как под ложечкой у него словно скреблась мышь и шевелила усиками.
Он задыхался, быстрина сносила его, кружа, все дальше и дальше под исток.
Тихий гуд от воды оглушился криками, и выскочившая на берег корова задрала хвост, вскачь бросилась бежать на гору.
Невод потащили, и суматошно все тыкались посмотреть... Тут ли?
Белое тело Филиппа скользнуло по крылу невода и слабо закачалось.
— Батюшки, — крикнул перевозчик, — мертвые!
Как подстреленного сыча, Филиппа вытащили с косоруким на дно лодки и понеслись к берегу.
На берегу, засучив подолы, хныкали бабы и, заламывая руки, тянулись к подплывающей лодке.
В лодке, на беспорядочно собранном неводе, лежали два утопленника.
С горы кто-то бежал, размахивая скатертью, и, все время спотыкаясь, летел кубарем.
— Откачивай, откачивай! — кричали бабы и, разделившись на две кучи, взяв утопленников за руки и ноги, высоко ими размахивали.
Какой-то мужик колотил Филиппа колом по пятке и норовил скопырнуть ее.
— Что ты, родимец те сломай, уродуешь его, — подбежала какая-то баба. — Дакось я те стану ковырять морду-то!
— Уйди, сука, — замахнулся мужик кулаком. — Сам знаю, что делаю.
Он поднял палку еще выше и ударил с силой по ляжкам.
Из носа Филиппа хлынула кровь.
— Жив, жив! — замахали сильней еще бабы и стали бить кругом ладошами.
— Что, стерва, — обернулся мужик на подстревшую к нему бабу, — каб не палка-то, и живому не быть! Измусолить тебя надыть.
— А за что?
— Не лезь куда не следует.
Филипп вдруг встал и, кашлянув, стал отплевываться.
— Рубахи? — обернулся он к мужику.
— Там они, не привозили еще.
Жена перевозчика выбежала с бутылкой вина и куском жареной телятины.
— Пей, — поднесла она, наливая кружку Филиппу. — Уходился, ин лучше станет.
Филипп дрожащими руками прислонил кружку к губам и стал тянуть.
Бабы, ободренные тем, что одного откачали, начали тоже колотить косорукого палкой.
Филипп телешом стал, покачиваясь, в сторонку и попросил мужика закурить.
Мимо, болезно взглядывая, проходили девки и бабы.
— Прикрой свои хундры-мундры-то, — подошла к нему сгорбившаяся старушонка и подала свою шаль.
Его трясло, и солнцепек, обжигая спину, лихорадил, но выпитая водка прокаливала застывшую кровь, горячила.
С подтянутого парома выбегли приехавшие с той стороны, и плечистый парень подал ему рубахи.
С шумом в голове стал натягивать на себя подштанники и никак не мог попасть ногой.
— Ничего, ничего, — говорил, поддерживая его, мужик, — к вечеру все пройдет.
Народ радостно заволновался: косорукий вдруг откинул голову и стал с кровью и водой блевать.
Глава пятая
— Ой, и дорога, братец мой, кремень, а не путь! — говорил, хлебая чай, Ваньчок.
— Болтай зря-то, — вылез из шалаша дед Иен.
— Сичас только Ляля приехал.
— Кочки, сказывает, да прохлябы. Это ты, видно, с вина катался так.
— Эй, заспорили! — гаркнул с дороги мужик. — Не слыхали, что Филька-то утонул.
— Мели, — буркнул дед.
— Пра.
Мужик сел, ковыляя, на плаху и стал завертывать папироску.
— Не верите, псы... Вот и уговори вас. А ведь на самом деле тонул.
И начал рассказывать по порядку, как было.
— И ничего, — заметил он. — Я пошел, а он на пожаре там тушит вовсю. Косорукий, баил аптешник, полежит малость.
— Полежит, это рай! — протянул дел Иен. — А то б навечно отправился лежать-то. Со мной такой случай тоже был. В Питере, знычит, на барках ходили мы. Всю жисть помню и каждый час вздрагиваю. Шутка ли дело, достаться черту воду возить. Тогда проклянешь отца и матерю.
— А вправду это черт возит воду на них? — прошептал подползший малец.
— Вправду? Знамо ненароком.
— Мне так говорил покойный товарищ... водоливом были вместе, — что коли тонет человек, то, знычит, прямо норовит за горло схватить, если обманывает.
— Кто это? — переспросил малец.
— Кто?.. Про кого говорить нельзя на ночь.
Дед поднял шапку и обернулся к зареву.
— А прогорело, — сказал он, зевая.
— А как же обманывает-то? — спросил Ваньчок. — Ведь, небось, не сразу узнаешь.
— Эва, — протянул дед Иен. — Разве тут помнишь чего!
Ехали мы этось в темь, когда в Питере были; на барке нас было человек десять, а водоливов-то — я да Андрюха Сова. Качаю я лейку и не вижу, куды делся Сова. Быдто тут, думаю. А он вышел наверх да с лоцманом там нализался, как сапожник. Гляжу я так. Вдруг сверху как бултыхнет что-то. Оглянулся — нет Совы. Пойду, спрошу, мол, не упало ли что нужное. Только поднялся, вижу — лоцман мой руками воду разгребает. «Ты что делаешь?» — спрашиваю его. «Дело, грить, делаю: Сова сичас утопился». Я туды, я сюды, как на грех, нигде багра не сыщу. Кричу, махаю: кидайте якорь, мол, человек утоп. Смекнули накладники, живо якорь спустили, стали мы шарить, стали нырять, де-то, де-то и напали на него у затона.
Опосля он нам и начал рассказывать. Так у меня по телу муравьи бегали, когда я слушал.
«Упал, — говорит, — я как будто с неба на землю; гляжу: сады, все сады. Ходят в этих садах боярышни чернобровые, душегрейками машут. Куды ни гляну, одна красивей другой. Провалиться тебе, думаю, вот где лафа-то на баб». А распутный был, — добавил дед Иен, кутаясь в поддевку. — Бывало, всех кухарок перещупает за все такие места... ахальник.
«Эх! — говорит. — Взыграло мое сердечушко, словно подожгли его. Гляжу, как нарочно, идет ко мне одна, да такая красивая, да такая пригожая, на земле, видно, такой и не было. Идет, как павочка, каблуками сафьяновыми выстукивает, кокошником покачивает, серьгами позвякивает и рукавом алы губки свои от меня заслоняет. Подошла и тихо молвит на ушко, как колокольчик синенький звенит: «Напейся, Иван-царевич, тебя жажда берет». Как назвала она меня Иван-царевичем, сердце мое закатилось. «Что ж, говорю, Василиса моя премудрая, я попью, да только из рук твоих». Только было прислонился губами, только было обнял колени лебяжьи, меня и вытащили»... Вот она как обманывает-то. Опосля сказывал ему поп на селе: «Служи, грить, молебен, такой-сякой, это царица небесная спасла тебя. Как бы хлебнул, так и окадычился».
— Тпру, — гаркнул, слезая с телеги, Филипп и запутал на колесо вожжи.
— Вот он, — обернулись они. — На помине легок.
— Здорово, братец, — крикнул, подбегая, Карев.
— З-з-дорово, — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. — От-от-отвяжи п-поди воз-жу-у...
— Ну, крепок ты, — поднялся дед Иен. — Вишь, как не было сроду ничего.
Филипп, приседая на колени, улыбался и старался обнять его, но руки его ловили воздух.
— Ты ложись лучше, — уговаривал дед Иен. — Угорел, чай, сердешный, ведь. Это не шутка ведь.
Дед Иен отвел его в шалаш и, постелив постель, накрыл, перекрестив, веретьем.
Филипп поднимался и старался схватить его за ноги.
— Голубчик, — кричал он, — за что ты меня любишь-то, ведь я тебя бил! Бил! — произнес он с восхлипываньем. — Из чужого добра бил... лесу жалко стало...
— Будя, будя, — ползал дед Иен. — Это дело прошлое, а разве не помнишь, как ты меня выручил, когда я девку замуж отдавал. Вся свадьба на твои деньги сыгралась.
Кадила росяная прохлада. Ночь шла под уклон.
От пожара нагоревшее облако поджигало небо.
Карев распряг лошадь и повесил дугу на шалаш. Оброть звякала и шуршала на соломе.
— За что он бил-то тебя? — переспросил около дверки деда Иена.
— За лес. Пустое все это... прошлое напоминать-то, пожалуй, и грех, и обидно. Перестраивал я летось осенью двор, да тесин-то оказалась нехватка. Запряг я кобылу и ночью поехал на яр, воровать, знычит.
Ночь темная... ветер... валежник по еланке так и хрипит орясинами. Не почует, гадал я, Филипп, срублю две-три сосны, и не услышит при ветре-то. Свернул лошадь в кусты, привязал ее за березу и пошел с топором выглядывать. Выбрал я четыре сосны здоровых-прездоровых. — Срублю, думаю, а потом уж ввалю как-нибудь. — Только я стал рубить, хвать он меня за плечо и давай валтузить. Я в кусты, он за мной, я к лошади, и он туды; сел на дроги и не слезает. — Все равно пропадать, жалко ведь лошадь-то, узнает общество, и поминай как звали. «Филипп, — говорю, затулившись в мох, — пусти ради Бога меня». — Услышит это он мой голос — и шасть искать. А я прикутаю голову мохом, растянусь пластом и не дышу. Раза два по мне проходил, инда кости хрустели.
Потом, слышу, гарчет он мне: «Выходи, сукин сын, не то лошадь погоню старосте».
Вышел я да бух ему в ноги, не стал бить ведь боле. Потращал только. А потом, чудак, сам стал со мной рубить. Полон воз наклали. Насилу привез.
«Прости, — говорил мне еще, — горяч я очень». Да я и не взыскивал. За правду.
В частый хворостник, в половодье, забежали две косули. Они приютились у кореньев старого вяза и, обгрызывая кору, смотрели на небо.
Как из сита моросил дождь, и дул порывистый с луговых полян ветер.
В размашистой пляске ветвей они осмотрели кругом свое место и убедились, что оно надежно. Это был остров затерявшегося рукава реки. Туда редко кто заглядывал, и умные звери смекнули, что человеческая нога здесь еще не привыкла крушить коряги можжевеля.
Но как-то дед Иен пошел драть лыки орешника и переплыл через рукав рек на этот остров.
Косули услышали плеск воды и сквозь оконца курчавых веток увидели нагое тело. На минуту они застыли, потом вдруг затопали по твердой земле копытцами, и перекатная дробь рассыпалась по воде.
Дед Иен вслушался, ему почудилось, что здесь уже дерут лыки, и он, осторожно крадучись по тине, вышел на бугорок; перед ним, пятясь назад, вынырнула косуля, а за кустом, доставая ветку с листовыми удилами, стояла другая.
Он повернул обратно и ползком потянулся, как леший, к воде.
Косуля видела, как бородатый человек скрылся за бугром, и затаенно толкнула свою подругу; та подняла востро уши и, потянув воздух, мотнула головой и свесилась за белевшим мохрасто цветком.
Дед Иен вышел на берег и, подхватив рубашки, побежал за кусты; на ходу у него выпал лапоть, но он, не поднимая его, помчал в стоянке.
Филипп издали увидел бегущего деда и сразу почуял запах дичи.
Он окликнул согнувшегося над косой Карева и вытащил из шалаша два ружья.
— Скорей, скорей, — шепотом зашамкал дед Иен, — косули на острове. Бегим скорей.
У таганов ходила в упряжи лошадь Ваньчка, а на телеге спал с похмелья Ваньчок.
Они быстро уселись и погнали к острову; вдогонь им засвистали мужики, и кто-то бросил принесенное под щавель решето.
Решето стукнулось о колесо и, с прыгом взвиваясь, покатилось обратно.
— Шути, — ухмыльнулся дед, надевая рубаху, — как смажем этих двух, и рты разинете.
— Куда? — поднялся заспанный Ваньчок.
— За дровами, — хихикнул Филипп. — На острове, кажут, целые груды пятериков лежат. — Но Ваньчок последних слов не слышал, он ткнулся опять в сено и засопел носом.
— И к чему человек живет, — бранился дед, — каждый день пьяный и пьяный.
— Это он оттого, что любит, — шутливо обернулся Карев. — Ты разве не слыхал, что сватает Лимпиаду.
— Лимпиаду, — членораздельно произнес дед. — Сперва нос утри, а то он у него в коровьем дерьме. Разве такому медведю эту кралю надо? Вот тебе это еще под стать.
Карев покраснел и, замявшись, стал заступаться за Ваньчка.
Но в душе его гладила, лаская, мысль деда, и он хватал ее, как клад скрытый.
— Брось, — сказал дед, — я ведь знаю его, он человек лесной, мы все медведи, не он один. Ты, вишь, говоришь, всю Росею обходил, а мы дальше Питера ничего не видали, да и то нас таких раз-два и обчелся.
Подвязав ружья к голове, Карев и Филипп, чтобы не замочить их, тихо отплыли, отпихиваясь ногами от берега.
Плыть было тяжело, ружья сворачивали головы набок, и бечевки резали щеки.
Филипп опустил правую ногу около куги и почувствовал землю.
— Бреди, — показал он знаком и вышел, горбатясь, на траву.
— Ты с того бока бугра, а я с этого, — шептал он ему, — так пригоже, по-моему.
Косули, мягко взбрыкивая, лизали друг друга в спины и оттягивали ноги.
Вдруг они обернулись и, столкнувшись головами, замерли.
Тихо взвенивала трава, шелыхались кусты, и на яру одиноко грустила кукушка.
— Ваньчок, Ваньчок, — будил дед, таская его за волосы. — Встань, Ваньчок!
Ваньчок потянулся и закачал головою.
— Ох, Иен, трещит башка здорово.
— Ты глянь-кась, — повернул его дед, указывая на мокрую, с полосой крови на лбу, косулю. — Другую сейчас принесут. А ты все спишь...
Ваньчок слез с телеги и стал почесываться.
— Славная, — полез он в карман за табаком. — Словно сметаной кормленная.
С полдня Филипп взял грабли и пошел на падины.
— Ты со мной едем, — крикнул он Ваньчку. — Навивать копна станешь.
— Ладно, — ответил Ваньчок, заправляя за голенище портянку.
Лимпиада с работницами бегала по долям и сгребала сухое сено.
— Шевелись, шевелись! — гаркала ей Просинья. — Полно оглядываться-то. Авось не подерутся.
С тяжелым возом Карев подъехал к стогу и, подворачивая воз так, чтобы он упал, быстро растягивал с него веревку.
После воза метчик обдергивал граблями осыпь и, усевшись с краю, болтал в воздухе ногами.
Скрипели шкворни, и ухали подтянутые усталью голоса.
К вечеру стога были огорожены пряслом и приятно манили на отдых.
Мужики стали в линию и, падая на колени, замолились на видневшуюся на горе чухлинскую церковь.
— Шабаш, — крякнули все в один раз, — теперь, как Бог приведет, до будущего года.
Роса туманом гладила землю, пахло мятой, ромашкой, и около озера дымилась покинутая с пеплом пожня.
В бору чуть слышно ухало эхо и шомонил притулившийся в траве ручей.
Карев сел на пенек и, заряжая ружье, стал оглядываться на осыпанную иглами стежку.
Отстраняя наразмах кусты, в розовом полушалке и белом сарафане с расшитой рубахой, подобрав подол зарукавника, вышла Лимпиада.
На каштановых распущенных космах бисером сверкала роса, а в глазах плескалось пролитое солнце.
— Ждешь?
— Жду! — тихо ответил Карев и, приподнявшись, облокотился на ствол ружья.
«Фюи, фюи», — стучала крошечным носиком по коре березы иволга...
Шла по мягкой мшанине и полушалком глаза закрывала.
«Где была, где шаталась?» — спросит Филипп, думала она и, краснея от своих дум, бежала, бежала...
«Дошла, дошла, — стучало сердце. — Где была, отчего побледнела? Аль молоком умывалась?»
На крыльце, ловя зубами хвост, кружился Чукан. Филипп, склонясь над телегой, подмазывал дегтем оси.
— Ты бы, Липка, грибов зажарила, — крикнул он, не глядя на нее, — эво сколища я на окне рассыпал, люли малина!
Лимпиада вошла в избу и надела черный фартук; руки ее дрожали, голова кружилась словно с браги.
Тоненькими ломтиками стала разрезать желтоватые масленки и клала на сковороду.
Карев скинул ружье и повесил на гвоздь, сердце его билось и щемило. Он грустно смахивал с волос насыпь игл и все еще чувствовал, как горели его губы.
К окну подошел Ваньчок и стукнул кнутовищем в раму.
— Тут Лимпиада-то? — кисло поморщился он. — Я заезжал; их никого не было.
— Нет, — глухо ответил Карев. — Она была у меня, но уж давеча и ушла.
— Ты что ж стоишь там, наружи-то? Входи сюда.
— Чего входить, — ответил Ваньчок. — Дела много: пастух мой двух ярок потерял.
— Найдутся.
— Какой найдутся, хоть бы шкуру-то поднять, рукавицы и то годится заштопать.
— Ишь какой скупой! — засмеялся, глухо покачиваясь всем телом.
— Будешь скупой... почти три сотни в лето ухлопал. Все выпить и выпить. Сегодня зарок дал. На год. Побожился — ни капли не возьму в рот.
— Ладно, ладно, посмотрим.
— Так я, знычит, поеду, когда ушла. Нужно поговорить кой о чем.
Когда Ваньчок подъехал, Филипп, сердито смерив его глазами, вдруг просиял.
— Да ты трезвый никак! — удивился он.
Ваньчок кинул на холку поводья и, вытаскивая кошель, рассыпал краснобокую клюкву.
— Не вызрела еще, — нагнулась Лимпиада, — зря напушил только. Целую поставню загубил.
— Мало ли ее у нас, — кинул с усмешкой Филипп, — о крошке жалеть при целом пироге нечего.
— Ну, как же? — мигнул Ваньчок в сторону Лимпиады.
Филипп закачал головой, и он понял, что дело не клеится. По щекам его пробежал нитками румянец и погас...
Лимпиада подняла недопряденную кудель и вышла в клеть.
— Не говорил еще, — зашептал Филипп, — не в себе что-то она. Погоди, как-нибудь похлопочу.
— А ты мотри за ней, кабы того... мельник-то ведь прощалыга. Живо закрутит.
Филипп обернулся к окну и отворил.
— Идет, — толкнул он заговорившегося Ваньчка.
Лимпиада внесла прялку и поставила около скамейки мотальник.
— Распутывай, Ваньчок, — сказала, улыбаясь, она. — Буду ткать, холстину посулю.
— Только не обманывать, — сел на корточки он. — Уж ты так давно мне даешь.
— Мы тогда сами отрежем, — засмеялся Филипп. — Коли поязано, так давай подавай.
Лимпиада вспомнила, что говорили с Каревым, и ей сделалось страшно при мысли о побеге.
Всю жизнь она дальше яра не шла. Знала любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывала и умела находить всегда во всем старом свежее.
И любовь к Кареву в ней расшевелил яр. Когда она увидела его впервые, она сразу почуяла, что этот человек пришел, чтобы покинуть ее, — так ей ее сердце сказало. Она сперва прочла в глазах его что-то близкое себе и далекое.
Не могла она идти с ним потому, что сердце ее запуталось в кустах дремных черемух. Она могла всю жизнь, как ей казалось, лежать в траве, смотреть в небо и слушать обжигающие любовные слова Карева; идти с ним, она думала, это значит растерять все и расплескать, что она затаила в себе с колыбели.
Ей больно было потерять Карева, но еще больней было уходить с ним.
Ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника с вихрем, убивают его насмерть...
— Стой, стой! — крикнул Ваньчок. — Эк ты, сиверга лесная, оборвала нитку-то. Сучи теперь ее.
Лимпиада остановила веретеном гребешки и стала ссучивать нитку.
— Ты долго меня будешь мучить? — закричал Филипп. — Видишь, кошка опять лакает молоко.
— Брысь, проклятая! — подбежал Ваньчок и поднял махотку к губам. — А славно, как настоящая сметана.
— И нам-то какой рай, — засмеялся Филипп. — Вытянул кошкин спив-то, а мы теперь без всякой гребости попьем.
— Ладно, — протер омоченные усы. — Ведь и по муке тоже мыши бегают, а ведь все едят и не кугукнут. Было бы, мол, что кусакать.
В отворенное окно влетел голубь и стал клевать разбросанные крохи.
Кошка приготовила прыжок и, с шумом повалив мотальник, прижала его когтями.
— Ай, ай, — зашумел Филипп и подбежал к столу, но кошка, сверкнув глазами, с сердитым мяуканьем схватила голубя за горло и выпрыгнула в окно.
Лимпиада откинула прялку и в отворенную дверь побежала за нею.
— Чукан, — крикнула она собаку. — Вчизи, Чукан!
Собака погналась по кулижке вдогонь за кошкой напересек, но она ловко повернула назад и прыгнула на сосну.
Позади с Филиппом бежал Ваньчок и свистом оглушал тишину бора.
— Вон, вон она! — указывая на сосну, приплясывала Лимпиада. — Скорей, скорей лезьте!
Ваньчок ухватился за сук и начал карабкаться.
Кошка злобно забиралась еще выше и, положив голубя на ветвистый сук, начала пронзительно мяукать.
— А, проклятая! — говорил он, цепляясь за сук. — Заскулила. Погоди, мы те напарим. — Он уцепился уже за тот сук, на котором лежал голубь, вдруг кошка подпрыгнула и, метясь в его голову, упала наземь.
Чукан бросился на нее и с визгом отскочил обратно.
— Брысь, проклятая, брысь! — кинул в нее камень Филипп и притопнул ногами.
Кошка, свернув крючком хвост, прыгнула в чащу и затерялась в траве.
— Вот, проклятая-то, — приговаривал, слезая, Ваньчок, — прямо в голову норовила.
Лимпиада взяла голубя и, положив на ладони, стала дуть в его окровавленный клюв.
Голубь лежал, подломив шейку, и был мертв.
— Заела, проклятая, заела, — проговорила она жалобно. — Не ходи она лучше теперь домой и не показывайся на мои глаза.
— Да, кошки бывают злые, — сказал Филипп. — Мне рассказывал Иенка, как один раз он ехал на мельницу. «Еду, — говорит, — гляжу, кошка с котом на дороге. Я кнутом и хлыстнул кота, повернулся мой кот, бежит за мной — не отстает. Приехал на мельницу — и он тут; пошел к сторожу — и он за мной. Лег на печь и лежит, а глаза так и пышут.
Спугался я, подсасывает сердце, подсасывает. Я и откройся сторожу — так, мол, и так. «Берегись, — грить, — человече; постелю я тебе на лавке постель, а как стану тушить огонь, так ты тут же падай под лавку».
Когда стали ложиться — то я прыг да под лавку скорей. Вдруг с печи кот как взовьется и прямо в подушку, так когти-то и заскрипели.
«Вылезай, — кличет сторож. — Наволоку за это с тебя да косушку». Глянул я, а кот с прищемленным языком распустил хвост и лежит околетый».
Вечером Лимпиада накинула коротайку и вышла на дорогу.
— Куда? — крикнул Филипп.
— До яру, — тихо ответила она и побежала в кусты.
Она шла к той липе, где обещала встретиться с Каревым; щеки ее горели, и вся она горела как в лихорадке, сарафан цеплялся за кусты, и брошками садились на концы подола репьи.
«Что я скажу? — думала она. — Что скажу? Сама же я сказала ему, куды хошь веди».
Коротайка расстегивалась и цеплялась за сучья. Коса трепалась, но она ничего не слышала, а все шла и шла.
— Пришла? — с затаенным дыханием спросил он.
— Пришла, — тихо ответила она и бросилась к нему на грудь.
Он гладил ее волосы и засматривал в голубые глаза.
— Ну, говори, моя зазуленька, — прислонился губами к ее лбу. — Я тебя буду слушать, как ласточку.
— Ох, Костя, — запрокинула она голову, — люблю, люблю я тебя, но не могу уйти с тобой. Будь что будет, я дождусь самого страшного, но не пойду.
— Что ж, — грустно поник Карев, — и я с тобой буду ждать.
Она обвилась вкруг его колен и, опустившись на траву, зарыдала.
Часть третья
Глава первая
Тяжба с помещиком затянулась, и на суде крестьянам отказали.
— Подкупил, — говорили они, сидя по завалинкам, — как есть подкупил. Мыслимо ли — за правду в глаза наплевали! Как Бог свят, подкупил.
Ходили, оторвав от помела палку, огулом мерить. Шумели, спорили и глубокую-глубокую затаили обиду.
На беду появился падеж на скотину.
— Сибирка, — говорили бабы. — Все коровы передохнут.
Стадо пригнали с луга домой; от ящура снадобьем аптешника коровам мазали языки и горла.
Молчаливая боль застудила звенящим льдом на сердцах всех крестьян раны.
Пошли к попу, просили с молебном кругом села пройти. Поп, дай не дай, четвертную ломит.
— Ты, батюшка, крест с нас сымаешь, — кричали мужики. — Мы будем жаловаться ирхирею.
— Хоть к митрополиту ступайте, — ругался поп. — Задаром я вам слоняться не буду.
Шли с открытыми головами к церковному старосте и просили от церкви ключи. Сами порешили с пеньем и хоругвями обойти село.
Староста вышел на крыльцо и, позвякивая ключами, заорал на все горло:
— Я вам дам такие ключи, сволочи!.. Думаете — вас много, так с вами и сладу нет... Нет, голубчики, мы вас в дугу согнем!
— Ладно, ребята, — с кроткой покорностью сказал дед Иен, — мы и без них обойдемся.
Жила на краю села стогодовалая Параня, ходила, опираясь на костыль, и волочила расшибленную параличом ногу, и видела, знала она порядки дедов своих, знала — обидели кровно крестьян, но молчала и сказать не могла, немая была старуха. Знала она, где находилась копия с бумаг.
Лежала тайна в груди ее, колотила стенки дряблого закоченевшего тела, но, не находя себе выхода, замирала.
Проиграли мужики на суде Пасик, забилась старуха головой о стенку и с пеной у рта отдала Богу душу.
Разговорившись после похорон Парани о старине, некоторые вспомнили, что при падеже на скотину нужно опахивать село.
Вечером на сходе об опахиванье сказали во всеуслышанье и не велели выходить на улицу и заглядывать в окна.
При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший — колдун, который и наслал болезнь на скотину.
Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть.
В полночь старостина жена позвала дочь и собрала одиннадцать девок.
Девки вытащили у кого-то с погреба соху, и дочь старосты запрягла с хомутом свою мать в соху.
С пением и заговором все разделись наголо, и только жена старосты была укутана и увязана мешками.
Глаза ее были закрыты, и, очерчивая на перекрестке круг, каждый раз ее спрашивали:
— Видишь?
— Нет, — глухо она отвечала.
После обхода с сохой на селе болезнь приутихла и все понемногу угомонились.
Но однажды утром в село прибежал с проломленной головой какой-то мужик и рассказал, что его избил помещик.
— Только хотел орешину сорвать, — говорил он, — как подокрался и цапнул железной тростью.
Мужики, сбежавшись, заволновались.
— Кровь, подлец, нашу пьет! — кричали они, выдергивая колья.
На кулижку выбежал дед Иен и стал звать мужиков на расправу.
— Житья нет! — кричал он. — Так теперь и терпеть все!..
Собравшись ватагой с кольями, побежали на Пасик. Брань и ругань царапали притихший овраг Пасика.
Помещик злобно схватил пистолет и побежал навстречу мужикам.
— Моя собственность! — грозил он кулаком. — Права не имеете входить; и судом признано — моя!..
— Бей его! — крикнул дел Иен. — Ишь, мошенник, как клоп нажрался нашего сока! Пали, ребята, его!
Он поднял булыжник и, размахнувшись, бросил в висок ему.
Взмахнул руками и, как подкошенный, упал в овраг.
— Бегим, бегим! — шумели мужики. — Кабы не увидали!
По лесу зашлепал бег, и косматые ели замахали верхушками.
На дне оврага, в осыпанной глине, лежал с мертвенными совиными глазами их ястреб. Руки крыльями раскинулись по траве, а голова была облеплена кровавой грязью.
Филипп взял посох и пошел на Чухлинку погуторить со старостой. Он выкатился на бугор и стал спускаться к леску.
Вдруг до него допрянул рассыпающийся топот и сдавленные голоса.
«Лес воруют», — подумал он и побежал, что силы, вдогон.
Топот смолк, и голоса проглотил шелест отточенных хвой.
Он побежал дальше и удивился, что ни порубки, ни людей не видно.
— Зря спугались, — пробасил неожиданно кто-то за его спиной. — Выходи, ребята, свой человек.
Из кустов вышли с кольями мужики, и сзади, с разорванным рукавом рубахи, плелся дед Иен.
— Молчи, не гуторь! — подошли все, окружив его. — Помещика укокошили. В овраге лежит.
Филипп пожал плечами, и по спине его закололи булавки.
— Как же теперь? — глухо открыл он губы и затеребил пальцами бороду.
— Так теперь, — отозвался худощавый старик, похожий на Ивана Богослова. — Не гуторить, и все... Станут приставать — видом не видали.
— Следы тогда надо скрыть, — заговорил Филипп. — Вместе итить не гоже. Кто-нибудь идите по Мельниковой дороге, с Афонина перекрестка, а кто — стежками, и своим показываться нельзя. Выдадут жены работников.
— Знамо, лучше разбресться, — зашушукали голоса. — Теперь, небось, спохватились.
По дороге вдруг раздался конский топот. Все бросились в кусты и застыли.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
К помещику по Чухлинке прокатил на тройке пристав, после тяжбы с крестьянами он как-то скоро завязал дружбу с полицией и приглашал то исправника, то пристава в гости.
Конюх стоял у ограды и, приподняв голову, видел, как к имению, клубя пыль, скакали лошади.
Он поспешно скинул запорку, отворил ворота, снял, заранее приготовившись, шапку и стал ждать.
Когда пристав подъехал, он поклонился ему до земли, но тот, как бы не замечая, отвернулся в сторону.
— Где барин? — спросил он выбежавшую кухарку, расстилавшую ему ковер.
— В Пасике, ваше благородие, — ответила она. — Послать или сами пойдете?
— Сам схожу.
— Борис Петрович! — крикнул он, выпятив живот и погромыхивая саблей.
По оврагу прокатилось эхо, но ответа не последовало.
В глаза ему бросилась ветка желтых крупных орехов, он протянул руку и, очистив от листьев, громко прищелкивая языком, клал на зуб.
— Борис Петрович! — крикнул он опять и стал спускаться в овраг.
Глаза его застыли, а поседелые волосы поднялись ершом.
В овраге на осыпанной глине лежал Борис Петрович.
Он кубарем скатился вниз и стал осматривать, поворачивая, труп.
Рядом валялся со взведенным курком пистолет.
— Горячий еще! — крикнул вслух. — Мужики проклятые, не кто иной, как мужичье!
— Проехали, — свистнул чуть слышно Филипп, толкая соседа. — Трое, кажись, проскакали.
Впереди всех без куртуза пристав.
— Теперь, ребята, беги кто куды знает, поодиночке. Не то схватят, помилуй Бог.
Выскочив на дорогу, шмыгая по кустам, стали добираться до села.
Филипп проводил их глазами и пошел обратно к дому.
У окна на скамейке рядом с Лимпиадой он увидел Карева и, поманув пальцем, подошел к нему.
— Беда, Костя! — сказал он. — Могила живая.
— Что такое?
— Помещика убили.
Карев затрясся, и на лбу его крупными каплями выступил пот.
— Пристав поехал.
— Пристав, — протянул Карев и бросился бежать на Чухлинку.
Лимпиада почуяла, как упало ее сердце; она соскочила со скамьи и бросилась за ним вдогон.
— Куда, куда ты? — замахал переломленным посохом Филипп и, приставив к глазам от солнечного блеска руку, стал всматриваться на догонявшую Карева Лимпиаду.
— Вот сумасшедшие-то! — ворчал он, сердито громыхая щеколдой. — Видно, нарваться хотят.
Пристав, запалив лошадь, прискакал с работниками прямо под окно старосты.
— Живо сход, живо! — закричал он. — Ах вы, оглоеды, проклятые убийцы, разбойники!
Десятские бегом пустились стучать под окна.
— А... пришли! — кричал он на собравшуюся сходку. — Пришли, живодеры ползучие!.. Живо сознавайтесь, кто убил барина? В Сибирь вас всех сгоню, в остроге сгною сукиных детей! Сознавайтесь!
Мужики растерянно моргали глазами и не знали, что сказать.
— А... не сознаетесь, нехристи! — скрипел он зубами. — Пасик у вас отняли... Пиши протокол на всех! — крикнул он уряднику. — Завтра же пришлю казаков... Я вам покажу! — тряс он кулаком в воздухе.
Из кучки вылез дед Иен и, вынув табакерку, сунул щепоть в ноздрю.
— Понюхай, моя родная, — произнес он вслух. — Может, боле не придется.
— Ты чего так шумишь, — подошел он, пристально глядя на пристава. — У тебя еще матерно молоко на губах не обсохло ругаться по матушке-то. Ты чередом говори с неповинными людьми, а не собачься. Ишь ты тоже, какой липоед!
— Тебе что надо? — гаркнул на него урядник.
— Ничего мне не надо, — усмехнулся дед. — Я говорю, что я убил его и никого со мной не было.
Глава вторая
— Не тоскуй, касаточка, — говорил Епишка Анне. — Все перемелется в муку. Пускай гуторят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожалиться.
— Ох, Епишка, хорошо только речи сыпать. Ты один, зато водку пьешь. Водка-то, она все заглушает.
— Пей и ты.
— Пью, Епишка, дурман курю... Довела меня жизнь, домыкала.
В зыбке ворочался, мусоля красные кулачонки, первенец.
— Ишь какой! — провел корюзлым пальцем по губам его Епишка. — Глаза так по-Степкину и мечут.
Анна вынула его на руки и стала перевивать.
— Что пучишь губки-то? — махал головой Епишка. — Есть хочешь, сосунчик? Сейчас тебе соску нажую.
Взял со стола черствый крендель и стал разжевывать. Зубы его скрипели, выплюнул в тряпочку, завязал узелок и поднес к тоненьким зацветающим губам.
— У-ю-ю, пестун какой вострый! Гляди, как схватил. Да ты не соси, дурень, палец-то дяди, он ведь грязный. В канаве седня дядя ночевал.
Анна кротко улыбалась и жала в ладонь высунувшиеся ножки.
— Ничего, подлец, не понимаешь, — возился на коленях Епишка. — Хоть и смотришь на меня... ты ведь еще чередом не знаешь, хочется тебе есть али нет. А уж я-то знаю... Горе у матери молоко твое пролило... Ох, ты, сосунчик мой... Так, так, раба Божия Аннушка, — встал он. — Все мы люди, все человеки, а сердце-то у кого свиное, а у кого собачье.
Нету в нас, как говорится, ни добра, ни совести; правда-то, сказано, в землю зарыта... У него, у младенца-то, сердца совсем нету... Вот когда вырастет большой, Бог ему и даст по заслугам... Ведь я говорю не с проста ума. Жисть меня научила, а судьбина моя подсказала.
Анна грустно смотрела на Епишку и смахивала выкатившиеся слезы.
— Он-то ведь, бедный, несмысленный... Ничего не знает, ни в чем не виноват.
— Аннушка бедна, Аннушка горька, — приговаривал Епишка, — сидеть тебе над царем над мертвым тридцать три года... Нескоро твой ворон воды принесет... Помнишь?
Старая, плечи вогнуты, костылем упирается, все вдаль глядит. Коротайка шубейная да платок от савана завязаны. В Киев идет мощам поклониться.
В красной косыночке просфора иерусалимская... У гроба Господня склонялась.
Солнце печет, пыль щекочет, а она, знай, идет и ни на минуту не задумается, не пожалеет. У куста села, сумочку развязывает... сухарики гложет с огурчиком.
— Зубов нет, — шамкает побирушке, — деснами кусаю, кровью жую...
— Телом своим причащаешься, — говорит побирушка. — Так ин лучше Богу заслужишь... — Ходят морщины желтые, в ушах хруптит, заглушает.
— Берегешь копеечку-то? — спрашивает искоса побирушка.
— Берегу — всю жисть пряла, теперь по угодникам разношу. Трудовая-то жертва дорога.
По верхушкам сосен ветерок шуршит.
— Соснуть бы не мешало, — крестится побирушка.
Приминая траву, коротайку под голову положила. Мягка она, постель травяная, кости обсосанные всякому покою рады. О Киеве думает, ризы божеские бластятся.
«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных...», — голос дьякона соборного в ушах звенит...
«О-ох, грешная я», — думает.
«Фюи, фюи», — гарчет плаксиво иволга. Тени облачные веки связывают.
По меже храп свистит, побирушка на сучье привалилась.
Тихо кусты качаются... Тень Господня над бором ползает.
— Господи, — шепчут выцветшие губы, — помилуй меня, грешную.
«Ни сумы, ни сапог, ни поясов кожаных», — гудит в ушах.
— Тетенька, — будит прикурнувшую побирушку, — встань, тетенька.
— А-ат, — поднимается нищенка.
— Бедная ты, бездомная, возьми вот сумочку-то. Деньги тут.
— Ни сумы, ни сапог, в писании сказано... — плачет. Упокоилось сердце. Комочком легла. Глаза поволоклись морокой.
«Фюи, фюи», — гарчет плаксиво иволга.
— Идем, — подвязывает лапти побирушка, — провожу... До Маркова доберемся, а там заночуешь.
В осиннике шаги аукают.
— Это, я думаю, ты не от сердца дала мне... Лишние они у тебя.
Глядит вдаль, а в глазах замерла безответность.
— Что молчишь-то? — дергает ее за руку.
— Ни сумы, ни сапог, тетенька, камни с души своей скинаю.
— То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. Нахапите с чужой крови-то, а потом раздаете.
— Ишь, и глаза, как озеро, пышут... Знаем мы вас, знаем!..
— Лазарь, ты мой Лазарь, — срывается кроткий шепот.
— Ничего у Бога нет непутевого, — ударяет клюкой по траве. — Все для человека припас Он... От всего оградил. Человек только жадничает. Вишь, мушки мокреть всю спили с травы. Прошли бы, оброснились.
— Чай, с снохами-то неладно жила? — пытливо глядит ей в глаза побирушка.
— Нет, родная, никого не обижала.
— Врешь, поди.
— Я к мощам иду, — тихо шепчет. — Что мне душу грязнить свою, непутевое говоришь. Не гневи Бога, не введи во искушение, — поют на клиросе.
— То-то, вот вы такие и искушаете, — сердито машет палкой. — Святоши, а деньги кроете.
— О-ох... Устала... — спускается на траву. — Прогневаю Бога ропотом. Прости ты меня, окаянную.
Побирушка, зажав палку, прыгнула, как кошка. — У-у-у, — защелкала зубами.
Зычный хряст заглушил шелест трав. Кусты задрожали.
— Отдай деньги, проклятущая...
«Фюи, фюи», — гарчет иволга.
Глаза подернулись дымкой. К горлу подползло сдавленное дыханье, под стиснутыми руками как будто скреблась мышь.
Старый Анисим прилежным покаяньем расположил к себе игумена монастырского.
— Как ты, добрый человек, надоумил мир-то покинуть? Ведь старая кровь-то на подъем, ох, как слаба.
— Так, святой отец, — говорил Анисим. — Остался один, что ж, думаю, зря лежать на печи, лучше грехи замаливать.
Сын, вишь, у меня утонул. Старуха не стерпела, странствовать ушла. Дома молодайка есть, пусть, как хочет, живет. Сказывают, будто она несчастная была, и сын-то, может, погинул с неудачи... А мне дела до этого нет, такая она все-таки добрая, слова грубого не сказала, не обидчица была.
Похоронил Степан мать, сходил к Анисиму, получил с него деньги и дома остался жить. Оставила мать припадочного братишку; зорко заставила следить.
— Нет тебе счастья и талана, — сказала она. — Ползай, как червь по земле, если бросишь его.
Побоялся Степан остаться с Анной, а жениться на ней, гадал, — будут люди пенять.
«Что, мол, девок тебе, что ль, не хватает, бабу-то берешь».
Поехал он как-то в Коростово к тетке на праздник да остался заночевать. На улице девчата под окнами слонялись, парни в ливенку канавушки пиликали.
— Поди, — сказала ему тетка, — тебя девки-то зманывают.
Степан надел поддевку, заломил набекрень шапку, пошел к девкам.
Девки с визгом рассыпались и скрылись.
— Кто? — окрикнули его парни.
— Свой.
— Нет, не свой, — заговорил кто-то. — По ухватке видно — не свой... У нас, брат, так девок не щупают. Больно хлесток...
— Невесту, что ль, взглядываешь? — спросил гармонист.
— Невесту, — тихо ответил Степан.
— Так ты, брат, видно, сам знаешь... у нас положение водится... четверть водки поставь.
— Ладно, — сказал Степан, — поставлю, только не четверть, а три бутылки... Денег не хватает...
— Не хватает, не надо, — кивнул гармонист. — Мы не такие уж глоты, — завозился на каблуках.
Степан отдал деньги ребятам и пошел к девкам.
Девки сидели на оглоблях пожарной бочки и, опершись на багор, играли песни.
Степан приглядывался, какая покрасивее, и, сильно затягивая папиросу, светил.
В середках одна все закрывалась рукавом, и он смекнул, что он ей нравится.
Зашел сзади и, потягивая к себе на колени, свалил.
Девка смеялась и, обхватив его за грудь, старалась повалить.
Закружив, начал целовать ее в щеки и отвел в сторону.
— Пусти ты, — отпихивалась она. — У, какой безотвязный... пусти!..
— Не пущу, — прижимался к ней Степан. — Хоть кричи, не пущу.
Прижал ее к плетню и силился расстегнуть коротайку.
— Ты, тетенька, меньше ста рублей не бери, — говорил он утром о приданом. — Ведь я не бобыль: две лошади, три коровы да овец сколько...
— Да чья она? — спрашивала тетка. — Куда идти-то мне?
— Черноглазая такая. Кудри на лоб выбиваются.
— А, ну теперь знаю, ишь, какую метишь, — она ведь писарева...
— Отдадут — сама говорила.
— То-то...
Она надела новую шубейку, покрыла белую тужильную по покойному мужу косынку и пошла свахой.
— Ты что, Марьяна, — спросила писариха и поманула ее ладонью.
— Посвататься, касатка, пришла, за племянника. Может, знавала Степку-то, без порток все у волости бегал махоньким.
— А, — протянула писариха. — Что ж, разве он не женат еще?
— Нет.
— Мы было хотели ведь погодить, с приданым никак не собрались.
— Да мы и немного берем-то.
— Сколько?
— Да как тебе сказать, не меней сотни.
— Ладно, — кинула в заслон мочалку, — сговорено.
— А он-то, — указала она на спящего на лавке писаря, — как же?..
Писариха подняла ногу и плюнула на каблук.
— В пятках он у меня, я с ним и разговаривать не стану.
Марьяна поклонилась и, подвязавшись, пошла обратно.
Глава третья
Откулева-то выползло на востоке черное пятнышко и, закружившись, начало свертываться в большой моток.
По яру дохнувший ветерок трепыхнул листочки кленов, и вдогон зашептал вихорь.
Шнырявшая в сединах осины синица соскользнула с ветки и, расплескав крылышки, упала в синь.
Карев сидел у плеса и слушал, как шумели вербы.
Волосы его трепались, и в них впутывалась мягкая сыпучая мшанина.
Он чувствовал на щеках своих брызги с плеса, и водяное кружево кидало в него оборванные клочья.
Сердце его кружилось с вихрем, думал, как легко бы и привольно слиться с грозою и унестись далеко-далеко, так далеко, чтобы потерять себя.
Яр зашумел, закачался, и застонала земля.
Протягивая к ветру руки навстречу, побежал, как ворон, к сторожке.
«Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». Упал на траву. «Что ты не видел там, у околицы, чего ждешь? — шептал ему какой-то тайный голос. — В ожиданьях только погибель; или силы у тебя не хватает подняться и унестись отсюда, как вихорь?»
«Нет, все не то, — подумал он. — Это на бред похоже. Надо связать себя, заставить или сильней натянуть нить с початка кудели, или уж оборвать».
Яр шумел...
Черная навись брызнула дождем, и капли застучали, как дробь, по широким листьям лопушника.
Карев встал и, открыв рот, стал ловить дождь губами.
С бородки его, как веретено, сучилась холодноватая струйка, шел босиком по грязи, махал сапогами и осыпал с зеленых пахучих кустов бисер.
В прорванных тучах качалось солнце, и по дороге голубели лужи.
С околицы выбежала Лимпиада и зазвенела серебряным смехом.
Она была мокрая, и с косы ее капала роса.
— Дождь фартуком собирала, — сказала она и, приподнявшись на цыпочки, подставила ему алые губы.
Карев повесил перед солнцем на колья сапоги и стал отряхать с мокрых штанов грязь.
— Иди, замою... Филиппа нет, — обняла его за плечи. — Тес пилит.
Обмыл ноги и, сжав горсть, плеснул на нее. По щекам ее с черными мушками грязи покатилась вода, она подбежала к луже, хотела брызнуть ногой, но, поскользнувшись, упала.
Поднял и со смехом понес на крыльцо.
Лимпиада стирала рукавом рубахи грязь и, закрасневшись, качала ногами.
— Костя, — пристиснула она его голову, — милый, не уходи. Как хорошо-то!
Навстречу, повиливая хвостом, выбежал с веселым лаем Чукан и, оскаливая зубы, ловил мотавшийся на ноге Лимпиады башмак.
К вечеру в сторожку вернулся Филипп и стал рассказывать, как били деда Иена в холодной.
— В остроге сидит, сердешный, — говорил он. — Скоро, наверно, погонят.
— Жалко, — вздыхала Лимпиада, — хороший мужик был.
Прояснившееся небо опять заволоклось тучами, и сверкавшая молния клевала космы сосен.
Филипп чиркнул спичку и, подлезая под божницу, засветил лампадку.
В дверь кто-то заскребся; Лимпиада отворила и увидела кошку.
— Милая, — нежно протянула руки, — где ты пропадала? Я давно уж не сержусь на тебя.
Посадила на колени, стала гладить.
Облезлые волосы спадали на сарафан и белели, как нитки.
Кошка пучила глаза и, мурлыча, сама гладилась об ее руки.
— Ты убил... — покосился с пеной у рта пристав, — ты убил...
— Я, — отозвался дед Иен. — Говорю, что я.
— Связать его! — крикнул он мужикам. — Да с понятыми в холодную отправить.
Дед Иен сам протянул руки и заложил их назад.
— Вяжи покрепче, Петро, — сказал он мужику, — а то левая рука выскочит.
— Ладно, — мотнул головой Петро, — ты больно-то не горячись, мы ведь для близиру.
Спотыкаясь, пошел вперед, и на губах его застыла светлая улыбка.
Пристав толкнул его на крыльцо «холодной» и ударил по голове тростью.
По щеке зазмеилась полоска крови.
— Эй, — крикнул грозно Петро, — ты что делаешь! — и, схватив замахнувшуюся трость, сломал о худощавое колено пополам.
— Ты не хрундучи! — затопал пристав. — Я тебя, сукин сын, в остроге сгною!
— Видал?.. — показал ему кулак Петро. — Мы такую шваль-то видывали.
— Молчать, — крикнул, покраснев, как вареный рак, и ударил его по щеке.
Петро размахнулся, и кулак его попал прямо в глаз приставу.
Покачнулся и упал с крыльца в грязь. Над бровью вскочила набухшая шишка, и заплывший глаз сверкнул, как кровяное пятно.
— Ой, караул! — закричал он и, поднявшись на корточки, побежал к Пасику.
— Ну, дед, сиди, — сказал Петро, — а я теперь скроюсь, а то, пожалуй, найдут, по обличию узнают.
— Прощай, Петро, — обернулся дед, подавая развязать руки. — Мне теперь, видно, капут — дух вон и лапти кверху.
— Прощай, дед. Спасибо тебе за все доброе, век не забуду, как ты выручил меня в Питере.
— Помнишь?
— Не забуду.
Обнявшись, с кроткой печалью сняли шапки и расстались.
— Жалко, — ворчал Петро, — таких и людей немного остается.
Дед Иен велел сторожу открыть дверцу «холодной» и, присев на скамейку, стал перевертывать онучи.
— Бабка-то теперича у кого твоя останется? — болезно гуторил сторож.
— Э, родной, об этом тужить неча, общество знает свое дело. Не помрет с голоду.
— Так-то так, а как постареет, кто ходить за ней станет?
— Найдутся добрые люди, касатик. Не все ведь такие хамлеты.
Говор смолк. Слышно было, как скреблась за переборкой мышь. В запаутинившееся окно билась бабочка.
Наутро к селу с гудом рожков подъехали стражники. В руках их были плети и свистки.
Впереди ехал исправник и забинтованный пристав. Подъехали к окну старосты, собрали народ и стали читать протокол.
«Мы обязываем крестьян села Чухлинки выдать нам провожатого при аресте крестьянина Иена Иеновича Кавелина, — громко и раздельно произнес исправник. — В противном случае общество понесет наказание за укрывательство».
— На вас креста нет, — зашумели мужики. — Неужели мы будем смотреть, кого кто-либо из вас посылает с каким поручением. Гляди на нас, — обернулись все лицами к приставу, — узнавай, кого посылал вчера.
— Мошенники, — кричал пристав, — мы вас на поселение сошлем!
— Куды хошь ссылай, нам все одно. Кому Сибирь, а нам мать родная.
Деда Иена привели на допрос под конвоем.
— Так ты заявляешь, Кавелин, что совершил убийство без посторонних?
— Да.
— В какую пору дня вы его убили?
— В полдень.
— Имеешь ли оправдания, при каких обстоятельствах совершилось убийство?
— Все имеем, — закричали мужики.
— Молчать! — застучал кулаком исправник.
— Вам известно, — сказал дед Иен, — болей я говорить не стану.
— Тридцать горячих ему! — закричал пристав и, вынув зеркало, поглядел на распухшую, с кровоподтеками губу.
Два стражника повалили его на землю и, расстегнув портки, навалились на ноги и плечи.
Взмахнула плеть, и по старому, желтому телу вырезалась кровяная полоса.
— Кровопийцы! — кричали мужики, налезая на стражников и выламывая колья.
— Прошу не буянить, — обратился исправник. — Староста, вы должны подчинить их порядку. Остановите.
— Братцы, — крикнул староста, — все равно ничего не поделаешь. Угомонитесь на минутку.
— Ишь, какой братец заявился, — крикнул кто-то. — Сказали ему, а он и рад стараться.
Деда Иена подняли и развязали руки. Дрожа и путаясь руками, он стал застегивать портки.
— Прощайте, братцы, — кричал он, снимая шапку, — больше не свидимся.
— Прощай, — как стон, протянули мужики и с поникшими головами смотрели, как два стражника, посадив его на телегу, повезли в город.
Карев, прощаясь, сунул в руку деду пачку денег.
— Возьми обратно, — крикнул стражник. — Не полагается. Опосля суда...
Лимпиада стояла на колымаге и, закрывшись руками, вздрагивала от рыданий.
— Поедем, — сказал он ей, когда стражники скрылись за селом.
— Едем, — сказала она и, дернув вожжи, поворотила лошадь на проулки.
День заутренне гудел, и с бора несся неугомонный шум.
— Ну и изверги! — говорил Карев. — В глазах хватают за горло, кровь сосать.
По дороге летели звенящие паутинки и пряжей обвивали космы верб.
— Н-но, родная, — потрагивал Карев вожжами. — Тут, чай, за спуском недалече.
— Ну, как же ты думаешь? — спросил, обернувшись, заглядывая Лимпиаде в глаза. — Ведь ждать, кроме плохого, ничего не дождешься.
Лимпиада молчала, и ей как-то сделалось холодно от этого вопроса. Она сжалась комочком и привалилась к головням.
— Какое бесцветное небо, — сказала она после долгого молчания. — Опять гроза будет.
Глава четвертая
Карев решил уйти. Загадал выплеснуть всосавшийся в его жилы яровой дурман.
В душе его подымался ветер и кружил, взбудораживая думы.
Жаль ему было мельницы старой.
Но какая-то грусть тянула его хоть поискать, не оставил ли он чего нужного, что могло пригодиться ему в дороге.
«Сходи, взгляни и, не показываясь, уходи обратно. Так надо, так надо».
После этого, на другой день, Лимпиада заметила на лбу его складку, которой никогда не видела.
— Милый, ты о чем-нибудь думаешь? — спросила она. — Перестань думать. Ты видишь, я тебя люблю, ничего не требую от тебя, останься только здесь, послушай хоть раз меня, ты уйдешь, я сама скажу, когда почую, что тебе уходить надо.
— Любая моя белочка, — говорил, лаская ее, Карев. — Ты словно плотвичка из тесного озера синего, которая видит с мелью ручей на истоке и, боясь погибели, из того не хочет через него выплеснуться в многоводную речку. Послушай ты меня хоть раз, выпутай свои космы из веток сосен, отрежь их, если крепко они запутались. Я ведь и без кудрей твоих красивых буду любить тебя, оденься ты странницей, возьми из своего закадычного друга яра посох и иди. Ты можешь ведь весь этот яр унести с собою. Ты не бойся, что что-нибудь забудешь, — сердце ничего не теряет.
— Яр аукает, отвечает эхом, но никогда не принимает, что говорят ему. Он отдает слова обратно, — сказала Лимпиада. — Если бы я была водяницей, я бы заманула тебя в омут и мертвого стала бы ласкать. Но я, лесная русалка, полюбила тебя живого, тут и я несчастлива, и ты.
— Эй вы, голуби! — крикнул Филипп. — Полно вам ворковать, помогли бы мне побросать на сушило сено, я бы вам спасибо сказал и чаем напоил.
— Дешево же ты, воробей, платишь, — засмеялся Карев и, подпоясав кушак, надел пахнущие кирпичом желтые рукавицы.
Анна спеленала своего первенца свивальником, надела на бессильную головку расшитую калпушку и пошла к бабке на зорю.
Не спал мальчик, по ночам все плакал и таял, как свечка.
Вошла в низенькую, с короткими сенцами хату и, став около порога, помолилась Богу.
— Здорово, бабушка.
— Поди здорово, касатка. Чего скажешь?
— Не спит он. Заговорить пришла, просто никак за ним не уходишь.
— Погоди, погоди, родимая, сейчас бросим камешки, жив ли он будет...
Боялась, что последняя радость покинет ее.
Бабка налила в полоник воды и бросила туда из жаровни засопевшие угли.
— С глазу, с глазу дурного, касатка, мучается младенчик. Люди злые осудили.
Достала из сумочки, пришитой к крестовому гайтану, три камешка и, посупив их, кинула в воду.
— Помрет, — сказала. — Не жилец на белом свету.
Анна побледнела и ухватилась за сердце.
— Бабушка, обмани хоть меня, — рыдая, судорожно забилась. — Не отнимай надежду мою.
— Погоди, касатка, сейчас на зорю сходим, может, ему и полегчает.
Вышли на крыльцо. Багрянец пенился в сини и красил кровью облака.
Бабка взяла ребенка и, повернув лицом на закат, стала заговаривать:
«Заря-зоряница, красная девица. Перва заря вечорошная, вторая полуношная, третья утрошная. Вынь, Господи, бессонницу у Алексея-младенца. Спаси его, Господи, от лихова часу, от дурнова глазу, от ночнова часу. Вынь, Господи, его скорби изо всех жил, изо всех член».
«Умрет, умрет, — колола тоска Анну. — Опять одна... опять покинутая...»
— Ты не болезнуй, сердешная, может, с наговору-то и ничего не будет.
Прижала к груди, ножки его в кулачок и грела... в закрытые глаза засматривала.
— Милый, милый, малюсенький.
Шла, как ветер нес. Вдруг Епишка повстречался.
— Где была, куда Бог носил? — подошел он, заглядывая на ребенка.
— На заговор ходила.
— Ути, мой месяц серебряный, как свернулся-то... Один носик остался.
— Ты не плачь, Аннушка, — обратился он к ней, — а то и я плакать буду, ведь он мне что сын родной.
— Ох, Епишка, сердце мое не вынесет, если помрет он. Утоплюсь я тогда в любой канаве.
— Ты, голубушка, не убивайся так, может, Господь пожалеет его. Ты себя-то береги, пока жив он.
— Карев ушел, — сказал Филипп. — Он тебе, Липа, не говорил, когда вернется?
— Он, вишь, пристал к варнакам охотиться, — ответила Лимпиада. — Верно, после выручки.
— Экий расслоняй, все время бегает по ветру.
Лимпиада сидела за столом и ткала холсты.
— Я хотел с тобой поговорить, Липа, — начал Филипп. — За Карева, я чую, ты не пойдешь замуж, а оставаться в девках тебе невозможно... Ваньчок вот все просит твоего согласия, а то хоть завтра играй свадьбу...
— Что ты привязался с своим Ваньчком, разве мне еще женихов нету?
— Вот чудная такая! Ведь я знаю, что тебе советую. Ваньчок возьмет тебя, ты опять при мне останешься. Случись что со мной, если ты не выйдешь, тебя погонят ведь отсюда. А с ним... У него деньги...
— На что мне они, его деньги? — бросила Лимпиада. — Ими горло ему надо засыпать.
— Ну, как хошь, я тебя не насилую...
Филипп стал на лавочку и обмел на потолке копотные паутины. Веник осыпал березовые листья и разносил пряный пах. В окно стучался ветер.
С крыши срывалась солома и, закружившись, ныряла в чащу.
Летели листья, листья, листья и, шурша, о чем-то говорили.
— Пожар, — сказал Филипп, указывая на огненную осину. — Вот что делает холодная пора-то.
«Хорошо, — с сверкающими глазами подумала Лимпиада. — Лучше сгореть с этим бором, чем уйти от него...»
Ветер подсвистывал.
Карев ушел... Он выбрал темные ночи бабьего лета, подлинней расчесал свою бороду и надел ушастую шапку.
Сердце его билось, когда он подходил к своему селу; под окнами сидели девки и играли с ребятами в жгуты.
Боялся, оглядывался и нерешительными шагами стал подходить к дому. Подкрался к вербе и стал всматриваться; горел огонь.
Из окна выглянула соседка.
— Епишка, — окрикнула она его, — поди, почитай письмецо.
Пристыл, но, спохватившись, быстро замахал на конец села.
Было тихо, и лишь изредка лаяли собаки. С реки подымался туман и застилал землю.
Сел околь гумна и глядел на жевавшую желтую траву лошадь.
«Дзинь-дзинь», — позвякивала она, прыгая, железным путом и, подняв голову, гривой махала.
— Коняш, коняш, — захрипел за плетнем старческий голос, и зашлепала оброть.
Как будто обжог почуял и бросился, зарывшись с головой, на солому.
Старик тпрукал лошадь и, кряхтя, отчаливал путо.
Стук копыт стал таять, и звенящая тишина изредка нарушалась петушьим криком.
Свежо, здорово, стелился туман.
Когда Анна вернулась, мальчику сделалось еще хуже. Она байкала его, качала, прижимая к груди, но он метался и опускал свислую головку.
Подстелив подушечку, положила на лавку и заботливо прислоняла к головке руку.
Что-то пугало ее, что-то грозило, и она вся трепетала при мысли, что останется одна.
Мальчик качнул головкой, дернул, вздрагивая ножками, и пустил пенистую слюну.
— Ах, — вскрикнула она и ухватилась за сердце.
Ноги ее сползли, и вся она грохнулась на пол.
Подбежал котенок и, покачивая бессильные пальцы, начал играть.
Через минуту она встала и уставилась в одну точку.
Понемногу она успокаивалась, но по крови ее желчью разливалась горечь и будила какую-то страшную решимость.
Она случайно повернулась к окну и вся похолодела. У окна, прилепившись к стеклу, на нее смотрело мертвое лицо Кости и, махнув туманом, растаяло.
— Зовет, — крикнула она, — умереть зовет, — и выбежала наружу.
Рассвет кидал клочья мороки, луга курились в дыму, и волны плясали.
В камышах краснел мокрый сарафан, и на берегу затона, постряв на отцветшем татарнике, трепался на ветру платок.
Черная дорога, как две тесьмы, протянулась, резко выдолбив колеи, и вилась змеей на гору.
С горы, гремя бадьей и бочкой, спускался водовоз.
Глава пятая
Сказал старый Анисим игумену:
— Пусти меня домой, ради Бога, ноет вот тут, — указывал он на грудь. — Так и чую, что случилось неладное...
— Иди, Бог с тобой, — благословил его игумен. — Святые отцы и те ворачивались заглянуть на своих родных.
Накинул Анисим подрясник, заломил свою смятую скуфью и поплелся, сгорбившись, зеленями шелковыми.
Идет, костылем упирается, в небо глядит, о рае поет, а у самого сердце так и подсасывает... что-то там дома творится?
Проезжие смотрят — всем кланяется и вслед глядит ласково-ласково.
На тройке барин какой-то едет, поровнялся, спрашивать стал:
— Разве ты меня знаешь — кланяешься-то?
— Нет, не знаю, и не тебе кланяюсь — лику твоему ангельскому поклон отдаю.
Улыбнулся барин, теплая улыбка сердце согрела. Может быть, черствое оно было сердце, а тут растопилось от солнца, запахло добром, как цветами.
— Прощай, старичок, помолись за меня угодникам да вот тебе трешница, вынимай каждый день просфору за раба Божьего Сергея.
«Не весна, а весной пахнет. Свете тихий, вечерний свет моей родины, приими наши святые славы», — шепчет он.
И опущенные белые усы ясно вырезают разрез посинелых губ.
— Здорово, дедушка, — встретили его у околицы ребятишки. — Анны-то нету дома... утопилась намедни она, как парень ее помер; заколочен дом-то ваш.
Вдруг почувствовал, ноги подкашиваются, и опустился.
— Устал, дедушка, посиди, мы тебе табуретку принесем.
— Спасибо, родные, спасибо, немного осталось, хоть на корточках доползу.
Встал и, еще более сгорбившись, поплелся мимо окон; ребятишки растерянными глазами провожали. Прохожие останавливались.
— Ой, Анисим, Анисим, не узнаешь тебя, — встретила у ворот соседка. — Поди, закуси малость, небось ведь замытарился, болезный.
Слезу утирает, на закат молится.
— Как тебя Бог донес такую непуть? Ведь холод, чичер, а ты шел.
Ничего Анисим не ответил, застыл от печали глубокой.
С пьяной песней в избу взошел Епишка.
— «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» Мое почтенье, челом бью, дедушка Анисим, прости, что пою песню, я ведь теперь все на панихидный лад перевожу...
— Присаживайся, — подставила хозяйка скамью. — Гостем будешь, вместе горе поделим, мы все ведь какие-то бесталанные.
— Про то и пою, тетень, эх-а!.. «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» Не могу, ей-Богу, не могу... Слезы катятся, а умирать не хочется. Ведь могила-то, когда хошь, приют даст, жить бы надо, да что-то, как жестянка, ломается жизнь моя, и не моя одна.
— Ты, дедушка, меня в монахи возьми, можа, я там хоть пить перестану. Ведь там нет вина, стены да церковь.
— Убежишь, — засмеялась старуха. — Не лезь уж, куды не надо. Так живи.
— Не хочу я так-то жить, мочи моей не хватает, с тоски помру.
Епишка был пришляк на село, он пришел как-то сюда вставлять рамы и застрял здесь. Десять лет уж минуло.
Где-то в дальней губернии у него осталась жена, которая пустила его на заработки.
Каждый год Епишка собирался набрать денег и отослать жене на перестройку хаты, но деньги незаметно переходили к шинкарке Лексашке, и хата все откладывалась.
Каждое Рождество он писал домой, что живет слава Богу, что скоро пришлет денег и заживет, как пан.
Но опять выпадал какой-нибудь невеселый для него день, и опять домой писалось коротенькое письмо с одним и тем же содержанием.
Жена его знала эту слабость, она писала ему, чтоб он вернулся, что дом давно перестроен, но он никогда не читал дальше поклонов. Не хотел, а может быть, и наперед чуял, что пишут.
— Возьми меня, дедушка, ради Бога возьми, там ведь жалованье платят, может, скоплю сколько-нибудь, домой пошлю.
Анисим молчал и грустно покачивал головою.
— Ты сегодня, Епишка, пьян, завтра ты по-другому скажешь. Ты лучше, вот что я тебе посоветую, выписывай сюда жену да живи на моей усадьбе. Дом-то мой ведь первый на селе. Я подпишу тебе все, ничего не оставлю. А коли помру, если хватит доброй совести, поставь мне крест на могилу.
— Родной ты мой, — упал Епишка на колени. — Спаситель, как мне тебя благодарить?
— Встань, Епишка, — сказал Анисим. — Пустое все это, ведь мне все равно ничего не надо. Ты закусывай лучше сейчас, ведь небось после Анны тебя никто не накормил.
— Нет, — всхлипнул Епишка, — разве я пойду просить... Стыдно... Была Анна, так она все понимала... Царство ей небесное, хорошая баба была.
Хозяйка начала рассказывать, как вытащили Анну из воды.
— Отец ты мой родной, — приговаривала, пришлепывая губами. — Как положили два гроба-то рядом, инда сердце кровью обливалось.
— Ты посмотри, — указал Епишка на разрубленный палец. — Гроб делал... Как вспомню, что делаю для Анны, топор из рук валится, и рубанок не стругает, отцапал ведь до самой кости.
Анисим решил пождать жену Епишкину. «Пропьет еще все, — думал он. — Баба-то лучше удержит».
Через неделю им пришел ответ, что жена Епишки три года тому назад померла, а оставшаяся вдовой дочь продала все пожитки и едет.
— «Как же так? — думал Епишка. — Неужели я три года не писал?..»
Он как-то состарился, съежился и жалел, что Анисим подписал ему свое имущество.
«Охо-хо! — думал он. — Уехал, девке-то десять годов было, уж вдова стала. Вот она какая жисть-то, самому сорок годов стукнуло, а я все думал — тридцать».
«Как же она замуж вышла? — спрашивал себя. — И откуда набрали денег, когда присылу не было?.. Впрочем, что же, баба была здоровая, за семерых работать могла...»
Через два дня Епишка встретил на телеге молодую бабу и с слезами бросился целовать ее.
Старый Анисим сам не одну смахнул слезу. Жалко ему было Епишку... Мыканец он.
«И в кого она у меня такая красивая, — думал Епишка, — ни на меня, ни на мать не похожа».
— Ты теперь брось пить-то, — говорил Анисим. — А ты, родная, поудерживай его, слаб он...
— Дедушка, ей-Богу, одну рюмочку, с радости. Ведь я сейчас словно причастился, весь мир бы обнял, да головы у него нет.
Дочь Епишки улыбалась и, налив себе рюмку, почомкалась.
— Ты ведь у меня единая, ненаглядная моя. Мы теперь тебе такого жениха сыщем, какой тебе и во сне не снился.
Погорбился старый Анисим за эту неделю, щеки ввалились, а подбородок качался, будто шептал.
Простился с Епишкой и дочерью его и пошел опять с костылем, сгорбившись еще ниже.
— Ты как-нибудь, папаша, лошадь купи, — говорила Марфа отцу, — пахать станем.
— Теперь мы с тобой заживем, Марфунька, — говорил Епишка. — Земли у нас много, хлеба много, скота семь голов рогатого, лошадей только, жаль, увели. Недоглядки.
Плетется Анисим, на солнце поглядывает, до захода в монастырь надо попасть.
По дорожке воронье каркает, гуси в межах на отлет собираются.
Пришел в келью, к игумену, пыльный с дороги, постучался.
— Благослови, отче... Вернулся. Теперь не пойду.
— Ну что, не обмануло тебя сердце твое?
— Нет, отче, сноха утонула. Господь меня надоумил сходить... Господь.
— Ты отдохни поди, вишь, как выглядишь плохо. А что ж старуха-то твоя, не вернулась?
— Нима, отче; видно, к угодникам в подножие улеглась. Сильная духом была, знал я, что ей не вернуться.
В келью пришел свою, на столе просфора зачерствелая, невынутая.
Кусает зубами качающимися, молитву хлебу насущному читает.
И опять все, как было: на стене скуфья на гвоздике, у окошка на подставочке цветы доморощенные не поливаны.
На мешочном тюфяке в дырки солома выбилась, в коричневых выструганных сучьях клопы гнездятся.
— Слава Тебе, Христе Боже наш, Слава Тебе.
Около рукомойника рушничок висит, покойная сноха вышивала.
— Всех похоронил, теперь самому на покой пора. Ой, как тяжело хоронить!
Захолодало. По селу потянулись с капустой обозы.
Хорошо молиться в осень темной ночи за чью-нибудь непутевую душу.
Обронили вербы четки зеленые, краснотой подернулись листья — удила шелковые.
Вечер. Голоса на дороге про темную ноченьку поют.
Прощай, ты, пора нудная, томящая. Вылила ты из пота нашего колосья зернистые, кровью нашей напоила ягоды свои.
Марфа принялась за хозяйство. Сперва ей казалось все как-то по-чудному. Ночью она не могла дверь найти спросонья, вместо порога к загнетке печной забиралась.
Стало подсасывать что-то опять Епишку, не сиделось ему дома, горько было на чужое добро смотреть. Чужое несчастье на счастье пошло.
Ходил в лес, осин с кореньями натаскал, а потом у окошка стал рассаживать.
— Марфунька, — кричал он, запихивая в землю скрябку, — воды неси поливать.
Люди засматривали, головой покачивали.
— Что это с Епишкой-то сталось: дочь привез, вино бросил пить и в церковь ходит.
В монастырь бегал причащаться, всю дорогу без отдышки бежал.
— Так ин, — говорит, — лучше Бог простит все... да и думы грешные в голову не полезут.
Старый Анисим просфорочку ему дал, советовал лучше кобылку купить, чем мерина.
— Ты кобылу-то купишь — через три года две лошади, ой-ой, каких будешь иметь!
Послухался Епишка старого Анисима, пришел домой и сказал Марфе, что хочет кобылу купить.
В базарный день повели продавать двух коров и выручили три сотни.
— Теперь ты, папаша, в город иди, там-то, чай, лучше купишь.
Снарядила Марфа отца в дорогу, зашила деньги в подштанники и проводила.
Приковылял Епишка в город, в трактирчик зашел отогреться. Люди винцо попивают, речи деловые гуторят. Подсела к Епишке девка какая-то, наянная такая, целоваться лезет.
— Жисть свою пропиваю, — кричит Епишка. — Хорошая ты моя, жалко мне тебя, пей больше, заливай свою тоску, не с добра, чай, гулять пошла.
Когда на другое утро Епишка полез в кошелек купить калачика, там валялась закрытая бумажкой единая заплесневелая старинная копейка.
Ждала Марфа отца и ждать отказалась, уж замуж успела выйти, мужа к себе приняла, а он как в воду канул.
Через два года, в такое же время, она получила письмо от него:
«Добрая доченька, посылаю тебе свое родительское благословение, которое может существовать по гроб твоей жизни и навеки нерушимо.
Дорогая Марфинька, об деньгах прошу тебя не сумлеваться, скоро приеду домой. Кобыла тут у меня на примете есть хорошая, о двух сосунков. Как только вернуся, заживем опять с тобой на славу».
Карев запер хату и пошел в другой раз к сторожке. Лимпиада просила оставить на память вырезанную им солоницу.
Филипп окапывал завалинку и возил на тачке с подгорья загрубелую землю.
— Отослал Иенке денег ай нет? — спросил он, не оборачиваясь, поправляя солому.
— Отослал... сам возил, прощаться ездил.
— То-то долго-то.
— Да.
— Ну, входи, — сказал Филипп, — Ваньчок приехал, чай пьют, дожидаются.
Ваньчок сидел в углу с примасленными, расчесанными на ряд волосами и жевал пышку.
Когда Карев ступил на порог, он недовольно поглядел на него и, приподняв руками блюдечко, чуть-чуть кивнул головой.
— Принес? — спросила Лимпиада и с затаенной болью, нагнувшись, стала рассматривать рисунки.
На крышке было вырезано заходящее солнце и волны реки.
Незатейливый рисунок очень много говорил Лимпиаде, и, положив солонку на окно, она задумалась.
Карев подвинул стакан к чайнику и налил чаю.
— Ну, ты что ж молчишь? — обратился он к Ваньчку. — Рассказывай что-нибудь.
— Чего рассказывать-то? — протянул Ваньчок. — Все пересказано давно.
— Ну, — засмеялся Карев, — это ты, наверно, не в духе сегодня. Ты бы послухал, как ты под «баночкой» говоришь, ты себя смехом кропишь и других заражаешь.
— Лучше Фильке пойду подсоблю, — сказал он, надевая картуз и затягивая шарф.
Когда Ваньчок вышел, Карев поднял на Лимпиаду глаза.
— Идешь? — спросил глухо он. — Я ухожу послезавтра. Пойдем. Жалеть нечего.
Лимпиада свесила голову и тихо, безжизненно прошептала:
— Иди, я не пойду.
— Прощай, больше, я думаю, говорить тебе нечего.
Лимпиада загородила ему дорогу и повисла, схватившись за него, на руках.
— Не уходи, милый Костя, — ради всего святого, пожалей меня.
— Нет, я не могу оставаться, — сказал Карев и отдернул ее руку.
На пороге показался Филипп.
— Ты что же, совсем уходишь?
— Да, совсем, проститься зайду. Не поминайте лихом, а если сделал чего плохого, то прошу прощенья...
Когда Карев ушел, Лимпиада проводила Филиппа к Ваньчку, а сама побежала на мельницу.
Хата была заперта, и на крыльце на скамейке лежала пустая пороховница.
«Куда же ушел?» — подумала она и повернула обратно. Вечерело. Оступилась в колею и вдруг, задрожав, почувствовала, что под сердцем зашевелился ребенок.
— Ох, — вскрикнула тихо и глухо, побежала к дому, щеки горели, платок соскочил на плечи, но она бежала и ничего не замечала.
В открытых глазах застыл ужас, губы подергивались как бы от боли.
Прибежала и, запыхавшись, села у окна.
«Зачем же я бежала? Господи, откуда эта напасть? Что делать мне... что делать?..»
Думы вспыхивали пламенем и, как разбившаяся на плесе волна, замирали.
«Вытравить, избавиться», — мелькнула мысль. Она поспешно подбежала к печурке.
«Преступница», — шептал какой-то голос и колол, как шилом, в голову.
«Господи, — упала она перед иконой, — научи».
На брусе — для мора тараканов, в синей бумажке — в глаза ей бросилась спорынья.
С лихорадочной дрожью наскребла спичек и смешала с спорыньей.
Когда цедила из самовара воду, в ней была какая-то неведомая ей дотоле решимость.
Без страха поднесла к губам запенившуюся влагу и выпила.
Чашка, разбившись, зазвенела осколками, и, свалившись на пол плашмя, Лимпиада забилась, как в судороге.
Волосы, сбившись тонкими прядями, рассыпались по полу и окропились бившей клочьями с губ пеной; под окном ворковали голуби, и затихший бор шептался о чем-то зловещем.
Лицо ее было, как мел, и на нем отражалась лесная зеленая дремь.
Филипп не поехал к Ваньчку, он встретил чухлинского старосту и пошел оглядывать намеднишнюю вырубку.
Щепа пахла ладаном, на голых корнях в вырубях сверкала вода.
— Тут надо бы примерить, — сказал староста. — Сбегай-ка до дому за рулеткой.
Филипп сломил ветку калинника и побег к сторожке.
Чукан, свернувшись в кольцо у ворот, хотел схватить его за ногу.
В голову ударило мертвечиной, на полу в луже крови валялась Лимпиада и около нее разбитая чашка.
— Отравилась!.. — крикнул, как журавль перед смертью, и побежал к колодцу за холодной водой.
Поливал ей на грудь, пальцем разжимал стиснутые зубы.
Холодел.
Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему.
— Ой, не ходила бы девка до мельника, не развивала бы свою кудрявую косу, не выскакивала бы в одной сорочке по ночам, не теряла бы ты девичью честь.
Ползал, подымал осколки чашки и подносил к носу.
— Ох ты, бесталанная головушка, при тебе спорынья в поле вызрела, и на погибель ты свою ее пожинала.
Ваньчок трепал за ухо своего подпаска.
— Ты опять, негодяй, потерял ярку. Ищи, харя твоя поганая, до смерти захлыщу.
— Я, дя-аденька, ни при чем, — плакал Юшка. — Вот те Христос, не виноват...
— Я те, сволочь, покажу, как отказываться. Ишь, сопляк какой подхалимный!
Возбужденный опять неудачей, напился к вечеру пьян и поехал опять сватать Лимпиаду.
Около околицы ему послышалось, что Филипп поет песню.
Он слез с телеги и, качаясь, выгаркивал осипло «Веревочку»:
С концом песни ввалился в избу и остолбенел.
— Это он, — крикнул с брызгами пены у рта. — Это он... Он весь яр поджег, дымом задвашил...
Красные глаза увидели прислоненную к запечью берданку.
Голова закружилась безумием и хмелем.
Схватив берданку, осмотрел заряды и выбежал на дорогу.
Ветер ерошил на непокрытой голове волосы и спускал на глаза.
Хвои шумели.
Вечерело. Карев ходил набрать грибов. Заготавливал на отход.
Шел с грустной думой о Лимпиаде и незаметно подошел к дому.
В хате светился огонь, и на полу сырой картошкой играл кот.
На крыльце он увидел темную тень и подумал, что его кто-то ожидает.
Прислоненная к перилам тень взмахнула ружьем.
«Филипп, — подумал Карев, — на охоту, видно, напоследок зовет...»
Грянул выстрел, и почуял, как что-то кольнуло его и разлилось теплом.
Упал... по телу пробегла дремная слабость. Показалось еще теплее, но вдруг к горлу хлынуло как бы расплавленное олово, и, не имея силы вздохнуть, он забился, как косач.
Стихало... От дороги слышались удаляющиеся шаги. Месяц, выкатившись из-за бугра долины, залил лунью крыльцо и крышу.
— Ку-гу, ку-гу... — шомонила за мельницей сова.
‹1916›
У белой воды
Лето было тихое и ведряное, небо вместо голубого было белое, и озеро, глядевшее в небо, тоже казалось белым; только у самого берега в воде качалась тень от ветлы да от избы Корнея Бударки. Иногда ветер подымал по песку целое облако пыли, обдавал ею воду и избу Корнея, а потом, когда утихал, из песка, чернея, торчали камни на выветренном месте; но от них тени не было.
Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и смотрела то в ту ‹сторону, где,› чернея, торчали камни на выветренном ме‹сте, то› на молочное небо.
Одинокая ветла под окошком роняла пух, вода еще тише обнимала берег, и не то от водяного зноя, не то оттого, что у нее самой во всем теле как бы переливалось молоко, Палага думала о муже, думала, как хорошо они проводили время, когда оба, прижавшись друг к другу, ночевали на сеновале, какие у него синие глаза, и вообще обо всем, что волновало ей кровь.
Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага считала дни, когда Корней должен был вернуться, молила св. Магдалину, чтобы скорей наставали холода, и чувствовала, что кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше. Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осторожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, а щеки так и горят.
Палага любила Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его губы.
Перебирая прошлое, Палага так сливалась с Корнеем мысленно, что даже чувствовала его горячее дыхание, теплую влагу губ, и тело ее начинало ныть еще сильнее, а то, что так было возможно, казалось ей преступлением. Она помнила, как она клялась Корнею, что хотя раз оборвешь, то уже без узла не натянешь, и все-таки, скрывая это внутри себя, металась из стороны в сторону, как связанная, и старалась найти выход.
Опустив голову на колени, она смотрела, как за высокой горой тонуло солнце. Свечерело уже совсем, и по белой воде заскользила на песчаный островок, поросший хворостом, утлая маленькая лодочка. Мужик сидел в лодке, вылез и, изгибаясь, стал ползать по песку.
В Палаге проснулось непонятное для нее решение... Она отвязала причало от челна, руки ее дрожали, ноги подкашивались, но все-таки она отправилась на островок. Взмахнув веслами, она почти в три удара обогнула островок и, стоя на носу, заметила, что мужик на песке собирает ракуши. Она глядела на него и так же, как в первый раз, трепетала вся.
Когда мужик обернулся и, взглянув на нее своими рыбьими холодными глазами, ехидно прищурился, Палага вся похолодела, сжалась, страсть ее, как ей показалось, упала на дно лодки. «Окаянный меня смущаить!» — прошептала она. И, перекрестившись, повернула лодку обратно и, не скидавая платья с себя, бросилась у берега в воду.
Был канун Ильина дня. С сарафана капала вода, когда она вошла в избу, а губы казались синими. Мокрыми руками она достала с божницы спички, затеплила лампадку и, упав на колени, начала молиться. Но ночью, когда она легла в мокрой рубашке на кровать, тело ее снова почувствовало тепло, и снова защемило под оголенными коленями. Она встала, сбегала к реке, окунула горячую голову в воду и, чтобы забыться, начала вслушиваться, как шумит ветер. «Наваждение, — думала она, — молиться надо и пост на себя наложить!» Ветер крутил песок, вода рябилась, холодела, и, глядя на реку, Палага шептала:
«Господи, да скорея бы, скорея бы заморозки!»
Утром чуть свет она отправилась на деревню к обедне. Деревня была верстах в шести от белой воды, дорога вилась меж ржи, и идти было по заре, когда еще было легко и прохладно.
Ноги ее приустали, она сняла с себя башмаки, повесила на ленточке через плечо, нарочно норовила, сверкая белыми икрами, идти по росе, и огонь, мучивший ее тело, утихал. В церкви она молилась тоже только об одном, чтобы скорее настали холода, и, глядя на икону прикрытой рубищем Марии Египетской, просила у нее ее крепости одолеть свою похоть, но молитвенные мысли ее мешались с воспоминаниями о жгучей любви, она ловила себя на этом и, падая на колени, стукалась лбом о каменный пол до боли.
По дороге обратно идти ей казалось труднее, с томленого тела градом катился пот, рубаха прилипала к телу, а глаза мутились и ничего не видели. Она не помнила, как дошла до перекрестка объезжих дорог, и очнулась лишь тогда, когда догнавший ее попутчик окликнул и ухватил за плечо.
— Ты, эфто, бабенка, дыляко пробираисси-то... а? — спросил он, лукаво щуря на нее глаза, — а то, можа, вместе в лощинке и отдохнем малость?
Палага не слышала его слов, но стало приятно идти с ним, она весело взглянула ему в глаза и улыбнулась. Лицо его было молодое, только что покрывшееся пухом, глаза горели задором и смелостью. Можно было подумать, что он не касался ни одной бабы, но и можно было предположить, что он ни одной не давал проходу.
— Таперича я знаю — ты чья, — сказал он, пристально вглядываясь в лицо, — ты эфто, знычить, жена Корнея Бударки будешь... так оно и есть... Я тибе ище со свадьбы вашиной помню. Славная ты, как я ны тибе пыглижу. Эн лицо-то какое смазливое.
Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала:
— Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают.
Парень обидчиво приостановился и выругался:
— Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!
Палага, обернувшись, захохотала:
— А ты и вправду думаешь, што я боюсь тибе?
Сказав, она почувствовала, как груди ее защемили снова, глаза затуманились. Она забыла, зачем ходила в церковь, ночью выскакивала окунать свою голову в воду. Когда парень взял ее за руку, она не отняла руки, а еще плотней прижалась к нему и шла, запрокинув голову, как угорелая; кофточка на ней расстегнулась, платок соскочил.
— А должно, плохо биз мужа живетца-то, — говорил он, — я, хошь, к тибе приходить буду?
— Приходи!
Солнце уже клонилось к закату, тени от кустов были большие, но в воздухе еще висел зной, пахнущий рожью.
Палага опустилась на колени и села. Она вся тянулась к земле и старалась, чтобы не упасть, ухватиться за куст. Парень подполз к ней ближе, обнял ее за шею.
Уже в душе ее ничего не было страшного, и не было больно за то, что вот что-то порывается в ее жизни; она прилегла на траву и закрыла глаза. Чувствовала, как парень горячими щеками прилипал к ее груди, его немного горькие от табаку губы, и когда почувствовала его жесткие руки, приподнялась и отпихнула его в сторону.
— Не нужно, — сказала она, задыхаясь, и, запрокинув голову, опустилась опять на траву. — Не нужно, тибе говорю!
Когда она ударила парня по лицу, он опешил, и, воспользовавшись этим, она побежала, подобрав подол, к дому.
Парень отстал. На повороте она заметила только один его мелькавший картуз, пригнулась и быстро шмыгнула в рожь. Прижалась к земле и старалась не проронить ни звука.
Уже погасла заря, месяц выплыл с белыми рогами над полем, и небо из белого обратилось в темно-голубое, а она все сидела и не хотела вставать.
Когда ночь стала совсем голубая, когда уже звезды тухли, она осторожно приподняла голову и посмотрела на дорогу. Дымился туман, и свежесть его пахла парным молоком. Ей страшно было идти, — казалось, парень где-нибудь притаился во ржи у дороги и ждет.
Небо светлело, ветерок, налетевший с восхода, поднялся к облакам и сдул последние огоньки мигающих звезд; над рожью вспыхнула полоса зари, где-то заскрипели колеса. Очнувшись от страха, Палага вышла на тропинку и, прислушавшись, откуда скрип колес, пошла навстречу.
Поравнявшись с подводами, она попросила, чтоб ее подвезли немного, до белой воды. Баба, сидевшая на передней телеге, остановила лошадь и покачала головой:
— Как же это ты ни пужаисси-то? Ночь, а ты Бог знаить анкедова идешь... По ржам-то ведь много слоняютца, лутчай подождать бы.
— Я ждала, — тихо ответила Палага, — привязался тут ко мне один еще с вечера. Все во ржи сидела, ждала, хто поедить...
— То-то, ждала.
Когда баба под спуском на белую воду повернула в левую сторону, Палага слезла, поблагодарила ее и пошла к дому. Башмаки от росы промокли, пальцы на ногах озябли, но она не обращала на это внимания, ей было приятно сознавать, что грех она все-таки поборола.
Вдруг вся она похолодела: парень сидел на крылечке ее избы и, завидя ее, быстро и ловко стал взбираться на гору. Пока она пришла в себя, уже был подле нее и схватил за руки.
— Ты штошь эфто, — говорил он, осклабивая зубы, — сперва дразнишь, а потом хоронисси?.. Типерь ни отпущу уж тибе, кричи не кричи — моя.
Палага стояла с широко раскрытыми глазами; то, что ее давило, снова стало подыматься от сердца; и вдруг разлилось по всем жилам. Она поняла, взглянув на парня, что бежала не от него, скрывалась во ржи не от него. Оттолкнув его руки, она бессильно опустилась на землю. Парень навалился на ее колени; она плотно прикусила губу, и на подбородок ее скатилась алая струйка крови.
— Да ты штошь, этакая-разэтакая, долго будишь ныда мной издяватца-то?! — крикнул парень и, размахнув рукой, ударил ее по лицу. И боль в ней вытесняла то, чего она боялась. Посыпавшимся на нее ударам она подставляла грудь, голову; виски ее заломили, она тихо застонала.
Ее опухшее в кровоподтеках лицо испугало парня, и, ткнув ее ногой в живот, он поднял свой соскочивший картуз, вытер со лба градом катившийся пот и пошел по дороге в поле.
Солнце поднялось высоко над водой, песок, на котором она лежала, сделался горячим, голова ныла от жары еще больше, губы спекались.
Приподнявшись кое-как на локти, она стала сползать к воде; руки царапались о камни, сарафан рвался. У воды, тыкаясь лицом, она обмыла запекшуюся на коже кровь, немного попила и побрела домой. На крыльце валялись окурки, спички и позабытый кисет. Взобравшись на верхнюю ступеньку, она села и обессиленно вздохнула.
Вода от холода посинела, ветла, стоявшая у избы Корнея, нагнулась и стряхнула в нее свои желтые листья. Небо подернулось облаками, река уже не так тихо бежала, как летом, а пенилась и шумела; Палага каждый день ждала мужа, и, наконец, он вернулся.
В тот день по воде шел туман. Когда Корней чалил у берега свою лодку, Палага не видела его из окна; она узнала лишь тогда, что он приехал, когда собака залаяла и радостно заскулила. Сердце перестало биться, ноги подкосились, и, задыхаясь, Палага выбежала ему навстречу.
Но она взглянула на него, и руки ее опустились. Корней был как скелет, из заросшего лица торчал один только длинный нос, щеки провалились, грудь ушла в плечи.
— Што с тобой?! — чуть не вскрикнула она и, скрестив руки от какого-то страшного предчувствия, остановилась на месте.
— Ничего, — болезненно улыбнулся Корней, — захворал малость, вот и осунулся!
В словах его была скрытая грусть.
Они вошли в избу. Он, не снимая шапки, лег на кровать и закрыл глаза. Палага легла с ним рядом, сердце ее билось. Прижимаясь к нему, она понимала, что делает совсем не то, что нужно, но остановить себя не могла.
Почувствовав ее дрожь, Корней приподнялся и с горькою улыбкой покачал головой:
— Силы у меня нет, Палага, болесть, вишь, — и, глядя на ее сочную грудь, на красные щеки, гладил ее плечи и сбившиеся волосы.
С тех дней, как Корней не вставал с постели, Палага побледнела и даже подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две дугообразные морщины, кожа пожелтела.
— Надоел я тебе, — говорил, свешивая голову с кровати, Корней, — измаялась ты вся, так што и лица на тибе ни стало.
Палага ничего не отвечала ему на это, но ей было неприятно, что он мог так говорить. За ту любовь, какую она берегла ему, она могла перенести гораздо больше...
Корней догадывался, отчего гас ее румянец, отчего белели губы, и ему неловко и тяжело было.
Когда же река стала опруживать заволокой льда окраины и лодки пришло время вытаскивать на берег, Палага наняла на деревне для этого дела сына десятского Юшку. Приходило время поправлять попортившиеся за лето верши, и Юшка принялся за починку.
Подавая ему нитки, Палага ненароком касалась его рук; руки от работы были горячие, приятно жгли, и Палагу снова стало беспокоить. Стала она часто сидеть у кровати, на которой лежал Корней, и еще чаще сердце ее замирало, когда Юшка, как бы нечаянно проходя, задевал ее плечи рукою.
Однажды ночью, когда Корней бредил своим баркасом, она осторожно слезла с лавки, на которой лежала, и поползла к Юшке в угол на пол.
За окном свистел ветер, рубашка на ее спине прыгала от страха. Юшка спал; грудь его то подымалась, то опускалась, а от пушистого и молодого, еще ребяческого лица пахло словно распустившейся мятой. Подобравшись к его постели, она потянула с него одеяло, Юшка завозился и повернулся на другой бок.
В висках у нее застучало. Она увидела в темноте его обнажившиеся плечи. Осторожно взобралась она на постель. Юшка проснулся. В первый момент на лице его отразилось удивление, но он понял и, вскочив, обвился вокруг нее, как вьюн.
Палага ничего уже не сознавала, тряслась как в лихорадке.
Когда она лежала снова на лавке, ей казалось, что все, что было несколько минут назад, случилось уже давно, что времени этому уже много, и ее охватила жалость, ей показалось, что она потеряла что-то. Затуманенная память заставила ее встать, она зажгла лампу и начала шарить под столом, на печи и под печью, но везде было пусто.
«Это в душе у меня пусто», — подумала она как-то сразу и, похолодев, опустилась с лампой на пол.
До рассвета она сидела у окна и бессмысленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в себя, сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их теперь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить.
Лицо Юшки было окаймлено невидимой, но все же понятной для нее бледностью, и, вглядываясь в него, она начинала понимать, что то, что отталкивало ее от него, было не в нем, а внутри нее, что задушить ей хочется не его, а соблазн, который в ее душе. Несколько раз она приближалась к спящему Корнею, но, глядя на его спокойно закрытые глаза, вздрагивала и, заложив руки за голову, начинала ходить по избе.
Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня; пока было темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание.
Отворив дверь, Палага вышла на крыльцо и взглянула на реку. То место, где она обмывала свои побои, было занесено снегом. Она вспомнила, насколько она была тогда счастливее, когда подставляла под взмахивающие кулаки грудь и голову, и, обхватив за шею стоявшую подле нее собаку, зарыдала.
Собака сперва растерялась, завиляла хвостом, но, почувствовав, что в горле у нее щекочет, завыла; и вой ее слился в один горький и тяжелый крик утраты.
‹1916›
Бобыль и Дружок
Жил на краю деревни старый Бобыль. Была у Бобыля своя хата и собака. Ходил он по миру, сбирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бобыль не расставался с своей собакой, и была у нее ласковая кличка Дружок. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок стоит рядом, хвостом виляет. Словно ждет свою подачку. Скажут Бобылю люди: «Ты бы бросил, Бобыль, свою собаку, самому ведь кормиться нечем...» Взглянет Бобыль своими грустными глазами, взглянет — ничего не скажет. Кликнет своего Дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба.
Угрюмый был Бобыль, редко с кем разговаривал.
Настанет зима, подует сердитая вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы.
Ходит Бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора ко двору, и Дружок тут бежит рядом. Прижимается он к Бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить: «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою». Взглянет Бобыль на собаку, взглянет, и словно разгадает ее думы; и тихо-тихо скажет:
— Уж ты-то, Дружок, меня, старика, не покинь.
Шагает Бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров — ни полена. Глянет Бобыль на Дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин.
Скажет Бобыль с нежной лаской:
— Запрягу я, Дружок, тебя в салазки, поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем, хату затопим, будем греться с тобой у лежанки.
Запряжет Бобыль Дружка в салазки, привезет сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет Дружка, приголубит. Задумается Бобыль у лежанки, начнет вспоминать прожитое. Расскажет старик Дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, доскажет и с болью молвит:
— Ничего ты, Дружок, не ответишь, не вымолвишь слова, но глаза твои серые, умные... знаю, знаю... ты все понимаешь...
Устала плакать вьюга. Реже стали метели, зазвенела капель с крыши. Тают снега, убывают.
Видит Бобыль — зима сходит, видит — и с Дружком беседует:
— Заживем мы, Дружок, с весною.
Заиграло красное солнышко, побежали ручьи-колокольчики. Смотрит Бобыль из окошка, под окном уж земля зачернела.
Набухли на деревьях почки, так и пахнут весною. Только годы Бобыля обманули, только слякоть весенняя старика подловила.
Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь задавил, поясница болит-ломит, и глаза уж совсем помутнели.
Стаял снег. Обсушилась земля. Под окошком ветла распустилася. Только реже старик выходил из хаты. Лежит он на полатях, слезть не может.
Слезет Бобыль через силу, — слезет, закашляется, загрустит, Дружку скажет:
— Рано, Дружок, мы с тобою тогда загадали. Скоро уж, видно, смерть моя, только помирать — оставлять тебя неохота.
Заболел Бобыль, не встает, не слезает, а Дружок от полатей не отходит, чует старик — смерть подходит, — чует, Дружка обнимает, — обнимает, сам горько плачет:
— На кого я, Дружок, тебя покину. Люди нам все чужие. Жили мы с тобой... всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, Дружок, мой милый, чую, что смерть моя близко, дыханье в груди остывает. Прощай... да ходи на могилу, поминай своего старого друга!.. — Обнял Бобыль Дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул — и душа отлетела.
Мертвый Бобыль лежит на полатях. Понял Дружок, что хозяин его умер. Ходит Дружок из угла в угол, — ходит, тоскует. Подойдет Дружок, мертвеца обнюхает, — обнюхает, жалобно завоет.
Стали люди промеж себя разговаривать: почему это Бобыль не выходит. Сговорились, пришли — увидали, увидали — назад отшатнулись. Мертвый Бобыль лежит на полатях, в хате запах могильный — смрадный. На полатях сидит собака, сидит — пригорюнилась.
Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, — в гроб положили, а собака от мертвого не отходит. Понесли мертвого в церковь, Дружок идет рядом. Гонят собаку от церкви, гонят — в храм не пускают. Рвется Дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается.
Принесли мертвого на кладбище, принесли — в землю зарыли. Умер Бобыль никому не нужный, и никто по нем не заплакал.
Воет Дружок над могилой, воет, — лапами землю копает. Хочет Дружок отрыть своего старого друга, отрыть — и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы Дружка ослабели, не встает он и встать не может. Смотрит Дружок на могилу, смотрит, жалобно стонет. Хочет Дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у Дружка сжалось... дрожь по спине пробежала, опустил Дружок голову, опустил, тихо вздрогнул... и умер Дружок на могиле...
Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам. Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу. Сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.
‹1917›
Железный Миргород
I
Я не читал прошлогодней статьи Л. Д. Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..
Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.
Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано.
Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. Поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.
Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся... (Простите, что у меня нет образа для сравнения, я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что исповедуемый мною и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..»
Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину.
Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять чрез огромнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.
Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.
Милостивые государи!
С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.
На шестой день, около полудня, показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.
Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и ваши «лефы» как Тула перед Берлином или Парижем.
Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но... но прежде должны осмотреть паспорта...
В сутолоке сходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.
Элис-Аленд — небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...
В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и всё спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5½ нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.
Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они засмеялись тоже.
На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.
— Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!
— Мистер Есенин, — сказал господин. Я встал. — Подойдите к столу! — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел.
— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.
Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:
— В бога верите?
Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:
— Да.
— Какую признаете власть?
Еще не легче. Сбивчиво я стал говорить, что я поэт и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал:
— Повторяйте за мной: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия».
Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.
Миргород! Миргород! Свинья спасла!
Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: «Ах, да это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей». Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтригованная газетами толпа.
Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам: «Mi laik Amerika...»[2].
Через десять минут мы были в отеле.
Москва, 14 августа 1923 г.
II
На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.
Америка внутри себя не верит в бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.
Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры.
Что такое Америка?
Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.
Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.
Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.
Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».
Сейчас Гайавата — этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам; возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.
Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.
В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах...
Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша.
Сила Америки развернулась окончательно только за последние двадцать лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия «окраинная дорога», — «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем.
Перед глазами — море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, около театра, на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом: «Умри, Денис!..» Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.
Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.
Бедный русский Гайавата!
Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.
Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает: перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы, страшно похоже на Россию!) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.
Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт — под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на мюзик-холльный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры — народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры.
Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business»[3] и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы — народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.
Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.
Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.
Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, — немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов. В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.
Мани-Лейб — уроженец Черниговской губ. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы получил возможность существовать на оплату за свое искусство.
Переводами на жаргон он ознакомил американских евреев с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.
В специфически американской среде — отсутствие всякого присутствия.
Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.
Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.
— Слушайте, — говорил мне один американец, — я знаю Европу. Не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?
От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное.
‹1923›
Статьи, заметки, ответы на вопросы анкет
Завершенное
Ярославны плачут
«Внимая ужасам войны», в унисон зазвенели струны больших и малых поэтов. На страницах газет и журналов пестреют имена Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Городецкого, Липецкого и др. Все они трогают одинаковую струну «грянувшего выстрела». Даже «сладко лиричный» Цензор заплясал под солдатскую песню.
Я не стану останавливаться на разборе этих поэтов, перейду прямо к определению того, что дали нам женщины-поэтессы.
Этих избранниц у нас очень немного. И они большею частью закатывались «золотой звездой» на расцвете своего таланта, как Мирра Лохвицкая. Мы еще не успели забыть и «невесту в атласном белом платье» Надежду Львову, но, не уклоняясь от своей цели, я буду продолжать мотать тот клубок мыслей, который я начал.
Плачут серые дали об угасшей весне, плачут женщины, провожая мужей и возлюбленных на войну, заплакала и Зинаида X. Плачет, потому что:
Но это еще ничего. Хорошо плакать, когда нечего бояться за свои слезы, но вот плачет молодая замужняя женщина, у которой за спиной свекровь, а спереди: «Новую сплетню готовя, две ядовитые дамы».
Она плачет без слез, плачет сердцем, а сердце плачет кровью. Разве не больно на слова милого «Завтра наш полк выступает» «молча к стене прислониться».
Нет, очень больно.
Это ведь та самая плачет, которую «выдавала матушка далече замуж».
Зинаида X. не выступила с кличем: «На войну!» Она поет об оставшихся, плачет об ушедшем на войну и в этих слезах прекрасна, как «Ярославна».
Пусть «так надо... так надо»... Но она за свою малую просьбу у судьбы с этим смириться не хочет.
Плачет Щепкина-Куперник...ее слезы тоже слезы оставшейся возлюбленной!
Это плачет швея за работой, и ее берет раздумье:
Жутко становится от представления, как эту белоснежную холщовую рубаху смочит алая кровь.
Но тихой нежной лермонтовской колыбельной песней веет от слов:
Но дальше снова слышна печаль, может быть, этот белый холст прикроет ее милого грудь. Но эту сентиментальность она побивает твердым решением:
Он не останется неприкрытым, потому что она знает:
Но Щепкина-Куперник плачет вообще. Но ее слезы больше слезы матери. Она по большей части томится «в безутешном ожидании» и молится перед иконой. Ее вздохи — вздохи матери Андрия и Остапа, и она, грустная, с заплаканными глазами, молится о их спасении.
Тихо взгрустнула «у воинского поезда» Белогорская, отдала дань серым шинелям, как женщина, поклонилась до земли и прошептала: «Вы уезжаете»...
Я подслушал, как плачут Ярославны. Но я и услышал, как загремели с призывом Жанны д’Арк. Лишь только разнеслись наши победы казаков, как по струнам своей лиры ударила Любовь Столица.
Громко крикнула Мария Трубецкая:
Могучий голос зазвенел, как набат:
Эта Жанна д’Арк предлагает встать всем поэтам в общем кличе и служить той святыне, за которую
Красиво сказала Хмельницкая:
Здесь, правда, слезы ни к чему, ибо
Она гордо и сильно говорит в путь ушедшим:
Я отметил только те стихотворения, которые ясно определили отношения к войне тех и других поэтесс. Я разделил их на два лагеря. В каждом лагере свои законченные взгляды на ушедших. Говорить о высоком достоинстве преимущества тех или иных не приходится.
Нам одинаково нужны Жанны д’Арк и Ярославны. Как те прекрасны со своим знаменем, так и эти со своими слезами.
‹1914–1915›
Отчее слово
Мы очень многим обязаны Андрею Белому, его удивительной протянутости слова от тверди к вселенной. Оно как бы вылеплено у него из пространства, с Божьим «туком» и вонями плащаницы.
В «Котике Летаеве» — гениальнейшем произведении нашего времени — он зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи.
Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина — «отворись». Мы бьемся в ней, как рыбы в воде, стараясь укусить упавший на поверхность льда месяц, но просасываем этот лед и видим, что на нем ничего нет, а то желтое, что казалось так близко, взметнулось еще выше. И вот многое такое, что манит нас так, схвачено зубами Белого за самую пуповину... Истинный художник не отобразитель и не проповедник каких-либо определенных в нас чувств, он есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:
Слово изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду. Возглас «Да будет!» повесил на этой воде небо и землю, и мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее «отворись». «Прекрасное только то — чего нет», — говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию, где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и манит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где
Но к крыльцу этого крова мы с земли, живя и волнуясь зрением и памятью в вещах, приближаемся только через Андрее-Беловское «выкусыванье за спиной».
Футуризм, пропищавший жалобно о «заумном языке», раздавлен под самый корень достижениями в «Котике Летаеве», и извивы форм его еще ясней показали, что идущие ему вслед запрягли лошадь не с головы, а с хвоста...
«Выбирайте в молитвах своих такие слова, над которыми горит язык Божий, — говорил Макарий Желтоводский своим ученикам, — в них есть спасение грешников и рай праведных...» И такие слова почти сплошь пронизали творение Андрея Белого.
Суть не в фокусе преображения предметов, не в жесте слов, а в том самом уловлении, в котором — если видишь ночью во сне кисель, то утром встаешь с мокрыми сладкими губами от его сока...
Но есть и горбатые слова, у которых перебит позвоночник. Они тоже имеют потуги, пыжатся снести такое же яйцо, какое несет «Кува — красный ворон», но достижения их ограничиваются только скорлупой.
Они таят в себе что-то вроде подглядывания из-под угла, могут залезть в карман небу, обкусать края облаков, «через мудрены вырезы» пройдут мурашами, в озере ходят щукой, в чистом поле оленем скачут, за тучами орлом летят, но все это только фокус того самого плоского преображения, в котором, как бы душа ни тянулась из чешуи, она все равно прицеплена к ней, как крючком, оттого что горбата.
В мире важен беззначный язык, потому что у прозревших слово есть постижение огня над ним. Но для этого нужен тот самый дар, при котором Гете, не обладая швабским наречием, понимал Гебеля без словаря...
Слово, прорывающее подпокрышку нашего разума, беззначно. Оно не вписывается в строку, не опускается под тире, оно невидимо присутствует. Уму, не сгибающему себя в дугу, надо учиться понимать это присутствие, ибо ворота в его рай узки, как игольное ухо, только совершенные могут легко пройти в них. Но тот, кому нужен подвиг, сдерет с себя четыре кожи и только тогда попадет под тень «словесного дерева». «Туга по небесной стране посылает мя в страны чужие», — отвечал спрашивающим себя Козьма Индикоплов на спрос, зачем он покидает Руссию. И вот слишком много надо этой «туги», чтоб приобщиться, — «Слетит мне звездочка на постельку, усиком поморгает...» — не как к образу, а именно как к неводу того, что «природа тебя обстающая — ты», и среди ее ущелий тебе виден младенец. Потому и сказал Клюев:
«Слова поэта уже суть дела его», — писал когда-то Пушкин. Да, дела, но не те, о которых думал Жуковский, а те, от которых есть «упоение в бою, и бездны мрачной на краю». Свободный в выборе предмета не свободен выйти из него. Разрывая пальцами мозга завесу грани, он невольно проскажет то, что увидят его глаза, и даже желал бы скрыть, но не может.
В этом вся цель завоеваний наших духовных ценностей. И только смелые, только сильные, которые не боятся никакого дерзания, найдут то «отворись», на пороге которого могут сказать себе: «О слово, отчее слово, мы ходили с тобой на крыле ветрянем и устне наши не возбраним во еже звати тебе...»
‹1918›
О «Зареве» Орешина
Вот такими простыми и теплыми словами, похожая на сельское озеро, где отражается и месяц, и церковь, и хаты, наполнена книга Петра Орешина. В наши дни, когда «Бог смешал все языки», когда все вчерашние патриоты готовы отречься и проклясть все то, что искони составляло «родину», книга эта как-то особенно становится радостной.
Даже и боль ее, щемящая, как долгая, заунывная русская песня, приятна сердцу, и думы ее в четких и образных строчках рождают милую памяти молитву, ту самую молитву, которую впервые шептали наши уста, едва научившись лепетать: «Отче наш, иже еси...»
Петр Орешин уже знаком читающей публике. Имя его пестрело по многим петроградским газетам и журналам, но те, которые знают его отрывочно, конечно, имеют о нем весьма неполное представление. У каждого поэта есть свой общий тон красок, свой ларец слов и образов. Пусть во многих местах глаз опытного читателя отмечает промахи и недочеты, пусть некоторые образы сидят на строчках, как тараканы, объедающие корку хлеба, в стихе, — все-таки это свежести и пахучести книги нисколько не умаляет, а тому, кто видит, что «зори над хатами вяжут широченные сети», кто слышит, что «красный петух в облаках прокричал», — могут показаться образы эти даже стилем мастера всех этих коротких и длинных песенок, деревенских идиллий.
Перед Орешиным еще широкое будущее. Гадать о том, разовьется он или завянет, сейчас довольно трудно, но услышавшие от него через «Зарево» о том, что
будут помнить об этом, как о черемуховом запахе, долго.
‹1918›
Ключи Марии[4]
Посвящаю с любовью Анатолию Мариенгофу
Орнамент — это музыка. Ряды его линий в чудеснейших и весьма тонких распределениях похожи на мелодию какой-то одной вечной песни перед мирозданием. Его образы и фигуры — какое-то одно непрерывное богослужение живущих во всякий час и на всяком месте. Но никто так прекрасно не слился с ним, вкладывая в него всю жизнь, все сердце и весь разум, как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только «избяной обоз», что где-то вдали, подо льдом наших мускульных ощущений, поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег.
Прежде чем подойти к открывшимся нам тайнам орнамента в слове, мы коснемся его линий под углами разбросанной жизни обихода. За орнамент брались давно. Значение и пути его объясняли в трудах своих Стасов и Буслаев, много других, но никто к нему не подошел так, как надо, никто не постиг того, что
Все ученые, как гробокопатели, старались отыскать прежде всего влияние на нем, старались доказать, что в узорах его больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия.
Конечно, никто не будет отрицать того, что наши древние рукописи XIII и XIV веков носят на себе явные признаки сербско-болгарского отражения. Византийские и болгарские проповедники христианских идей наложили на них довольно выпуклый отпечаток. Никто не скажет, что новгородская и ярославская иконопись нашли себя в своих композициях самостоятельно. Все величайшие наши мастера зависели всецело от крещеного Востока.
Но крещеный Восток абсолютно не бросил в нас в данном случае никакого зерна. Он не оплодотворил нас, а только открыл лишь те двери, которые были заперты на замок тайного слова.
Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить, был и есть орнамент. Но, просматривая и строго вглядываясь во все исследования специалистов из этой области, мы не встречаем почти ни единого указания на то, что он существовал раньше, гораздо раньше приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции.
Все, что рассматривается извне, никогда не рождается в ясли с лучами звезд в глазах и мистическим ореолом над головой. Звезды и круг — знаки той грамоты, которая ведет читающего ее в сад новой жизни и нового просветленного чувствования. Наши исследователи не заглянули в сердце нашего народного творчества. Они не поняли поющего старца:
Из чувства национальной гордости Равинский подчеркивал нечто в нашем орнаменте, но это нечто было лишь бледными словами о том, что у наших переписчиков выписка и вырисовка образов стояли на первом месте, между тем как в других странах это стояло на втором плане.
Все говорили только о письменных миниатюрах, а ключ истинного, настоящего архитектурного орнамента так и остался невыплеснутым, и церковь его стоит запечатана до сего времени.
Но весь абрис хозяйственно-бытовой жизни свидетельствует нам о том, что он был, остался и живет тем самым прекрасным полотенцем, изображающим через шелк и канву то символическое древо, которое означает «семью». Совсем не важно, что в Иудее это древо носило имя Маврикийского дуба и потому вместе с христианством перешло, как название, бесплатным приложением к нам. Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню, то древо, под которым сидел Гаутама, и этот Маврикийский дуб были символами «семьи» как в узком, так и широком смысле у всех народов. Это древо родилось в эпоху пастушеского быта. В древности никто не располагал временем так свободно, как пастухи. Они были первые мыслители и поэты, о чем свидетельствуют показания Библии и апокрифы других направлений. Вся языческая вера в переселение душ, музыка, песня и тонкая, как кружево, философия жизни на земле есть плод прозрачных пастушеских дум. Само слово пас-тух (=пас-дух, ибо в русском языке часто д переходит в т, так же как е в о, есень — осень, и а в я, аблонь — яблонь) говорит о каком-то мистически помазанном значении над ним. «Я не царь и не царский сын, — я пастух, а говорить меня научили звезды», — пишет пророк Амос. Вот эти-то звезды — золотая книга странника — и вырастили наше вселенское символическое древо. Наши бахари орнамента без всяких скрещиваний с санскритством поняли его, развязав себя через пуп, как Гаутама. Они увидели через листья своих ногтей, через пальцы ветвей, через сучья рук и через ствол — туловища с ногами, — обозначающими коренья, что мы есть чада древа, семья того вселенского дуба, под которым Авраам встречает Святую Троицу. На происхождение человека от древа указывает и наша былина «о хоробром Егории»:
Мысль об этом происхождении от древа породила вместе с музыкой и мифический эпос.
Происхождение музыки от древа в наших мистериях есть самый прекраснейший ключ в наших руках от дверей закрытого храма мудрости. Без всякого Иовулла и Вейнемейнена наш народ через простой лик безымянного пастуха открыл две скрытых силы воздуха вместе. Этот пастух только и сделал, что срезал на могиле тростинку, и уж не он, а она сама поведала миру через него свою волшебную тайну: «Играй, играй, пастушок. Вылей звуками мою злую грусть. Не простую дудочку ты в руках держишь. Я когда-то была девицей. Погубили девицу сёстры. За серебряное блюдечко, за наливчатое яблочко». Здесь в одном образе тростинки слито три прозрения.
Узлом слияния потустороннего мира с миром видимым является скрытая вера в переселение души.
Ничто не дается без жертвы. Ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть. Конечно, никакие сестры не убивали своей сестры; это убил ее в своем сердце наш творчески-жестокий народ, чтоб легче слить себя с тайной звуков и слова и овладеть ею как образом.
Всё от древа — вот религия мысли нашего народа, но празднество этой каны и было и будет понятно весьма немногим. Исследователи древнерусской письменности и строительного орнамента забыли главным образом то, что народ наш живет больше устами, чем рукою и глазом, устами он сопровождает почти весь фигуральный мир в его явлениях, и если берется выражать себя через средство, то образ этого средства всегда конкретен. То, что музыка и эпос родились у нас вместе через знак древа, — заставляет нас думать об этом не как о случайном факте мифического утверждения, а как о строгом вымерянном представлении наших далеких предков. Свидетельство этому наш не поясненный и не разгаданный никем бытовой орнамент.
Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом, выдумать этого не могли, хоть бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. Это чистая черта скифии с мистерией вечного кочевья. «Я еду к тебе, в твои лона и пастбища», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности как к родительскому очагу проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встает вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что «здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами влагает в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен сыт я и этот на ставне петух, который стоит стражем у окна моего и каждое утро, плеском крыл и пением встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будит своего хозяина». Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему: «Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад тебе». Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящего. Изображается голубь с распростертыми крыльями. Размахивая крыльями, он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма-избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: «Преисполнясь мною, ты постигнешь тайну дома сего». И действительно, только преисполнясь, можно постичь мудрость этих избяных заповедей, скрытых в искусах орнамента. Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на Святого Духа...
Нет, не в одних только письменных свитках мы скрываем культуру наших прозрений через орнаментику букв и пояснительные миниатюры. Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы. Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы и ветви. Древо на полотенце — значение нам уже известное, оно ни на чем не вышивается, кроме полотенца, и опять-таки мы должны указать, что в этом скрыт весьма и весьма глубокий смысл.
Древо — жизнь. Каждое утро, восстав от сна, мы омываем лицо свое водою. Вода есть символ очищения и крещение во имя нового дня. Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного древа и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и струить от ветвей-рук тень-добродетель.
Цветы на постельном белье относятся к кругу восприятия красоты. Означают они царство сада или отдых отдавшего день труду на плодах своих. Они являются как бы апофеозом как трудового дня, так и вообще жизненного смысла крестьянина.
Таким образом разобрав весь, казалось бы, внешне непривлекательный обиход, мы наталкиваемся на весьма сложную и весьма глубокую орнаментичную эпопею с чудесным переплетением духа и знаков. И «отселе», выражаясь пушкинским языком, нам видно «потоков рожденье».
За культурой обиходного орнамента на неприхоженных снегах русского поля начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI веках мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов и образов поражает нас не только смелостью своих выискиваемых положений, но и тонким изяществом своего построения. Конечно, и это не обошлось без вмешательства некоторой цивилизации западных славян, разъезжавших тогда на осле христианства, но ярчащая, сверкающая переливами всех цветов русская жизнь смыла его при первом же погружении в купель словесного творчества.
Первое, что внесли нам западные славяне, это есть письменность. Они передали нам знаки для выражения звука. Но заслуга их в этом небольшая. Через некоторое время мы нашли бы их сами, ибо у нас уже были найдены самые главные ключи к человеческому разуму, это — знаки выражения духа, те самые знаки, из которых простолюдин составил свою избяную литургию.
Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками, которые неосязаемый и далекий мир подчинили себе уподоблениями вещам их кротких очагов. Вот потому-то в наших песнях и сказках мир слова так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живет, преображаясь.
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути. Философический план помогает нам через такой порядок разобрать машину речи почти до мельчайших винтиков.
В нашем языке есть много слов, которые как «семь коров тощих пожрали семь коров тучных», они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда весьма длинное и сложное определение мысли. Например, слово умение (умеет) заперло в себе ум, имеет и несколько слов, опущенных в воздух, выражающих свое отношение к понятию в очаге этого слова. Этим особенно блещут в нашей грамматике глагольные положения, которым посвящено целое правило спряжения, вытекшее из понятия «запрягать», то есть надевать сбрую слов какой-нибудь мысли на одно слово, которое может служить так же, как лошадь в упряжи, духу, отправляющемуся в путешествие по стране представления. На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии «запрягать» построена почти и вся наша образность. Слагая два противоположных явления через сходственность в движении, она родила метафору:
Происхождение этого главным образом зависит от того, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания. Они перепробовали почти все двери, ведущие к ней, и оставили нам много прекраснейших ключей и отмычек, которые мы бережно храним в музеях нашей словесной памяти. Разбираясь в узорах нашей мифологичной эпики, мы находим целый ряд указаний на то, что человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей. В «Голубиной книге» так и сказано:
Живя, двигаясь и волнуясь, человек древней эпохи не мог не задать себе вопроса, откуда он, что есть солнце и вообще что есть обстающая его жизнь? Ища ответа во всем, он как бы искал своего внутреннего примирения с собой и миром. И, разматывая клубок движений на земле, находя имя всякому предмету и положению, научившись защищать себя от всякого наступательного явления, он решился теми же средствами примирить себя с непокорностью стихий и безответностью пространства. Примирение это состояло в том, что кругом он сделал, так сказать, доступную своему пониманию расстановку. Солнце, например, уподобилось колесу, тельцу и множеству других положений, облака взрычали, как волки, и т. д. При такой расстановке он ясно и отчетливо определял всякое положение в движении наверху.
В наших северных губерниях про ненастье до сих пор говорят:
Сие заставление воздушного мира земною предметностью существовало еще несколько тысяч лет до нас и в Египте. Эдда построила мир из отдельных частей тела убитого Имира. Индия в Ведах через браман утверждает то же самое, что и Даниил Заточник: «Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече секерою сок и кровь, иже память воды». Как младшее племя в развитии духовных ценностей, мы можем показаться неопытному глазу талантливыми отобразителями этих пройденных до нас дорог. Но это будет просто слепотой неопытного глаза.
Прежде всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит в чреве своем образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без средств земной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит и чукот, поэтому грамота одинакова, и читать ее и писать по ней, избегая тожественности, невозможно почти совсем.
Самостоятельность линий может быть лишь только в устремлении духа, и чем каждое племя резче отделялось друг от друга бытовым положением, тем резче вырисовывались их особенности. Это ясно подчеркнул наш бытовой орнамент и романский стиль железных орлов, крылья которых победно были распростерты на запад и подчеркивали устремление немцев к мечте о победе над всей бегущей перед ними Европой. Устремление не одинаково. В зависимости от этого, конечно, не одинаковы и средства. Вавилонянам через то, что на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце, нужна была башня. Русскому же уму через то, что Перун и Даждьбог пели стрелами Стрибога о вселенском дубе, нужен был всего лишь с запрокинутой головой в небо конек на кровле. Но то, что средства земли принадлежат всем, так же ясно, как всем равно греет солнце, дует ветер и ворожит луна.
Вязь поэтических украшений подвластна всем. Если Гермес Трисмегист говорил о том, что «что вверху, то внизу, что внизу, то вверху. Звезды на небе и звезды на земле», если Гомер мог сказать о слове, что оно, «как птица, вылетает из-за городьбы зубов», то и наш Боян не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых стае лебедей, не мог он и себя не опрокинуть так же, как Трисмегист, в небо, где мысль, как древо, а сам он, «Бояне вещий Велесов внуче», соловьем скачет по ветвям этого древа мысли, ибо то и другое рождается в одних яслях явления музыки и творческой картины по законам самой природы.
Древние певцы, трубадуры, менестрели, сказители и бояны в звуках своих часто старались передавать по тем же законам заставочной образности пение птиц, и недаром народ наш заморского музыканта назвал в песнях своих Соловьем Будимировичем. Вглядитесь в слова Гомера, ведь он до ясности подчеркивает в себе приобретенное мастерство от пернатых царевичей звуков. Если слово — птица, значит, звук его есть клекот и пение этой птицы. Если зубы — городьба, то жилы, уж наверное, есть уподобление ветвям опущенного подсознательно древа, на которых эта птица вьет себе гнездо. Здесь все оправдано, здесь нет ни единой лишней черты, о которую воспринимающая такое построение мысль спотыкалась бы, как об осеннюю кочку. Здесь мы видим, что образ рождается через слагаемость. Слагаемость рождает нам лицо звука, лицо движения пространства и лицо движения земного. Через строго высчитанную сумму образов, «соловьем скакаше по древу мысленну», наш Боян рассказывает, так же как и Гомер, целую эпопею о своем отношении к творческому слову. Мы видим, что у него внутри есть целая наука как в отношении к себе, так и в отношении к миру. Сам он может взлететь соколом под облаки, в море сплеснуть щукою, в поле проскакать оленем, но мир для него есть вечное неколеблемое древо, на ветвях которого растут плоды дум и образов.
Обоготворение сил природы, выписанное лицо ветра именем Стрибога или Борея в мифологиях земного шара есть не что иное, как творческая ориентация наших предков в царстве космических тайн. Это тот же образ, который родит алфавит непрочитанной грамоты. Мысль ставит чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его и облекает в краску имени. Начальная буква в алфавите а есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях землю. Опершись на руки и устремив на землю глаза, он как бы читает знаки существа ее.
Буква б представляет из себя ощупывание этим человеком воздуха. Движение его уже идет от а обратно. (Ибо воздух и земля по отношению друг к другу опрокинутость.) Знак сидения на коленях означает то, что между землей и небом он почувствовал мир пространства. Поднятые руки рисуют как бы небесный свод, а согнутые колени, на которые он присел, — землю.
Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, человек протянул руки и к своей сущности. Пуп есть узел человеческого существа, и поэтому, определяя себя или ощупывая, человек как-то невольно опустил свои руки на эту завязь, и получилась буква в.
Дальнейшее следование букв идет с светом мысли от осознания в мире сущности. Почувствовав себя, человек подымается с колен и, выпрямившись, протягивает руки снова в воздух. Здесь его движения через символы знаков, тех знаков, которыми он ищет своего примирения с воздухом и землею, рождают весь дальнейший порядок алфавита, который так мудро оканчивается фигурою буквы я. Эта буква рисует человека, опустившего руки на пуп (знак самопознания), шагающим по земле. Линии, идущие от средины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага правая нога и подпирающая корпус левая.
Через этот мудро занесенный шаг, шаг, который оканчивает обретение знаков нашей грамоты, мы видим, что человек еще окончательно себя не нашел. Он мудро благословил себя, с скарбом открытых ему сущностей, на вечную дорогу, которая означает движение, движение и только движение вперед.
Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы увидели бы почти все сплошь составные части в строительстве избы нашего мышления. Мы увидели бы, как лежит бревно на бревне образа, увидели бы, как сочетаются звуки, постигли бы тайну гласных и согласных, в спайке которых скрыта печаль земли по браке с небом. Нам открылась бы тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины, в которой крестьянин так нежно и любовно вычерчивает примитивными линиями явления пространства. Мы полюбили бы мир этой хижины со всеми петухами на ставнях, коньками на крышах и голубками на князьках крыльца не простой любовью глаза и чувственным восприятием красивого, а полюбили бы и познали бы самою правдивою тропинкой мудрости, на которой каждый шаг словесного образа делается так же, как узловая завязь самой природы.
Искусство нашего времени не знает этой завязи, ибо то, что она жила в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова, для представителей его от сегодняшнего дня прошло мертвой тенью. Звериные крикуны, абсолютно безграмотная критика и третичный период идиотического состояния городской массы подменили эту завязь безмозглым лязгом железа Америки и рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. Единственным расточительным и неряшливым, но все же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, умирал, как живое существо, умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба. В судорожном биении он ловил своими жабрами хоть струйку родного ему воздуха, но вместо воздуха в эти жабры впивался песок и, словно гвозди, разрывал ему кровеносные сосуды.
Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека, которая единственно, единственно от жажды впивала в себя всякую воду из нечистых луж сектантства, вроде охтенских богородиц или белых голубей. Этот вихрь, который сейчас бреет бороду старому миру, миру эксплуатации массовых сил, явился нам как ангел спасения к умирающему. Он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: «Возьми одр твой и ходи».
Мы верим, что чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувствование новой жизни. Мы верим, что пахарь пробьет теперь окно не только глазком к Богу, а целым огромным, как шар земной, глазом. Звездная книга для творческих записей теперь открыта снова. Ключ, оброненный старцем в море, от церкви духа, выплеснут золотыми волнами. Народ не забудет тех, кто взбурлил эти волны, он сумеет отблагодарить их своими песнями, и мы, видевшие жизнь его творчества, умирание и воскресение, услышим снова тот ответный перезвон узловой завязи природы с сущностью человека в ряду таких же строк и, может быть, еще сильнее и красивее, как:
Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые», где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой.
Но дорога к этому свету искусства, помимо смываемых препятствий в мире внешней жизни, имеет еще целые рощи колючих кустов шиповника и крушины в восприятии мысли и образа. Люди должны научиться читать забытые ими знаки. Должны почувствовать, что очаг их есть та самая колесница, которая увозит пророка Илью в облака. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу. Они дали их нам как знаки открывающейся книги в книге нашей души. Человек по последнему знаку отправился искать себя. Он захотел найти свое место в пространстве и обозначил это пространство фигурою буквы Ѳ. За этим знаком пространства, за горою его северного полюса, идет рисунок буквы Ѵ, которая есть не что иное, как человек, шагающий по небесному своду. Он идет навстречу идущему от фигуры буквы я (закон движения — круг).
Волнообразная линия в букве Ѳ означает место, где оба идущих должны встретиться. Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба. Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности.
Но для этого перед нами лежит огромнейшая внутренняя работа. Мы должны ясней изучить свою сущность, проверить себя не по годам тела, а по возрасту души, ибо убеленный сединами старец иногда по этому возрасту души равняется всего лишь пятнадцатилетнему отроку, которого за его стихи Феб приказал выпороть. У нас многие заслуживают ровно такого же отношения к себе, но и многие пребывают просто в слепоте нерождения. Их глазам нужно сделать какой-то надрез, чтобы они видели, что небо не оправа для алмазных звезд, — а необъятное, неисчерпаемое море, в котором эти звезды живут, как многочисленные стаи рыб, а месяц для них все равно что закинутая рыбаком вёрша.
Для этого прежде всего мы должны до точности проследить пути нашего настоящего творчества и творчества заблудившегося, должны разбить образы на законы определений, подчеркнуть родоспособность их и поставить в хоровой чин, так же как поставлены по блеску луна, солнце и земля.
Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум.
Образ от плоти можно назвать заставочным, образ от духа корабельным и третий образ от разума ангелическим.
Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление одного предмета другому или крещение воздуха именами близких нам предметов.
Солнце — колесо, телец, заяц, белка.
Тучи — ели, доски, корабли, стадо овец.
Звезды — гвозди, зерна, караси, ласточки.
Ветер — олень, Сивка Бурка, метельщик.
Дождик — стрелы, посев, бисер, нитки.
Радуга — лук, ворота, верея, дуга
и т. д.
Корабельный образ есть уловление в каком-либо предмете, явлении или существе струения, где заставочный образ плывет, как ладья по воде. Давид, например, говорит, что человек словами течет, как дождь, язык во рту для него есть ключ от души, которая равняется храму вселенной. Мысли для него струны, из звуков которых он слагает песню Господу. Соломон, глядя в лицо своей красивой Суламифи, прекрасно восклицает, что зубы ее «как стадо остриженных коз, бегущих с гор Галаада».
Наш Боян поет нам, что «на Немизе снопы стелют головами, молотят цепы харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брези не бологомь бяхуть посеяни, — посеяни костьми русьскых сынов».
Ангелический образ есть сотворение или пробитие из данной заставки и корабельного образа какого-нибудь окна, где струение являет из лика один или несколько новых ликов, где и зубы Суламифи без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими живыми, сбежавшими с гор Галаада козами. На этом образе построены почти все мифы от дней египетского быка в небе вплоть до нашей языческой религии, где ветры, стрибожи внуци, «веють с моря стрелами», он пронзает устремление почти всех народов в их лучших произведениях, как «Илиада», Эдда, Калевала, «Слово о полку Игореве», Веды, Библия и др. В чисто индивидуалистическом творчестве Эдгар По построил на нем свое «Эльдорадо», Лонгфелло — «Песнь о Гайавате», Гебель — свой «Ночной разговор», Уланд — свой «Пир в небесной стороне», Шекспир — нутро «Гамлета», ведьм и Бирнамский лес в «Макбете». Воздухом его дышит наш русский «Стих о Голубиной книге», «Златая цепь», «Слово о Данииле Заточнике» и множество других произведений, которые выпукло светят на протяжении долгого ряда веков.
Наше современное поколение не имеет представления о тайне этих образов. В русской литературе за последнее время произошло невероятнейшее отупение. То, что было выжато и изъедено вплоть до корок рядом предыдущих столетий, теперь собирается по кусочкам, как открытие. Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности. Они стали какими-то ювелирами, рисовальщиками и миниатюристами словесной мертвенности. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников. То, что было раньше для него сверлением облегающей его коры, теперь стало вставкой в эту кору. Сердце его не разгадало тайны наполняющих его образов, и вместо голоса из-под камня Оптиной пустыни он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея, где ночи-вставки он отливает в перстень яснее дней, а мозоль, простой мужичий мозоль, вставляет в пятку, как алтарную ладанку. Конечно, никто не будет спорить о достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался за яркостью красок и «изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие», ибо луг художника только тот, где растут цветы целителя Пантелимона.
Создать мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи — тайна для нас не новая. Она характеризует разум, сделавший это, лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки. Это есть сочинительство загадок с ответом в средине самой же загадки. Но в древней Руси, да и по сию пору в народе, эта область творчества гораздо экспрессивнее. Там о месяце говорят:
Роса там определяется таким словесным узором, как
Вслед Клюеву свернул себе шею на своей дороге и подглуповатый футуризм. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки о Вие, он крикливо старался напечатлеть нам имена той нечести (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ. Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. Голос его гнойного разложения прозвучал еще при самом таинстве рождения урода. Маринетти, крикнувший клич войны, первый проткнулся о копье творческой правды. Нашим подголоскам Маяковскому, Бурлюку и другим, рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца, движется, вещуя гибель, Бирнамский лес — открывающаяся в слове и образе доселе скрытая внутренняя сила русской мистики. Бессилие футуризма выразилось главным образом в том, что, повернув сосну кореньями вверх и посадив на сук ей ворону, он не сумел дать жизнь этой сосне без подставок. Он не нашел в воздухе не только озера, но даже маленькой лужицы, где б можно было окунуть корни этой опрокинутой сосны. Рост в высь происходит по-иному, в нее растет только то, что сбрасывает с себя кору или, подобно Андрее-Беловскому «Котику Летаеву», вытягивается из тела руками души, как из мешка.
Когда Котик плачет в горизонт, когда на него мычит черная ночь и звездочка слетает к нему в постельку усиком поморгать, мы видим, что между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека, завершаемый с обоих концов ногами. Ему уже нет пространства, а есть две тверди. Голова у него уж не верхняя точка, а точка центра, откуда ноги идут, как некое излучение. Наш пуп в этом отношении самый наилучший толкователь символа этой головы и о послании нас слить небо с землею. Туловище человека не напрасно разделяется на два световых круга, где верхняя часть от пупа подлежит солнечному влиянию, а нижняя — лунному. Здесь в мудрый узел завязан ответ значению тяготения человека к пространству, здесь скрываются знаки нашего послания, прочитав грамоту которых мы разгадаем, что в нас пока колесо нашего мозга движет луна, что мы мыслим в ее пространстве и что в пространство солнца мы начинаем только просовываться. С теми средствами, с которыми шел футуризм в это солнечное пространство, он мог просунуться так же легко, как и верблюд в игольное ухо, ибо эта радость вознесения была предначертана целыми тысячелетиями до него мистам. Он не мог просунуться и потому, что существом своим не благословил и не постиг Голгофы, которая для духа закреплена не только фактическим пропятием Христа, но и всею гармонией мироздания, где на законах световых скрещиваний построены все зримые и не видимые нами формы. Мист же идет на это пропятие, провидя и терновый венок, и гвоздиные язвы. Он знает, что идущий по небесной тверди, окунувшись в темя ему, образует с ним знак того же креста, на котором висела вместе с телом доска с надписью І. Н. Ц. І.
Но он знает и то, что только фактом восхода на крест Христос окончательно просунулся в пространство от луны до солнца, только через Голгофу он мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением ко отцу (то есть солнечному пространству). Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева. Тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира.
Они хотят стиснуть нас руками пр`оклятой смоковницы, которая рождена на бесплодие. Мы должны кричать, что все эти пролеткульты есть те же самые по старому образцу розги человеческого творчества. Мы должны вырвать из их звериных рук это маленькое тельце нашей новой эры, пока они не засекли ее. Мы должны им сказать так же, как сказал придворному лжецу Гильденштерну Гамлет: «Черт вас возьми! Вы думаете, что на нас легче играть, чем на флейте? Назовите нас каким угодно инструментом — вы можете нас расстроить, но не играть на нас». Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определенный круг звуков какой-нибудь одной жизненной мелодии или сонаты. Во всяком круге она шумит, как мельничная вода, просасывая плотину, и горе тем, которые ее запружают, ибо, вырвавшись бешеным потоком, она первыми сметает их в прах на пути своем. Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так сметет она и рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди.
Задача человеческой души лежит теперь в том, как выйти из сферы лунного влияния. Уходя из мышления старого капиталистического обихода, мы не должны строить наши творческие образы так, как построены они хотя бы, например, у того же Николая Клюева:
Этот образ построен на заставках стертого революцией быта. В том, что он прекрасен, мы не можем ему отказать, но он есть тело покойника в нашей горнице обновленной души и потому должен быть предан земле. Предан земле потому, что он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство и сказать, что «убийца святей потира». Это старое инквизиционное православие, которое, посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем вместо змия самого Христа.
Средства напечатления образа грамотой старого обихода должны умереть вообще. Они должны или высидеть на яйцах своих слов птенцов, или кануть отзвеневшим потоком в море Леты. Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове. Ей непонятна грамота солнечного пространства, а душа алчущих света не хочет примириться с давно знакомым ей и изжитым начертанием жизни чрева. Перед нами встает новая символическая черная ряса, очень похожая на приемы православия, которое заслонило своей чернотой свет солнца истины. Но мы победим ее, мы так же раздерем ее, как разодрали мантию заслоняющих солнце нашего братства. Жизнь наша бежит вихревым ураганом, мы не боимся их преград, ибо вихрь, затаенный в самой природе, тоже задвигался нашим глазам. И прав поэт, истинно прекрасный народный поэт Сергей Клычков, говорящий нам, что
Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами.
Да, мы едем, едем потому, что земля уже выдышала воздух, она зарисовала это небо, и рисункам ее уже нет места. Она к новому тянется небу, ища нового незаписанного места, чтобы через новые рисунки, через новые средства протянуться еще дальше. Гонители Святого Духа-мистизма забыли, что в народе уже есть тайна о семи небесах, они осмеяли трех китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля плывет, что ночь — это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю.
Душа наша Шехеразада. Ей не страшно, что Шахриар точит нож на растленную девственницу, она застрахована от него тысяча одной ночью корабля и вечностью проскваживающих небо ангелов. Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков чрез их иаковскую лестницу орнамента слова, мысли и образа, мы радуемся потопу, который смывает сейчас с земли круг старого вращения, ибо м`еста в ковчеге искусства нечистым парам уже не будет. То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: «Ной выпускает ворона». Мы знаем, что крылья ворона тяжелы, путь его недалек, он упадет, не только не долетев до материка, но даже не увидев его. Мы знаем, что он не вернется, знаем, что масличная ветвь будет принесена только голубем — образом, крылья которого спаяны верой человека не от классового осознания, а от осознания обстающего его храма вечности.
Сентябрь-ноябрь 1918
Быт и искусство
Сии строки я посвящаю своим собратьям по тому течению, которое исповедует Величию образа.
Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству, как к служению неким идеям.
Собратья мои увлеклись зрительной фигуральностью словесной формы, им кажется, что слова и образ — это уже все.
Но да простят мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный, так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума.
Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как и необходимое ему оружие.
Искусство — это виды человеческого управления. Словом, звуками и движениями человек передает другому человеку то, что им поймано в явлении внутреннем или явлении внешнем. Все, что выходит из человека, рождает его потребности, из потребностей рождается быт, из быта же рождается его искусство, которое имеет место в нашем представлении.
Понимая искусство во всем его размахе, я хочу указать моим собратьям на то, насколько искусство неотделимо от быта и насколько они заблуждаются, увязая нарочито в тех утверждениях его независимости.
Виды искусства, как я уже сказал, весьма многообразны. Прежде чем подойти к искусству слова, подойдем к самому несложному и поверхностному искусству, искусству одежды человека, перенесемся мыслями хотя бы к нашей скифской эпохе. Вспомним тавров, будинов и сарматов.
Описывая скифов, Геродот прежде всего говорит о их обычаях и одежде. Скифы носят на шеях гривны, на руках браслеты, на голову надевают шлем, накрываются сшитыми из конских копыт плащами, которые служат им панцирями. Нижняя одежда состоит из шаровар и коротких саков. Всматриваясь в это коротенькое описание, вы сразу уже представляете себе всю причинность обряда, и перед вами невольно встает это буйное, и статное, и воинственное племя. Вы уже сразу чувствуете, что гривна ему нужна для того, чтоб защитить от меча врага шею, шлемом они защищают череп, браслетом — кисть руки, плащ же охраняет его бока и спину.
Так же, как и в одежде, человек выявил себя своими требованиями и в музыке. Мы знаем, что мелодии родились так же, как щит и оружие.
Действие музыки, главным образом, отражается на крови. Звуки как-то умеют и беспокоить и усмирять ее. Эту тайну знали как древние заклинатели змей, играющие на флейтах, так бессознательно знают ее и по сей день наши пастухи, играя на рожке коровам. Недаром монголы говорят, что под скрипку можно заставить плакать верблюда. Звуки умеют привязывать и развязывать, останавливать и гнать бурей. Все это уже известно давно, и на этом давно уже построены определения песен героических, эпических, надгробных и свадебных.
Подходя к слову, мы также видим, что значение его одинаково с предыдущими видами требований человека.
Слова — это образы всей предметности и всех явлений вокруг человека; ими он защищается, ими же и наступает. Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и многоглазое хозяйство искусства. Даже то искусство одежды, музыки и слова, которое совсем бесполезно, все-таки есть прямой продукт бытовых движений. Оно попутчик быта.
Что такое теперешние ожерелья, перстни и браслеты, как не сколок с воинственных лат наших далеких предков? Что такое чувствительные романсы, вгоняющие в половой жар и в грусть девушек и юношей, как не действие над змеей или коровой? И что такое слова, как не синие трупики обстановочных предметов первобытного человека? Нет, быт и искусство неотделимы. Фигуры — это уже быт, а искусство есть самая яркая фигуральность.
Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. Хочется мне сказать собратьям, что они не правы в этом.
Жизнь образа огромна и разливчата. У него есть свои возрасты, которые отмечаются эпохами. Сначала был образ словесный, который давал имена предметам, за ним идет образ заставочный, мифический, после мифического идет образ типический, или собирательный, за типическим идет образ корабельный, или образ двойного зрения, и, наконец, ангелический, или изобретательный, о которых нам отчасти пришлось говорить в нашей книге «Ключи Марии».
Пример словесного образа таков. Сначала берем образ без слова. Перед нами неотчеканенные массы звуков пчелы:
Перед сознанием человека встает действие, которое определяется звуком «бу»; предмет пойман в определение и уже неподвижен, определение это есть образ слова.
Образ заставочный, или мифический, есть уподобление одного предмета или явления другому:
Мифический образ заключается и в уподоблении стихийных явлений человеческим бликам.
Отсюда Даждьбог, дающий дождь, и ветреная Геба, что
На нем построены все божественные фигуры, а также именные клички героев у дикарей: «Пятнистый Олень», «Красный Ветер», «Сова», «Сычи», «Обкусанное Солнце» и т. д.
Типический образ, или собирательный, есть образ сумм внешних или внутренних фигур при человеке. Внешний образ: «нос, что перевоз». Внутренний образ:
Корабельный образ, образ двойственного положения:
Он очень родственен заставочному с тою лишь разницей, что заставочный неподвижен. Этот же образ имеет вращение.
Образ ангелический, или изобретательный, есть воплощение движения или явления, так же как и предмета, в плоть слова. На чувстве этого образа построена вся техническая предметная изобретательность, а также и эмоциональная. Образ предметного ангелизма: ковер-самолет и аэроплан, перо жар-птицы и электричество, сани-самокаты и автомобиль. На образе эмоционального ангелизма держатся имена незримого и имматериального, когда они, только еще предчувствуемые, облекаются уже в одежду имени, например, чувство незримой страны «Инония», чувство незримого и неизвестного прихода, как-то: «Гость чудесный».
Итак, подыскав определения текучести образов, уложив их в формы, для них присущие, мы увидим, что текучесть и вращение их имеет согласованность и законы, нарушения которых весьма заметны.
Вся жизнь наша есть не что иное, как заполнение большого, чистого полотна рисунками.
Сажая под окошком ветлу или рябину, крестьянин, например, уже делает четкий и строгий рисунок своего быта со всеми его зависимостями от климатического стиля. Каждый шаг наш, каждая проведенная борозда есть необходимый штрих в картине нашей жизни.
Смею указать моим собратьям, что каждая линия в этом рисунке строго согласуется с законами общего. Климатический стиль нашей страны заставляет меня указать моим собратьям на то, насколько необходимы и непреложны эти законы. Собратья мои сами легли черточками в этот закон и вращаются так, как им предназначено. Что бы они ни говорили в противовес, сила останется за этим так же, как и за правдой календарного абриса в хозяйственном обиходе нашего русского простолюдина.
Северный простолюдин не посадит под свое окно кипариса, ибо знает закон, подсказанный ему причинностью вещей и явлений. Он посадит только то дерево, которое присуще его снегам и ветру.
Вглядитесь в календарные изречения Великороссии, там всюду строгая согласованность его с вещами и с местом, временем и действием стихий. Все эти «Марьи зажги снега, заиграй овражки», «Авдотьи подмочи порог» и «Федули сестреньки» построены по самому наилучшему приему чувствования своей страны.
У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и несогласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния.
У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед Богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть не больше, не меньше как ни на что не направленные выверты.
Но жизнь требует только то, что ей нужно, и так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность.
‹1920›
Вступление к сборнику «Стихи скандалиста»
Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия.
Стихи в этой книге не новые. Я выбрал самое характерное и что считаю лучшим. Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые.
20 марта 1923
Берлин
Предисловие
В этом томе собрано почти все, за малым исключением, что написано мной с 1912 года. Большие вещи: «Страна негодяев», «Пугачев» и др. отходят во 2-й том.
Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. Мне не нужно было бы и писать предисловия, так как всякий читатель поймет это по прочтении всех моих стихов, но некоторые этапы требуют пояснения.
Самый щекотливый этап — это моя религиозность, которая очень отчетливо отразилась на моих ранних произведениях.
Этот этап я не считаю творчески мне принадлежащим. Он есть условие моего воспитания и той среды, где я вращался в первую пору моей литературной деятельности.
На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдалбливал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка.
Литературная среда 13–14–15 годов, в которой я вращался, была настроена приблизительно так же, как мой дед и бабка, поэтому стихи мои были принимаемы и толкуемы с тем смаком, от которого я отпихиваюсь сейчас руками и ногами.
Я вовсе не религиозный человек и не мистик. Я реалист, и если есть что-нибудь туманное ‹во› мне для реалиста, то это романтика, но романтика не старого нежного и дамообожаемого уклада, а самая настоящая земная, которая скорей преследует авантюристические цели в сюжете, чем протухшие настроения о Розах, Крестах и всякой прочей дребедени.
Поклонникам Блока не следует принимать это за то, что я кощунственно бросаю камень на его могилу.
Я очень люблю и ценю Блока, но ‹на› наших полях он часто глядит как голландец. Все же другие мистики мне напоминают иезуитов.
Я просил бы читателей относиться ко всем моим Исусам, Божьим Матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии.
Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры, но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.
В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах.
Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться так же, как я могу учиться чему-нибудь другому у других.
1 января 1924
Анкета журнала «Книга о книгах»
1. Как Вы теперь воспринимаете Пушкина?
Пушкин — самый любимый мной поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше как гения страны, в которой я живу. Даже его ошибки, как, например, характеристика Мазепы, мне приятны, потому что это есть общее осознание русской истории.
2. Какую роль Вы отводите Пушкину в судьбах современной и будущей русской литературы?
Влияния Пушкина на поэзию русскую вообще не было. Нельзя указать ни на одного поэта, кроме Лермонтова, который был бы заражен Пушкиным. Постичь Пушкина — это уже нужно иметь талант. Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать стиль его словесной походки.
3. Как дать Пушкина современному русскому читателю?
Я не поклонник отроческих стихов Пушкина. По-моему, их нужно просмотреть и некоторые выкинуть. Из зрелых стихов я считаю ненужным все случайные стихотворные письма и эпиграммы, кроме писем к Языкову и Дельвигу.
1924
В. Я. Брюсов
Умер Брюсов. Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов.
Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в истории развития русского стиха.
Большой мастер, крупный поэт, он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы.
Лучше было бы услышать о смерти Гиппиус и Мережковского, чем видеть в газете эту траурную рамку о Брюсове.
Русский символизм кончился давно, но со смертью Брюсова он канул в Лету окончательно.
Много Брюсова ругали, много говорили о том, что он не поэт, а мастер. Глупые слова! Глупые суждения!
После смерти Блока это такая утрата, что ее и выразить невозможно.
Брюсов был в искусстве новатором.
В то время, когда в литературных вкусах было сплошное слюнтяйство, вплоть до горьких слез над Надсоном, он первый сделал крик против шаблонности своим знаменитым:
Много есть у него прекраснейших стихов, на которых мы воспитывались.
Брюсов первый раздвинул рамки рифмы и первый культивировал ассонанс.
Утрата тяжела еще более потому, что он всегда приветствовал все молодое и свежее в поэзии. В литературном институте его имени вырастали и растут такие поэты, как Наседкин, Иван Приблудный, Акульшин и др.
Брюсов чутко относился ко всему талантливому.
Сделав свое дело на поле поэзии, он последнее время был вроде арбитра среди сражающихся течений в литературе. Он мудро знал, что смена поколений всегда ставит точку над юными, и потому, что он знал, он написал такие прекрасные строки о гуннах:
Брюсов первый пошел с Октябрем, первый встал на позицию разрыва с русской интеллигенцией. Сам в себе зачеркнуть страницы старого бытия не всякий может. Брюсов это сделал.
Очень грустно, что на таком литературном безрыбьи уходят такие люди.
‹1924›
Дама с лорнетом
Когда-то я мальчиком, проезжая Петербург, зашел к Блоку. Мы говорили очень много о стихах, но Блок мне тут же заметил, вероятно, по указаниям Иванова-Разумника: «Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура».
Это были слова Блока. После слов Блока, к которому я приехал, впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус — подозрительней. Один только Философов, как и посейчас, занимает мой кругозор, которому я писал и говорил то устно, то в стихах; но всё же Клюев и на него составил стихи, обобщая его вместе с Мережковскими.
— Что такое Мережковский?
— Во всяком случае, не Франс.
— Что такое Гиппиус?
— Бездарная завистливая поэтесса.
В газете «Ecler»[5] Мережковский называл меня хамом, называла меня Гиппиус альфонсом, за то, что когда-то я, пришедший из деревни, имел право носить валенки.
— Что это на Вас за гетры? — спросила она, наведя лорнет.
Я ей ответил:
— Это охотничьи валенки.
— Вы вообще кривляетесь.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Потом Мережковский писал: «Альфонс, пьяница, большевик!»
А я ему отвечал устно:
«Дурак, бездарность!»
Клюев, которому Мережковский и Гиппиус не годятся в подметки в смысле искусства, говорил: «Солдаты испражняются. Где калитка, где забор, Мережковского собор». Действительно, колоннады. Мадам Гиппиус! Не хотите ли Лориган? Ведь Вы в «Золотое руно» снимались так же в брюках с портрета Сомова.
Лживая и скверная Вы. Всё у Вас направлено на личное влияние Вас.
Вы пишете:
«Основа партии — общее утверждение ценностей».
Это Вы пишете.
Безмозглая и глупая дама.
Даже Шкловский помнит, что Вы говорили и что опять пишете: «крайнюю» хату, левую или правую, это безразлично, раз он художник. Такое время. Слова Ваши.
Вы продажны и противны в этом, как всякая контрреволюционная дрянь.
Это суждение к нам не подходит. Дорога Ваша ясна с Вашим игнорированием нас (хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные).
Пути Вам нет сюда, в Советскую Россию. Все равно Вы будете путешественники по стране СССР с Бедекером.
‹1925›
О резолюции ЦК РКП(б) о художественной литературе
Мне определенно нравится эта резолюция вся. Это не то, что декларация напостовцев. Хороша вся резолюция. Но особенно нравится мне часть, касающаяся литературы «попутчиков», потому что я сам «попутчик» из группы крестьянских поэтов.
Нравится мне то, что партия будет терпеливо относиться к размежеванию идеологических форм, терпеливо помогая эти, неизбежно многочисленные формы, изживать в процессе всё более тесного товарищеского содружества с культурными силами коммунизма.
Как советскому гражданину, мне близка идеология коммунизма и близки наши литературные критики тов. Троцкий и тов. Воронский. Тут я всё понимаю. Тут мне всё ясно. А не вполне ясен мне параграф 8 резолюции, особенно вопрос о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм. Возьмем какую-либо группу, предположим, крестьянских писателей. У них общая идеология. Допустим даже, что общий подход к работе. Но их произведения будут глубоко разниться друг от друга, так как у каждого будет свой стиль, своя форма, и чем крупнее дарование, — тем форма будет характернее.
Поэтому мне кажется, что вопрос о выработке новых литературных форм — дело, касающееся исключительно таланта.
‹1925›
Ответ редакции «Новой вечерней газеты»
Каково ваше материальное положение?
Хотелось бы, чтобы писатели пользовались хотя бы льготами, предоставляемыми советским служащим.
Следует удешевить писателям плату за квартиры. Помещение желательно пошире, а то поэт приучается видеть мир только в одно окно.
‹1925›
Отрывки. Неоконченное
О Глебе Успенском
...Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто еще так не понял своего народа, как Успенский. Идеализация народничества 60-х и 70-х годов мне представляется жалкой пародией на народ. Прежде всего там смотрят на крестьянина, как на забавную игрушку. Для них крестьянин — это ребенок, которым они тешатся, потому что к нему не привилось еще ничего дурного. Успенский показал нам жизнь этого народа без всякой рисовки. Для того чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревню. Успенский видел его и на Растеряевой улице. Он показал его не с одной стороны, а со всех. И смеялся Успенский не так, как фальшивые народники — над внешностью, а над сердцем своей правдивой душой, горьким словом Гоголя.
‹1915›
О сборниках произведений пролетарских писателей
...Горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. Жизнь любит говорить о госте и что идет как жених с светильником «во полунощи».
Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады, пламя которой нежно оберегалось от ветра ладонями его взыскующих душ.
Но зато нельзя сказать того, что на страницах этих обоих сборников с выразителями коллективного духа Аполлон гуляет по-дружески.
Есть благословенная нем`ота мудрецов и провидцев, есть благое косноязычие символизма, но есть немот`а и тупое заикание. Может быть, это и резко будет сказано, но те, которые в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков, все-таки немы по-последнему.
Кроме зова гудков, есть еще зов песни и искус в словах. На древних Дагинийских праздниках песнотворцы состязались друг с другом так же, как на праздниках мечей и копий. Но представители новой культуры и новой мысли особенным изяществом и изощрением в своих узорах не блещут. Они очень во многом еще лишь слабые ученики пройденных дорог или знакомые от века хулители старых устоев, неспособные создать что-либо сами. Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова:
Уже известно, что, когда пустая бочка едет, она громче гремит. Мы не можем, конечно, не видеть и не понимать, что это сказано ради благословения грядущего. Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти вчерашней волчьею мудростью века по акафистам Ницше, но все же это сказано без всякого внутреннего оправдания, с одним лишь чахоточным указанием на то, что идет «завтра», и на то, что «мы будем сыты».
Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка, и только лишь чувствует, не стараясь и не зная, с каких сторон опустить на нее свои стопы, еще далек от тени Колумба. Он только лишь слабый луч брезжущего в туман, как соломенный сноп, солнца, того солнца, которое сходит во ад, родив избавление. Он даже и не предтеча, потому что в предтече уже есть петли, которые могут связать. Но до того лассо, которое сверкает в смуглой руке духовного тодаса, далеко и предтече, и потому все, что явлено нам в этих сборниках, есть лишь слабый звук показавшейся из чрева пространства головы младенца. Конечно, никто не может не приветствовать первых шагов ребенка, но никто и не может сдержать улыбки, когда этот ребенок, неуверенно и робко ступая, качается во все стороны и ищет инстинктивно опоры в воздухе. Посмотрите, какая дрожь в слабом тельце Ивана Морозова. Этот ребеночек качается во все стороны, как василек во ржи. Вглядитесь, как заплетаются его ноги строф:
Здесь он путает левую ногу с правой, здесь спайка стиха от младенческой гибкости выделывает какой-то пятки ломающий танец. Поставьте вторую строку на место третьей и третью на место второй, получается стихотворение совершенно с другой инструментовкой:
Этого даже нельзя придумать нарочно. Такая шаткость строк похожа на сосну с корнями вверх, и все же мысль остается почти неизменной. Конечно, это только от бледности ее, оттого, что мысль как мысль здесь и не ночевала. Здесь одни лишь избитые, засохшие цветы фонографических определений, даже и не узор. Но узоры у некоторых, как, например, у Кондратия Худякова, попадаются иногда довольно красивые и свежестью своей не уступают вырисовке многих современных мастеров:
Но, увы, это только узор. Того масла, которое теплит душу огнем более крепких поэтических откровений, нет и у Худякова. Он только лишь слабым крючком вывел первоначальную линию того орнамента, который учит уста провожать слова с помазанием.
Творчество не есть отображение и потому так далеко отходит от искусства, в корне которого («искус») — отображение обстающего нас. Искусство — Антика; оно живет тогда, когда линии уже все выисканы, а творчество живет в искании их.
Созидателям нового храма не мешало бы это знать, чтоб не пойти по ложным следам и дать лишь закрепление нового на земле быта. В мире важно предугадать пришествие нового откровения, и мы ценим на земле не то, «что есть», а «как будет».
Вот поэтому-то так и мил ярким звеном выделяющийся из всей этой пролетарской группы Михаил Герасимов, ярко бросающий из плоти своей песню не внешнего пролетария, а того самого, который в коробке мускулов скрыт под определением «я» и напоен мудростью родной ему заводи железа.
К сожалению, представлен Герасимов в этом последнем сборнике весьма мало. Такие строки, как, например:
напечатанные в «Заводе огнекрылом», обещают в нем поэта весьма и весьма не средней величины среди своих собратий.
Художественная проза сборников, увы, не заслуживает почти никакого внимания. Повесть «Вольница». Какой-то мутный и бесформенный лепет приемов Потехина и Засодимского, а мелкие рассказы — не то лирические силуэты, не то просто анекдоты из неприглядной и неприбранной жизни, где все лежит не на своем месте, где люди и вещи светят почти одним светом.
Проза пролетарская еще не нашла своих путей, как поэзия. В ней есть лишь от прошлого бледноликий Бибик и совсем слабый от «ныне» Безсалько.
Заканчивая эти краткие мысли о выявленных ликах сборником пролетарских писателей, мы все-таки скажем, что дорога их в целом пока еще не намечена. Расставлены только первые вехи, но уже хорошо и то, что к сладчайшему причастью тайн через свет их идет Герасимов.
‹1918›
Россияне
Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живем.
Тяжелое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.
Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы.
— Рр-а-сходись, — мол, — так твою так-то! Где это написано, чтоб собирались по вечерам и песни пели?!
Некоторые типы, находясь в такой блаженной одури и упоенные тем, что на скотном дворе и хавронья сходит за царицу, дошли до того, что и впрямь стали отстаивать точку зрения скотного двора.
Сие относится к тому типу, который часто подписывается фамилией Сосновский.
Маленький картофельный журналистик, пользуясь поблажками милостивых вождей пролетариата и имеющий столь же близкое отношение к литературе, как звезда небесная к подошве его сапога, трубит почти около семи лет всё об одном и том же, что русская современная литература контрреволюционна и что личности попутчиков подлежат весьма большому сомнению. Частенько ему, как Видоку Фиглярину, удается натолкнуться на тот или иной факт, компрометирующий некоторые личности, но где же он нашел хоть один факт, компрометирующий так называемых попутчиков? Всё, что он вскрывает, он вскрывает о тех писателях, которые не имеют ничего общего с попутчиками.
В чем же, собственно, дело? А дело, видимо, в том, что, признанный на скотном дворе талантливым журналистом, он этого признания никак не может добиться в писательской и поэтической среде, где на него смотрят хуже, чем на Пришибеева. Уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал Троцкий разных Безымянских, что пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других, но и этих, кажется, «заехали» — как выражается Борис Волин, еще более кретинистый, чем Сосновский. Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортерских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту»...
‹1923›
О писателях-«попутчиках»
За годы революции, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было также вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса. Невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом или умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с нею. Была и есть группа еще так называемых пролетарских писателей, которые хотели быть зеркалом нового, едва только показывающего ростки быта, но — увы! — на пути своем они настолько оказались бессильны, фальшивы и подражательны, поэтому говорить о них можно только вскользь, отдавая главным образом внимание попутчикам, которые, несмотря ни на какой свист, ни на какие улюлюкания со стороны других групп, действительно оказались единственными талантливыми и способными воспринимать биение пульса нашей эпохи.
Сейчас можно смело сказать, что в беллетристике мы имеем такие имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина, — которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу.
Симпатии к этим писателям в первенстве их одного перед другим могут делиться и не делиться. Пока они живы, неизвестно, кто кого перевесит, да и главное зарыто не в этом, а в том, что они появились, что они есть и каждый из них отражает революцию так, как он видит ее беспристрастными глазами художника.
У нас очень много писалось о Пильняке. Одно время страшно хвалили, чуть ли не до небес превозносили, но потом вдруг ни с того ни с сего стало очень модным ругать его. «Помилуйте, — слышится из уст доморощенных критиков, — да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?»
Этот страшно глупый и безграмотный подход говорит только о невежестве нашей критики или о том, что они Пильняка не читали. Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений. У него есть превосходные места в его «Материалах к роману» и в «Голом годе», которые по описаниям и лирическим отступлениям ничуть не уступают местам Гоголя. Глупый критик или глупый читатель всегда видит в писателе не лицо его, а обязательно бородавки или родинки.
То, что Пильняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем рассейским дорогам и пространствам, совсем не показывает его сущность. Это только его отличительная родинка, и совсем не плохая, а, наоборот, — красивая. Эта сочность правдива, как сама жизнь.
Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно как в русской, так и заграничной прессе. Его рассказ «Дитё» переведен чуть ли не на все европейские языки и вызвал восторг даже у американских журналистов, которые литературу вообще считают, если она не ремесло, пустой забавой. Об Иванове установилось мнение как о новом бытописателе сибирских и монгольских окраин. Его «Партизаны», «Бронепоезд», «Голубые пески» и «Берег» происходят по ту сторону Урала и отражают не европейскую Россию, а азиатскую. В рассказах его и повестях, помимо глубокой талантливости автора, на нас веет еще и географическая свежесть. Иванов дал Сибирь по другому рисунку, чем его предшественники Мамин-Сибиряк, Шишков и Гребенщиков, и совершенно как первый писатель показал нам необычайную дикую красоту Монголии. Язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен. Наряду с своими рассказами и повестями он дал ряд прекрасных алтайских сказок.
Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова и других своих маленьких вещах волнует нас своим необычайным и метким юмором. В нем есть что-то от Чехова и от Гоголя их ранней поры. Будущее этого писателя...
‹1924›
О смычке поэтов всех народностей
...делают смычку рабочих и крестьян, то дайте нам смычку поэтов всех народностей. Мы будем об этом писать и говорить ещё не раз. Вот поэтому-то и предстоящий сезон в литературе обещает быть шумным.
13 сентября 1924
Тифлис
Коллективное
Зовущие зори
Поэтов:
Михаила Герасимова
Сергея Есенина
Сергея Клычкова
Надежды Павлович
Действующие лица
Сергей Назаров. Рабочий, бывший эмигрант с революции 1905 г. Интеллиг‹ент›, талантливый оратор с лицом и фигурой устремляющейся птицы. С ярко выраженной волей в глазах и складках губ. Высокого роста. В движениях вообще спокоен, но сразу изменяющийся на трибуне, где из спокойного преображается в вихревую птицу. 33 лет.
Петр Молотов. Обыкновенный квалифицированный рабочий. Среднего роста. Худощав. Стремителен. С одинаковой постоянной оживленностью в характере и движениях. Смел и восторжен. 28 лет.
Митрий Саховой. Рабочий, недавно из деревни. Кряжистый, угловатый в движениях. Внешне как будто сонлив и вял, в самом же деле очень наблюдателен и восприимчив. Добродушен и незлоблив. 40 лет.
Владимир Михайлович Рыбинцев. Интеллигент. Белокурый, с ясным, открытым лицом (немного усталым), характер постоянного искания. Это выражается даже в движениях. Бывший офицер царской службы военного времени. 28 лет.
Наташа Молотова (жена Петра Молотова). Работница ткацкой фабрики. Миловидная, но болезненная. Нервная, впечатлительная и экспансивная, занимающаяся самообразованием. 27 лет.
Вера Павловна Рыбинцева (жена Рыбинцева). Интересная, буржуазного воспитания, изнеженная, кокетливая, но не пустая женщина. 25 лет.
Марфа Молотова (мать Петра Молотова). Пятидесятилетняя старуха. С типично русским лицом деревенской женщины.
Рабочие, граждане, солдаты, юнкера, красноармейцы и белогвардейцы. Ученики студии Пролеткульта.
Часть первая. Канун октябрьской революции
1. Внутренность большого металлургического завода. Утро. Работа в полном ходе. На первом плане у токарного станка Молотов и Саховой. Молотов, время от времени жестикулируя, четко и отрывисто разговаривает с Саховым, который углублен в работу. Пробегает юркий, невысокого роста рабочий с кипой прокламаций и раздает их. Молотов бросает работу, подходит к Саховому в упор, кладет ему руку на плечо и трясет его, как будто хочет разбудить. Саховой смущенно стоит перед ним. Молотов читает прокламацию. То же самое происходит у других станков. Машины внезапно останавливаются. Все стремительно выходят.
2. Митинг во дворе завода. Ясный осенний день. На бочке говорит оратор. Через двор спокойно проходит к бочке Назаров. Его речь. Толпа слушает как бы загипнотизированная. Молотов узнает Назарова и показывает на него Саховому. Берет Сахового за рукав, и бегут сквозь толпу рабочих к бочке.
3. Назаров кончил говорить. Рабочие аплодируют. Он спрыгивает с бочки и попадает в объятия к Молотову, радостно и удивленно целуются. Молотов знакомит его с Саховым и, обнимая обоих, выводит их на авансцену. На бочку вскакивает другой оратор. Митинг продолжается. Назаров и Молотов, горячо прерывая друг друга, беседуют. Саховой стоит, слушает.
4. Митинг кончается. Рабочие лавиной устремляются к выходу и начинают петь «Интернационал».
5. Рабочие растекаются. Назаров, Молотов и Саховой, разговаривая, идут по улице.
6. Страстная площадь. Понуро проходят отправляющиеся на фронт роты солдат. Молотов останавливает Назарова. Показывает на них и что-то говорит.
7. Они проходят дальше. Навстречу им попадается с пулеметами взвод юнкеров и студентов. Молотов грозит им вслед кулаком.
8. Рабочий квартал. Все трое входят в квартиру Молотова.
9. Комната Молотова. Довольно скромная, но чистая обстановка. На диване лежит больная, прикрытая пальто Наташа. Молотов подводит Назарова, чтоб познакомить, к жене. Наташа приподымается, узнает Назарова как свою первую любовь и вся проясняется и говорит:
«Ах, да мы давно знакомы!»
После порыва ей становится хуже, она кашляет, хватается за грудь и снова опускается на диван. Назаров подносит ей стакан воды. Саховой укутывает ей ноги, и вместе с Молотовым бегут оба в аптеку.
10. Назаров с Наташей вдвоем. Он берет ее за руку и нежно гладит. Она с большой радостью смотрит ему в глаза и говорит ему:
«Я люблю тебя так же, как и прежде».
Назаров садится к ней на диван.
11. Входит Саховой и спокойно сообщает, что
«Пролетарская революция в Москве началась!»
Назаров вскакивает, лицо его восторженно просветляется, он прощается с Наташей, хочет уходить и на пороге сталкивается с Молотовым, который идет с лекарством и говорит взволнованно и горячо, что
«Рабочая кровь проливается! Идем туда!»
12. Молотов лезет под кровать, достает три винтовки, патронташи и ручные гранаты. Дает Саховому и Назарову. Назаров торжественно трясет винтовку в воздухе. Говорит несколько призывных фраз, и все трое торопливо выходят.
13. Наташа одна и рвется всем существом вслед за ними. Хочет встать, но в это время входит Марфа. Подходит к ней, останавливает ее и спрашивает, почему она так взволнована. Наташа говорит, что
«Началась новая революция!»
Марфа ее успокаивает.
14. Наташа встает с постели, накидывает на плечи шаль и хочет уходить. Марфа плачет. Наташа обнимает ее и утешает. Слегка прислушивается и подбегает к окну.
15. Через окно видна проходящая толпа рабочих и солдат со знаменами. Они останавливаются и образуют летучий митинг. Подъезжает грузовик, останавливается, на него вскакивает Назаров и начинает говорить, потрясая винтовкой. Наташа волнуется.
16. Она подбегает к кровати и достает из-под нее небольшое на древке знамя, энергичным жестом развертывает его, и видны слова:
«Да здравствует мировая социалистическая революция».
Она выскакивает в дверь. Марфа остается одна и плачет.
17. Наташа сквозь толпу проходит к грузовику, вспрыгивает на него к Назарову. Назаров замолкает. Она, обращаясь к толпе, говорит. Назаров дает ей винтовку. Она делает призывный жест. Автомобиль трогается.
18. Толпа разбивается на отряды. Многие заряжают винтовки.
19. Идут к Кремлю. В перспективе улицы вдали выступают очертания Кремля. Начинают свистеть пули. В рядах волнение. Назаров приказывает рассыпаться цепью и открыть огонь. Наташа ложится тоже и стреляет.
20. Другая часть рабочих вытаскивает из ворот доски, бочки, ящики и начинает строить баррикады.
21. Издали перебежками приближается к баррикаде отряд белогвардейцев. Бросают в баррикады несколько ручных гранат. Взрывы. Есть раненые.
22. Молотов вскакивает на баррикаду и тоже по направлению к наступающим бросает ручную гранату.
23. Некоторые, в том числе и Назаров, перескакивают за Молотовым за баррикады.
24. Высокий белогвардеец с винтовкой наперевес подбегает к Назарову, но между ними вырастает фигура Молотова, и удар белогвардейца штыком в грудь опрокидывает его навзничь.
25. Назаров стреляет из браунинга. Белогвардеец падает к ногам лежащего Молотова. Наташа бросается к Молотову.
26. Подъезжает большевистский броневик, белогвардейцы отступают.
Часть вторая. Преображение
1. Внутренность Кремля. Белогвардейцы около памятника Александру II устанавливают орудия. Рыбинцев принимает участье, но время от времени глубоко задумывается. Время от времени вспыхивают шрапнельные и другие взрывы.
2. Рыбинцев отделяется и идет к Ивану Великому. Останавливается и размышляюще смотрит на группу юнкеров, которая втаскивает на колокольню Ивана Великого пулеметы.
3. Дежурная комната юнкеров. Жизнь кипит. Телефоны работают. За окнами иногда вспыхивают взрывы гранат. Рыбинцев задумчив и пассивен.
4. Рыбинцев встает и начинает говорить, агитируя за сдачу:
«Господа, наша борьба и сопротивление бесполезны. Революция все равно победит. Во имя спасения храма — красоты Кремля, — предлагаю немедленно сдаться!»
Среди юнкеров возмущение. Один выхватывает браунинг и делает жест застрелить его. Седой полковник отстраняет руку с револьвером и властно зовет патруль.
5. Входят несколько вооруженных с шашками наголо юнкеров, полковник указывает на Рыбинцева и говорит:
«Арестовать этого мерзавца!»
Рыбинцева уводят. Он идет твердо и спокойно.
6. Вечер. Рыбинцева проводят Кремлем в подвал для арестованных.
7. Маленькая подвальная с низким полукруглым сводом и небольшим окном комната. Дверь закрывается. Рыбинцев садится на один из пустых ящиков и глубоко задумывается. Темнеет.
8. Окно освещает красное зарево взрыва. Рыбинцев вздрагивает, встает и смотрит на окно. Опять темнеет. Он подходит к двери и прислушивается. Осторожными движениями ставит несколько ящиков один на другой и подымается к окну. Опять вспышка взрыва, во время которой он выдирает раму, осторожно спускается, ставит ее на пол и почти одним движением выскакивает в окно.
9. Темная ночь. В двух-трех местах горят костры, вокруг их темные силуэты белогвардейцев. Рыбинцев пробирается к стене со стороны Москвы-реки. Несколько шрапнельных взрывов. Он подходит к черным силуэтам орудия и зарядных ящиков, находит веревку и идет с ней к стене.
10. Прикрепляет. Спускается по ней вниз и, крадучись, идет вдоль Москвы-реки к мосту. Без фуражки.
11. На мосту его схватывает большевистский патруль и принимает за белогвардейского шпиона.
12. Его приводят на темный двор к стене, приносят факелы. Он начинает волноваться и пытается доказать, что он убежал из Кремля с целью выдать планы белогвардейцев. Начальник говорит:
«Ложь! Он шпион, расстрелять его!»
Рыбинцеву завязывают глаза. Рабочие отходят на тридцать шагов и берут ружья на прицел.
13. Быстро входит Назаров и спрашивает:
«В чем дело?»
Ему объясняют. Рыбинцев узнает его голос и называет по имени. Назаров подходит к нему и срывает повязку. Рыбинцев, тряся его руку, жестикулируя и волнуясь, рассказывает, как он бежал из Кремля из-под ареста. Достает из бокового кармана план и при свете факелов объясняет, что на утренней заре белогвардейцы произведут нападения на важные пункты. Назаров отдает распоряжение и с Рыбинцевым уходит.
14. Рыбинцев входит в парадную своей квартиры.
15. Буржуазная квартира. Рыбинцева, время от времени подходя к окну, взволнованно смотрит в ночную темноту. Входит Рыбинцев. Бледный, с растрепанными волосами и без шапки. Рыбинцева бросается обнимать его и взволнованно спрашивает:
«Что с тобой? Ты ранен?»
Он, слегка отстраняя ее, садится и, подумав немного, начинает говорить о своем духовном переломе:
«Я не могу идти против революции!»
Рыбинцева с удивлением и ужасом отскакивает от него. Энергичными жестами она выражает свое возмущение:
«Ведь это же измена!»
16. Рыбинцев сидит за столом. Жена подходит к нему, иронически улыбается и, круто повернувшись, быстро уходит. Рыбинцев вскакивает и протягивает руки, словно хочет воротить ее назад. Проводит рукой по волосам, схватывает фуражку и тоже поспешно идет к двери.
17. Московский совет. Обычный день советской работы. Рыбинцев, проходя в приемную, встречается с Назаровым. Назаров протягивает ему руку. Оба уходят в кабинет. На кабинете вывеска:
«Военный комиссар».
18. Кабинет. Разговор. Назаров предлагает Рыбинцеву пост своего помощника. Рыбинцев соглашается. Телефон звонит. Назаров у телефона.
19. Военный комиссар у прямого провода. Перед зрителем должны пройти картины боевой жизни Царицынского, Южного, Дутовского фронтов. (Предоставляется режиссеру, в зависимости от наличия интересного материала, разработать эту картину.)
20. Входит секретарь, сообщает о выступлении в городе белогвардейцев. Назаров отдает распоряжение Рыбинцеву немедленно отправиться в район выступления. Рыбинцев, уходя, пожимает руку Назарову.
21. Назаров выходит на двор, где стоят готовые броневики и грузовые автомобили с красногвардейцами. В один из грузовиков он садится и делает знак следовать за ним остальным. Вооруженные автомобили уезжают.
22. На улице автомобили подвергаются внезапному обстрелу. Красногвардейцы рассыпаются цепью. Броневики открывают огонь из пулеметов и двигаются дальше. Рыбинцева ранят в ногу, он падает на тротуар у подъезда, из которого выглядывает испуганное лицо его жены. Рыбинцева бросается к нему. Он ее успокаивает, его уносят.
23. Квартира Рыбинцевых. Приходит доктор. Делает перевязку. Рыбинцева ухаживает за ним. Когда они остаются одни, она садится около него, гладит ему волосы. Он ей целует руку. Происходит примирение.
24. Утро. Рыбинцев читает в постели. Рыбинцева приготовляет утренний кофе. Входят Наташа и Назаров. Оба жмут руку Рыбинцеву, осведомляясь о здоровье.
25. Рыбинцев, как будто спохватившись, указывает им на жену, представляя ее. Наташа и Назаров подходят к ней и крепко пожимают ей руку. Все трое садятся пить чай у столика, стоящего у изголовья Рыбинцева. Назаров говорит с Рыбинцевым. Рыбинцева время от времени встает из-за стола и приносит им чай. Слушая Назарова, Рыбинцева застывает с чашкой в руке. Наташа весело улыбается, глядя на Рыбинцева и Назарова. В Рыбинцевой скрытая горечь и борьба. Они расстаются друзьями.
26. Рыбинцева приходит к Наташе на квартиру. Наташа показывает ей первомайское знамя, вышитое ею. Приглашает ее идти вместе на демонстрацию. Они весело уходят. Марфа укоризненно покачивает головой, закрывая за ними дверь.
27. Первомайская демонстрация 1918 года. (Использовать имеющийся в наличии интересный материал.)
28. Назаров встречается в толпе с Наташей и Рыбинцевой.
29. Они проходят мимо московского Пролеткульта. Назаров показывает им на здание. Они входят.
Часть третья. Пролеткульт
1. Мраморная зала. Вечер. Назаров и Рыбинцева сидят на мраморной скамейке. Он говорит ей о красоте, порывах и стремлениях рабочей души. Она пожимается, как от холода, время от времени недоверчиво на него взглядывает. Назаров, увлекаясь, подходит к статуе Венеры и говорит:
«Рабочая душа также способна воспринимать, чувствовать и созерцать красоту!..»
2. Назаров и Рыбинцева идут в столовую, где происходит литературная беседа и диспут учеников литературной студии московского Пролеткульта. Они садятся и слушают.
3. Рабочий поэт М. Герасимов читает свои стихи.
4. Рыбинцева напряженно слушает. Перед ней возникает образ ночного завода, где на первом плане стоит она и Назаров, который указывает ей на звезды. Завод весь в огнях и дыме.
5. Начинается горячий диспут, в котором принимает участие и Назаров.
6. После Назаров ведет ее в большое зало, где происходят студийные работы ритмической гимнастики рабочих. Рыбинцева удивленно осматривает танцующих. Назаров ее увлекает дальше.
7. В студии живописи.
8. В студии скульптуры.
9. Они возвращаются в мраморную залу. Рыбинцева взволнована всем увиденным. Назаров говорит с энтузиазмом о творчестве рабочих. Он весь загорается. Рыбинцева, потрясенная его словами и в то же время восхищаясь им, говорит ему:
«Я полюбила ваши порывы».
Он кажется ей героем будущего, ей чудится в нем воплощение творческих сил, заложенных в пролетариате. Он слушает ее растроганный и жмет ей обе руки. Он говорит:
«Я люблю мир, люблю людей, люблю саму любовь, но полюблю только ту женщину, которая способна умереть за свободу человечества».
10. Назаров и Рыбинцева идут площадью Революции. Им попадается конвой красноармейцев, ведущий попа и нескольких буржуев. Рыбинцева останавливает Назарова и показывает пальцем укоризненно. Они выходят на Красную площадь. Рыбинцева указывает на Лобное место, говорит, что по-прежнему льется кровь, что революция по-прежнему несет ужасы террора. Назаров видит афишу на балюстраде Лобного места, на которой написано:
Митинг: «Грядущий мир»
Участвуют тт. Назаров...
Назаров предлагает пойти вместе с ним туда, говоря, что там она почувствует смысл, и чаяния, и огонь Революции. Рыбинцева соглашается, они идут.
11. Театральная площадь. Рыбинцева покупает розу и прикалывает ее Назарову. Подъезжает трамвай. Они садятся и едут на митинг.
12. Назаров и Рыбинцева подходят к заводу. Вход украшен красными флагами и знаменами. Толпы рабочих вливаются в ворота завода. Рыбинцева боязливо оглядывается и, крепко держа под руку Назарова, входит за ним.
13. Зал митинга. На трибуну входит Назаров, Рыбинцева на переднем плане. Во время речи Назарова она волнуется и рвется за его словами. Она в словах Назарова видит картины грядущего.
14. «Вот оно, царство свободы, вот дворец рабочих».
(Картина дворца.)
15. «Мы будем веселиться беспечно, как дети, мы будем плясать на зеленых лугах вокруг изваянья Свободы».
Картина изображает рабочий праздник на лугу, на берегу озера. Фон — фабричные недымящиеся трубы. Танцы грядущего вокруг статуи Свободы.
16. «Голодных не будет — дворцы питания вместят всех».
Общественная столовая, полная народа. Величественный зал, роскошная сервировка и избыток продовольствия.
17. «Работа будет нашим отдыхом, спортом, укрепляющим дух и тело, а не проклятьем».
Дворец работы. На башне часы показывают одиннадцать. Рабочие, хорошо одетые, стекаются к дворцу.
18. Вестибюль дворца работы. Рабочие переодеваются в чистые блузы. Идут в рабочую читальню.
19. Рабочая читальня. Книги. Газеты. Журналы.
20. Часы. Стрелка показывает 12. Часы бьют «Интернационал».
21. Внутренность завода-дворца, украшенная зеленью (пальмами, цветами). Входят рабочие и начинают работать у станков.
22. Часы. Стрелка показывает 3. Часы бьют «Интернационал».
23. Дворец. Выход рабочих.
24. Митинг кончается. Рабочие после аплодисментов Назарову расходятся. Остаются Рыбинцева и Назаров. Рыбинцева подходит к Назарову и говорит, что ей хочется поцеловать те уста, которые говорят такие хорошие слова. Назаров берет с груди своей розу и втыкает ее между шестерен машины. Рыбинцева подходит и жмет его руку.
Часть четвертая. На фронт мировой революции
1. Коммуна. Простая, но приветливая квартира. Саховой, Наташа, Назаров, Рыбинцева и многие другие. Сидят за столом с чайным прибором. Идет оживленная, веселая беседа.
2. Входит Рыбинцев с газетой в руках, плохо сложенной, видно, что читал на ходу. На газете виден заголовок:
«ПРАВДА»
«МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАЗГОРЕЛАСЬ В ГРОМАДНЫЙ ПОЖАР»
Все тянутся к газете. У Рыбинцева радостное лицо. Он указывает на заголовок.
3. Саховой встает из-за стола, уходит в угол, как будто что-то соображая, потом снимает со стены винтовку и осматривает ее.
«Куда ты, Саховой?» — спрашивают его. Саховой мнется, потом выпаливает:
«А на фронт».
4. Все вскакивают.
«Он прав», — говорит Назаров. Наташа вытаскивает из сундука красноармейский костюм. Рыбинцев и Назаров оживленно просматривают газету, делясь впечатлениями. Рыбинцева одинока, видимо, в ней снова происходит внутренняя работа и мучительная борьба. Она время от времени порывается к Наташе, но каждый раз энергичным жестом как бы останавливает себя на полуслове.
5. Назаров отошел от Рыбинцева. Подходит к Саховому. Хлопает его по плечу и пожимает ему руку. Саховой говорит ему:
«Ты приехал из-за границы, и твое место там».
Назаров коротко думает и говорит решительно:
«Да, я еду за границу. Я там нужнее, так как там главный фронт социалистической революции».
6. Все уходят, кроме Рыбинцевой и Назарова. Она просит его взять с собой, не отрывать ее душу от своей.
«Я владею хорошо французским и немецким языками, я буду всюду с тобой, агитировать, сражаться, умирать, если нужно, только возьми меня, я так тебя люблю, милый!»
После краткого раздумья он говорит решительно и властно:
«Нет! Если ты действительно переродилась и веришь в социализм, иди с ними на фронт!»
7. Пристань. Пароход дает последние гудки и медленно отчаливает. На палубе Назаров, он кланяется. Скорбная фигурка Рыбинцевой вздрагивает, она машет платком, как чайка крылом. Пароход исчезает.
8. Рыбинцева долго еще стоит, как скорбная мадонна на фоне моря. Вдруг вспыхивает, преображается от внутреннего огня и твердыми шагами уходит.
9. Квартира Наташи. Рыбинцева и Наташа собираются красноармейками на фронт. Мать Наташи Марфа плачет, уговаривает их не делать этого безумия, не лезть смерти в лапы.
10. Улица перед вокзалом. Проезжает артиллерия, пулеметы, броневики. Красная Армия пешая и на конях. Знамена, плакаты.
11. Пение толпой и войсками «Интернационала», торжественное и воодушевленное. В это время проходит рота, в первых рядах которой Рыбинцева, Наташа, Саховой. Рыбинцев впереди командиром.
Конец — с концом «Интернационала».
‹1918›
Другие редакции
Железный Миргород
Я не читал прошлогодней статьи Троцкого о современном искусстве, когда был за границей. Она попалась мне только теперь, когда я вернулся домой. Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?..
Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был.
Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано.
Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой, поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.
Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся (простите, что у меня нет образа для сравнения, я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что исповедуемый мной и моими друзьями «имажинизм» иссякаем. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в сам`ом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. да как же это?..»
Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабин.
Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыхов, где играют в карты (невольно пожалел, что не было Маяковского), прошел через танцевальный зал, и минут через пять чрез огромнейший коридор спутник подвел меня к нашей кабин.
Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, 2 ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше. Вспомнил про «Дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь» как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию. Народ наш мне показался именно тем 150000000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то в эпоху буржуазной войны в «Летописи» Горького некий Тальников. Где он теперь?
Я с удовольствием пожал бы ему руку, ибо это была большая правда и большая смелость в эпоху квасного патриотизма.
Милостивые государи! лучше фокстрот с здоровым и чистым телом, чем вечная, раздирающая душу на российских полях, песня грязных, больных и искалеченных людей про «Лазаря». Убирайтесь к чёртовой матери с Вашим Богом и с Вашими церквями. Постройте лучше из них сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород.
С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство.
Пусть я не близок им как романтик в моих поэмах, я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, ‹близок› и в своем творчестве, лишь бы поменьше было таких ценителей искусства, как Мещеряков в Госиздате или (царство ему небесное) покойный Вейс. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном 6 дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.
На шестой день около полудня показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.
Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке. Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами. Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые, смешные российские доморощенные урбанисты и электрофикаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и Ваши «Леф» как Тула перед Берлином или Парижем.
Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб, дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое — великое и громадное, что дух захватывает, хочется скорей на берег, но... но прежде должны осмотреть паспорта...
В сутолоке сходящих мы подходим к какому-то важному лицу, который осматривает документы.
Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабин, что в штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.
Элис-Аленд — небольшой остров, где находится карантин и всякие следственные комиссии по приезжающим. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... могут отослать обратно, но могут и посадить...
В кабин к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и всё спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5½ нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили с спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественней. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.
. . . . . . .
Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы с спутником взглянули на статую-свободу и прыснули смехом.
«Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я.
Журналисты стали спрашивать, над чем мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они засмеялись тоже.
На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов.
Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой, господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.
«Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу и мы спасены!»
— Мистер Есенин! — сказал господин. Я встал. — «Подойдите к столу», — вдруг он твердо сказал по-русски. Я ошалел.
— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.
Я стал отвечать, но первый вопрос меня сбил с толку.
— В Бога верите?
Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:
— Да!
— Какую признаете власть?
Елки-палки! Еще не легче! Сбивчиво я стал говорить, что я поэт, что в политике ничего не смыслю.
Помирились мы с ним, помню, на народной власти.
Потом он, не глядя на меня, сказал: «Повторяйте за мной: “Именем Господа нашего Исуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участья!”»
Я повторял за ним каждое слово. Потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение при легком опросе впустить меня.) Взяли с меня подписку и не петь «Интернационал», как это сделал я в Берлине.
Миргород! Миргород! Свинья спасла!
Сломя голову я сбежал с пароходной лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахнуло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать:
«Ах, да это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках ‹со› скобяной торговлей».
Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтригованная газетами толпа.
Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам:
MI LAIK AMERIKA
Через девять минут мы были в отеле. О том, что такое Нью-Йорк, поговорим после.
На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не пред человеком.
Люди часто ездят не в освещенных вагонах. Дело здесь, конечно, не в бедности государства, а в невежестве самих граждан, которые предпочитают освещать раскрашенные доски, чем употребить этот свет для более полезных целей.
Америка внутри себя не верит в Бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.
Обиженным культурникам на жестокость русской революции не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя культуры индустрии.
Что такое Америка?
Америка это прежде всего была страна краснокожих. Вслед после открытия этой страны Колумбом туда потянулся весь неудачливый мир Европы. Искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили красный народ всеми средствами.
Красный народ стал сопротивляться. Начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась маленькая горсточка (около 500000), которую содержат сейчас, огородив тщательной стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайявату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.
Но и все ж, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется крышам 20-тиэтажных домов, все ж никому не будет жаль, что дикий Гайявата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.
Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».
Культура к индейцам не прививается. Мне рассказывали, что в Америке нет ни одного мало-мальски интеллигентного индейца.
Были опыты. Брали какого-нибудь малыша, отдавали в школу, а лет через пять-шесть в один прекрасный день он снимал с себя ботинки и снова босиком убегал к своим. Сейчас Гайявата — этнографический киноартист, он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые подымаются в воздух по особо устроенным спускным доскам, возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, подымают их и сажают на свои железные плечи.
Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности, как говорят, «пока еще — слаба гайка», и потому мне смешны все эти «лефствующие», которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.
В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтоб не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, но в наших родных пенатах я даже и самого гениального электрофикатора Ленина видел в Петербурге на жалком тарантасе с лицом, упертым в почтенный зад кобылы.
Ну, да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее. С точки зрения великих замыслов эта улица тоже ведь наша.
У какого-то смешного поэта, написавшего «сто пятьдесят лимонов», есть строчки о Чикаго как символе Америки:
Сие описание «флигелей» напоминает мне описание Козьмы Индикоплова, который уверял всех, что он видел то место, где земля сходится с пологом неба.
Правда! Оно, положим, и есть ступени, но никто по ним не ходит, потому что ступени эти «чёртиковы» существуют только на пожарные случаи, а подымаются там исключительно в лифтах в 3–4 секунды до 46 этажа. Так что по картинкам иногда можно ошибиться и нечаянно дать Америку, перелагая Уитмана, 19-го века, Америку старого Нью-Йорка. Тогда Бродвей был не таким. Сила Америки развернулась окончательно только за последние 20 лет. При Уитмане он походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег, но зато дьявольски зд`орово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего названия «окраинная дорога», — «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлей и приятней идти, чем днем.
Перед глазами море электрических афиш. Там на высоте 20 этажа кувыркаются во весь рост сделанные из лампочек гимнасты, там с 30 этажа курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами, там около театра на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., и т. д. всё в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по двадцатому или двадцать пятому этажу налево беспрерывно до конца номера. Одним словом, «умри, Денис, лучше не напишешь».
Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.
Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.
Бедный русский Гайявата!
Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.
Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь к Калифорнии, впечатления громоздкости исчезают. Перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы! страшно похоже на Россию) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похожими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено, как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.
Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт под американцев.
Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромнейшее влияние на музикхольный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры довольно народ примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Bisnes» и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей ступени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. (?) Все это свидетельствует о том, что народ они весьма молодой и не вполне сложившийся в формы. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области на фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если б не было гения этого человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.
Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городового, только с другими кантами.
Этот курьез объясняется тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках русских евреев. Наши сородичи, видно из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы.
Для русского уха и глаза вообще Америка, а главным образом Нью-Йорк, немного с кровью Одессы и западных областей. Нью-Йорк на 30 процентов еврейский город. Евреев главным образом загнала туда нужда скитальчества из-за погромов.
В Нью-Йорке они осели довольно прочно и имеют свою жаргонную культуру, которая ширится все больше и больше. У них есть свои поэты, свои прозаики и свои театры. От лица их литературы мы имеем несколько имен мировой величины. В поэзии сейчас на мировой рынок выдвигается с весьма крупным талантом Мани-Лейб.
Мани-Лейб уроженец Черниговской губ. Россию он оставил лет 20 назад. Сейчас ему 38. Он тяжко пробивал себе дорогу в жизни сапожным ремеслом и лишь в последние годы стал иметь возможность существовать на оплату за свое искусство.
Он ознакомил американских евреев переводами на жаргонный язык с русской поэзией от Пушкина до наших дней и тщательно выдвигает молодых жаргонистов с довольно красивыми талантами, от периода Гофштейна до Маркиша. Здесь есть стержни и есть культура.
В специфически американской среде отсутствие всякого присутствия.
Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких на порог не пускают, несмотря на то, что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.
Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение.
Нравы американцев напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны Америки.
«Слушайте, — говорил мне один американец, — я знаю Европу. Не спорьте со мной. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?»
От таких слов и смеяться, и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает. Америка подбирает окурки. Но из этих окурков растет что-то грандиозное в той среде, которая называется рабочим классом; об этой среде поговорим особо.
Варианты
Ключи Марии
Автограф (ИМЛИ)
С. 186
Название отсутствует.
Сноска отсутствует.
Посвящение отсутствует.
Цифра «1», обозначающая первый раздел или часть произведения, отсутствует.
Эпиграф вписан позже:
6
Но никто так прекрасно не слился / Но никто так прекрасно не о
7
вкладывая в него всю жизнь, все сердце / вкладывая всю жизнь, сердце
8
После: Русь — зачеркнуто: какое счастье быть сыном такой родины,
8–9
где почти каждая вещь / где вся жизнь через каждую свою вещь
11
наших / нашего
12
После: сирена — зачеркнуто: о том
15–16
тайнам орнамента в слове / тайнам сло<ва?>
С. 187
6–8
После стихов Н. Клюева, взятых в кавычки, не обозначена его фамилия
11–12
больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия. / больше Ассирия, чем Персия.
15
явные признаки / явный отпечаток
После: отражения — зачеркнуто: Уклад русской жизни в данном случае [как самого молодого племени] не может зачеркнуть в себе образы вливающихся в него
17
на них довольно выпуклый / на них известного
18
Никто / Мы
20
Все величайшие наши мастера зависели / Величайшие наши мастера [гл] в своих фресках [и досках] зависели
22
Но крещеный Восток / Но то, что
24
открыл / распер
лишь те двери / те двери
25
После: слова. — зачеркнуто: Если проглядеть всю
26–28
Самою первою и главною отраслью ~ был и есть орнамент / а. Самая ранняя отрасль нашего искусства есть песня б. Самая ранняя и главная отрасль нашего искусства есть песня в. Самою первою и главною отраслью нашего искусства с XI в. есть г. Самою первою и главною отраслью нашего искусства еще до XI в. есть д. Самою первою и главною отраслью нашего искусства с конца одиннадца<того> е. Самою первою и главною отраслью нашего искусства с века насильнического преображения и помазания [нас] светом чуждых нам прозрений ж. Самою первою и главною отраслью нашего искусства с тех пор, как мы начинаем себя помнить письменно
28
Но, просматривая / По из<следованиям?>
30
мы не встречаем почти / а. мы почти у всех не встретили б. мы совсем не встретили
31–32
приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции / приплытия к этому берегу греков
С. 188
4
грамоты, которая ведет читающего / грамоты со словами
15
Отвечает старцу / а. Ты б. Говорит ему
18
После: выплесну». — зачеркнуто: Вот эту-то книгу вытканную
19
Равинский / а. Буслаев б. Полевой
23
в других странах / в других наших соседних
24
После: на втором плане. — зачеркнуто: Смешно, конечно, думать о том, что церковь есть исключительно термин христианский. [Так] Но смешней, гораздо смешней [видеть] слышать того, кто [говорит о] начинает говорить о русской культуре, ставя ее дугой христианского угла. Для нас, людей чуть ли не двадцать пятого столетия, при всех выявленных как внешне, так и внутренне средствах нашего народа, нет такого определительного радиуса. Мы знаем, что христианство как культ никогда не рождалось, в данном случае, в нас. Оно родилось в нас как образ, напоенный прозрениями наших языческих мистерий. Оно дало нам лишь лишние средства в определениях фигурами того мира, который был в нас [до него] раньше его появления.
Вместо этого вписано на обороте:
Все говорили ~ до сего времени
29
Но весь абрис / а. Весь абрис б. Но почти весь абрис
30–31
что он был, остался и живет тем / а. что наша культура не изменила почти ни единой черточки [в] в себе. Она так и осталась тем б. что он был и он остался и живет
С. 189
2–4
и потому вместе с христианством перешло, как название, бесплатным приложением к нам. / и вместе с христианством перешло, как бесплатное приложение, к нам.
4–5
Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню, то древо / а. Еще в Иггдразили — поклонении ясеню б. Скандинавская Иггдразиль — то древо
6
этот / упомянутый
8
у всех / поклонением всех
Это древо / а. Оно б. Древо
9
В древности никто не располагал / а. Никто не располагал в древние времена б. В те времена никто не располагал
11–12
показания Библии и апокрифы других направлений. / мифы всех рас и произведения других направлений, [напи<санные?>]
12–13
Вся языческая / а. И поэтому языческое б. Та языческая
14–15
философия жизни на земле есть плод прозрачных пастушеских дум / а. философия жизни на земле, происхождение прозрачных пастушеских дум б. философия жизни на земле есть плод легкой
16
пас-тух (=пас-дух / пас-тух = (дух
18
говорит / пор<ождает?>
21
пишет / говорит
22–23
вырастили наше вселенское символическое древо / а. придумали Древо б. вырастили Древо
23
После: древо. — зачеркнуто: мы
23–24
Наши бахари орнамента без всяких скрещиваний с санскритством / а. Наши бахари без всяких санскри<тств?> б. Наши бахари без всяких скрещиваний с санскритством
24–25
поняли / дошли
27
через сучья / и через с<учья>
31
и наша былина / еще и былина
С. 190
3
Мысль об этом происхождении от / а. Мысль о б. Мысль происхождения о<т> в. Мысль о происхожд<ении>
4
вместе с музыкой и мифический эпос / всю нашу религиозную философию Христа. Далее зачеркнуто: В данном случае факт с смоковницей. После этого вычеркнуто: [Мы] [Русь] Мы в памяти своей как раса и нация еще очень молоды. [Нам] От нас еще очень многое скрыто за завесой бессознательных лет степного кочевья. Мы не помним, кто первый взыграл у нас на Руси до Бояна и кто наши гусли выдумал. [Опираясь на племенное родство с финнами и на некоторую <1 сл. нрзб.>] [В этом случае мы возьмем Вейнемейнена. Старый верный Вейнемейнен]. [Музы<ка>] Происхождение музыки у нас так и осталось пастушес<кое>.
6
самый прекраснейший ключ / самая прекраснейшая тай<на>
7
закрытого / заперт<ого>
8
Иовулла / Иогулла
8–9
через простой лик / простым ликом
13
Вылей / Выиграй
16–17
Здесь в одном образе тростинки слито три прозрения. / а. Таким образом, через простую тростинку на могиле мы видим слияние б. Здесь в одном образе тростинки слито три самых главнейших человеческих прозрений <так!>
18
Узлом слияния потустороннего мира / Узлом слияния мира
19
переселение души / переселение душ
После этого зачеркнуто: а. Душа б. Девушку убивают
23–24
чтоб легче слить / чтоб таким образом слить
24–25
После: овладеть ею как образом. — зачеркнуто: Это проделывало и христианство. Оно во время одного крестного хода заставило бурю поднять мальчика на небо [и мальчик послушал на небе ангелов, заучил там «Святый Боже, Святый крепкий» и снова благополучно в объятиях бури спустился вниз], послушать там ангелов и заучить «Святый Боже, Святый крепкий». Когда все это было проделано, [мальчик] буря осторожно спустила мальчика обратно на землю, и люди узнали новую молитву.
С. 191
4
не как о случайном факте / не как о случайном, а как
7–8
не поясненный и не разгаданный никем бытовой орнамент. / а. не поясненный никем и не разгаданный орнамент нашего быта. б. не поясненный никем и неразгаданный наш бытовой орнамент.
10–11
на постельном и тельном белье / на просты<нях>
13–14
как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии / а. как в греческой, египетской, римской, так и в б. как в греческой, египетской, римской мифологии, так и в русской
17–18
Ни Запад и ни Восток, взятый вместе с Египтом / а. Все б. Ни Запад, ни Вост<ок> в. Ни Запад и ни Восток не м<огли>
18–19
выдумать этого не могли / этого выдумать не могли
21
После вечного кочевья — зачеркнуто: и готовностью тронуться
22
говорит / как бы говорит
После: наш мужик — зачеркнуто: зная
23
Такое / а. Только б. Так
26–27
он вечный вестник ~ посадил его на ставню / а. крестьянин не напрасно желал показать б. крестьянин как бы желал показать в. Он вечный вестник его восхода. Свет входит в избу через окно, и крестьянин не напрасно посадил этого петуха на ставню
31–32
После: как солнце рано встает и — зачеркнуто: [пригре<вает>] [про<гревает>] св<етит?>
32
влагает / опускает
33
так и я, пахарь / так и пахарь
С. 792
3
стоит стражем / [стра<жем>] стоит на страже
3–4
После: у окна моего и — зачеркнуто: зорко смотрит, чтоб не про<спал>
7
осенения кротостью / а. осенения дома кротостью б. осенения ступеней кротостью
7–8
слово пахаря входящему / слово входящему
10
пахарь значением его предупредил / пахарь <1 сл. нрзб.> значением его крылье<в>
15–16
«Преисполнясь мною, ты / а. «Преисполнись мною, да б. «Преисполнись мною, и
18–19
заповедей, скрытых в искусах орнамента / заповедей через искусство в орнаменте
21–22
почувствовал бы мерзкую клевету / почувствовал всю клевету
23
кустарей / кустарных музеев
26
Нет, не в одних только / Не в одних только
27–28
орнаментику букв и пояснительные миниатюры /орнаментику букв и пояснительных <1 сл. нрзб.> миниатюр
31–32
с какой-то торжественностью музыки переплетаются / с какой-то торжественностью переплетаются
33
ветви / а. короны б. знаки в. ветви, и опять с глубоким внутренним смыслом.
Древо на полотенце — значение нам / О древе на полотенце и его значении нам
С. 193
I оно ни на чем не вышивается / но опять оно нигде не вы<шивается>
2–3
что в этом скрыт / что это не случайно
7–8
немо говорит о том, что / а. как бы прикладывается к нему устами б. как бы хочет сказать, что
10
надмирного древа / этого древа
11
окунаясь лицом в полотенце / окунаясь [в из<ображающее>] лицом в изображающее его полотенце
12–13
чтоб, подобно древу, он мог / а. чтоб и самому, как это б. чтоб, подобно древу, и он мог
13
осыпать с себя / ссыпать с себя
14
После: тень-добродетель — зачеркнуто: и корнями ног искать
15
Цветы на постельном белье / Цветы на постельном и тельном белье
16
восприятия красоты / восприятия красоты значных пожеланий и <пропуск в тексте>, которые царство сада / царство вечного сада за все
17
Они / Эти цветы
19
смысла крестьянина / смысла каждого крестьянина
22–23
глубокую орнаментичную эпопею / а. тонкой работы поэму б. глубокую эпопею
23
с чудесным переплетением духа и знаков / а. в чудесных переплетениях духа с знаками б. в чудесных переплетениях духа с линиями
25
После: «потоков рожденье». — зачеркнуто: Древо протягивает ветви в наш мозг, ток их проходит нам в сердце, и мы постигаем грамматику наших чувств.
Перед второй частью, обозначенной цифрой «2.» (с точкой), позже вписан и затем зачеркнут эпиграф:
В начале текста второй части (главки) зачеркнуто:
В творческом рождении начало есть линия. За линией идет звук, за звуком и линией, сочетая их вместе, идет слово.
27–29
За культурой ~ искусства словесного / а. За культурой [развития] в развитии письменности еще с X и XI века б. За культурой [строит<ельного?>] обиходного орнамента на широких размахах русского поля начинает в. За культурой обиходного орнамента на неприхоженных снегах русского поля показались следы нашего яркого искусства слова.
28
начинают / начинает
30–31
ряд мифических и апокрифических произведений / ряд апокрифических произведений
С. 194
2
изяществом своего построения / изяществом фор<мы?>; затем зачеркнуто: От эпохи безграмотности
2–3
Конечно, и это / а. Конечно, здесь б. Конечно, и здесь
3–4
некоторой цивилизации / ци<вилизации>
6
смыла его / сумела смыть это
10–11
Они передали нам знаки для выражения звука / Они дали нам знаки выражения звука
11
Но заслуга / Если заслуга
12–13
у нас уже были найдены / а. мы нашли б. у нас уже су<ществовали>
13–14
ключи к человеческому разуму / ключи к человеческой душе
15
знаки, из которых / знаки, которыми
15–16
свою избяную литургию. / свою му<зыку>
После: литургию. — вычеркнуто: Да и вообще христианство, обнимающее с прозревшим разумом весь мир, для нас не было открытием Америки. То, что принесло оно к нам в [св<оем?>] чаше своего имени, уже жило [в] у нас [течением] [в течении] религиозным течением братчины и побратимства. [Оно только шире в нас растворило врата и заставило принять]
Религиозные толкователи [10] X и XI в. очень хорошо поняли [внеся чашей проникновения «Толковую псалтирь» в то] [с первого нашего шага] [на весь наш мыслящий олимп] наш мысленный уклад [в фигурах], подарив нам [знаком проповеди] проповедью своей «Толковую псалтирь».
17–18
Изба простолюдина — это символ понятий и отношений, выработанных / а. Всякий в б. Изба — это понятие в. Его изба — это понятия и отношения к миру, выработанные г. Его изба — это символ понятий и отношений к миру
20–21
уподоблениями ~ кротких очагов. / а. уподоблениями ~ кротких очагов, движениями по б. уподоблениями ~ кротких очагов или движениям по
После: очагов. — зачеркнуто: В нашем эпосе нет «Калевалы», [по которой мы могли бы судить] которая давала бы нам представление о сотворении земли и неба. У нас
21–23
Вот потому-то ~ Фавор / а. Мир слова похож на какой-то вечно [зел<еный>] светящийся Фавор б. И потому в наших песнях и сказках мир слова ~ Фавор
23
где всякое движение / а. где б. где каждая вещь в. где каждый
живет преображаясь. / а. живет преображением, б. живет преображением Христа.
24–25
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре / Теперь нам трудно докопаться, почему наш красный угол есть уподобление заре.
После этого зачеркнуто: Но зная
27
через такой порядок / а. только пост<роение> б. чер<ез> такое построение машину речи / машину современной речи
29
В нашем языке есть много слов / а. У нас очень много с<лов> б. Каждое слово запирает в себе целый ряд
30
«семь коров тощих пожрали семь коров тучных» / «семь коров тучных пожрали [нетуч<ных>] семь коров тощих»
они / такие слова
31
других слов / слов
31–32
выражая собой / а. выражая б. выражая своей тучностью
33
Например, слово умение / а. Окно, например, от б. Слово, например
заперло / запира<ет>
С. 195
1–2
и несколько слов, опущенных в воздух / а. и опущ<енное> б. и одно слово, опущенное в. и опущенное в г. и одно слово, опущенное <в> возд<ух>
2
выражающих свое отношение к понятию / а. имеющее значения от б. имеющее значение понятия или пр<едмета> в. выражающих свое значен<ие?>
2–3
Этим особенно блещут / а. На б. Этой в. На этой г. Этой [тучностью] сложно<стью> особенно блещут
3–4
блещут в нашей грамматике глагольные положения / блещут наши глагольные положения
4–5
которым посвящено целое правило / а. где даже есть целое правило б. Спряжение глаголов
5–6
вытекшее из понятия «запрягать» / означающее науку зап<рягать>
6–7
то есть ~ какой-нибудь мысли / а. то есть приводить в порядок б. [з] [таким] то есть надевать сбрую какой
7
на одно слово / а. в одну повозк<у> б. на одно более сильное слово
7–8
слово, которое может служить так же, как лошадь в упряжи, духу / слово, которое может служить санями духу
7–9
служить ~ духу, отправляющемуся в путешествие по стране представления. / служить санями духу, отправляющемуся в путешествие по представлению.
9–10
На этом же пожирании тощими словами тучных и на понятии / а. От этой [тучнос<ти>] б. От этой же пожирающей тучности и от понятия
11
почти и вся / а. почти б. и вся
После: образность. — зачеркнуто: [речи, тот орнамент] [красочностью] и орнамент [ко<торый>] [значен<ие>] слова [который культивируется [сейчас] в на<ших?>] который «по блеску в мету» стал [«в чин»] уже «в чин» и если раньше [по неопытности считался сверкающими звездами] был как сверкающие звезды вымысла, то теперь [(ни больше ни меньше) [как] стал как] [считается просто] стал просто [считался [одним] как один] одним из грамматических [правил в речи.] приемов.
12–15
Текст: Слагая ~ заячьи следы. — вписан на обороте листа рукописи вместо зачеркнутого.
16–18
Происхождение ~ тайна мироздания. / а. Тайна мироздания очень влияла на наших предков. б. Тайна мироздания очень беспокоила наших предков в. Происходит это оттого, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания г. Происхождение этого, главным образом, в зависимости от того, что наших предков сильно беспокоила тайна мироздания.
18
Они перепробовали почти все двери / То, что они пробовали все двери
21
После: нашей словесной памяти. — зачеркнуто: Наш [древнерусский] строительный орнамент, вылившись в определенные формы со стороны достижений глаза, помимо внутреннего зачатия бросил семя своей символичности [на] и на слово.
22
нашей мифологичной эпики / нашей речи и эпическ<ой>
23
указаний на то / указаний на ее человек / дух наш
23–24
человек есть ни больше, ни меньше, как чаша космических обособленностей / человек есть чаша ко<смических>
24–25
В «Голубиной книге» так и сказано / а. В ней не г<оворится> б. В «Голубиной книге» так и говорится
С. 196
4
Ища ответа во всем / а. [Во] Ища ответа во всем б. Ища во всем ответа
4–5
как бы искал своего внутреннего примирения с собой и миром. / а. как бы искал примирения своего с б. как бы [в нем] искал своего внутреннего примирения со всем, что
После: примирения с собой и миром. — зачеркнуто: [На кон] [Но] [Непокорность стихий] [Найдя себя] Непокорность стихий и безответность пространства [и все то, что бежит] [и вся заставим<ость>] [заставляли его искать] лишали его всяких сил в этом.
5
И, разматывая / Размотав
6–8
находя имя ~ он решился / а. находя имя тому или б. найдя имя всякому предмету и явлению, он решился
9–10
с непокорностью стихий / с тайной неба
10–11
Примирение это состояло в том, что / а. И примирение это пришло б. И примирение это вышло в. Примирение это состоит в том, что
11
что кругом он сделал / а. что небо над б. что в небе про<извел>
13–14
множеству других / другим
15–16
он ясно и отчетливо определял всякое положение / а. он яснее мог представл<ять> б. он ясно и отчетливо мог определять движение
22
построила / строит
25
яко / якожде
26
По ним же тече секерою сок и кровь / По ним тече кровь
27
Как / Но смешно, как самая
28
мы можем / а. мы могли б. неопытные
29–30
отобразителями этих пройденных до нас дорог. / отобразителями пройденных до нас дорог
30
Но это / Но, увы, это
будет просто слепотой / будет слепотой
С. 197
5
земной обстановки / земли
7–8
избегая тожественности, невозможно почти совсем / [мо] даже невозможно избежать
11
отделялось / отделяет<ся>
12–13
подчеркнул / выр<азил>
15
и подчеркивали / подчеркивая
16–17
к мечте о победе над всей бегущей перед ними Европой / к владычеству [над] над всей Западной
17
Устремление / Средства
19
После: на пастбищах туч — зачеркнуто: пас
24–25
так же ясно, как / так же, как
27
Вязь / И вязь
28–30
Если Гермес Трисмегист ~ звезды на земле» / Еще Гораций Флакк говорил о том, что «к человеческой голове приделать рыбье туловище, а вместо рук прикрепить хвостами двух змей возможно всякому»
32–33
не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя / не мог не дать образа опускаемых на струны гуслей перстов, уподобляя
С. 198
1–4
Текст: не мог он ~ древа мысли — вставка между строк и на обороте страницы.
4
по ветвям этого древа мысли / по этому мыслен<ному>
5
рождается / рождаются
13
от пернатых царевичей / от пернатого царства
15–17
есть уподобление ветвям опущенного подсознательно древа / а. уподобление ветвям опущенного подсознательно утвержденья мистерии б. есть уподобление ветвям мистического
17
на которых / на которых как
18
Здесь все / Здесь почти все
После: оправдано — зачеркнуто: до самой [са<мой>], на первый взгляд, запутанной черты, и оборот речи Бояна Со<?>
19–20
воспринимающая такое построение мысль / воспринимающая это мысл<ь>
20
спотыкалась бы, как / спотыкалась, как
21–22
Здесь мы видим, что образ рождается через слагаемость. / а. На таком же приеме б. Образ рождается через слагаемость в. Мы видим, что образ рождается через слагаемость
22–23
лицо звука, лицо движения / лицо звука и лицо движения
24–25
скакаше / скакав
25
наш Боян / Боян
29
После: под облаки — зачеркнуто: щук<ою>
29–30
После: в море сплеснуть — зачеркнуто: под облаки
32
плоды дум и образов. / *[6]плоды [мысли] дум, и
птицы-слова, выклевывал семя из их сердца, приобщаются свету неоткрытых стран и [оп<?>] [пре<?>] золотой пылью от листвы на крыльях освещают с пением дорогу к раю затерявшейся во мраке земле.
С. 199
2–3
именем Стрибога или Борея в мифологиях земного шара / именем Стрибога в нашей мифологии
4–5
Это тот же образ, который родит алфавит / Это тот же алфавит, только не з<?>
6
После: грамоты. — зачеркнуто: [которые] [который] Знаки родятся из постижений. Или, говоря иначе
9
ощупывающего на коленях / а. щуп<ающего> б. оп<устившегося> в. ощупывающего ру<ками> г. ощупывающего на коленях руками
10–11
Опершись на руки и устремив на землю глаза, он как бы читает знаки существа ее. / Руки его [вытянуты] вытянуты, а голова с созерцательными глазами смотрит как бы за землю
13–14
ощупывание этим человеком / человека, кото<рый?>
14
Движение / Руки
16–17
Знак сидения на коленях означает то, что / а. Здесь человек представляется плотно сидящим на к<оленях> б. Символ сидения на коленях означает то, что дв<ижение?>
18
Поднятые руки рисуют / а. Руки б. Поднятые руки означаю<т>
21
После рисунка зачеркнуто: в есть человек, ощупывающий себя. После почувст<вовав>
22
Прочитав / Прочитав, что есть
24–25
После: Пуп есть узел человеческого существа — зачеркнуто: и поэтому руки как-то невольно опускаются на него
25
и поэтому, определяя себя / и поэтому человек
26
или ощупывая / или выражаясь та<?>
невольно / невольно, вероятно, по памяти завязи крови
29
идет с / идет от
30
от осознания в мире сущности / от осознания своей сущности
С. 200
1
подымается с колен / выпря<мляется>
3
После: через символы знаков — зачеркнуто: рождают
4
После: примирения с воздухом — зачеркнуто: рожда<ют>
6–7
Эта буква рисует / Эта буква сос<тоит>
7
опустившего / опустившим
7–8
самопознания / о Познани<и?>
8–11
Линии, идущие от средины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага правая нога и подпирающая корпус левая / а. правая нога его з<анесена?> б. линия, идущая от средины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага первая нога и поддерживаю<щая> корпус левая.
15
еще окончательно себя не нашел. / а. нашел б. их еще не в. еще не нашел себ<я>
16
с скарбом / с коробом
17
на вечную дорогу / на какой-то
После: дорогу — зачеркнуто: [Этим он] [Эта буква в алфавите] [он] [Эта дорога — движение]
19–20
Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, то мы / а. таким образом становит<ся> б. через всю значность выра<жается> в. таким образом разобрав почти всю мыслительную з<начность> г. Если таким образом мы еще пол<нее> д. Если таким образом мы могли бы разобрать всю творческо-мыслительную значность, мы
23–24
сочетаются / бранно сочетаются
25
в спайке / а. в корнях б. в сердце
25–26
скрыта печаль земли по браке с небом / скрыт брак земли с небом
26–27
тайна, самая многозначная и тончайшая тайна той хижины / тайна, многозначная и тончайшая тайна рождения
31
на князьках / над входо<м>
С. 201
1
правдивою тропинкой / *правдивою дорогой
1–2
каждый шаг словесного образа делается / все делается
4
не знает этой завязи / а. очень в немногих художниках знает б. не знает этой завязи, она очень
6
После: представителей его — зачеркнуто: [непо<нятно>] прошло
7–8
Звериные крикуны / Крик<уны>
8–9
третичный период / ид<иотический> период
9–10
городской массы / массы
10
подменили / вытеснил чуть ли не на четыре века
11–12
рисовой пудрой на выпитых щеках столичных проституток. / а. рисовой пудрой столичных проститу<ток> б. рисовой пудрой с мушками
12–13
Единственным расточительным и неряшливым, но все же / а. Подслепый декаданс, увидев свои жалкие лохмотья, [побежа<л>] побежал, сломив голову под б. Единственным расточительным, но все ж<е>
14–15
была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня / была дер<евня>
15–16
Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который / Этот мир крестьянской жизни, [котор<ый?>] в которой
16
посещаем / посетили
17–18
наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти / а. [Находится] находился до сего б. так пышно развернувшись, наши глаза застали на смертном одре в. наши глаза застали, увы, вместе с расцветом, на смертном одре г. наши глаза застали, увы, вместе с расцветом, все же на одре смерти
21
хоть струйку / стру<йку>
23–24
песок ~ кровеносные сосуды. / а. песок, разр<ывавший> б. песок, который, словно гвозди, разрывал не только кровеносные сосуды, но наполнял
27–28
впивала в себя всякую воду из нечистых луж / а. бросалась во всякие лужи б. бросалась во всякие нечистые лужи
29
Этот / Но этот
31
явился нам / пришел к умираю<щему>
ангел спасения / а. ангел избавления б. ангел исцеления в. ангел спасения от того
С. 202
1
Мы верим / Перед нами
2
в деревне / в деревне и крестьянской жизни
5–6
для творческих записей / для запи<сей>
8
золотыми волнами. / золотой волной этим богом
не забудет тех, кто / а. не забудет это б. не забудет, что посла<нные?>
9
он сумеет отблагодарить их / а. он, так же прежде, любимым своим сынам завьет б. сумеет их отблагодарить
10
и мы / и снова
11–12
тот ответный перезвон / тот перезвон
12
с сущностью / а. с внутренней сущ<ностью> б. со всею сущностью
13–14
таких же строк и, может быть, еще сильнее и красивее, как / таких строк, как
23–24
где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать / а. где люди, согре<тые> [от] жары братской любви, будут покоиться б. где люди, блаженно и мудро отдыхая, будут
25–26
под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа / под тенистыми ветвями [<1 сл. нрзб.>] древа
26
социализм, или рай, ибо / а. Социализм. Ведь б. Социализм, ибо
30
сзывает / сзывает всех
С. 203
1–2
помимо смываемых препятствий / помимо пр<епятствий>
3
целые рощи колючих кустов / [целый] целые рощи на протяжении
4
в восприятии мысли и образа. / в жизни восприятия массой слова
4–5
должны научиться / должны еще научаться
6
та самая колесница, которая / только колесница, которую
8–9
предки их не простыми завитками дали нам фиту и ижицу / предки их не простыми завитками византийского стиля, где в [фо<рме?>] букве П, как в рамке, сидит голубок другой
9
фиту и ижицу / фиту и ижицу жизн<и>
11
отправился искать себя / отправился в пут<ь>
11–12
Он захотел найти / Искание его
12–13
и обозначил это пространство фигурою буквы / которое обозначил букво<й>
14
северного полюса / полю<са>
15
рисунок буквы / фигура буквы
20
линия в букве / буква
21
где оба идущих / где оба ч<еловека>
Человек / Небесный челов<ек>
22
попадет головой / попадет в голову
23–25
Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба / а. Опрокинутость земли и неба сольется в од<но> б. Это есть знак того, что опрокинутость земли и опрокинутость неба сольются
25–26
и в свой / и свой
29
вехи для безопасного плавания / вехи спасительног<о>
С. 204
1
по планетам спутниками / планетными спутниками
3–4
перед нами лежит огромнейшая внутренняя работа. / перед нами огромнейшая внутренняя работа.
6
старец / муж
7
возрасту / возрасту даж<е>
9
У нас многие заслуживают / У нас многих стоит
10
но и многие / но многие
12
видели / увидали и
13–14
что небо не оправа для алмазных звезд, — а необъятное, неисчерпаемое море / что небо не простая оправа для алмазных звезд, — а [река вечна<я>] море
15
многочисленные стаи / многочисленная стая
15–16
месяц для них все равно что / месяц для них что
17–18
до точности проследить / просмотреть
18
пути нашего настоящего творчества / пути настоящего творчества
19
должны разбить образы / разбить образы
21
хоровой чин / чин
21–22
как поставлены по блеску луна, солнце и земля / как поставлены луна, солнце и земля
24
Существо творчества в образах разделяется / [Обра<зы>] Существо творчества разделя<ется>
С. 205
1–2
Образ заставочный есть, так же как и метафора, уподобление / Образ заставочный есть уподобление
2–3
или крещение воздуха / [но] т. е. население мира воздуха
4
После: белка — зачеркнуто: Душа — кукушка
8
Дождик — стрелы, посев, бисер, нитки. / а. Дождик — стрелы, посев слов, [<1 сл. нрзб.>] б. Дождик — стрелы, посев, бисер, ягод<ы>
10
После: и т.д. — зачеркнуто: По этим закона<м>
11–13
уловление в каком-либо предмете ~ плывет, как / а. [зафиксир<ование>] уловление в каком-либо предмете, струение мира или излуче<ние> б. уловление в каком-либо предмете струения [все<го>] мира, т<о> есть в. уловление в каком-либо предмете, явлении или существе струения, где заставочный образ плывет только как
13
После: плывет — зачеркнуто: только
плывет, как ладья по воде. / плывет, как ладья по воде, или излуча<ет>
14
Давид / Соломон
19
прекрасно восклицает / воск<лицает>
25–26
После: костьми русьскых сынов». — зачеркнуто: У Данте Бертрам, подняв свою отрубленную голову, говорит [что] «вот фонарь, которым я освещал мою дорогу».
27–28
пробитие / а. полный выход б. проклевывание в. наклевывание г. пробитое д. пробитие окна
28–29
какого-нибудь окна / а. скорлупы яйцеобразной видимости б. какого-нибудь окна в. о какое-нибудь окно
29–30
являет из лика один или несколько новых ликов / а. родит новый лик б. являет из лика один лик или в. являет из лика новый лик
С. 205-206
30–2
где и зубы Суламифи без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими живыми, сбежавшими с гор Галаада козами. / а. [т. е.] Зубы Суламифь, наприм<ер>, сбежали с горы Галаада и стали не зубы, а живые козы. б. Знак равнения как исчезает и зубы Суламифь, например, [без всякого] без всяких как, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими [сбежав<шими>] живыми козами
С. 206
2–3
На этом образе построены почти все мифы / а. На этих б. Так построена мифол<огия>
3
от дней египетского быка / от дней Египетского быка до
3–4
вплоть до нашей языческой религии / а. [до] вплоть до [наших] нашего б. кончая [нашими] нашей языческой религией
4–5
стрибожи внуци «веють с моря стрелами» / стрибоговы внуки веют с моря стрелами на храбрые [полки] полкы Игоревы
6–8
всех народов ~ Библия и др. / а. [всех лучших] все лучшие произведения всех народов, как «Илиаду», [«Оди<ссею>»], Эдду, Калевалу, «Слово о полку Игореве», Веды и Библию б. всех народов [в его] в их лучших произведениях, как «Илиада», Эдда, Калевала, «Слово о полку Игореве», Веды [и], Библия и др.
12
После: «Пир в небесной стороне» — зачеркнуто: Наша «Голубиная книга», Андрей Белый «Котика Летаева»
17–18
выпукло светят на протяжении долгого ряда веков. / составляют наши леты [почти] на протяжении целых в<еков>
19
Наше современное поколение / Наше современное творчество
20
о тайне этих образов / а. о тайне этих образов б. о значении этих определений. Далее зачеркнуто: Единый пример в прорывах за глаза
23
предыдущих столетий / предыдущих поколений
24
как открытие / а. с значением света только открытой Америки. О новом б. как открытие. Объясняется это, конечно, внутренней безграмотностью
24–26
Художники наши ~ внутренней грамотности. / Художники наши, за исключением двух-трех, доходят до такой безграмотности
26
Они стали / Они име<ли?>
27
рисовальщиками / офортистами
28–30
Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр / а. Клюев, например, до того дошел, что [поет] со<чиняет> б. Клюев, например, до того дошел, что для него все сплошь стало гравюрою без [всякого] единого намека на жизнь в. Для Клюева, например, все сплошь стало идиллией причесан<ных>
31–32
То, что было раньше для него / У него все
32
сверлением облегающей его коры / жизнью
33
вставкой в / вставкой или
С. 206-207
33–1
Сердце его не разгадало тайны / а. Он не понял жизни б. Сердце его не поняло жизни
С. 207
2–3
он повеял на нас безжизненным / на нас веет безжизн<енным>
4–5
отливает / отлились
5–6
простой мужичий мозоль, вставляет в пятку / а. мозоль на б. мозоль, тот мозоль, который не дает
9–10
Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках / а. Уайльд с цветком в петлице и лакированных башмаках б. Уайльд в византийской л<?>ии
10
В данном случае / Но в данном случае
11
художник пошел / художник стал
11–12
После: художник пошел не по тому лугу — зачеркнуто: где растут цветы пестрот<ы>
12
Он погнался / Но он погнался
13–14
После: чрез злато ожерелие» — зачеркнуто: Художник должен идти
14
луг художника только тот / луг художника тот
16
Создать мир воздуха из / Создать мир из
18–20
сделавший это, лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки. / сделавший лишь как ларец [с приб<орами>], где лежат приборы [более] для более тонкого
20
с ответом / с разъяснением
21
Но в древней / В дре<вней>
21–22
да и по сию пору / да и сей<час>
22–23
гораздо экспрессивнее / гораздо экспрессивней, чем теперь
С. 208
9
Крикливо / а. Крикливо б. Над<рывно> в. Вздор<но>
10–11
той нечести (нечистоты), которая / а. той гадости, которая б. той нечести [в] (нечистоты) развен<?>
11
за задними углами / в задних углах
13–14
и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью / и зловонным букетом бросил их [на], как «приходящий в ночи» в наше маслич<ное?>
15
Голос его / Его голос
16
еще при самом таинстве / при самом таинстве
17
После: клич войны — зачеркнуто: попал
18
творческой правды. / правды
18–20
Нашим подголоскам ~ итальянца / *Наши подголоски, [Хлебник<ов>], Шершеневич, Маяковский, Бурлюк и другие, рожденные ~ итальянца, также опрокинуты
21
вещуя гибель / вещ`ая гибель
21–22
открывающаяся в слове и образе / а. открывающихся свеж<их> б. открывающаяся в слове
23
русской мистики. / мис<тики>
Бессилие футуризма / Неправда футуризма
25
кореньями вверх / кореньями к<верху>
посадив / а. посадив б. прилепив
26–27
Он не нашел в воздухе не только озера / Он не нашел в воздухе воды
30
то, что сбрасывает с себя кору или / а. то, что подобно б. то, что, сбрасывая с себя кору, выходит в. то, что, сбрасывая с себя кору, сразу может
31
подобно Андрее-Беловскому «Котику Летаеву» / подобно Андрею Белому
С. 209
1–2
когда на него мычит черная ночь / черная ночь мычит на него
3
мы видим / мы видим, что опрокинутая вверх сосна растет
5–6
Нам является ~ ногами. / а. У него [И у брачн<ого>] уже не две ноги, а четыре б. [Перед нами являе<тся?>] Нам является [человек] лик не с двумя ногами, а с четырьмя, [голова] [ибо пространство наполняется его существом] существом наполнив пространство в. нам является лик не с ногами и головой, а г. нам является лик не с ногами снизу и головой д. нам является лик, завершаемый с обоих концов ногами
7–8
Голова у него уж не верхняя точка / Голова уже будет не верхней
8
откуда ноги идут / откуда ид<ут>
9
После: в этом отношении — зачеркнуто: есть
10–11
символа этой головы и о послании нас / символа о послании нас
11–12
Туловище человека не напрасно разделяется на два световых круга, где / Теософы не напрасно разделяют туловище человека на два световых влияния — влияния лу<ны>
14–15
в мудрый узел завязан / [скрыта муд<рость>] мудро завязан [узел] в узел
15
ответ значению тяготения / а. ответ [нашему] значению и тяготению б. ответ на значение и тяготение
16
здесь скрываются / он скрывает в себе
После: знаки нашего послания — зачеркнуто: а. Наша пройде<нная?> б. которо<е>
17
что в нас / а. что нахо<димся> б. что нас в. что нам г. что на
18–19
что мы мыслим в ее пространстве / а. мы находимся еще в б. мы находимся в пространстве от Земли до Луны в. и что пока мы мыслим в ее пространстве
21
это / этот
23
ибо эта радость / [<Д>] Эта радость
23–24
радость вознесения была предначертана целыми тысячелетиями / а. радость вознесения предначертана лишь только одним б. радость вознесения предначертана до
27
закреплена / уже закреплена
27–28
фактическим пропятием / фактом пропятия
28
но и / и
всею гармонией мироздания / всеми тайнами скре<щиваний>
29–30
построены все зримые / а. построена вся мировая б. построены все ви<димые>
30
Мист же идет / Мист идет
31
провидя и терновый венок, и гвоздиные язвы / он видит [на пути] и те гвоздин<ые>
32
идущий по / идущий ему
С. 209–210
33–1
знак того же креста / а. крест б. тот же крест
С. 210
1
висела вместе с телом доска / висела доска
3
Но он / Но мист
что только фактом / что фактом
5–6
только через Голгофу он мог оставить следы на ладонях Елеона / Вознесение с Елеона возможно лишь только [от железной] через железную точку
6–7
уходя вознесением / уходя в
7–8
После: (то есть солнечному пространству) — зачеркнуто: Наше творчество еще не иску<сство>
8
Буря наших дней / Буря лун<ы>
9
к сдвигу космоса / к космосу
12
слышать / вид<еть>
12–15
царство солнца ~ беспощадная борьба / а. царство солнца внутри нас, [сейчас] не имеют права заглушать б. царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но они не <имеют?> абсолютно никакого права налагать замок на уста видящих в. царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но они не <имеют?> абсолютно никакого права налагать видящим глазам замок на уста.
17
Они / Они оба
18
которая / которая от
После: рождена на бесплодие — зачеркнуто: [Все эти] [Их эти] Эти пролеткульты
19
все эти / все эти тепере<шние>
19–20
те же самые по / те же по
20–21
человеческого творчества / человеческой души
21
Мы / Они
22–23
тельце ~ засекли ее / тельце нашего [мира] нового мира, пока они не засекли его
24
После: Гамлет — зачеркнуто: когда тот ответил
25
легче / так же легко
С. 211
3
чтоб заковать ее / а. чтоб извлекать из нее б. чтоб [вз] ее можно было
3–4
какой-нибудь одной жизненной мелодии / какой-нибудь жизненной мелодии
4–5
Во всяком круге она / Она будет всегда
7
ибо / ибо она
бешеным потоком / пото<ком>
8
сметает их в прах на пути / сметает их на пути на этом пути / на пути своем
10
декаданса / романтизм<а>
11
сметет она и рассосет сонм кругов / сметет она и сонм кругов
13–14
Задача человеческой души лежит теперь в том, как выйти из сферы лунного влияния. / а. Задача души — выйти из круга луны б. Задача людей — выйти из круга луны в. Задача человеческой души — вы<йти> г. Задача человеческой души лежит теперь — выйти из сферы всякого влияния
14
После: лунного влияния. — зачеркнуто: Нам уже
19
и Лембэй пущей правит / живет макоша морок
20
Осеньщину / След крадет
24
В том, что / Что
25
но он есть тело покойника / а. но то, что он имел тело покойника б. но то, что он тело в. но то, что он тело покойника
После: тело покойника — зачеркнуто: [прекра<сно>] [пусть даже ис<кусно>] пусть даже искусно [набальзамированного] набальзамированное, тоже никто не опр<оверг>
26
и потому / и пусть он
27
После: Предан земле — зачеркнуто: [Мы] [Он будет стоять нам] Предан земле, потому что [в эти дни рождения] у него [от зависимости поря<дка>] в зависимости от застывш<его>
27–29
он заставляет Клюева в такие священнейшие дни обновления человеческого духа благословить убийство / он заставляет Клюева благословить убийство
28
священнейшие / священные
32
пронзило копьем вместо змия / убило вместо змия
После: самого Христа. — зачеркнуто: И [в]
С. 212
1
Средства / а. И с<редства?> б. Средства от
1–2
грамотой старого обихода / грамотой обихода
4
После: в море Леты. — зачеркнуто: [Их право быть] [у]
5
После: противны — зачеркнуто: строящим марксистской опеки в идеологии / марксистской ид<еологии>
6
Она строит / Они строят
9
После: не хочет — зачеркнуто: а. подчинить б. вплоть
10–11
знакомым ей и изжитым начертанием / знакомыми
ей и изжитыми знака<ми>
11
Перед нами встает / Ведь это так же становится
12–13
очень похожая на приемы православия /
а. [ко<торая>] нашего правосла<вия> б. нашего православия с его [воинств<ом>] духовным в. наших монастырей и православия
13–14
свет солнца истины. / а. свет истины б. свет истины и солнца
14
После: солнца истины. — зачеркнуто: Нам хотят повторить
15
разодрали / разорвали
16
нашего братства. / брат<ства>.
После: братства. — зачеркнуто: Мы [кричи<м>] [должны к<ричать>] кричим, что движение
Жизнь наша бежит / Жизнь бежит
17
После: ибо — зачеркнуто: вместе с нами
18
тоже задвигался / а. задвигался б. уже задвигался
19–20
и прав поэт ~ говорящий нам, что / а. и мы также видим, ко<гда> б. и мы благословляем уста, которые вестят нам так, как уста [поэта Серг<ея>] истинно народного поэта Сергея Клычкова в. и прав поэт ~ сказав<ший>
24
в дальний собралися путь. / *в дальний сбираются путь.
После четверостишия зачеркнуто: Мышление наше садится в корабль, оно уже [за] уезжает [на неб<о>] в пустыню
25
Перед: Он первый увидел — зачеркнуто: [Ведь] [в этих] видит
земля поехала / земля пусть идет
26–27
к новым берегам / а. к новым берегам [он] и новому солнцу б. к новым берегам и к новой для н<ас>
30
Да, мы едем, едем / а. Да, мы едем, мы выды<шали> б. Да, Земля
32
После: места. — зачеркнуто: и н<овых?>
к новому / ново<го>
С. 213
1–2
через новые рисунки, через новые средства / новыми глазами и новыми средствами
3
забыли, что / познают, что
5
на которых / которые
8
спускаются / а. спускаются, чтоб б. спускаются в
за пищей / за добычей, чтоб поддержать свое горение
8–9
что день есть / День же
10
Душа наша / Мысль наша
11
Шахриар / Шохирин
После: девственницу — зачеркнуто: [Она] ибо
12–13
ночью корабля и ~ ангелов / а. ночью [рассказов] [заставок] заставки и вечности корабля б. ночью застав орнамента и вечности корабля
14–15
Предначертанные спасению тоскою наших отцов и предков / а. Мы спасены предначертаниями наших отцов и предков б. Мы предначертанно спасены тоскою наших отцов и предков
15–16
лестницу орнамента слова / лестницу орнамента
16
мы радуемся потопу / нам не страшен потоп искусства в коллективе
17
круг старого / весь круг ст<арого?>
18
нечистым парам уже / нечистым уже
18–19
После: уже не будет — зачеркнуто: а чистые спасены [масличной ветвью] знаменьем масличной ветви голубя-образа
19
То, что / Что
20
После: мы называем — зачеркнуто: что
22–23
не только не долетев / не только до<летев?>
23
После: не увидев его. — зачеркнуто: И тщетны
26–27
верой человека не от классового осознания / а. верой человека не в [кавычках] окраске б. верой ни пролетария, ни крестьянина, а
27
осознания / осознания ко
Предисловие
Черновой автограф (РГАЛИ)
С. 222
1
В этом томе собрано почти все / В этой книге собрано в<се>
5
Все творчество мое / Творчество мое
6
Мне не нужно было бы / Мне не о чем бы
10
После: это моя — зачеркнуто: ран<няя>
22–23
Литературная среда 13–14–15 годов, в кот<орой> я вращался / Литературная среда 13–14 годов
С. 223
1
так же, как мой дед и бабка, поэтому / так же, поэтому
4
После: мистик. — начато: Если и
12
После: принимать — зачеркнуто: что
16–17
голландец. Все же другие мистики / голландец, также как и все мистики
19
После: Миколам — зачеркнуто: относиться
19–20
к сказочному в поэзии / к сказкам
22
После: не может — зачеркнуто: в себе с<мыть>
После: смыть — зачеркнуто: Моего греха за ты<сячи лет>
24–25
но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена / ко всем этим собственным церковным именам нужно так же относиться, как к именам
26–27
Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д. / Зевс, Озирис, Оаннес, Афродита, Афина и т. д.
28
Начато: Я не считаю этот ра<нний> должен / может
32
он был / потому что он был.
Анкета <журнала> «Книга о книгах»
К Пушкинскому юбилею
<Ответы> Автограф (РГАЛИ, ф. С. Д. Мстиславского)
С. 225
6
есть общее осознание / есть история общего осознания
10
Влияния / Влияние
С. 226
5–6
все случайные стихотворные письма / а. все случайные стихи, а также б. все случайные стихи, как
6
кроме писем / кроме письма.
В. Я. Брюсов
Фотокопия автографа (ИМЛИ)
С. 227
11–12
После: со смертью Брюсова — зачеркнуто: было нужно начать
19
в литературных вкусах / во вкусах
С. 228
22–23
на таком литературном безрыбьи / а. такие люди, которые б. на таком к <?>.
<О сборниках произведений пролетарских писателей>
Черновой автограф (ИМЛИ)
С. 235
8
После: нельзя — зачеркнуто: было бы
22
очень / а. лишь б. очень
С. 236
1
После: лишь — зачеркнуто: слабые ученики; сверху надписано и зачеркнуто: знакомые путники; потом восстановлено: слабые ученики
2
хулители / разрушители
3–4
Перед нами довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова / Вот хотя бы такие строки поэта Кириллова
7–8
она громче гремит. / куда больше гремит, чем
Далее начато: Конечно, это
9–10
После: грядущего — начато: Ког<да>
16
После: что — зачеркнуто: а. есть б. диво
16–17
и только лишь / но не
17
не стараясь / не влагая в
19
После: Колумба — зачеркнуто: [и сош<едшего>] и сошедшего в ад
22
петли / узлы
23
После: которые — зачеркнуто: в
25–26
После: сборниках — зачеркнуто: а. пролетар<ских> б. проповедн<иках>
26
звук показавшейся / луч показавшегося
27
никто / мы
28
После: шагов — зачеркнуто: покинувшего в первый раз для п<ервых>; над словом: покинувшего — надписано: ребенка
30
неуверенно и робко ступая / неумело ступав<ший>
32
дрожь / слабо<сть>
в слабом тельце / в слабых ножках
С. 237
1
После: ребеночек — зачеркнуто:
путает даже
еще незн<?>
спай<ка>
и в чувстве ритма
своих шагов не только
левую ногу с правой
леву<ю> он путает ноги с руками
ру<ки>
но даже ко<гда>
2
После: во ржи. — начато: Вот, например, его это
7
Здесь / Его
7–8
После: спайка — зачеркнуто: тела
8
После: выделывает — зачеркнуто: бе<шеный>
17
Начато: Приду<мать>
18
После: строк — зачеркнуто: такой поворот сосны вместе
18–19
и все же мысль остается / и почти неизменно остаю<щаяся мысль>
20
оттого / но
23
даже и не узор / куда лучше
25–26
После: вырисовке — зачеркнуто: совр<еменных>
С. 235
2
В строфе из стихотворения Худякова: На стену / Длинная
7
После: у Худякова. — начато: Очень грустно сказать
11
потому так / потому не имеет
13
отображение / отобразить закр<епление>
14
оно / сумма в
15
живет в искании их / их ищет
19
После: предугадать — зачеркнуто: чрез
24
того / на
26
родной ему заводи железа / родных ему железных источников
С. 239
2
строки / строчки
16
неприбранной / жизни старого
17–18
светят почти одним светом. / почти в одном от<ражении>
19
Проза пролетарская еще не нашла / Поэзия пролетарская нашла
20
есть лишь / разве только
После: от прошлого — зачеркнуто: только
21
и совсем слабый / а. и слабый и б. и совсем
23
ликах / лицах
23–24
все-таки скажем / а. с го<речью> можем б. без грусти не можем в. с грустью можем г. все-таки не можем указать на то, что вокруг д. без грусти сказать е. сказать небезрадостно.
Между строк: колыбели
Россияне
Черновой автограф (РГАЛИ)
С. 240
11
развили / принесли свое
20–21
После: подписывается — зачеркнуто: под
С. 241
5
После: сомнению — зачеркнуто: что
11
После: с попутчиками — зачеркнуто: давно известно без него
16
Пришибеева / урядника
21
После: но и — зачеркнуто: на
На отдельном листе, обозначенном цифрой «2», записаны другие начальные строки статьи и все они тщательно зачеркнуты:
Россияне
[За последнее время весьма наглядно и] В наши дни весьма выпуклился вопрос о так называемой «общественной определяемости» поэтов и писателей. Наша советская социалистическая Федеративная республика, признав свободу [на] языковых прав, дала к этому большой толчок
<О писателях-«попутчиках»>
Черновой автограф (РГАЛИ)
С. 242
3
художественное творчество / искусство слова
С. 243
9
как он / как она
11
очень / так же
31–32
по всем рассейским / в вагонах, халупах
32
совсем не показывает / показывает вовсе не
С. 244
1–2
Эта сочность правдива, как сама жизнь. / и правдивая, как сама жизнь
9
После: как — зачеркнуто: бы<тописателе>
10
После: окраин — зачеркнуто: русского
12
Урала / Урала, который
13–14
помимо глубокой / много той свежести
15
После: Сибирь — зачеркнуто: совершенно
20
свеж / свежий
23
Зощенко / Зощенко показал свой т<алант>
26–27
Будущее этого писателя / Путь перед этим писателем
27
После: писателя — зачеркнуто: весьма огромное.
Зовущие зори
Рукопись (ИМЛИ)
С. 247
25
разговаривает / гово<рит>
С. 247–248
31–1
у других станков / в других местах
С. 248
23
После: показывает — зачеркнуто: Сах<овому>
С. 249
1
Назарова / Молот<ова>
4
ей / она
7
и вместе с Молотовым бегут оба в аптеку. / Молотов бежит в аптеку
13
После: к ней — зачеркнуто: рядом
С. 250
1
После: 14. — начато: Ее
3–4
Слегка прислушивается и подбегает к окну. / Подбегает к о<кну> и
10
После: 16. — зачеркнуто: волнуется
С. 252
30–31
Рыбинцев пробирает<ся> / Он п<робирается>
С. 253
23
произведут / со<вершат>
С. 254
2
духовном / душевном
8
сидит за столом / за < столом>
8–9
После: к нему — зачеркнуто: выражает
С. 255
10
После: успокаивает — зачеркнуто: и
С. 256
24
После: Пролеткульта — зачеркнуто: Рыбинцев и
С. 256
17
говорит / произ<носит>
29
После: попа — зачеркнуто: офицера
С. 259
2
После: написано — начато: Гр<ядущий мир>
С. 260
17
После: 23. — начато: Работа кончается.
23
и втыкает ее между шестерен машины / и прикалывает ее к машине
С. 262
13
После: вздрагивает — зачеркнуто: ко
Другие редакции
Железный Миргород
Автограф (РГАЛИ)
С. 265
10–11
почти все штаты / все штат<ы>
13
После: усадьбой — зачеркнуто: С Америки на<чну>
14
начинаю / начну
16
Если / это
17–18
когда в водяных провалах эта / когда водяные провалы этот
С. 266
8
Как тебе?.. / Как тебе это?..
9–10
который площадью немного побольше / который немного побольше
13
Я / На
16
прошел через танцевальный зал / перед глазами моими мелькали
17
чрез огромнейший коридор / по огромнейшему коридору очутился в
21–22
и, сев на софу, громко расхохотался / и громко расхохотался
С. 267
20–21
в страну Колумба / в страну, описанную Амри<го>
24
около полудня / утром
С. 268
11
мы / я
16–17
завтра он нас отправит / в среду с пароходом мы должны отпра<виться>
25–26
Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов / Сотни кинематографистов
26–27
бегают / начинают
27
по палубе / по коридору
29–30
а в 5½ / а вечером в 5½
33
моих / моем
С. 269
3
Ночью / Вечером
6
в зеркале залива / опрокидываясь в залив
12
После: прыснули — зачеркнуто: от
29–30
вдруг он твердо сказал / это он сказал с очень
31–32
отвечайте на вопросы / говорите за мной
С. 270
1
отвечать / говорить
21–23
как это сделал я в Берлине. Миргород! Миргород!
Свинья спасла! / как это сделал я в Берлине.
25
сбежал / сошел
С. 271
1
около пристани / около вокзала
2
Нас встретила / мы сели
7
десять / пятна<дцать>
После: в — зачеркнуто: Ньюйор<к>с<ком>
10
На наших улицах / У нас в России
После: темно — зачеркнуто: и потому
17
чем употребить / чем освещать
20
Там / Она платит свет / светят
23
Обиженным культурникам / Для обиженных культурников
28–29
После: краснокожих. — начато: Неудачники с материка Европы
30
потянулся / потянулась
С. 272
1–2
в государства / в разные вла<сти?>
6–7
горсточка (около 500000), которую / горсточка, которую
11
опоили / напоили вином
11–12
загнали / а. он догнивает б. остав<или?>
15
После: железобетона — зачеркнуто: несмотря
16
высота которого / с которого можно
16–17
над землей равняется / равняется
18
дикий / такой-то
26–27
отдавали в школу / отдавали учиться в за<крытую?>
31–32
Он все так же плавает / Он плавает
С. 273
1
висят десятками уже / висят уже
5
подымают / снова подымают
13
я / мы
14–15
в котором мы / который у нас
18
на жалком тарантасе / едущим на жалком тарантасе
20–21
Поговорим пока о Бродвее / И я, впрочем, [и я] должен говорить о Бродвее
23
У какого-то / Когд<а>
23–24
написавшего «сто пятьдесят лимонов» / написавшего ступен<и>
С. 274
1
то / тот
5
существуют только / тоже существуют
7
Так что по картинкам / Итак, мы видим
11
окончательно / за
13
Этого нет / Особенно
18
По Бродвею ночью гораздо светлей / По-моему, по Бродвею ночью от моря света
28–29
бегут по двадцатому или двадцать пятому этажу налево / бегут налево
32
Из музыкальных магазинов /Из магазинов
32–33
слышится по радио музыка / слышится пение или ви<о>л<ончель?>
33
Идет концерт / Любители Чайковского
С. 275
2
в своей / не своей
7
Бедный русский Гайявата! / Бедный Гайявата! Ты стал жертвой ради
17–18
Города становятся похожими / Города уже очень <похожи ?>
19
если / там где
то / в
взрыто / взрыто производственной
21
Страна все строит и строит. / Все что-то строят.
23
Язык у них американский. / У них культура американская
23–24
После: американцев. — зачеркнуто: но живут они как-то больше своей собственной жизнью, потому что белые их чуждаются.
28–29
Американский фокстрот есть / Фокстрот это
29
разжиженный / нег<ритянский?>
С. 276
1
После: нравами. — зачеркнуто: и без всякой культ<уры.> Если при оккупации Рура [негритянские] солдаты-негры от лица Франции насиловали [дев] немецких девушек, то не отличаются [от] [негры]
1–2
народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. / народ весьма примитивный тоже не в противовес негра<м>
3
съело / выел<о>
4
Американец / Он
9
После: Эдгару По. (?) — зачеркнуто: Но в сущности американцев
10
и / но
15–16
исполнитель заданных ему чертежей и их последователь / исполнитель заданных ему чертежей
17
то / то сраз<у>
18
сердце этой страны / сердце страны
23
Со стороны внешнего впечатления в Америке есть / Со стороны внешнего впечатления есть
25
полисмен / мануфактурщик
29–30
видно из тоски / в тоске
С. 277
1
30 процентов / 30–40%
7
После: театры. — зачеркнуто: Из литерату<ры>
От лица их литературы / От лица евре<йской литературы?>
8
несколько имен мировой величины / несколько имен и мировых
9
сейчас на мировой рынок выдвигается / сейчас выдвигается
16
Он ознакомил американских евреев / Он ознакомит американских евреев с русской поэзией
19
довольно красивыми / такими же
20
Здесь / В
22
В специфически американской / В амер<иканской?>
26
После: журналистов. — зачеркнуто: которых
30
стеснили / убили
С. 278
1–2
напоминают незабвенной гоголевской памяти нравы / напоминают нравы
12
Начато: Все это
12–13
Эти слова / Но эти слова
15
После: окурки. — зачеркнуто: [Случайно там жил] [Но случайно] Милые трудолюбивые <1 сл. нрзб.> дети играющие
Комментарии
В пятом томе Полного собрания сочинений Есенина впервые представлено все ныне известное прозаическое наследие поэта, кроме его писем и автобиографий, которые отнесены соответственно в 6 и 7 тт. наст. изд. Том состоит из художественной, публицистической, литературно-критической прозы поэта 1914–1925 годов: повести «Яр», рассказов «У белой воды», «Бобыль и Дружок», очерка «Железный Миргород», теоретической работы «Ключи Марии», статей, рецензий, заметок, предисловий, ответов на вопросы анкет, а также сценария «Зовущие зори», написанного Есениным совместно с М. Герасимовым, С. Клычковым и Н. Павлович.
Не все эти произведения были опубликованы при жизни поэта: восемь статей и сценарий остались в рукописях. Некоторые из них не были закончены, другие частично утрачены или по каким-то иным причинам не появились в печати: «‹О Глебе Успенском›» ‹1915›, «‹О сборниках произведений пролетарских писателей›» ‹1918›, «Зовущие зори» ‹1918›, «Россияне» ‹1923›, «‹О писателях-“попутчиках”›» ‹1924›, «‹О смычке поэтов всех народностей...›» ‹1924›, «Предисловие» ‹1924›, «В. Я. Брюсов» ‹1924›, «Дама с лорнетом» ‹1925›.
Публикация прозы Есенина после смерти поэта имеет свою историю. Впервые два произведения прозы — «Яр» и «Бобыль и Дружок» — были напечатаны в дополнительном четвертом томе «Собрания стихотворений» — «Стихи и проза» (составитель и редактор И. В. Евдокимов), — увидевшем свет в 1927 году.
В 1940 году С. А. Толстая-Есенина готовила к изданию «Собрание произведений Сергея Есенина». Предполагалось, что проза будет представлена в нем повестью «Яр». Тогда же вдова поэта (совместно с Е. Н. Чеботаревской) составила комментарий к этому Собранию, которое, к сожалению, не было осуществлено.
В шестидесятые годы и позднее в подготовке к печати произведений Есенина, особенно его прозы, деятельное участие как составители, комментаторы, члены редколлегий Собраний сочинений принимали сестры поэта Екатерина Александровна и Александра Александровна Есенины. В 1958 году в издательстве «Московский рабочий» вышел том избранных произведений Есенина, подготовленный его сестрами совместно с Ю. Л. Прокушевым. Здесь впервые была собрана воедино вся известная художественная и публицистическая проза поэта. Причем два произведения — рассказ «У белой воды» и очерк «Железный Миргород» — до этого не входили ни в одно есенинское издание. Позднее А. А. Есенина подготовила для Собрания сочинений Есенина, выпущенного Государственным издательством художественной литературы в 1961–1962 гг., повесть «Яр». Ею был написан комментарий и составлен словарь местных рязанских слов и выражений, встречающихся в тексте. В этом Собрании помимо художественно-публицистической прозы было впервые представлено литературно-критическое и эпистолярное наследие Есенина.
Еще более полно проза поэта (прежде всего ранее не известные тексты его писем) вошла в состав второго пятитомного (М., 1966–1968) и шеститомного (М., 1977–1980) Собраний сочинений.
Все эти издания послужили основой при подготовке данного тома Полного собрания сочинений Есенина.
Том состоит из четырех разделов: «Художественная проза», «Статьи, заметки, ответы на вопросы анкет», «Коллективное» (сценарий) и «Другие редакции». Во втором разделе две части: «Завершенное» и «Отрывки. Неоконченное». Внутри разделов (и частей) произведения расположены в хронологическом порядке.
Составителями тома была проделана значительная по объему и важная по результатам поисковая и исследовательская работа в государственных архивах и частных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, на родине поэта — в Спас-Клепиках, Константинове, Рязани.
Кроме того, для выявления ранее неизвестных литературных и иных источников, получивших в прозе Есенина свое отражение, были изучены десятки книг по фольклористике, истории искусства, философии, религии, а также публикации современников поэта — писателей, критиков, ученых и др. Проанализированы различные периодические издания, выходившие при жизни поэта и после его смерти как в нашей стране, так и за рубежом.
Все это, вместе взятое, позволило в настоящем томе:
во-первых, максимально сохранить последнюю творческую волю автора, освободив при этом текст есенинской прозы от неточностей, ошибок и искажений, имевших место в прошлых изданиях, включая собрания сочинений (см. далее конкретный текстологический комментарий);
во-вторых, значительно расширить и обогатить фактическую основу историко-литературного и особенно реального комментария («Ярославны плачут», повесть «Яр», «Ключи Марии», «Железный Миргород», «Дама с лорнетом» и др.);
в-третьих, что особенно важно, расширить состав тома за счет произведений, не входивших в предыдущие собрания сочинений Есенина.
В данный том впервые введены: незаконченная статья «Россияне», отзыв «‹О резолюции ЦК РКП о художественной литературе›» ‹1925› и «‹Ответ редакции “Новой вечерней газеты”›» ‹1925›; отрывок из статьи «‹О смычке поэтов всех народностей...›» воспроизводился ранее лишь в комментариях Собр. соч. в 6 тт. (М., 1977–1980, т. 2, с. 225).
Тексты печатаются по автографам или прижизненным публикациям. Устранены существенные искажения в тексте первых публикаций таких произведений, как «Яр», «Железный Миргород», «Отчее слово», «Ключи Марии», «Быт и искусство», а также ошибки прежних прочтений некоторых мест в автографах («Ключи Марии», «‹О сборниках произведений пролетарских писателей›», «Зовущие зори» и др.). Кроме того, в текст «Ключей Марии» введены рисунки букв, выполненные Есениным в рукописи и не воспроизведенные в прижизненном издании по техническим причинам. В связи с тем, что при газетной публикации «Железного Миргорода» его текст был подвергнут значительному редактированию (подробнее см. ниже), в разделе «Другие редакции» воспроизводится текст автографа. Тексты «Яра», «Железного Миргорода» и «Зовущих зорь» сопоставлены также с имеющимися архивными машинописными копиями.
Свод вариантов прозы Есенина впервые дается с исчерпывающей полнотой («Железный Миргород», «Ключи Марии», «Предисловие», «Анкета журнала “Книга о книгах”. К Пушкинскому юбилею», «В. Я. Брюсов», «‹О сборниках произведений пролетарских писателей›», «Россияне», «‹О писателях-“попутчиках”›», «Зовущие зори»). Уточнены даты написания отдельных статей и заметок («Ярославны плачут», «‹О сборниках произведений пролетарских писателей›», «Россияне», «Дама с лорнетом»).
По сравнению с предшествующими изданиями значительно расширены и углублены комментарии, в которых использованы новые разыскания.
Впервые наиболее полно выявлены источники есенинской прозы. Проанализирован жизненный, творческий, литературный, научный и фольклорный материал, который лег в основу художественно-прозаических, публицистических и литературно-критических произведений поэта («Яра», «Железного Миргорода», «Ключей Марии» и др.).
Впервые с такой полнотой дается реальный комментарий событий и фактов, упоминаемых Есениным, расшифровка многих скрытых цитат. Наиболее наглядно это видно на примере «Железного Миргорода» и «Ключей Марии». Особо следует отметить находку публикации статьи З. Н. Гиппиус «Общеизвестное» (газ. «Последние новости», Париж, 1925, 8 апреля, № 1520), послужившей непосредственным поводом к написанию Есениным памфлета «Дама с лорнетом». Все это позволило глубже раскрыть творческую историю прозаических произведений.
Широко использована в комментариях прижизненная критика, посвященная прозе Есенина, в том числе рецензии из газет и журналов русского зарубежья.
Не вся проза Есенина дошла до нас. Так, в письме В. С. Чернявскому (июнь 1915 г.) поэт писал: «Принимаюсь за рассказы. 2 уже готовы». В настоящее время известен только один рассказ, напечатанный в 1916 г., — «У белой воды». Есть сведения, что Есениным была написана пьеса «Крестьянский пир», известно о его работе над повестью «Когда я был мальчишкой» (журн. «Книга о книгах», М., 1924, № 5–6, июнь, с. 78). Более подробно об этом см. в т. 7 наст. изд.
Материалы данного тома показывают Есенина как художника обширных жизненных и литературных интересов, глубоких знаний быта, мифологии и фольклора (как русского, так и других народов мира), раскрывают новаторство и оригинальность Есенина-прозаика, органичность эстетических взглядов поэта, их национальные корни.
Тексты, варианты, другие редакции и комментарии подготовили: повесть «Яр», рассказы «У белой воды», «Бобыль и Дружок» — Е. А. Самоделова, очерк «Железный Миргород» — С. И. Субботин, «Ключи Марии» — А. Н. Захаров (кроме реального комментария, выполненного С. И. Субботиным), литературно-критические статьи, заметки, ответы на вопросы анкет, сценарий «Зовущие зори» — С. П. Кошечкин и Н. Г. Юсов.
Редакционная коллегия издания, составители тома с признательностью отмечают большой вклад Т. П. Флор-Есениной (1933–1993) в работу по подготовке к печати текстов и комментированию художественной прозы поэта.
За помощь, связанную с подготовкой тома, выражается благодарность С. П. Есениной; Н. Б. Волковой и Е. Е. Гафнер (РГАЛИ); М. А. Айвазяну и Е. Ю. Литвин (ИМЛИ); А. Ф. Маркову; А. И. Михайлову (ИРЛИ); Т. К. Савченко (Институт русского языка им. А. С. Пушкина); Н. Д. Симакову (б-ка ред. газ. «Правда»); Н. М. Солобай (Федеральная архивная служба России); И. П. Хабарову (Науч. б-ка Федеральных архивов); Н. В. Шахаловой и А. А. Ширяевой (ГЛМ); В. А. Шошину (ИРЛИ).
Яр
Журн. «Северные записки», Пг., 1916, февраль-май, № 2, с. 7–38, № 3, с. 24–52, № 4–5, с. 50–78.
Печатается и датируется по журнальной публикации.
Автограф неизвестен.
Работу над повестью можно отнести к началу июня 1915 г., судя по переписке Есенина с Л. И. Каннегисером и В. С. Чернявским. Предположение основано на том, что «Яр» и рассказы создавались в одно время, фигурируют в письме Л. И. Каннегисера от 25 августа 1915 г. как «проза» и по его совету готовились Есениным для публикации в «Северных записках».
Есенин познакомился и сдружился с Л. И. Каннегисером в Петрограде в марте-апреле 1915 г., пригласил его погостить в с. Константиново в начале лета и о его пребывании в селе сообщил В. С. Чернявскому в письме от июня 1915 г. — после отъезда друга: «Приезжал тогда ко мне Каннегисер. Я с ним пешком ходил в Рязань, и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. ‹...› Принимаюсь за рассказы. Два уже готовы. Каннегисер говорит, что они многое открыли ему во мне. Кажется, понравились больше, чем надо». Л. И. Каннегисер гостил в с. Константиново примерно по 12 июня 1915 г., что следует из его письма Есенину от 21 июня 1915 г. из г. Брянска: «Дорогой Сережа, вот уже почти 10 дней, как мы расстались. ‹...› Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) — мне всегда вспоминается Константиново...» (Письма, 201). В письме к Есенину от 25 августа 1915 г. из Петрограда Л. И. Каннегисер интересовался: «А что твоя проза, которая мне очень понравилась? Я рассказывал о ней Софии Исаковне ‹Чацкиной — издательнице “Северных записок”› и очень ее заинтересовал» (Письма, 206). В окончании этого письма кратко запечатлен пожар в соседней деревне: «Помню, как мы взлезли с ними втроем ‹с Есениным и его другом Гришей› на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был красивый вид» (Там же). Данный случай отражен в повести, но перенесен на вымышленный (?) поселок Чухлинку, хотя д. Раменки тоже упомянута в «Яре».
Немного ранее, в мае 1915 г., Есенин послал Константину Ляндау открытку с описанием народного обычая против свирепствовавшей тогда в с. Константиново сибирской язвы (Письма, 199), и это наблюдение также было использовано в «Яре». Указанные эпистолярные источники служат основанием для датировки произведения и показывают, что оно создавалось буквально по горячим следам событий. Как сообщает А. А. Есенина, «повесть была написана в селе Константинове летом 1915 г. Работал Есенин над ней, по свидетельству его сестры Е. А. Есениной, восемнадцать ночей (об этом он при ней говорил своему другу юности Тимоше Данилину)» (Есенин V (1979), с. 304). Одним из косвенных источников датировки повести — ранее 1916 г. — служит свидетельство М. В. Бабенчикова, вспоминавшего вскоре после смерти Есенина о чтении им неопубликованного еще черновика, который произвел глубочайшее впечатление на слушателя: «Как-то вечером Есенин читал черновые отрывки из своей повести “Яр”, напечатанной позднее в “Северных записках”. Я помню ее всю, но особенно запомнился мне тогда же ее конец — уход Карева. Сейчас я снова перечел его» (ГЛМ).
Ценным документом для уяснения вопроса о датировке повести является письмо Л. И. Каннегисера от 11 сентября 1915 г., в котором он продолжил начатый с Есениным разговор о прозе: «Жду твоей прозы. София Исаковна просит тебе передать: 1) чтобы ты послал им в “Северные записки” всю прозу, сколько у тебя есть и поскорее...» (Письма, 210). Еще раньше, 18 июля 1915 г., С. И. Чацкина в письме к Есенину сообщала: «Очень мы обрадовались Вашему письму и тому, что Вы нам рассказ пишете» (Письма, 203). Ни один из есенинских рассказов в «Северных записках» не был опубликован, и «Яр» оказался единственной прозаической вещью, помещенной в журнале.
Творческая история повести, неясная в самом начале из-за отсутствия автографа и эпистолярных сведений самого Есенина, в дальнейшем такова. Первоначально предполагалось опубликовать «Яр» в двух номерах журнала «Северные записки». Указанная в оглавлении февральского номера «Яр. Повесть. — Сергея Есенина» заканчивалась главою шестою, а на втором обороте обложки журнала в рубрике «Из содержания мартовского номера...» под пунктом пятым значилось «Яр. — Повесть С. Есенина (Окончание)»; под самим же текстом внизу справа стояло: «Сергей Есенин. Продолжение следует». Редакция уведомляла подписчиков, что выход в свет очередных номеров ежемесячника задерживается «по вине типографии» и «вследствие перенесения печатания журнала “Северные записки” в новую типографию». Февральский номер «выходит с значительным опозданием», мартовский — «предполагается к выходу в середине апреля», а «следующий номер выйдет в конце мая», и он оказывается сдвоенным — «Апрель-май». Можно предположить, что задержка со своевременным изданием журнала позволила Есенину графически упорядочить оформление повести — ввести разделение текста на три части с главами внутри них. Первоначально существовало разделение повести только на главы — об этом свидетельствует отсутствие указания «Часть первая»; в дальнейшем подобные обозначения появились. Повесть печаталась в трех номерах журнала с одинаковыми обозначениями в оглавлении и в самом тексте: «Яр. Повесть. — Сергея Есенина», «Яр. Повесть. Часть II-ая. — Сергея Есенина», «Яр. Повесть. Часть третья. (Окончание). — Сергея Есенина». Корректуру апрельско-майского номера Есенин держать уже не мог, так как с 20 апреля был призван на военную службу, а 27 апреля уехал к линии фронта. В последнем номере журнала с повестью Есенина вместо обозначений типа «Глава первая» введена нумерация римскими цифрами с точкой и последовательно проводится разграничительная двухсантиметровая горизонтальная черта внутри глав, в то время как в № 2 и № 3 смысловое деление текста на обособленные фрагменты осуществлялось и с помощью пробелов, не всегда уловимых в конце страницы (напр., на развороте с. 20–21 в № 2; в № 4/5 пробел появляется лишь в самом конце повести, устанавливая равновесие графического оформления окончания «Яра» с его началом).
В 1924 г. с журнальной публикации была снята машинописная копия, предназначенная для Собрания сочинений Есенина, которое готовилось издательством «Круг» по инициативе издательского работника Давида Кирилловича Богомильского (1887–1968). Сохранившийся в ГЛМ, вероятно, второй экземпляр машинописи выполнен через фиолетовую копировальную бумагу на 76 листах форматом in folio на разных машинках: 1-я часть (лл. 35–73) — обычным шрифтом, 2-я часть (лл. 74–111) — более крупным; 3-я часть отсутствует. Каждая часть имеет свою сделанную на машинке внутреннюю нумерацию страниц; общая пагинация проставлена простым карандашом и относится ко всему сборнику произведений Есенина, включающему следующие тексты: «“Страна негодяев”, пьеса. — “Русь бесприютная”, стих. — “В дурную погоду”. — “Яр. Повесть С. А. Есенина”» (на этом сборник прерывается). На папке с материалами сборника имеется надпись рукой С. А. Есениной-Толстой: «Произведения С. А. Есенина, подготовленные к печати его сестрой Екатериной и другими домашними (Галей?) по просьбе Д. К. Богомильского, кот‹орый› хотел печатать сборник произведений Есенина в 1924 г. Сборник не был осуществлен и материал остался у Богомильского. Передал их мне в мае 1936 г. С. Есенина» (ГЛМ).
Машинопись содержит три слоя правки: 1) первичную, выполненную простым карандашом — предположительно Г. А. Бениславской; 2) по ней фиолетовыми чернилами аккуратно вносились изменения; 3) во второй части через фиолетовую копировальную бумагу нанесены корректурные знаки. Между журнальной публикацией и машинописной копией имеются разночтения: несовпадение абзацев; различное членение маленького фрагмента на части (продолжения); разное выделение смысловых отрывков внутри глав; иные знаки препинания, меняющие логико-смысловое звучание предложения; замена прописных букв строчными и наоборот; фонетическая вариативность окончаний слов — нормативно закрепленная или носящая диалектный характер (напр., «в молчаньи», «грить ему»); более точные лексические аналоги (напр., «болотные огни» — вместо «огоньки», «пеной брызгал» вместо «накипью», «произнес он, всхлипывая» вместо «с восхлипываньем»).
Эти и другие текстуальные различия не могут быть всецело отнесены лишь к опечаткам машинистки: они показывают сознательное вмешательство в повесть, указывающее на редактирующий характер. Предположительно такую редакторскую работу проводила Г. А. Бениславская, учитывающая особенности стиля Есенина (для проведения почерковедческой экспертизы не хватает надежных рукописных помет в тексте, ибо все карандашные и чернильные исправления сводятся к заменам отдельных букв и знаков препинания). Текст не обнаруживает следов сколько-нибудь серьезного усовершенствования содержательной стороны произведения и не может быть признан авторизованным и по каким-либо иным критериям. Задуманное издание сборника произведений было остановлено на начальном этапе подготовки текстов, и дело не дошло до чтения Есениным копии «Яра», снятой его близкими с журнальной публикации в «Северных записках», однако не исключена возможность хотя бы беглого ознакомления с ней автора.
В отношении издания своих произведений Есенин полностью полагался на добросовестность Г. А. Бениславской и 12 декабря 1924 г. писал ей из Батума: «Продавать мои книги можете не спрашивать меня. Надеюсь на Ваш вкус в составлении».
По свидетельству Д. К. Богомильского, связанные с предполагаемым изданием события развивались так: «Из моих дальнейших встреч с Есениным в течение летних месяцев 1924 года у меня особенно хорошо сохранились в памяти встречи и беседы в издательстве Артели писателей “Круг”. Я всячески стремился доказать Есенину неразумность и нецелесообразность изданий его стихов “тоненькими” книжками в разных издательствах, рекомендуя ему отобрать все, что он считает достойным из своих стихов, примерно семь-восемь тысяч стихотворных строк, и передать их в издательство “Круг”, которое позаботится о лучшем оформлении объемистого тома Собрания его сочинений. Я говорил еще, что с этим планом согласен Воронский, как литературный и политический редактор издательства “Круг”. ‹...› Прямого ответа на предложение издательства “Круг” Есенин тогда не дал. Однако уже после смерти поэта Николай Петрович Савкин (бывший редактор журнала “Гостиница для путешествующих в прекрасном”) показал адресованное мне письмо Есенина, в котором поэт с большой теплотой и благодарностью принимал сделанное ему издательством “Круг” предложение» (Богомильский Д. К. Есенин и издательство артели писателей «Круг». — Воспоминания о Сергее Есенине. Сб. Под общ. ред. Ю. Л. Прокушева. М., 1965, с. 342–343). Сначала в изд-ве «Круг» вышел сборник «Стихи (1920–24)». Есенин вручил книгу Д. К. Богомильскому, вспоминавшему об этом событии: «В память наших бесед о “солидном” издании его сочинений Есенин подарил мне свой сборник стихов издания “Круг” со следующей надписью: “Другу, советчику и наставителю Феде Богомильскому с любовью С. Есенин” (Федя — это мой псевдоним в царском подполье)» (Там же, с. 343).
В 1925 г. переговоры насчет включения «Яра» в готовящееся издание продолжались. Г. А. Бениславская в письме к Есенину от 9 февраля 1925 г. спрашивала его совета: «Сегодня я собрала материал для тома, все есть, за исключением стихов из прежних журналов, через два дня и они будут. Включать все, что найдем, или нет? “Яр” включать тоже (у нас есть “Яр”)? Да, “Москву кабацкую” и “Любовь хулигана” можно поставить после “Песен забулдыги” ‹разделы предполагаемого тома избранных произведений поэта›?» (Письма, 272).
Есенин вернулся к мысли об издании Собрания сочинений, обговоренного с Д. К. Богомильским, и сообщил об этом в письме к Г. А. Бениславской от 11 мая 1925 г.: «P. S. Чтоб не было глупостей, передайте собрание Богомильскому. Это мое решение. Я вижу, Вы ничего не сделаете, а Ионову на зуб я не хочу попадать. С Богомильским лучше. Пусть я буду получать не сразу, но Вы с ним договоритесь. Сдавайте немедленно. Ионов спятил насчет 2000 р. ‹...›. Все равно с ним каши не сваришь. Катитесь к Богомильскому». Есенин согласился на получение гонорара в рассрочку до начала реализации тиража книги, но после возвращения поэта с Кавказа в июне 1925 г. было предпринято более представительное трехтомное Собрание стихотворений в Госиздате. Однако отношения Есенина с издательством «Круг» развивались и далее. Д. К. Богомильский в качестве издательского работника обратился к Есенину 11 сентября 1925 г. с письмом: «Издательство “Круг”, извещая Вас о распродаже издания Ваших стихов 1920–1924 гг., просит подготовить материалы для нового издания, а также желательно получить для издательства Ваши последние произведения» (Письма, 290). Это Собрание сочинений не было осуществлено.
После смерти писателя редактор Госиздата И. В. Евдокимов включил «Яр» в дополнительный 4-й том Собр. ст., заботясь прежде всего о максимальной полноте издания. В комментарии к «Яру» он отметил, что «настоящий текст перепечатывается по “Северным запискам”. Отдельно повесть не издавалась» (Собр. ст., т. 4, с. 7). В предисловии И. В. Евдокимов указал, что не имел «возможности пользоваться оставшимся рукописным наследством поэта» и позволял себе приводить знаки препинания в соответствие с современными нормами, но сохраняя «все характерные особенности пунктуации, где они с очевидностью свидетельствовали о сознательном и намеренном желании автора» (Там же, с. 10). В дневниковой записи от 19 сентября 1926 г. И. В. Евдокимов отметил: «...начал читать корректуру повести “Яр”. Придется читать с максимальной внимательностью, так как хотя и верные корректора, но наделали ошибок даже в стихотворных текстах. Будем с Аней ‹А. В. Евдокимова-Перегудова, жена И. В. Евдокимова› мучиться над скучнейшими его страницами. Но дело моей любви надо закончить» (РГАЛИ, фонд И. В. Евдокимова). Сверка текстов из «Северных записок» и 4-го тома показывает, что в последнем были допущены грубые искажения: например, «резеда» в ходе редактирования и печатания превратилась в «череду», словосочетание «с покрытой головой» стало читаться как «с непокрытой головой» и т. д. Тем не менее это была первая (посмертная) книжная публикация «Яра» и именно к ней в 1940 г. обратилась С. А. Есенина-Толстая; в своем обращении к «Редакторам “Собрания произведений Сергея Есенина” (от составителя)» она даже относит сочинение к большому эпическому жанру: «...в это издание надо было бы включить полностью или хотя бы в отрывках роман “Яр”» (ГЛМ). В ГЛМ хранится наборный экземпляр с пометами красным карандашом — это страницы издания 1927 г., хотя вместо задуманного разножанрового тома в 1946 г. в Гослитиздате вышло «Избранное» уже без «Яра».
Из письма от 10 сентября 1941 г. С. А. Есениной-Толстой к Н. В. Хлебниковой известно, что набор «Собрания произведений Сергея Есенина» 1940 г. под ее редакцией был прерван: «...огромным ударом было для меня то, что остановили мою книгу, вынули из типографии. Теперь придется ждать окончания войны» (Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994, с. 63). История всех последующих за журнальной публикацией несостоявшихся и осуществленных изданий «Яра», подготавливаемых родными Есенина и его друзьями, показывает, что автограф повести не был известен ни одному редактору.
В настоящем издании сохраняются основные орфографические, пунктуационные и графические принципы оформления текста, имеющиеся в публикации «Яра» в «Северных записках». Устранены явные опечатки и искажения текста; унифицирована допускавшаяся во времена Есенина двойственность написания отдельных корней и суффиксов («возжи» — «вожжи», «каратайка» — «коротайка», «коморка» — «каморка», «старушонка» — «старушенка», по модели «н-нн»: «ссученую нитку» — с «чесанной паклей» и др.); уточнена пунктуация. Приведено в соответствие с современной грамматикой устаревшее написание отдельных слов и их форм, хотя и в ущерб этимологической ясности: в журнальной публикации было «дермо» и «бичевки» — от «деру, драть» и «бич»; исчезла смыслоразличительная роль окончаний имен существительных среднего рода singularia tantum — напр., «об опахиваньи сказали во всеуслышанье».
Небольшие изменения коснулись и графического оформления текста. Неизбежно в ущерб «строфичности» повести сведены в единую реплику (со словами автора внутри прямой речи) два высказывания одного персонажа, так как было логически неясно, кому принадлежит вторая, самостоятельная часть диалоговой реплики — напр.: «— З-з-дорово, — заплетаясь пьяным языком, ответил Филипп. // — От-от-отвяжи поди воз-жу-у». С учетом современных норм графики введены различия: речь, произносимая человеком вслух и, как правило, в разговоре, оформляется с помощью тире как диалоговая реплика; внутренний голос, мысль, дума, высказанное про себя суждение заключаются в кавычки (в «Северных записках» почти во всех таких случаях употреблялось тире, а кавычки играли другую роль и встречались в иных синтаксических конструкциях). Нами же закавычены цитируемые фрагменты песен, молитв и иных вкраплений в авторский текст (в том числе и в речь персонажей).
Есенин не раз на протяжении своего творческого пути высказывал собственное мнение насчет «Яра». В беседе с Д. Н. Семёновским он не захотел говорить о «Яре» ни под каким предлогом: «Я напомнил Есенину о его юношеской повести “Яр”, печатавшейся в 1916 году в журнале “Северные записки”. Мне хотелось спросить Есенина, откуда он так хорошо знает жизнь леса и его обитателей? Но Есенин только рукой махнул и сказал, что считает повесть неудачной и решил за прозу больше не браться» (Восп., 1, 161). В 1920 г., по воспоминаниям И. В. Грузинова, писатель говорил: «“Я не буду литератором, я не хочу быть литератором. Я буду только поэтом”. ‹...› Он никогда не говорил о своей повести, скрывал свое авторство. По-видимому, повесть его не удовлетворяла: в прозе он чувствовал себя слабым, слабее, чем в стихах» (Восп., 1, 365). В мае-июне 1924 г. Есенин, собираясь уехать из Москвы, беседовал с И. В. Евдокимовым:
«— До осени, — говорил он, — буду писать прозу. Напишу повесть, листов десять. Хочется. Я ведь писал прозой.
— Это “Яр”-то?
— Да. И еще. Воронскому привезу ее осенью. Для “Красной нови”. И сюжет... и все у меня есть» (Восп., 2, 286).
В журнале «Книга о книгах» (№ 5–6 за 1924 г.) была анонсирована повесть Есенина «Когда я был мальчишкой». Предполагаемая повесть Есениным так и не была написана. И. В. Евдокимов вспоминал о дальнейшем возобновлении разговора о прозе в феврале 1925 г.: «При первой же встрече зимой я спросил:
— А как, Сергей Александрович, повесть?
Он заулыбался и, будто извиняясь, ответил:
— Ничего не вышло. Да и заболел я» (Восп., 2, 286).
Литературная критика почти не обратила внимания на повесть «Яр». Известны три прижизненных отклика на нее и одно упоминание об этом произведении.
В статье «Темы и парадоксы» критик А. А. Измайлов счел ошибочным принцип писательского этнографизма применительно к «Яру»: «А местный колорит, усиленно создаваемый совершенно непонятными словами, — ушук, летуга, коряжник, еланка, олахарь, корогод, вертье, шипульник, растагарить, тропыхать, кугакать, — говорит только о том, что рискованно писать повесть для широких кругов на местном наречии» (Бирж. вед., 1916, 20 апреля (3 мая), № 15509, утр. вып.). Я. В. Перович в статье «Журнальное обозрение (“Северные записки”. Кн. 2-я)» также отмечал стремление Есенина насытить повесть диалектизмами: «К сожалению, Есенин решил во что бы то ни стало научить читателя подлинному народному языку; эта цель сделает его не всегда понятным. Наблюдается у Есенина любопытный прием: то пишет он целые страницы на литературном языке, то вдруг начнет сыпать чисто народными, краевыми...» (газ. «Отклики Кавказа», 1916, 27 апреля, № 93). Об избыточном применении Есениным диалектной лексики говорит критик Лорд Генри в статье «Воскресший быт»: «“Чапыга”, “лещуга”, “бурыга”, совы то “кугакаются”, то “шомонят”, — кому нужны эти слова, за которые читатель запинается, как за кочки на лугу? И неужели местный колорит можно создать только таким путем?» (журн. «Семейные вечера», М., 1917, январь, № 1, стб. 154–155). Упомянутый Я. В. Перович подсказал решение возникшей проблемы (предложенная идея была реализована сестрой поэта А. А. Есениной спустя 56 лет — см. ниже «Словарик» с. Константиново): «Нельзя требовать от писателя, чтобы он сокращал себя в средствах своей работы, но пусть, по крайней мере, хоть в подстрочных примечаниях объясняет, иначе читатель решительно не справится с этими особенностями есенинского языка» (газ. «Отклики Кавказа», 1916, 27 апреля, № 93).
Критика отметила как положительный фактор возрождение интереса «новонародничества» к среднерусской деревне, хотя в ней присутствуют многие отрицательные черты. А. А. Измайлов отметил, что публикацией «Яра» писатель выступил в защиту деревни против воззрения М. Горького насчет двух культур — восточной и западной: «Русский народ Есенин любит, в деревню верит, рисуя ее, не жалеет красок ни на бабьи сарафаны, ни на светлое деревенское солнце и кроткие зори. Но вдруг возьмет да и напишет такой рассказ, о том, как двое мужиков затевали убийство и грабеж, но сами попали в обделку» (Бирж. вед., 1916, 20 апреля (3 мая), № 15509, утр. вып.). Лорд Генри пытался отыскать причины пристального внимания писателей к деревенской тематике (ликвидация «надежд и чаяний 1905 года», столыпинская реформа) и проследить исторические этапы развития сельской прозы, начиная со «славянофильской волны», «Мужиков» А. П. Чехова, «Деревни» И. А. Бунина и завершая ее «Яром» Есенина (журн. «Семейные вечера», М., 1917, № 1, стб. 153–154). А. А. Измайлов, относя «Яр» к современному «этнографическому направлению» в литературе (термин Лорда Генри), именно на этом основании отказывал ему в читательском интересе: «Повесть Есенина не выдвинется в значительное явление. Куда же поэт Есенин интереснее Есенина рассказчика, пишущего какими-то необычайно однообразными двустрочиями, в монотонном и надоедливом ритме. Наконец, это просто старая школа народной повести, изводящей кропотливо выписанными мелочами, давно осужденная в Потехине или Златовратском» (Бирж. вед., 1919, 20 апреля (3 мая), № 15509, утр. вып.). Ему вторил Я. В. Перович: «В очередной книжке журнал дает место сразу сделавшемуся популярным, молодому беллетристу Сергею Есенину. Повесть “Яр” не хуже, не лучше многих повестей из крестьянской жизни, которым предстоит недолгое существование. Читаешь ее без раздражения, но и без любопытства даже» (газ. «Отклики Кавказа», 1916, 27 апреля, № 93). Полагая, что «не ярок талант Есенина» и считая его произведения «довольно заурядными», критик тем не менее выделил повесть из всей русской прозы второго номера журнала: «Остальная оригинальная беллетристика неинтересна» (Там же). Критик Вл. Б-в в обзоре «Новые книги и журналы. Среди журналов», видя в «новом увлечении современных беллетристов» большими эпическими формами полезные моменты, первым назвал сочинение Есенина: «Просмотрите наши толстые журналы за последние полгода: перед вами встанет целый хоровод повестей и романов. Уже в последние месяцы: “Сев. записки” дали повесть С. Есенина “Яр”...» (газ. «Сибирская жизнь», Томск, 1916, 27 августа, № 186). Правда, ни в этом, ни в последующем обзоре журнальных номеров с мая по август критик не остановился на подробном разборе «Яра», как это сделал в отношении повести И. Новикова «Калина в палисаднике», начало которой было опубликовано в апрельско-майской книжке «Северных записок» — одновременно с окончанием публикации есенинского произведения (газ. «Сибирская жизнь», Томск, 1916, 21 сентября, № 204).
Об интересе критики к «Яру» свидетельствует то обстоятельство, что А. А. Измайлов и Я. В. Перович откликнулись еще на незавершенную публикацию повести Есенина. Причем А. А. Измайлов видел достоинства произведения в следующем: 1) в своевременном выходе сочинения — «В тот момент обострения старого спора в “Северных записках” довольно кстати появляется повесть С. Есенина “Яр”... потому что автор... сам истинный сын деревни»; 2) в мастерстве изложения проблем русского крестьянства и органичности творческой манеры знатока их жизни — «Таково истинное писательство, и иметь дело с его непоследовательностями и парадоксами куда же приятнее, чем с книжными выдумками рассудочников...» Критик находил глубокий символический смысл в самом обращении писателя к деревенской теме — как «в свидетельском показании Есенина» — и ставил автора на путь «библейского Валаама, вышедшего на проклятие и изрекшего благословение» (Бирж. вед., 1916, 20 апреля (3 мая), № 15509, утр. вып.).
Посмертная публикация «Яра» в т. 4 Собр. ст. отмечена в рецензии Иннокентия Оксенова «Новые книги. Четвертый том Есенина»: «В IV томе, кроме стихов, помещены опыты поэта в прозе, представляющие лишь узко-литературный интерес: повесть “Яр”, напечатанная в “Северных записках” (1916), и рассказ “Бобыль и Дружок” (1917). Стиль “Яра” и его язык, богатый областными речениями, лежит в плане той орнаментальной прозы, с упором на местные диалектологические особенности, которую отчасти раньше, отчасти позже разрабатывали А. Чапыгин и Всеволод Иванов. В развитии творчества Есенина его проза никакой роли не сыграла» («Красная газета», Л., 1927, 13 мая, № 126, веч. вып.). В Латвии на публикацию «Яра» в Собр. ст., 4 откликнулся рецензией Н. И. Мишеев: «И чудесно отразился этот есенинский пафос в повести “Яр”. Невозможно передать ее содержание. Герои повести и подлинные русские мужики, и в то же время какие-то “перепевы”, “тени”, “отголоски” многогранной души поэта. Запах земли, “хлебной избы”, “мужичьего пота”, “коровьего навоза” странно смешался с самыми крайними, по своей одухотворенности, взлетами души, которая с недоступной высоты смотрит на землю и крестьянский люд, на этих Аксюток, что “хвастаются убивством, которого не совершали”, Лимпиад, в сердце которых поселился “Яр” с его безумной жаждой любви, Анисимов, уходящих в монастырь от своего крепкого хозяйства... дедушек Ионов ‹sic!›, в гневе убивающих помещиков за крестьянскую правду и т. д., и т. д. На всех них, под видимым смирением, убожеством, трудолюбием, хозяйственностью, почитанием Миколы — на всех, без исключения “под семью замками” лежит печать Яра. Опасно срывать ее... Не дай Бог выпустить его на свет!.. ‹...› “Ярится” человек!..» (газ. «Слово», Рига, 1927, № 519; подпись: Н. Притисский).
Очень личное восприятие повести, без оглядки на профессиональную критику, обнаруживается в частной переписке современников Есенина и в посмертных воспоминаниях о нем. С. Д. Фомин в письме к Л. Н. Клейнборту от 9 июня 1916 г. размышлял о публикации «Яра»: «Вот в “Сев‹ерных› записках” печатают роман С. Есенина “Яр”. Печатание этой вещи я ничем другим не объясняю, как одним желанием вызвать ожесточенную критику. Я нахожу, что это произведение в целом антихудожественное. Есть, конечно, удачные художественные маски и зарисовки, но в общем автор (которого можно определить его же словами) “скопырнулся и утоп” в одних словах — провинционализмах и идиенизмах. Его стихи хотя и корявые, но куда цельней и лучше прозы» (сб. «Литературный архив...», с. 64, публикация В. В. Базанова). Д. Н. Семёновский в письме к М. Горькому в июле 1916 г. делился впечатлением от произведения: «В “Северных записках” была повесть Есенина “Яр”; удивительно, как только ее напечатали! Черт знает что теперь творится в литературе...» (Письма, 310). В ответном письме от 2 августа 1916 г. М. Горький, отрицательно относившийся к деревенской тематике в литературе и к деревне вообще, соглашался с Д. Н. Семёновским: «Есенин написал плохую вещь, это верно» (Письма, 311).
Противоположной точки зрения придерживался М. В. Бабенчиков, который называл “Яр” своим любимым произведением, постоянно цитировал его в первоначальном — неопубликованном — варианте воспоминаний о Есенине и находил общее в судьбах писателя и его героев: «“Жизнь неплохая штука, но нельзя калечить себя ради других. Жизнь надо делать”, — сказал он ‹Есенин› раз мне в одну из тогдашних наших мимолетных встреч, почти буквально повторив то, что когда-то написал в “Яре”. ‹...› Карев выстроил школу. Есенин “школу” — оставил. Александровский, Клычков, Орешин, покойный Н. Кузнецов, Шведов — кто знает, сколько поколений будет вторить есенинской поэзии? ‹...› Стремление примирить “Яр” как мир природы с человеком было кровным и родовым у Есенина. В крови его, как и у Афоньки из “Яра”, светилась зеленоватым блеском лесная глушь и дремь, но все больше и больше он чувствовал, что в нем просыпалась “ласковая до боли любовь к людям”. ‹...› Есенин вышел из “Яра”, как бы Лимпиада, он знал “любую тропинку” в лесу, все овраги наперечет пересказывая» (ГЛМ). В печатном варианте воспоминаний М. В. Бабенчикова уже нет подробного описания впечатлений от «Яра», кроме наблюдения о созвучии строк повести настроению Есенина в 1920–1921-е годы и сравнения конца писателя с гибелью Карева:
«В период всего дальнейшего времени вплоть до 1922 года наши встречи с Есениным были кратки, а разговоры носили случайный характер. Из всего сказанного им за этот срок я запомнил немногое. Самым ярким было почти точное повторение фраз из его же повести “Яр”. ‹...› Как страстный охотник и искатель приключений Карев, Есенин ушел, оказавшись погибшим для “Яра” навсегда, и, как Карев, уйдя, нашел в новом свою смерть. Так ветры дорожные срывают одежду и, приподняв путника, с вихрем убивают его насмерть. Быстро развертывалась жизнь. В ушах поэта неумолчно звенела песнь его молодости: “Эх, да как на этой веревочке жизнь покончит молодец”. “Ой, и дорога, братец мой, камень, а не путь”, — говорит Ваньчок из есенинского “Яра”.
За месяц до смерти я встретил его у ограды университета (там, где стоит “бронзовый” Ломоносов)» (сб. «Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». Под ред. И. В. Евдокимова, М.-Л., 1926, с. 43, 47).
Возможно, отказываясь от подробного анализа «Яра», М. В. Бабенчиков пошел на уступки И. В. Евдокимову — редактору сборника воспоминаний о Есенине и «Собрания стихотворений» поэта, который в написанном в том же 1926 г. «Предисловии» к четвертому дополнительному тому охарактеризовал повесть как «юношескую» и входящую в «ранние юношески слабые вещи» (Собр. ст., 4, с. 10, 8). В статье М. В. Бабенчикова «Есенин. Воспоминания» — машинописи с правкой редактора (ИМЛИ) — И. В. Евдокимов жирным синим карандашом вычеркнул фразы «В старом дремучем “Яре” темь. Трудно уйти из “Яра”. Есенин вышел из “Яра” как его Лимпиада (“Яр”), он знал “любую тропинку в лесу, все овраги наперечет пересказывал...”», стоявшие перед предложением: «Как страстный охотник и искатель приключений Карев...». Год создания повести М. В. Бабенчиков считает лучшим периодом в жизни Есенина: «Я помню самые первые дни “городской жизни” Есенина... мне отрадно вспоминать, что я видел его, быть может, в самые счастливые дни его поистине золотой юности. Хронологически это был 15-й год».
Заглавие повести, по мнению сестры писателя А. А. Есениной, произошло от местного топонима: «...в четырех километрах от Константинова, на опушке леса, на берегу Старицы (старого русла Оки), отделяющей луга от леса, стоял хутор, принадлежавший константиновскому помещику Кулакову. Этот хутор носил название Яр» (Есенин V (1979), с. 304). В полном виде исходный топоним был двусловным: «От хутора Белый Яр, который в житейском обиходе константиновские мужики и бабы прозывали чаще всего просто Яром, идет, как это можно представить, и название повести» (Прокушев Ю. Л. Даль памяти народной. Изд. 2-е, доп., М., 1979, с. 8). Белый Яр представляется и обозначением соснового бора за Окой (см.: Панфилов 1, 31; 2, 142; Есенина А. А., 15) — ср. название упомянутого в повести одного из константиновских лугов — Белоборка — и название рассказа Есенина «У белой воды» (1916). Как реально существующий топоним Яр попал в местную частушку:
В журнальном тексте внутри предложения лишь однажды слово «Яр» написано с большой буквы (№ 2, с. 19).
Происхождение заглавия повести от родного Есенину рязанского топонима подкрепляется наличием в произведении других географических названий. По сведениям сестры поэта А. А. Есениной, упомянутые в повести «деревня Чухлинка расположена в лесу, а село Раменки — в поле, в пяти километрах от Константинова. Деревня Кудашево тоже находится в поле, километрах в семи-девяти от Константинова» (Есенин V (1979), 305). М. В. Бабенчиков представляет несколько иной позицию повествователя относительно соблюдения подлинных топонимов в произведении: «Иногда Есенин даже в точности сохранял имена и названия — например, деревня Раменки (в четырех верстах от Константинова), иногда менял их — например, деревня Чухлинки (настоящее название Чешуево)...» (ГЛМ. — Пунктуация комментатора). Иное, существующее в обиходе, произношение названия деревни дает жительница с. Константиново Анна Ивановна Махова, 1910 г. рожд.: «Чешово — 5 километров от нас» (запись комментатора в 1993 г. — Е. С.).
Исходя из есенинского описания яра как леса, бора, в заглавии повести можно заметить продолжение литературной традиции «лесных названий» — с опорой на прозаические произведения: «В лесах» П. И. Мельникова (Андрея Печерского), «Лес шумит» В. Г. Короленко, «Лесная глушь» А. И. Куприна, «Лесная топь» С. Н. Сергеева-Ценского, «Лес разгорался» Скитальца и др. (См.: Воронова О. Е. Проза Сергея Есенина: Жанры и стиль. — Дисс.... канд. филол. наук. М., 1985, с. 31, 105–106).
В повести встречаются и данное в соответствии со словарным значением слова понимание яра как «крутояра», «оврага», и близкие по смыслу словосочетания «яровая долина», «яровая лощина». В этимологических и диалектных словарях, например у В. И. Даля, обычно приводятся такие толкования слова «яр», как «крутояр или крутизна, круть, круча, крут`ик (но не утес, не каменный); обрыв, стремнина, уступ стеною, отрубистый берег реки, озера, оврага, пропасти; подмытый и обрушенный берег»; затем В. И. Даль рассуждает о разном генезисе омонимичных корней: «Кажется, надо принять два корня яр, один славянский (ярость, яркий), другой татарский (круть, обрыв)» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Изд. 3-е. Изд. Бодуэна-де-Куртене. СПб.; М., 1909. Т. 4. Репринт: М., 1994. стб. 1580–1581; ср.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 4. М., 1987, с. 559; Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. Т. 2. М., 1994, с. 471). Слово «яр» неоднозначно: кроме географического определения характера местности, оно нередко расценивается как топоним или его составная часть и в этом своем качестве включается в словарные статьи — напр., Крутой яр, Красный яр и Красноярск (Черных П. Я., с. 471) — и вынесено в заглавие есенинской повести.
Название «Яр» могло быть вызвано и внимательным ознакомлением Есенина с подборкой однокоренных слов с их многозначной семантикой в главе VIII «Ярило» из трехтомного исследования А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу» (М., 1865–1869), которое стало «настольной книгой» С. М. Городецкого. У этого поэта на квартире жил Есенин весной 1915 г. Трехтомник Афанасьева писатель мог прочитать и раньше, учась в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского на историко-филологическом отделении: в стихах 1914 г. ярко проявляются подобные мифологически-метафорические образы. С помещенными в учебную хрестоматию фрагментами труда ученого Есенин мог познакомиться еще раньше — в Спас-Клепиковской второклассной учительской школе (наблюдение С. И. Субботина).
На поэтической натуре Есенина сказалось влияние личности и творчества С. М. Городецкого в период создания «Яра». По словам Городецкого, будущий автор повести восторгался книгой стихов «Ярь» (1906): «...он сказал мне при первом же свидании про мою “Ярь”: “Я не знал, что так можно писать”. Это “так” могло относиться только к моему опыту беречь старословие, живущее в народе...» (Молдавский Д. М. Притяжение сказки. М., 1980, с. 21; Он же. И песня, и стих. М., 1985, с. 250–251). Л. А. Озеров на заседании текстологической комиссии Полного собрания сочинений Есенина в ИМЛИ от 9 января 1996 г. сообщил сказанные ему слова С. М. Городецкого о том, что Хлебников ходил с «Ярью» за пазухой, клал под подушку; Всеволод Вячеславович Иванов скандировал стихи, доходя до напевности; Городецкий гордился, что Есенин очень ценил «Ярь» за мифологическое начало. Между усовершенствованной редакцией «Яри» (в I-м томе «Собрания стихов», 1910) и «Яром» имеется некоторое сходство: 1) фонетическая и смысловая переклички названий; 2) введение Есениным поначалу отсутствовавшего композиционного разделения на три части (у Городецкого это отделы «Зачало», «Ярь» и «Темь», появившиеся по совету А. А. Блока) с дальнейшим не всегда соблюдаемым внутренним делением на смысловые фрагменты (у Городецкого это циклы и самостоятельные стихотворения); 3) ведущий образ «лесной русалки» Лимпиады, древяницы у Есенина и древеницы (в одноименном стихотворении и др. произведениях), водяницы у Городецкого. К периоду публикации «Яра» Есенин уже съехал с квартиры друга, отправившегося на Кавказский фронт в начале мая 1916 г., и встречи двух поэтов были очень редкими: «Весной и летом 1916 года я мало виделся с Клюевым и Есениным», — пишет С. М. Городецкий в воспоминаниях (Восп., 1, 181).
Повесть «Яр» — художественное произведение, основанное на авторском вымысле. Однако оно вызвало разноречивые суждения современников насчет соответствия событийной канвы «Яра» обстоятельствам жизни самого писателя. А. А. Есенина утверждает: «Разумеется, повесть «Яр» нельзя назвать документальной. Есенин использовал в ней только имена односельчан, названия сел и деревень, находящихся вблизи Константинова» (Есенин V (1979), 304). М. В. Бабенчиков полагал, что «проза Есенина — “Яр” — автобиографична» и «общий характер и сущность всегда оставлялись им без изменения», хотя и допускал небольшие оговорки: автор «почти в точности передавал то, что видел» и выведенные им типы — «почти подлинная передача живых, близких Есенину людей» (ГЛМ).
Сложным представляется вопрос о «жизненном материале», который лег в основу повести. По мнению А. А. Есениной, «дед Иен — сосед Есениных, был работником на барском дворе» (Есенин V (1979), 305). М. В. Бабенчиков рассуждал иначе: деда Иена «Есенин наделил чертами своего любимого деда. ‹...› Большинство мужского населения села Константиново, уходя в отхожие промыслы, ходило летом на барках в Петрограде. Барочником был, в одно время, и дед Есенина. Описывая деда Иена в том же “Яре”, Есенин приводит его рассказ...» (ГЛМ). Речь идет о Федоре Андреевиче Титове (1845–1927) — дедушке по материнской линии, в семье которого 12 детских лет жил и воспитывался Есенин. По воспоминаниям сестры Екатерины, дед «был недурен собою, имел хороший рост, серые задумчивые глаза, русый волос и сохранил до глубокой старости опрятность одежды» (ГЛМ). Из 25 барочников села пятеро (или четверо) были братьями Титовыми, а дедушка являлся самым зажиточным из них и владел четырьмя барками в Петербурге, поначалу удаляясь по весне в отхожий промысел наемным рабочим на плоты и барки. По данным В. Л. Львова-Рогачевского, возвращался Ф. А. Титов к храмовому празднику Казанской Божьей Матери 8 июля ст. ст. (см.: ГЛМ) — ср.: в «Яре» фигура деда Иена впервые появляется в 3 главе II части, повествующей о косьбе и упоминающей об июльской жаре. По другим сведениям, дед прибывал в село только поздней осенью. Каждое лето он зарабатывал не менее 1000 руб., привозил для дома медную утварь, а для церкви — медные подсвечники и лампады на цепочках и устраивал бражное «столованье» для односельчан, повторяя в промежутках между песнями любимую приговорку: «Ангельский ты мой голосок, медная ты моя посуда!» Ф. А. Титов знал духовные стихи, по субботам и воскресеньям пересказывал внуку Библию и Священную историю, а однажды воздвиг часовню из неокрашенного кирпича и с соломенной крышей, чтобы священник служил там молебен (см.: ГЛМ; Панфилов, 1, 112, 194, 203). Дед любил петь «песни старые, такие тягучие, заунывные» (см. автобиографию Есенина в т. 7 наст. изд.), был горазд на выдумку (вроде его ответа маленькому Есенину о том, что месяц повесил на небо Федосей Иванович, известный на базаре толстый сапожник) и научил мальчика кумулятивной песне-сказке «Нейдет коза с орехами...» (см.: ГЛМ. — ср.: Восп. 1, 33); ср.: дед Иен сказывает бытовую сказку о поповой собаке, якобы обучившейся «по-людски гуторить». Есенинская фраза о деде — «с его стороны устраивались вечные невенчанные свадьбы» (см. автобиографию Есенина в т. 7 наст. изд.) — не противоречит характеру деда Иена, весельчака и балагура, ради шутки приударяющего за односельчанкой Просиньей. Есенин неоднократно подчеркивал в автобиографиях и рассказе о своей жизни И. Н. Розанову (см.: Восп., 1, 442) то, что дед его «иногда сам подзадоривал на кулачную» и «заставлял драться, чтобы крепче был» (см. т. 7 наст. изд.) — неслучайно в повести именно дед Иен оказывается зачинщиком убийства помещика, первым бросает в него камень и затем принимает всю ответственность за содеянное на себя. Очевидно, многогранный образ деда Иена был создан и домыслен Есениным с учетом сразу двух прототипов — собственного деда и соседского работника на барском дворе.
Устанавливается прототип Ваньчка — это реальное уменьшительное имя-прозвище жившего в Матове по соседству с Ф. А. Титовым женатого, но бездетного крестьянина Ивана Яковлевича Ефремова. О нем известно следующее: «Хитрый и плутоватый Ваньчок перепродавал в округе кадушки, лопаты, грабли, ложки и прочие деревянные изделия, которые покупал в Спас-Клепиках. Был пристрастен к выпивке.
Оказавшись как-то раз в Москве, познакомился с веселыми девушками из меблированных комнат. Смеха ради насмешливые девицы у него, сонного и пьяного, отстригли бороду», — из-за чего Ваньчку пришлось в сумерках, задворками возвращаться домой и не покидать его, пока не отросла борода (см.: Панфилов, 1, 105). А. А. Есенина сообщает, что И. Я. Ефремов оказывал услуги будущему писателю: «Когда Есенин учился в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе, ему нередко приходилось ездить из дома в Спас-Клепики на лошадях с Ваньчком» (Есенин V (1979), 305).
Сведения о других прототипах крайне скудны и взяты из единственного источника: «Олимпиада (Липка) — двоюродная сестра матери поэта. Брат Олимпиады когда-то работал сторожем в лесу. ‹...› Митька, по прозвищу “Митька-Сюсюка”, слыл в Константинове вором. Царек, Кондак — константиновские крестьяне и т. д.» (Там же). Понятие «вор» нуждается в уточнении, ибо во времена Есенина в устах местных жителей оно обладало дополнительным значением: «“В Константинове что ни двор, то вор, а как два двора, так два колдуна”, — говорили по соседству. “Вор” разумели в старом, расширительном толковании слова — хитрец, пройдоха» (Панфилов, 1, 101).
Попытку определить прототип главного персонажа повести Константина Карева (само имя героя напоминает о названии родного Есенину села) предпринял А. Д. Панфилов, основываясь на характеристиках константиновских жителей, данных им односельчанами-сверстниками — в первую очередь, Николаем Ивановичем Титовым: «В чайной Макаровых-Кверденевых всегда можно было встретить кого-нибудь интересного, например, Мысея Софронова. ‹...› По моему понятию, Карев из “Яра” написан Сергеем с двух человек: с отца, всепрощающего и кроткого, как голубь, да с Мысея. ‹...› Никто лучше Мысея не мог перед покосом поделить выти по делянкам. ‹...› Во время сева, на покосе, в страду Мысей работал за троих и обитал дома. Во все остальное время, даже зимой, жил отшельником на воле вольной, как медведь в берлоге обитал в землянке, в лесу, поблизости от Макарова угла. Питался рыбой. ‹...› На мельнице, что была на Яру, километрах в двух от своей землянки, снабжался хлебом в обмен на свою рыбу» (Панфилов, 1, 61).
Прозвище водолива Андрюхи Совы восстанавливается из упоминания односельчанкой Есенина Аграфеной Павловной Хрековой прозвища «Сова», данного отцу Сергея Мамонтова — одноклассника будущего писателя (см.: Панфилов, 2, 199).
Представляется вероятным, что имя и образ помещика — Борис Петрович — сложились у Есенина путем преобразования характеров отца и сына Кулаковых. О них известно, что в Белом Яре лесом и хутором владел Иван Петрович Кулаков до смерти в 1911 г.; его сын Борис Иванович к своей свадьбе в 1915 г. построил там двухэтажный деревянный дом, с 1916 г. в нем бывал Есенин как гость сестры хозяина — Лидии Ивановны Кашиной, а в 1920-е годы усадьба сгорела (см.: Есенина А. А., 8; Гаврилов И. Н. Обоснования к созданию Есенинского мемориального комплекса на территории Рязанской области. — «С. А. Есенин: Эволюция творчества. Мастерство». Рязань, 1979, ч. 2, с. 143; Панфилов, 2, 142).
Прототипом Натальи могла послужить бабушка Есенина по материнской линии Наталья Евтихиевна Титова (1847–1911), часто совершавшая паломничество к святым местам. Вот воспоминание односельчанки Евдокии Александровны Воробьевой об этом: «Странники шли из Новоселок, из Аксёнова, из Данилова, а у нас, у часовни и большого камня останавливались отдыхать... Иногда и бабушка Наталья Евтеевна с ними увяжется... Шли к Троице Сергию или к Николе Радовице...» (Панфилов, 1, 120). В автобиографиях Есенин, не упоминая имени Натальи Евтихиевны, постоянно сообщает о своих странствиях с бабушкой: «Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Дома собирала всех увечных, которые поют по русским селам духовные стихи от “Лазаря” до “Миколы”»; «Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовицкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: “Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст”» (см. наст. изд., т. 7).
Основа эпизода о «сельском дурачке» близка к назиданию матери Т. Ф. Есениной сыну о возможном вреде чрезмерного чтения: «Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, — начала мать, — вот как ты; хороший был дьячок, а все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. Попалось ему в книжке “чупитошный-крупитошный” (слово такое), так он что ни станет говорить, обязательно прибавит: “чупитошный-крупитошный” — так и умер с этим. А от чего? — все книжки. Дьячок-то какой был!» (ГЛМ. — Знаки препинания уточнены комментатором; ср.: Восп. 1, 35 — сокращенно; обоснование гипотезы см. в статье Е. А. Самоделовой «К вопросу о творческой истории повести С. А. Есенина “Яр”» — в печати: Canadien-American Slavic Studies, 30, Nos. 1–2, (1997). Образ дьячка позднее встретится в стихотворении Есенина «Письмо деду» (1924) в строках:
Интересны и сопоставления описаний географических объектов повести с действительными уголками «малой родины» Есенина. О двух из них сообщает А. А. Есенина: «В полутора километрах от Яра, тоже на опушке леса, на берегу Оки находилась мельница, а в четырех-пяти километрах в глубине леса стояла сторожка, где жили лесные сторожа» (Есенин V (1979), 304; ср.: Прокушев Ю. Л. Даль памяти народной, с. 82, 83).
В отношении фольклора и диалектной лексики Есенин также следовал принципу достоверности, стремясь использовать устно-поэтическое богатство преимущественно с. Константиново и его окрестностей. Именно во время создания повести писатель, по записи на кинопленку воспоминаний его матери Т. Ф. Есениной, особенно увлекался красотой народной речи: «Позовет стариков, старух, начнет с ними разговаривать. Винцом их угостит. Ему было интересно их послушать. Интересовали его старинные слова, что они значат. Вот что такое “коник”? По-старинному, это кровать» (Есенин V (1979), 304).
О собирании фольклора свидетельствует письмо Есенина к Д. В. Философову в июле-августе 1915 г. из с. Константиново: «Тут у меня очень много записано сказок и песен. Но до Питера с ними пирогов не спекешь» (наст. изд., т. 6). В этот же период Есенин поделился замыслом издать константиновский фольклор с С. И. Чацкиной, которая в письме к поэту от 18 июля 1915 г. сделала приписку: «P. S. Надеюсь, что привезете нам песен и сказок. Я часто вспоминаю Ваше пенье» (Письма, 203). Далее С. И. Чацкина через Л. И. Каннегисера (он сообщает об этом в своем письме от 11 сентября 1915 г.) дает указания насчет точной фиксации фольклора: «сказки просит записывать “сырьем” — как они говорятся» (Письма, 210). Идеей опубликовать фольклор проникся и издатель «Ежемесячного журнала» В. С. Миролюбов — в письме редакции к Есенину от 16 сентября 1915 г. говорится: «Вашим сообщением о сказках и песнях старинных Виктор Сергеевич заинтересовался и просит прислать их ему» (Письма, 210).
По свидетельству петроградского литератора М. П. Мурашева, в этот период Есенин развивал широкие планы по созданию крестьянского журнала, хотел вести отдел «Деревня», чтобы познакомить читателя с сельскими проблемами: «Я бы стал писать статьи, — сказал Есенин, — и такие статьи, что всем чертям было бы тошно!..» (Восп., 1, 189), — но идея не осуществилась. В 1915 г. и ранее Есенин пробовал себя в разных жанрах: эпистолярном (в официальном письме), стихотворении, «маленькой поэме», наброске-отзыве на книгу, критико-публицистической статье, рассказе и, наконец, повести. В художественной литературе начала XX века Есенин глубоко интересовался орнаментальной прозой — особенно А. Белого, у которого его очень привлекала диффузия стиха и прозы, своеобразная стихопроза. Поэтика «Яра» во многом продиктована стихотворной ритмикой. Кроме того, стилистика повести и нравственные искания ее героев предопределены юношескими идеалами в есенинских письмах 1913–1914 гг. к Г. А. Панфилову и М. П. Бальзамовой. В этих письмах применялась редкая лексика (типа «хлюст», «вихорь»), впервые цитировались народные песни (напр., «Ах ты, ноченька, // Ночка темная» — позже будет упомянута в «Яре»), вырабатывался оригинальный характер построения фраз — сравните: «Разбиты сладостные грезы, и все унес промчавшийся вихорь в своем кошмарном круговороте. Наконец и приходится сказать, что жизнь — это действительно “пустая и глупая шутка”» (из письма к Г. А. Панфилову в конце августа — начале сентября 1913 г. (наст. изд., т. 6) с цитатой из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать...»).
По наблюдению современного литературоведа Ю. Б. Орлицкого, повесть Есенина уникальна по своей стилистике, определенной двойной установкой автора — одновременно на стих и прозу, и отражает стихотворный тип мышления. В «Яре» имеется около сорока метрических зачинов, «воспроизводящих» одну стихотворную строку; отмечается своеобразная строфичность, при которой почти каждая (и особенно диалогическая) строфа равна одному предложению. Продолжение градаций строфики заключается в дробности всего текста — в разделении его на главки, главы и части и в перебивке регулярности организации художественного целого диалогическими строфами и вставками-повествованиями. Так возникает «особый тип ритмической прозы, в основе которого лежит регулярная строфика в сочетании с версэйностью», созданной по модели библейского стиха с его прозаической строфой, отличающейся интонационной законченностью и обычно состоящей из одного предложения, сопоставимого по размеру с соседними (Орлицкий Ю. Б. Стиховое начало в прозе Есенина. — «Славянская филология. Творчество С. А. Есенина. Традиции и новаторство. Науч. тр. Латв. ун-та». Рига, 1990. Т. 550, с. 133–134, 141–142, 145).
Обилие в «Яре» разнообразных типов предложений с прямой речью создает полифонию — многоголосие, в котором щебетание птиц, лесные шорохи оказываются не менее значимыми, чем человеческие голоса. Мысли, раздумья человека, часто непонятно кому принадлежащие, усиливают самоценность каждого высказывания. Для текста характерна намеренная недоговоренность, недосказанность, незавершенность фразы, выраженная многоточием, стоящим как внутри предложения, так и на его оборванном конце, иногда вместе с более выразительным интонационным знаком — восклицательным или вопросительным: «То-то... камни... знаем мы вас, прохожалок. ‹...› Знаем мы вас, знаем!..».
Повесть «Яр» экранизирована в 1992 г. При экранизации допущены серьезные отступления от есенинского сюжета российско-американским кинопредприятием «Рерих»: сценарист Вс. Иванов, режиссер Р. Файзиев, актеры Л. Кулагин, Л. Дуров, Н. Ивчук, Б. Химичев и др. (см.: Гуртницкий Г. Есенин и не Есенин. — «Над Невой твоей...»: Юбилейн. сб. к 100-летию С. А. Есенина. СПб., 1996, с. 42–43).
С. 15. ...на Покров сыграли свадьбу. — В с. Константиново, как и традиционно на Руси, большинство венчаний приходилось на Покров — 1 октября по ст. стилю (см.: Панфилов, 2, 220), хотя известны и др. сроки — зимний мясоед, Красная Горка.
С. 16. Зубок привез? — Представление «зубка» как платы попу за венчание вызывает сомнение. В с. Константиново, как и повсюду, этот ритуал распространен как родильный: «Как скоро в деревне узнают, что такая-то родила... всякая баба спешит снести родильнице “на зубок” пирог, чашку кислой капусты, блюдце соленых огурцов, горшочек кашки или чашечку крупиц... Поздравляют “с животом да с сыном” или “с животом да с дочерью”» (Селиванов В. В. Год русского земледельца: Зарайский уезд Рязанской губернии. — «Письма из деревни: Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века». М., 1987, с. 96; см. также: Словарик).
С. 27. Ты знаешь про Аленушку и про братца-козленочка Иванушку ~ мамка рассказывала. — Эту волшебную сказку Есенин также слушал в исполнении матери — Т. Ф. Есениной. О давнем детском восприятии сказки вспоминает сестра писателя: «Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне показались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке, Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать» (ГЛМ; см. также: Восп., 1, 35).
По свидетельству уроженца с. Константиново В. М. Хрекова, 1893 г. рожд., сюжет сказки использовался в школе на воскресных чтениях в сопровождении «волшебного фонаря», т. е. с демонстрацией диапозитивов: «Во время показа “туманных картин” выступал школьный хор. Были изображения на темы русских сказок — “Братец Иванушка и сестрица Аленушка”, “Серый волк”» (Панфилов, 2, 164).
С. 34. Ты разя не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину... — Сказка «Мальчик с пальчик» широко известна на Руси и в том числе на Рязанщине (см.: Восточнославянская сказка: Сравнительный указатель сюжетов / Сост. Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Л., Наука, 1979 — сюжет 700). Жители с. Константиново приспособили мотив волшебной сказки к реальной жизни, создав иллюзию достоверности: «Купил я много баранок, думал, будем чай пить с баранками, а как вышел из Чешуева, напали на меня волки. ‹...› Я волкам-то по баранке всю дорогу бросал, как раз до Константинова хватило...» — передавался по селу рассказ Алексея Гришина (Панфилов, 2, 136–137).
С. 42. Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя... — Двукратный возглас «Аллилуйя» в отличие от троекратного принадлежит старообрядческой вере. В отличие от западной церкви, употребляющей этот возглас как древнейшее песнопение радости, восточная церковь использует его «как выражение печали, покаяния, во дни поста и особенно в седьмицу страстей» (Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1995, с. 375).
С. 49. «Была бы только ноченька сегодня потемней» — Завершающая каждую строфу строка-рефрен народной песни «Живет моя отрада...», широко распространенной по России; песня литературного происхождения; источником вариантов послужило стихотворение 1882 г. «Удалец» («Живет моя зазноба в высоком терему...») С. Ф. Рыскина (см.: Песни и романсы русских поэтов / Сост. В. Е. Гусев. М.; Л., 1965. № 601).
С. 53. «Подружки-голубушки ~ дружка поджидать» — грустная свадебная песня (возможно, плач невесты), исполняемая обычно при укладывании спать оставшихся на ночевку после девичника у невесты ее подруг. В с. Красные Починки Кадомского р-на Рязанской обл. в 1973 г. студентами Рязанского госпедуниверситета им. С. А. Есенина (тогда РГПИ) был записан близкий к есенинскому вариант «Сонюшка по сенюшкам похаживала...»:
(см. в: Самоделова Е. А. Творчество С. А. Есенина и крестьянская свадьба. — «О, Русь, взмахни крылами: Есенинский сб.». М., 1994. Вып. 1, с. 65).
С. 65. В писании сказано: грядущего ко мне не изжену вон... — Цитата второй части фразы на церковнославянском языке из Евангелия от Иоанна (6:37).
С. 73. К вечеру у парома заскрипели с шалашами телеги... — Подготовка к сенокосу так велась в с. Константиново: «Первыми на сенокос отправляются мужики, переводятся лошади, запряженные в телеги. На телегах покосные домики — шалаши, сундуки с одеждой и продуктами, косы, грабли. Шалаши размером почти все одинаковы: должны поместиться на телеге, но вид их разный. Вот шалаш, плетенный из хвороста и крытый соломой, вот весь тесовый, а вот тесовый, крытый железом. Строят шалаши не на один год, в них приходится ежегодно прожить 2–3 недели, потому и старается каждый жилье свое сделать лучше» (Есенина А. А., 12; см. также: Восп., 1, 62). В архивной машинописи друга детства поэта — Н. А. Сардановского «Из моих воспоминаний о Сергее Есенине» (1926 г.) — указывается, что «во время покосов Сережа приходил в особый восторг от прелестей сельской природы. Красота луговых зорь, величавость и истома ночей в лугах, а в особенности кипучая работа и жизнерадостность крестьян, работавших на лугу всем селом и живших недели 2 на лугах в шалашах — все это привлекало его настолько, что он всегда жил в это время в шалашах с крестьянами, хотя самому ему не было нужды там работать» (ИМЛИ; Панфилов, 2, 138).
С. 74. ...и ухабистые канавушки поползли по росному лугу. — Канавушки — местная разновидность жанра частушки; название дано по главному слову — «канавушка», «канава» — в первой строке. Эти четырехстрочные песенки функционально близки трудовым припевкам (так, мужчины с. Константиново летом нанимались в артели на барках и, безусловно, знали «Дубинушку»), возникали по ходу ведения работ и только позже переносились на гулянки: «В низменной и болотистой Мещере для осушения земель канав приходилось копать более чем достаточно. По ходу работ сочинялись и тут же исполнялись “канавушки”» (Панфилов, 2, 42). Происхождение «канавушки» ведут от старинной необрядовой песни «Ах, канава, ты канава, // Ты канавушка моя!», очень распространенной в с. Константиново (в д. Мелекшино Старожиловского р-на в 1994 г. эти строки были записаны автором комментария и М. В. Скороходовым как самостоятельный текст); в с. Романовы Дарки Путятинского р-на известны хоровые припевки “канава” (см.: Гилярова Н. Н. Музыкальный фольклор Рязанской области. — Рязанский этнограф. вестник, 1994, с. 104). Примеры «канавушек»:
(Панфилов, 2, 42; см. также 1, 249–250).
Название этой частушечной разновидности указано в рекламном объявлении о готовящемся, но так и не изданном сборнике Есенина «Рязанские прибаски, канавушки и страдания» (на книге С. М. Городецкого «А. С. Пушкину» — Пг.: Изд-во «Краса», 1915 — вышла из печати в апреле 1915 г.). Это же название обозначено на афише вечера 25 октября 1915 г. общества «Краса» в Тенишевском училище (Моховая, 33), где вместе с Н. А. Клюевым Есенин читал стихи и пел частушки: «Сергей Есенин. Русь. Маковые побаски... Рязанские и заонежские частушки, побаски, канавушки, веленки и страдания (под ливенку)» (Хроника, 1, 76–77).
С. 78. Имелася у одного попа собака ~ Вот тебе еще сто рублей». — Сюжет новеллистической сказки «Поповскую (барскую) собаку учат говорить» зафиксирован в Тамбовской и Воронежской областях, на Урале и Украине (см.: Восточнославянская сказка. № 1750А).
С. 78. ...скажу про него, гривана... — Есенин использовал в лексическом строе антипоповской бытовой сказки известное ему с детства насмешливое отношение односельчан к священнику церкви Явления Казанской чудотворной иконы Божьей Матери в с. Константиново отцу Ивану (И. Я. Смирнову) по поводу его опозданий к церковным службам: «...собравшийся народ недвусмысленно выражал свое недовольство: “Э, черт, Гриван, чего черт дрыхнет...”» (Панфилов, 2, 118). Оценочная характеристика — «гриван» и синоним «дьявол долгогривый» — даны константиновцами священнику за типичную для священника прическу; ср. начало юношеского стихотворения Есенина «Белогривый поп Гаврила...» 1910–1911 гг. (т. 4 наст. изд.).
С. 82. За белой березой живет тарарай. — Вариант загадки, приведенной В. И. Далем: «За белыми березами тарара живет (язык)» (Даль В. И. Толковый словарь... Т. 4, стб. 391). По свидетельству друга детства поэта — Н. А. Сардановского («Из моих воспоминаний о Сергее Есенине» — 1926) — в селе Константиново мальчики и юноши «уже в постелях выслушивали сказки или загадывали загадки. Особенно много загадок знал Сергей...» (ИМЛИ).
Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я. — Завершающие строки народного варианта песни «Лучина» литературного происхождения, распространенной по всей России, в том числе и в с. Константиново (см.: Панфилов, 1, 226). Источником вариантов послужило стихотворение 1840-х годов «То не ветер ветку клонит...» С. И. Стромилова (см.: Песни и романсы русских поэтов / Сост. В. Е. Гусев. М.; Л., 1965. № 418).
С. 84. На сколько душ косите-то ~ Белоборку наша выть купила. — Есенин ориентируется на систему землепользования в родном селе: «Все пахотные земли в Константинове в соответствии с трехпольной системой севооборота были поделены на три полосы или клина. ‹...› Каждая полоса делилась на десять вытей и не в одном месте. ‹...› Выть в свою очередь была поделена на 58 ревизских душ. ‹...› Хозяйства имели в среднем 2–3 души, у некоторых их было 4–5. ‹...› Одной душе соответствовал определенный участок пашни и луга. По подсчетам стариков, он составлял примерно 1–1,5 десятины пашни и десятину луга» (Панфилов, 1, 85–86). По воспоминаниям сестры Есенина, «участки отводились по жребию» и имели свои названия — Белоборка, Журавка, Долгое, Первая пожень (последний расположен ближе других к селу и потому с него начинается сенокос, затем вся выть перебирается на более дальний участок); «для уборки сена крестьяне объединяются по два-три двора. Лошадные принимают в пай безлошадных», потому что «ни у одного хозяина с одного участка не наберется сена столько, чтобы можно было сметать стог», «вся выть мечет стога в одном месте и сообща огораживает их жердями от скота, который после сенокоса будет пастись здесь» (Есенина А. А., 15; см. также: Восп., 1, 64 и Словарик). Годом раньше, в 1914 г., Есенин написал стихотворение «Черная, потом пропахшая выть!»
С. 85. Вдруг от реки пронзительно гаркнул захлебывающийся голос: “Помогите!” ~... каб не палка-то, и живому не быть! — В основе эпизода спасения тонувших на перевозке мужика и пытавшегося его выручить Филиппа запечатлены два происшествия, случившиеся лично с Есениным и известные по воспоминаниям его сестры Екатерины.
Первое — это спасение потерпевшего аварию во время грозовой бури парома, на котором по счастливой случайности не оказались Есенин с Л. И. Кашиной, совершавшие прогулку по местам действия будущей повести: «Однажды за завтраком он сказал матери: “Я еду сегодня на яр с барыней, вернусь поздно...” После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать сделалась строгой. “Господи! — вырвалось у нее, — спаси его, батюшка Николай-угодник”. И как нарочно в этот момент послышалось в окнах: “Тонут! помогите, тонут!” Мать бросилась из избы... ‹...› Оказалось, оборвался канат и паром бурей понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было» (ГЛМ. Знаки препинания уточнены комментатором).
Второе происшествие было при проводах призывников в армию, когда Есенин отравился вином, и его мать приводила в чувство и лечила старым народным средством: «...стала бить бутылкой по пятке, потом стала бить обе пятки и била до тех пор, пока изо рта Сергея не полилось что-то черное, но он все еще не шевелился. Железной ложкой ей удалось раскрыть стиснутые зубы, и она влила в рот молоко. Ни единого звука не сорвалось с ее уст, пока Сергей лежал без движения, и только когда у Сергея началась рвота, она перекрестилась и заплакала» (Там же). Такой способ возврата к жизни потерявшего сознание человека уже в начале XX века был малоизвестным — это явственно ощущается как по сообщению Е. А. Есениной, возведшей необычное лечение в особо запомнившееся событие, так и по недоумению «какой-то бабы» в повести, причислившей его к бессмысленному уродованию человека.
В описании внешнего вида утопленника лежат детские воспоминания Есенина, когда будущему писателю исполнилось примерно 10–11 лет. По свидетельству И. Г. Атюнина, «в церкви он ‹Есенин› был лишь тогда, когда там был покойник. Однажды принесли для погребения утопленника, труп был распухший и синий, на Сергея он произвел тяжелое впечатление, и после того Есенин говорил: “Нет, утопленники не хороши”» (ГЛМ).
С. 105–106. Вечером на сходе об опахиванье ~ все понемногу угомонились. — Есенин точно и подробно (за исключением отсутствующих у него слов заговора и песни или молитвы) описывает обряд, который ему мог быть известен не только по воспоминаниям старожилов, но и по рассказам участниц обряда, совершаемого при жизни писателя. Из письма В. С. Чернявского, посланного Есенину из Аннополя-Волынского 26 мая 1915 г., следует, что в этом месяце в с. Константиново как раз свирепствовала страшная болезнь, с которой боролись старинным магическим способом: «Твою открытку, пропитанную сибирской язвой и описывающую неслыханные обычаи, Костя Ляндау слишком предусмотрительно сжег, не дав даже нам прочесть!» (Письма, 199). Конечно, как представитель мужского пола сам Есенин принимать участие в обряде не мог. Жительница с. Константиново Мария Николаевна Вавилова, 1908 г. рожд., смутно вспоминает об исчезающем на ее веку обряде: «Уж очень дохли коровы: то у того, то у того. Круг села опахивали: вели лошадь с сохой — опахивали. Хозяин вел лошадь. Народ стоял, глядели. ‹...› Я еще не совсем большая была. Днем опахивали» (запись комментатора в 1993 г.). Возможно, речь идет именно об опахивании 1915 г., о котором Есенин с большим интересом сообщил другу. Сведения М. Н. Вавиловой отрывочны и не совсем точны — в них допущена путаница с бытовым распахиванием узкой полоски земли при пожаре, чтобы огонь не перекинулся на соседние дворы и поля. Однако и такие искаженные сведения очень важны как подтверждение факта опахивания в с. Константиново, причем неоднократного. Большее понимание смысла производившегося обряда отражено в его восприятии человеком со стороны, занимающим позицию наблюдателя и наделенным в силу полученного образования аналитическим складом ума: Лидия Ивановна Власова-младшая поделилась собственными воспоминаниями, просеянными сквозь критическую оценку своего отца — местного интеллигента: «Однажды меня будит отец и говорит: “Пойдем, посмотрим, какая у нас в селе еще темнота есть”. И вот приходим мы с ним на старое кладбище, за церковь. Вижу — за рекой горят костры, а вокруг этих костров женщины в длинных белых рубахах, с распущенными волосами бегают, руками машут. ‹...› Болезнь, говорят, у коров объявилась, чума. Так вот женщины эти, как их далекие-предалекие предки, поступают. Решили, что злые духи в коров вошли, и вот теперь этих духов хотят устрашить и прогнать...» (Панфилов, 2, 212). Наибольшей достоверностью и чистотой фиксирования (без трактовок собирателя) отличаются записи обряда в соседнем с. Кузьминском, сделанные около 1896–1897 гг. и опубликованные в журнале «Этнографическое обозрение». Приведем в качестве примера запись 1897 г.: «Опахивание совершают вдовы и девицы... Волосы участниц распущены, одежда белая. В соху впрягают 4-х вдов; за ней несут икону и петуха; остальные лица следуют за ними, вооруженные метлами, ухватами, кочергами и др. За сохою след заметают метлами. Движение начинается в полночь. Огни в селе тушатся — иначе бьют стекла. ‹...› Встречных спрашивают: чей человек? — Божий! — пропускают; нет ответа — бьют и иногда до смерти. Стараются провести сохою сомкнутую черту вокруг села или скотных дворов, если скотина помещается изолированно в лугах, полагая, что нечистый дух уйдет за черту и перешагнуть за круг не посмеет» (Городцов В. А. Обычаи при погребении во время эпидемии. — «Этнографическое обозрение». 1897, № 34/35 (№ 3–4), с. 186).
Запись 1896 г. указывает расположение вдов относительно сохи — впрягаются «одна в оглобли, две по бокам и одна сзади», а также манеру пения и текст — «поют странным, раздирающим душу напевом молитву «Святый Боже» (Ушаков Д. Н. Материалы по народным верованиям великороссов. — «Этнографическое обозрение», 1896, № 29/30 (№ 2–3), с. 175–176).
По разным вариантам обряда опахивания становится понятно, что текст молитвы заменял собою специальную обрядовую песню языческого происхождения. Очевидно, именно ее Есенин в «Яре» именует «пением и заговором», подразделяя единое произведение редкой жанровой разновидности на две составные части — мелодию и словесный текст.
С. 117. ...у нас положение водится... четверть водки поставь. — В с. Константиново этот ритуал известен как рекрутский, а не как свадебный. В «Воспоминаниях» Е. А. Есениной, прочитанных на совместном заседании Гослитмузея и ИМЛИ им. Горького в 1945 г., сказано: «По нашему деревенскому обычаю все городские призывники должны были купить вина, называлось это — “положение”, и к Сергею явились за “положением”. Отказаться нельзя, где хочешь бери, а вино ставь, иначе покалечить могут» (ГЛМ).
С. 119. «Не шуми, мати зеленая дубравушка, дай подумать, погадать». — Начало народной разбойничьей песни, широко распространенной на Руси. Есенин мог познакомиться с другими ее вариантами по произведениям А. С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка» и по учебным хрестоматиям, например таким, как «Народная поэзия. Былины. Песни. Духовные стихи. С введением и объяснительным словарем» / Сост. А. А. Аксенов. Изд. 3-е. СПб.: Типолит. М. П. Фроловой, 1901 (Приходская б-ка, ред. В. И. Шемякина), с. 392–393.
С. 133–134. «Я умру на тюремной постели, похоронят меня кое-как...» и «А, судьба ль ты моя роковая, до чего ж ты меня довела...» — В повести представлены в обратном порядке строки из разных куплетов народной песни литературного происхождения, широко распространенной на Рязанщине и по всей России. Источником вариантов послужило стихотворение «Голова ль ты моя удалая...» И. К-ева, опубликованное в песеннике Н. И. Красовского «Бродяга» в 1907 г. (см.: Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия: Учеб. пособие для пед. ин-тов. Под ред. А. М. Новиковой. 3-е изд., испр. и доп. М., 1987, с. 364; Гилярова Н. Н. Музыкальный фольклор Рязанской области / Рязанский этнограф. вестник, 1994, с. 40, № 35). Цитированием первых двух комментируемых стихов Есенин закончил стихотворение «Туча кружево в роще связала...» (1915 г.).
С. 138. Голоса на дороге про темную ноченьку поют. — Темная ноченька — очень распространенный образ народных необрядовых песен; в с. Константиново их известно несколько: «Эх, ты, ночка моя, // Ночка темная» — фольклорный вариант стихотворения Н. Г. Цыганова «Ах ты, ночка моя, ноченька...»; «Прощай, жизнь, прощай, радость моя...» — со словами «Темна ноченька — не спится» и др. (см. коммент. к с. 49; Панфилов, 2, 25; 1, 168–169; Песни и романсы... № 319). По «Докладу Правлению Всероссийского союза писателей о поездке в село Есенино для принятия шефства» В. Л. Львова-Рогачевского в 1926 г. известно воспоминание деда поэта Ф. А. Титова: «...и Серега у меня блаженствовал. Все, бывало, просил: “Сыграй мне песню «Ночка темная» или “Прощай, жизнь, прощай, радость...”» (ИМЛИ).
С. 143–144. Склонившись на колени, закрылся руками и заголосил по-бабьему, ~ не теряла бы ты девичью честь. — Редкостный обрядовый момент — исполнение плача мужчиной — продиктован в первую очередь болью утраты последнего родного человека, а также отсутствием женщин в суровом краю шумящего яра, сочувствующих воплениц — обычных в подобных печальных обстоятельствах соседок и прочих односельчанок, выражающих свое соболезнование таким способом и магически воздействующих на миры живых и мертвых. Содержание плача полностью выдержано в духе фольклорной поэтики — с традиционностью клише и импровизацией соответственно конкретным обстоятельствам и причинам гибели, с применением символики согласно социально-возрастному статусу оплакиваемой.
В жизни Есенина известен момент, когда он сам причитал по-бабьи: «...поздно ночью из Макаровой чайной, где гуляли рекрута, в открытые окна неслось чье-то причитание. Несмотря на поздний час, бабы прибежали послушать, кто кричит? Это Сергей причитал по-бабьи над своим другом детства, который призывался с ним вместе. Бабы плакали под окнами, и рекрута затихли в чайной под его причитание» (ГЛМ). Есенин был готов к причитыванию и раньше. В детстве он был свидетелем или мог знать об этом по рассказам о том, как его другую бабушку Аграфену Панкратьевну Есенину мужики просили покричать слова об истерзанной и заблудшей своей душе, чтобы поплакать над допущенными ошибками и просчетами: «Рассказывали, как пьяные мужики приходили к бабушке и платили ей деньги за то, чтобы она “покричала” о них. “Эх, тетка Груня! Покричи обо мне, несчастном”» (ГЛМ). Так в начале XX века модернизировалась древняя традиция оплакивания, наполненная прежде обрядовым содержанием и потому присущая в первую очередь похоронам и поминкам и перенесенная оттуда далее на довенчальную часть свадьбы и проводы рекрутов. Сестра Е. А. Есенина уточняет термин: «Причитание по покойникам и вообще всякое причитание в нашем краю называется “кричать”, “крик”» (ГЛМ).
С. 144. Эх, да как на этой на веревочке // Жисть покончит молодец... — народная песня литературного происхождения «Веревочка» («Чернобровый парень бравый / летом...») известна в с. Константиново и до сих пор бытует на Рязанщине (см.: Панфилов, 1, 272–273; записи автора комментария в с. Шостье Касимовского р-на в 1990 г., а также в д. Мелекшино Старожиловского р-на в 1994 г. совместно с М. В. Скороходовым — исполняется на мотив «Коробочки» Н. А. Некрасова).
Сестрой поэта А. А. Есениной был составлен для «Яра» словарик местных слов и выражений с. Константиново и окрестностей и впервые опубликован в Собрании сочинений в 5 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1962, с. 304–310. В наст. издании он перепечатывается с дополнениями: под одним астериском (*) помещены новые слова с пояснениями относительно их значений, под двумя астерисками (**) для включенных ранее слов даны их расширительные и уточненные толкования.
*Аптешник — ромашка аптечная.
**Артус (правильно: артос — греч.) — хлеб квасной, освященный в первый день Пасхи и хранящийся на аналое перед иконостасом в храме всю светлую седмицу, в пасхальную субботу раздробляется и раздается верующим как напоминание о воскресшем Спасителе.
Бластиться — казаться, мерещиться.
Болезновать — страдать, сочувствовать.
Бочаг — яма на дне реки, омут.
Брус — крайний ряд кирпичей у чела печи.
Брусница — деревянный футляр для точильного бруса. Во время работы привязывается ремнем за спину косца.
Брыкнуться — упасть.
Бурыга — ухаб, рытвина.
Бучень — птица выпь.
Варначить — делать кое-как, халтурить, болтать пустяки.
Веретье — большой брезент, на котором сушат на солнце зерно, им же в непогоду накрывают возы с мешками хлеба.
Воронок — медовая брага с хмелем.
Выбень — выбитое место.
Выть — часть села. Все село делилось на выти. В каждую выть входило 50–60 дворов. Все луговые и полевые земли делились на выти, а затем по душам.
Вяхирь — сетчатый кошель для сена.
Гайтан — шнурок, на котором носили нательный крест.
Гасница — коптилка, самодельная лампа без стекла.
Голица — кожаная рукавица без меха, не обшитая материей.
Гребать — брезговать.
Грядки — две продольные жерди, образующие края кузова повозки.
Гужем — вереницей, гуськом или толпой.
Давеча — не так давно; незадолго, но сегодня же.
*Дерюга — самый толстый, грубый холст из охлопьев.
*Девятичиновая (девятичная, девятичиновная) просфора — третья из пяти приносимых на проскомидию просфор, из которой, в подражание девяти ангельским чинам, вынимается девять частиц в честь святых: 1) Иоанна Крестителя, 2) пророков, 3) апостолов, 4) святителей, 5) мучеников, 6) преподобных, 7) бессребренников, 8) праведных Богоотец Иоакима и Анны, 9) того святителя, имени которого совершается литургия, — Иоанна Златоуста или Василия Великого.
Донце — дощечка со специальной рамкой, на которую садится пряха, вставляя в нее гребень или кудель.
Драчена — запеканка, приготовленная из молочной пшенной каши с яйцами, выпеченная на сковородке.
Дышло — часть оглобли, входящая в ось повозки.
Еланка (елань) — прогалина, луговая равнина.
Ерник — беспутный человек, гуляка.
Жарница — глиняная миска для запеканок.
Жерлика (жерлица) — рыболовная снасть для ловли щук.
*«Жулик» — ср. жулькать — издавать мокрый звук, чавкать, чмокать.
Забуркал — глухо, невнятно заворчал, забормотал.
*Завалинка — земляная насыпь вокруг избяных стен.
*Завьялый — занесенный снегом или чем-нибудь иным.
Загнетка — углубление на шестке русской печи.
Задвашить — задушить.
*Зазуленька (зозуля) — кукушка.
*Зарукавник — короткая широкая кофточка с рукавами, которую надевали во время жатвы.
“Заря-зоряница...” — заговор от бессонницы. Есенин слышал его от матери.
Засемать — засуетиться, зачастить ногами.
Засычка (наровить в засычку) — задираться, ввязываться в драку, скандал.
*Затирка — ср. затирать косу — заровнять треньем (напилком).
*Затонакать — бренчать; напевать про себя.
Захряслый — затверделый.
*Зацветающие губы — покрывающиеся сыпью.
Зубок — подарок новорожденному.
Измусолить — извалять в грязи, испачкать (слюною).
Калпушка — детский чепчик.
Катник — накат от полозьев саней на дороге.
*Клубоватый — похожий на клубок, шаровидный.
Конурка — круглая прорубь во льду, из которой берут воду.
*Коняшка — жеребенок (обычно не моложе одного года, не кобылка), а также молодой конь, которого еще не запрягают.
Коротайка — женская одежда на вате, не доходящая до колен, со сборками, идущими от талии, без воротника.
*Корюзлый — сухой, вялый, дряблый, заскорузлый.
Косник — лента в косе.
Кочатыг — тупое, широкое, плоское шило для плетения лаптей и кошелей.
Куга — болотное круглостебельное, безлистное растение семейства осоковых, идущее на разного рода плетушки и оплет стульев (осока, рогоз, губчатый тростник, болотница болотная и др. — Elaeocharis palustris, Scirpus, Tupha, etc.)
Кудель — вычесанный и перевязанный пучок льна или шерсти, приготовленный для пряжи, и рогулька, к которой привязывается шерсть или лен.
Куколь — сорная трава или ее семя.
Кулага — заварное жидкое тесто из ржаной муки с солодом.
**Кулижка — часть улицы перед домом, часть какой-нибудь площади, большая лужайка в селе.
**Купырь — луговая трава с резким пряным запахом, с лапчатыми, идущими от корня листьями и центральным опушенным стволом-дудкой, мясистой и вкусной ранней весной, с белыми цветками, семейства зонтичных (дягиль, дудник, морковник, сныть и др. — Angelica silvestrum, Aegopodium podagraria, etc.).
**Лещуга — грубая луговая трава, растущая в низинах, применяется в качестве корма для скота (манник, касатик, аир и др. — Gluceria aquatica, Iris pseudacorum, Acorum calamus, etc.).
*Ливенка — однорядная гармоника, созданная в г. Ливны, первоначально имела 8 мелодических и 6 басовых клавишей, потом их количество увеличилось соответственно до 12 и 9.
Лоск — лог, лощина или низкое место в поле.
Лушник — ситный хлеб, испеченный с луком, пережаренным в масле.
Любовина — постная часть соленого свиного мяса.
Махотка — небольшой глиняный горшок для молока с высоким узким горлом.
*Михрютка — домосед, нелюдим; неловкий, неуклюжий человек.
Мера — корзина для измерения количества зерна. В мере 16–18 кг.
Метчик — человек, мечущий стог.
Мотальник — приспособление в прялке для сматывания пряжи.
Мотня — мешок посередине невода.
**Мускорно — трудно, кропотливо, однообразно, надоедливо.
Мухортая — захудалая.
Навильник — захваченная вилами охапка сена, которую подают на стог или воз.
Наянно — навязчиво.
Нехолявый — неопрятный, неряшливый.
Ободнять — рассветать.
Оборки (оборы) — веревочные завязки у лаптей.
Оброть — недоуздок, конская узда без удил, с одним поводом для привязи.
*Оглоед — нахал, наглец, живущий за чужой счет, дармоед, мироед.
Окадычиться — умереть.
Околица — городьба вокруг селения.
Окорёнок — деревянная кадочка с ручками.
Олахарь — обалдуй, непутевый.
Орясник — жердинник (кустарник, пригодный для заготовки жердей).
Отава — трава, растущая после первого укоса.
Падина — настил из хвороста под стог сена.
*Пегасый — пегий, с пятнами.
Пестун — годовалый или двухгодовалый медвежонок, остающийся при матери.
Поветь — соломенная крыша, крытое нежилое место.
*Подожок — палочка для ходьбы, трость подручная.
Пожня — сенокос, луг.
*Полукрупка — мелкая махорка.
Помело — мочальная метла, которой заметают золу с пода печи перед выпечкой хлеба.
Попки — связанные пучки ржаной соломы, кладущиеся на верх соломенной крыши.
Посевка — деревянная лопаточка с длинной ручкой для размешивания теста.
Поставня — круглая корзиночка, плетенная из соломы, перевитой мелким лозняком. В ней держат муку и в нее кладут, как в форму, хлебное тесто для подхода.
Постельник — хворостяная плетеная подстилка по дну саней, телеги.
Посупить глаза — нахмуриться, опустить глаза.
*Потращать — стращать, пугать.
Почомкаться — чокнуться.
Поязать — обещать.
*Прощалыга — пройдоха, проныра, выжега, продувной плут.
*Промежки — простор, расстояние, промежутки между предметами.
Путо — веревка или цепь, которой связывают передние ноги лошади, чтобы не ушла далеко.
Путро — месиво с мучными высевками для скота.
**Пьяника — лесная ягода (голубика — Vaccinium uliginosum).
Пятерик — бревно, из которого можно напилить пять поленьев.
Разёпа — разиня.
*Родимец — падучая младенцев, воспаление мозга с корчами; пострел, паралич.
Саламата — кушанье, приготовленное из поджаренной муки с маслом.
Свивальник — длинная, узкая полоса из материи, которой обвивают младенца поверх пеленок.
*Свитка — верхняя широкая долгая одежда с клиньями по талии. Упомянута в стихотворении Есенина «Белая свитка и алый кушак...», 1915 г.
Сиверга (сиверка) — холодная мокрая погода при северном ветре.
*Сиволапый — неуклюжий, грубый мужчина.
Скрябка — железная лопата.
Скуфья — головной убор церковнослужителей.
**Суровика — лесная ягода; смола хвойного дерева.
Сушило — настил из жердей под крышей двора, где хранится корм для скота, сеновал.
Тудылича — в том месте, в той стороне; или — не теперь, не сейчас.
Тужильная косынка — белая косынка, которой женщины покрывают головы в особо горестные дни — дни похорон и поминания близких людей.
Тяж — ремень или веревка, идущая от переднего конца оглобли к передней оси.
**Ушук — шорох.
Хамлет — хам.
Хрестец (крестец) — убранный хлеб подсчитывается копнами и крестцами. В копне пятьдесят два снопа, в крестце — тринадцать. В полях хлеб укладывается по двенадцать снопов крест-накрест и накрывается сверху тринадцатым. Отсюда и название крестец.
Хруп — жесткий, крупный помол муки.
*Хруптеть — ср. хрупаться и хрупнуть, хрептеть — издавать хруст, хрустеть, хрястнуть, треснуть.
Хрындучить — ерепениться, куражиться.
Цыбицы — чибисы.
**Чапыга (чапыжник) — частый кустарник, непроходимая чаща; куст Caragana frutikosa.
Чередом — по порядку или добром.
Чимерика (чемерица) — луговая трава с толстым стеблем и широкими листьями.
Чичер — резкий холодный ветер.
Чухонец — петербургское название пригородных финнов.
Шалыган — шалун, бездельник.
Шкворень — болт, на котором ходит передок телеги.
Шомонить — лезть, заглядывать, шуметь, наговаривать.
**Шушпан — летняя женская верхняя одежда.
Щипульник — шиповник.
Ярка — молодая неягнившаяся овца.
У белой воды
Бирж. вед., 1916, № 15753, 21 августа (3 сентября), с. 2.
Печатается и датируется по газетной публикации.
Автограф неизвестен.
Работу над рассказом можно отнести предположительно к июню 1915 г., судя по письму Есенина к В. С. Чернявскому из с. Константиново от июня 1915 г. и по письмам Л. И. Каннегисера к Есенину от 21 июня из г. Брянска и от 15 августа и 11 сентября 1915 г. из Петрограда (см. комментарий к «Яру»).
Рассказ остался не замеченным критикой.
В заглавии рассказа усматривается топоним, родственный обозначениям хутора и леса Белый Яр и луга Белоборка в окрестностях с. Константиново. Возможно, в связи с этим во всех книжных публикациях рассказа слово «белый» печаталось с прописной буквы как в заглавии, так и в самом тексте. В настоящем издании (как и в предыдущих, посмертных собраниях сочинений) восстановлены допущенные по вине наборщика пропуски во втором абзаце: «...смотрела то в ту ‹сторону, где,› чернея, торчали камни на выветренном ме‹сте, то› на молочное небо».
Название произведения ассоциируется с Беловодьем — легендарно-утопической страной свободы из русских народных преданий XVII–XIX вв.; по мнению старообрядцев, размещалась где-то на Востоке — в Японии, Индии — и имела реальным прообразом Бухтарминский край на Алтае; с 1870-х по 1920-е годы существовала Беловодская иерархия, нашедшая сторонников среди поповцев Сибири и Прикамья. Есенин интересовался старообрядчеством и мог узнать о Беловодье из книжных и устных источников. Н. А. Клюев, с которым Есенин лично познакомился несколькими месяцами позже создания рассказа, но задолго до его публикации, упомянет о Беловодье в письме к В. С. Миролюбову в начале марта 1918 г.: «Тоска моя об Опоньском Царстве, что на Белых Водах, о древе, под которым ждет меня мой Царь и брат. Благодарение Вам за добрые слова обо мне перед Сережой...» (Письма, 317).
Белый цвет — символ духовной чистоты, высокой нравственности и непогрешимости в христианстве и цвет траура в крестьянской среде. По народному мировоззрению, за водным пространством находится иной мир, царство смерти. Белый как положительно-оценочный эпитет в применении к родине встречается в письме Н. А. Клюева к Есенину от 6 сентября 1915 г.: «Я пробуду в Петрограде до 20 сентября — хорошо бы устроить с тобой где-либо совместное чтение — моих военных песен и твоей Белой прекрасной Руси» (т. е. поэмы «Русь». — Письма, 209).
Проблема нравственной чистоты и греховности чувства волновала Есенина в юности. В письме к М. П. Бальзамовой 1912–1913 гг. из Москвы Есенин рассуждал: «Все люди живут ради чувственных наслаждений. Но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. ‹...› “Наслаждения, наслаждения!” — кричит ‹...› бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. ‹...› Женщина, влюбившись в мужчину, в припадках страсти может отдаваться другому, а потом — раскаиваться». По мнению современного литературоведа О. Е. Вороновой, наряду с фольклорной традицией в рассказе обнаруживается влияние житийной книжности: психологическая коллизия «искушение — падение — раскаяние» неслучайно связана в тексте с именами раскаявшихся грешниц св. Марии-Магдалины и Марии Египетской. Идейно-художественная направленность (борьба духа и плоти, раскрытие внутреннего мира простой женщины) и «пейзажное» заглавие роднят есенинское произведение с рассказом И. А. Бунина «При дороге», 1913 г. (см.: С. А. Есенин: Проблемы творчества, связи. Межвуз. сб. науч. трудов, Рязань, 1995, с. 31, 33 — ст. «Рассказ С. А. Есенина “У Белой воды” в контексте фольклорных и литературных традиций»).
Бобыль и Дружок
Журн. «Доброе утро». М., 1917, № 1, с. 13–16.
Печатается и датируется по журнальной публикации.
Автограф неизвестен.
Работу над рассказом можно отнести предположительно к началу июня 1915 г., судя по письму Есенина к В. С. Чернявскому из с. Константиново от июня 1915 г. и по письмам Л. И. Каннегисера к Есенину от 21 июня из г. Брянска и от 15 августа и 11 сентября 1915 г. из Петрограда (см. т. 6 наст. изд. и комментарий к «Яру»).
Первая посмертная публикация рассказа в книге осуществлена редактором И. В. Евдокимовым в 4-м (дополнительном) томе Собр. ст.
Жизненный материал, легший в основу сюжета, неизвестен, но спустя много лет после публикации он получил продолжение. По воспоминаниям А. А. Есениной, в Москве Есенин купил с рук маленького рыжего щенка, его назвали Сережкой, но вскоре из-за непригодности к обитанию в квартире отправили по ходатайству Г. А. Бениславской к ее знакомым в Тверскую губ. По смерти Есенина собаку привезли в с. Константиново, и родители поэта переименовали ее в Дружка (см.: Есенина А. А., 81–84, также: Восп., 1, 113–115). С. А. Есенина-Толстая сообщала своей матери О. К. Толстой в письме от 13 августа 1925 г.: «У моего Сергея две прекрасные черты — любовь к детям и к животным» (Письма, 356). Из воспоминаний Н. И. Титова — троюродного брата Есенина, 1896 г. рожд. — известно: «...Была у Сережки собака... Сергей с ней возился...» (Панфилов, 1, 132). Образ собаки — один из любимейших, и, начиная с «Песни о собаке» (1915 г.), в творчестве Есенина ему посвящен целый ряд стихотворений.
Железный Миргород
Газ. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», М., 1923, 22 августа (№ 187) и 16 сентября (№ 209). Перепечатку первой части очерка см. также в газ. «Новости жизни», Харбин, 1923, 14 сентября, № 207 (с подзаголовком «Американские впечатления Сергея Есенина», отсутствующим в «Известиях»).
Автограф допечатной редакции — РГАЛИ. Неавторизованная машинопись первой части произведения, исполненная с автографа РГАЛИ, с сокращениями и поправками рукой редактора — ГАРФ, ф. редакции газеты «Известия».
Фрагменты допечатной редакции очерка, не вошедшие в газетный текст, опубликованы В. А. Вдовиным (ВЛ, 1968, № 7, июль, с. 252–254; Есенин V (1979), с. 267–269). Полный ее текст, воспроизведенный по автографу РГАЛИ, — Материалы, с. 297–310 (подготовлен к печати С. И. Субботиным).
По воспоминаниям тогдашнего помощника секретаря редакции «Известий» В. М. Василенко, рукопись «Железного Миргорода» была передана в газету следующим образом:
«Сергей Александрович пришел однажды в редакцию “Известий”. ‹...› Присев к столу, Есенин протянул мне сколотые булавками листки бумаги, исписанные неровным почерком. ‹...› Одна пачка исписанных листков была размером со школьную тетрадку, другая — значительно длиннее и шире. На меньшей я прочел: “Железный Миргород. Статья первая”.
— Это мои впечатления от поездки в Америку, — пояснил поэт...» (журн. «Наш современник», М., 1958, № 4, июль-август, с. 290–291).
Кроме различия в формате бумаги двух частей рукописи, которое отметил мемуарист, существует разница и в цвете чернил, использованных автором. Первая часть очерка была написана черными чернилами; для его второй части (начатой с заголовка «Железный Миргород (продолжение)») Есенин употребил зеленые чернила. Из указанных характеристик рукописи можно заключить, что работа над ней шла в два приема.
Подтверждение этому имеется в воспоминаниях И. В. Грузинова: судя по всему, одна из его встреч с Есениным состоялась сразу после того, как поэт закончил первую часть «Железного Миргорода». Ср.: «“Стойло Пегаса”. Сергей показывает правую руку: на руке что-то вроде черной перчатки — чернила.
— В один присест написал статью об Америке, для “Известий”. Это только первая часть» (Воспоминания-95, с. 256; выделено комментатором).
К тому же публикация «Железного Миргорода» в газете была осуществлена с почти месячным интервалом по времени между первой и второй частями очерка. Учитывая этот факт, В. Г. Белоусов выдвинул предположение, что «вторая часть очерка ‹...› была подготовлена Есениным позднее и сдана в редакцию не одновременно с первой частью» (Хроника 2, с. 271). Тем самым было поставлено под сомнение утверждение В. М. Василенко, что Есенин принес в «Известия» сразу обе части «Железного Миргорода».
В этой связи обращают на себя внимание некоторые особенности источников есенинского текста.
Во-первых, сохранилась обложка рукописи с авторской карандашной надписью на ней: «Железный Миргород». Формат листа бумаги, из которого она сделана, — тот же, что и для автографа первой части произведения. Кроме того, после своей подписи под его текстом, сделанной чернилами, Есенин позднее проставил место написания и дату («Москва 14 август 23») тем же карандашом, что и «обложечный» заголовок.
Во-вторых, в наборной машинописи первой части очерка (ГАРФ) имеются пометы и вычерки синим карандашом, принадлежащие, очевидно, сотруднику «Известий», выпускавшему № 187 газеты от 22 августа 1923 года. Прежде всего, по-видимому, была сделана помета «Ут. н.» около заголовка «Железный Миргород. Статья первая». Затем были вычеркнуты слова «Статья первая», а также последнее предложение текста («О том, что такое Нью-Йорк, поговорим после»).
Снятие указанных мест вполне объяснимо, если расшифровывать помету «Ут. н.» как «Уточнить название». Провести это уточнение у самого автора в тот момент вряд ли было возможно — как раз вечером 21 августа, когда шла сдача номера с «Железным Миргородом» в печать, Есенин выступал в Политехническом музее (один из отчетов об этом — газ. «Трудовая копейка», М., 1923, 25 августа, № 5). Скорее всего, необходимая информация была получена у лица, редактировавшего и правившего машинопись есенинского очерка ранее. Когда выяснилось, что продолжения «Железного Миргорода» в редакции нет, подзаголовок очерка и его заключительная фраза были из текста устранены.
Совокупность всех этих данных и соображений вполне совместима с предположением В. Г. Белоусова, что рукопись «Железного Миргорода» поступала в «Известия» в два этапа.
Сличив газетный текст очерка с рукописью Есенина, ее первый исследователь В. А. Вдовин констатировал: «Автограф “Железного Миргорода” ‹...› имеет девять значительных по размеру и весьма существенных по смыслу абзацев, не включенных в газетную публикацию. К тому же в опубликованном тексте рукописи ряд мест подвергался правке» (ВЛ, 1969, № 8, август, с. 188). И далее была поставлена проблема выбора основного текста произведения: «Чтобы определить канонический текст ‹...›, необходимо установить, в какой мере сам Есенин участвовал в редактировании текста» (там же).
Эта проблема и сейчас не имеет бесспорного решения, поскольку ни документально подтвержденных сведений, ни мемуарных свидетельств об участии или неучастии Есенина в редакционной подготовке очерка к печати у исследователей нет до сих пор.
Более того, правка в наборной машинописи ГАРФ и сокращения в ней были сделаны (о чем кратко уже упоминалось выше) рукой известинского редактора (красными чернилами), а перед сдачей в набор — также и другим сотрудником газеты, выпускавшим номер (синим карандашом). В то же время каких-либо следов почерка Есенина в рассматриваемом источнике текста не обнаружено. Поэтому нельзя полностью исключить предположения, что поэт не имел к описанной правке никакого отношения.
Суть альтернативной гипотезы — в том, что внешнее вмешательство в текст «Железного Миргорода» было так или иначе согласовано с Есениным. Соображения в пользу этого таковы: после выхода в свет первой части очерка Есенин не только не протестовал против правки своего оригинального текста, как это обычно делалось им в подобных случаях, но принес в «Известия» и вторую часть своего произведения; это могло произойти лишь при его согласии с появлением в печати первой части в сокращенном виде.
Об аргументах относительно того, что вторая часть рукописи «Железного Миргорода» действительно поступила в «Известия» уже после публикации первой.
Существует также факт, который может быть объяснен определенным участием Есенина в редакционной подготовке «Железного Миргорода» к печати. Первым этапом работы редактора «Известий» над машинописью есенинского очерка явилась расстановка на полях красными чернилами вопросительных знаков напротив наиболее сомнительных, с его точки зрения, мест текста. Отмеченные места потом купировались либо редактировались теми же красными чернилами; одновременно вычеркивались знаки вопроса на полях машинописи. В итоге большинство «завопрошенных» мест «Железного Миргорода» было из текста убрано. Однако одну из «сомнительных» фраз («До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке») редактор не тронул, а поставленный рядом с ней вопросительный знак зачеркнул. Причиной такого решения вполне мог быть компромисс, достигнутый редактором и автором при устном обсуждении «сомнительных» мест первой части очерка.
Конечно, все это можно истолковывать и по-другому — скажем, как результат решения лица с б`ольшими полномочиями, чем у рядового редактора. Но до тех пор, пока нет документальных подтверждений тому либо другому объяснению, ситуацию принято трактовать в пользу автора.
В соответствии с вышеизложенным текст «Железного Миргорода» печатается по первой публикации со следующими исправлениями по автографу: вместо «...дано мне и много отнято» — «...дано мне, но и много отнято»; вместо «...проповедуемый мною ‹...› “имажинизм”» — «...исповедуемый мною ‹...› “имажинизм”»; вместо «...через огромнейший коридор...» — «...чрез огромнейший коридор...»; вместо «Милые, глупые российские...» — «Милые, глупые, смешные российские...»; вместо «...но... прежде должны...» — «...но... но прежде должны...»; вместо «...они тоже засмеялись» — «...они засмеялись тоже»; вместо «...волосы которого были вздернуты...» — «...волосы которого немного были вздернуты...»; вместо «...заинтересованная газетами толпа» — «...заинтригованная газетами толпа»; вместо «...там, против театра...» — «...там, около театра...»; вместо «По радио музыка Чайковского из музыкальных магазинов слышится в Сан-Франциско...» — «Из музыкальных магазинов слышится по радио музыка Чайковского. Идет концерт в Сан-Франциско...».
Допечатная редакция произведения помещена в разделе наст. тома «Другие редакции».
И в том, и в другом случае пришлось отказаться от нумерации, которую Есенин дал главкам своего очерка лишь на его первой странице (факсимиле автографа см.: Материалы, с. 299), поскольку по всему остальному тексту эта нумерация отсутствует.
Датируется по автографу (первая часть) и по времени появления в печати (вторая часть).
Подзаголовок «Железного Миргорода» в автографе — «Статья первая» — показывает исходное намерение Есенина написать цикл путевых заметок о своей зарубежной поездке. Об этом же поэт говорил И. В. Грузинову: «Это только первая часть. Напишу еще ряд статей» (Восп., 1, 373).
Далее мемуарист подчеркнул: «Ряда статей он, как известно, не написал. Больше не упоминал об этих статьях» (Восп., 1, 373). Судя по воспоминаниям Д. Н. Семёновского, об опубликованном тексте очерка автор высказывался без энтузиазма:
«...я заговорил о том, что читал в “Известиях” его очерк об Америке “Железный Миргород”.
— Разве было напечатано? — равнодушно спросил Есенин. — Я не видал этого номера» (Воспоминания-95, с. 77).
Такая реакция поэта вполне объяснима: если Есенин согласился с предложенными редактором «Известий» сокращениями в «Железном Миргороде» вынужденно, то он уже не мог относиться к печатному тексту очерка как полностью к своему собственному.
Среди других причин охлаждения Есенина к первоначальному замыслу о «ряде статей» об Америке исследователи (см., например: Прокушев Ю. Поэт века. — В сб. «В мире Есенина», М., 1986, с. 148) называют появление в печати фельетона И. Л. Оршера «Сергей Есенин в Америке: Личные воспоминания. Напечатано на правах декрета в “Известиях ЦИКа СССР и РСФСР”» (газ. «Правда», М., 1923, 28 августа, № 192; подпись: «Списал стенографически О. Л. Д’Ор»).
В этом фельетоне действительно грубо пародировались стиль и содержание первой части «Железного Миргорода», что могло повлиять на решение Есенина больше об Америке не писать.
Получила отрицательную оценку и вторая часть есенинского очерка, но уже с других позиций. Известный публицист правого крыла русской эмиграции А. М. Селитренников в статье под названием «Мемуары хулигана» осудил Есенина за то, что он воздает хвалу «строителям новой “индустриальной культуры”», «систематически истребляющим из года в год русский народ» (газ. «Новое время», Белград, 1923, 26 октября, № 751; подпись: А. Ренников).
В памяти сотрудника библиотеки полпредства СССР в Берлине И. Л. Орестова сохранился следующий эпизод, относящийся к первым числам сентября 1923 года, когда В. В. Маяковский находился в столице Германии:
«Маяковский зашел в библиотеку и спросил меня, нет ли новых газет или книг из России. ‹...› Поэт стал просматривать газеты, и я обратил его внимание на статью Сергея Есенина о поездке в Америку.
— Там он по вашему адресу кое-что изволил высказать, — заметил я.
— Где эта газета? — спросил Маяковский. — Дайте ее скорее сюда.
Он отбросил все остальные газеты и стал внимательно читать статью Есенина. Потом недовольно отбросил газету и сказал:
— Черт его знает, что нагородил! — Затем раздраженно встал и вышел» (цит. по кн.: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности. М., 1985, изд. 5-е доп., с. 553).
Между тем имена В. В. Маяковского, а также Л. Д. Троцкого, М. Горького и т. д. встречаются в «Железном Миргороде» вовсе не случайно — в очерке Есенина прослеживаются постоянные переклички с теми или иными сочинениями перечисленных (и не названных здесь) авторов.
Среди этих текстов следует отметить цикл статей Маяковского о Париже, помещенный в тех же московских «Известиях» в декабре 1922 — марте 1923 гг.: 1) «Париж (Записки Людогуся)» (24 декабря, № 292); 2) «Осенний салон» (27 декабря, № 294); 3) «Париж: Художественная жизнь города» (13 января, № 8); 4) «Париж» (2 февраля, № 23); 5) «Париж» (6 февраля, № 26); 6) «Парижские очерки» (29 марта, № 69).
Есенин вполне мог познакомиться с ними, еще находясь за рубежом, — известно, например, что русский книжный склад в Нью-Йорке в 1922–1923 гг. не только получал из России газету «Известия ВЦИК», но и извещал об этом специальными объявлениями в печати (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 13 декабря, № 3609; там же, 1923, 8 января, № 3635 и др.). Из сопоставления «Железного Миргорода» с текстами и композицией этих статей Маяковского явствует, что рассказ давнего литературного соперника Есенина о парижских впечатлениях, судя по всему, стал для последнего одним из побудительных мотивов к созданию собственных путевых заметок.
Как статьи Маяковского о Париже, так и другие литературные источники, с которыми Есенин вступил в диалог и полемику, последовательно учтены ниже при комментировании.
С. 161. Железный Миргород. — Заглавие произведения восходит к названию сборника повестей Н. В. Гоголя («Миргород», 1835).
Я не читал прошлогодней статьи Л. Д. Троцкого... — Речь идет о работе народного комиссара по военным и морским делам РСФСР, председателя Реввоенсовета Республики Л. Д. Троцкого (Л. Д. Бронштейна; 1879–1940) «Внеоктябрьская литература: Литературные попутчики революции» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224), где Есенину был посвящен отдельный раздел. Основной заголовок этой газетной публикации (по техническим причинам) был ошибочным (реплику автора по этому поводу см.: Троцкий Л. «Внеоктябрьская литература»: (Необходимая поправка). — Газ. «Правда», М., 1922, 10 октября, № 228). На самом деле статья имела название «Литературные попутчики революции». Впоследствии она стала частью одноименного раздела книги Троцкого «Литература и революция» (М., 1923; 2-е изд. — М., 1924; ‹3-е изд.› — М., 1991, с. 55–96).
Прочел о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. — Появление этой автореминисценции из драматической поэмы «Пугачев» (ср.: «Я хочу видеть этого человека!») в связи с именем Троцкого является, скорее всего, откликом на следующее место его статьи «Литературные попутчики революции»: «Попытка Есенина построить имажинистским методом крупное произведение оказалась в “Пугачеве” несостоятельной. ‹...› Емелька Пугачев, его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты. А сам Пугачев с ног до головы Сергей Есенин...» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224).
Через несколько дней после публикации очерка Есенина его слова о Троцком были «обыграны» О. Л. Д’Ором (И. Л. Оршером) в пародии, написанной от лица поэта: «В какой-то газете я прочитал большой фельетон о литературе за подписью какого-то неизвестного мне Л. Троцкого...
Надо будет сообщить ему, чтобы он зашел ко мне в “Известия”. Думаю поощрить “этого человека”. В “этом человеке”, кажется, что-то есть» (газ. «Правда», М., 1923, 28 августа, № 192).
...он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем... — В своей статье Троцкий писал: «Есенин еще впереди. ‹...› Воротится он не тем, что уехал. Но не будем загадывать: приедет, сам расскажет» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224). Ср. также со словами Есенина из автобиографии (20 июня 1924 г.): «После заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому» (наст. изд., т. 7).
Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. — В 1922–1923 гг. Есенин побывал в Германии, Бельгии, Франции, Италии и Северо-Американских Соединенных Штатах вместе со своей женой — американской танцовщицей А. Дункан. Среди американских городов, где прошли выступления А. Дункан, — Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Луисвилль, Канзас-сити, Мемфис, Индианаполис, Кливленд, Толидо и др.
Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. — В письмах из Европы (И. И. Шнейдеру из Висбадена, 21 июня 1922 г.; А. М. Сахарову из Дюссельдорфа, 1 июля 1922 г.; А. Б. Мариенгофу из Остенде, 9 июля 1922 г. и др.) поэт изложил свои непосредственные впечатления об увиденном более развернуто и жестко (см. наст. изд., т. 6). Ср. также с устными высказываниями Есенина на европейские темы, записанными одним из репортеров на авторском вечере поэта в Политехническом музее 21 августа 1923 г.:
«Говорил занятно.
— Париж — это мировой метр д’отель, ровно твой патриарх Тихон.
— Венеция имеет красивые дома, но вода в каналах чрезвычайно зловонная.
‹...› И весь доклад в этом роде» (газ. «Вечерние известия», М., 1923, 27 августа, № 37; подпись: В.).
Комментируемая фраза лексически и грамматически близка следующему месту отрывка Н. В. Гоголя «Рим»: «Италия казалась ему теперь каким-то темным, заплесневелым углом Европы...» (Гоголь II, с. 96).
С. 162. ...я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра... — Ср.: «Наш пароход (почти вдвое длиннее Тверской с Ямскими и впятеро шире Ходынки)...» (из фельетона О. Л. Д’Ора — газ. «Правда», М., 1923, 28 августа, № 192).
...ко мне подошел мой спутник... — А. Ветлугин (псевдоним Владимира Ильича Рындзюна; 1897 — после 1950), журналист и литератор, сопровождал Есенина и Дункан в их поездке как переводчик. Остался на жительство за границей.
...в нашу кабину. — См. ниже в комментарии к допечатной редакции.
...наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов... — Примерно то же говорил Есенин, выступая в Политехническом музее 21 августа 1923 г. (в изложении Рюрика Ивнева):
«Пароход был громадный, чемоданов у нас было двадцать пять, у меня и у Дункан. Подъезжаем к Нью-Йорку: репортеры, как мухи, лезут со всех сторон...» (сб. «Сергей Александрович Есенин: Воспоминания», М., 1926, с. 28). По словам Ивнева, при этом «публика потеряла всякую, даже относительную “сдержанность” и начала бесцеремонно хохотать» (там же).
...«дым отечества»... — слова Чацкого из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824).
С. 163. Пусть я не близок коммунистам как романтик в моих поэмах, — я близок им умом... — Возможный полемический отклик на следующие слова Троцкого: «Есенинский Пугачев сентиментальный романтик. Когда Есенин рекомендует себя почти что кровожадным хулиганом, то это забавно; когда же Пугачев изъясняется как отягощенный образами романтик, то это хуже» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224).
Элис-Аленд. — В тогдашней русскоязычной американской прессе топоним «Ellis Island» транскрибировался как Эллис-Айланд (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 4 октября, № 3539).
До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! — Подразумевается прежде всего поэма «150000000», реминисценции и цитаты из которой не раз встречаются в допечатной редакции очерка (об этом см. выше). О реакции Маяковского на слова Есенина см. также выше.
Ваши «кузницы» и ваши «лефы»... — Упоминание литературных группировок «российских урбанистов» — «Кузница» (1920–1931) и «Леф» («Левый фронт искусств», 1922–1929) — не в последнюю очередь вызвано их групповыми декларациями, обнародованными в 1923 году («За что борется Леф?», «В кого вгрызается Леф?», «Кого предостерегает Леф?» — журн. «Леф», М., 1923, № 1, март, с. 3–11; «Декларация пролетарских писателей “Кузница”» — газ. «Правда», М., 1923, 21 июня, № 136). Познакомившись с этими материалами по возвращении в Россию, Есенин вступил в полемику с изложенными в них взглядами на современное искусство (см. также выше).
Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями ‹Нью-Иорка› происходит что-то такое великое и громадное... — Судя по всему, в таком же духе высказался Есенин в присутствии американских репортеров в день своего прибытия в Америку, поскольку газета «Нью-Йорк Трибьюн» писала 2 октября 1923 г.: «Пока “Париж” входил под парами в залив, мистер Есенин ‹...› восхищался красотой очертаний Нью-Йорка на фоне неба. Он увидел его впервые сквозь послеполуденную дымку и, будучи поэтом, пришел в восторг» (цит. в пер. по: IE, p. 105–106).
...прежде должны осмотреть паспорта... ‹...› подходим к какому-то важному субъекту ‹...›. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами... — Ср. со следующим местом из очерка Маяковского «Париж (Записки Людогуся)»:
«Французская граница. Осмотр паспортов. Специальный комиссар полиции. Посмотрит паспорт и отдаст. Посмотрит и отдаст.
Моя бумажка “специальному” определенно понравилась.
“Специальный” смотрит восторженно то на нее, то на меня» (газ. «Известия ВЦИК», М., 1922, 24 декабря, № 292).
С. 164. ...Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. — 3 октября 1922 г. газета «Нью-Йорк Гералд» опубликовала заявление чиновника иммиграционной службы: «Ввиду продолжительного пребывания Айседоры Дункан в России и факта, что молва давно связала ее имя с Советским правительством, правительство Соединенных Штатов имело основания полагать, что она могла быть “дружеским посланцем” Советов...» (цит. в пер. по: IE, p. 111).
Говорилось в них ‹газетах› немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт... — Есенин прибыл в Соединенные Штаты со своей женой танцовщицей А. Дункан (1877–1927). 2 октября 1922 г. газета «Нью-Йорк Таймс» писала о чете Дункан-Есенин так: «Положив кудрявую голову своего мужа себе на плечо, мисс Дункан сказала, что он — молодой поэт-“имажинист”. ‹...› “Его называют величайшим поэтом со времен Пушкина”, — продолжила она» (цит. в пер. по: IE, p. 107).
...и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. — В газете «Нью-Йорк Уорлд» от 2 октября 1922 г. отмечалось: «...он ‹Есенин› мог бы стать прекрасным полузащитником в любой футбольной команде» (цит. в пер. по: IE, p. 108).
«Бедная, старая девушка! ‹...›» — сказал я. — Это определение американской статуи Свободы тогда же попало в печать (см. об этом: IE, p. 110).
С. 165. ...господин, волосы которого немного были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя. — В трехтомном «Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя» (М., 1902), о котором здесь говорится, были помещены рисунки не только Захария Ефимовича Пичугина (1862–1942), но и других художников-иллюстраторов. Есенинскому описанию личности со «вздернутой со лба челкой кверху» соответствуют в сытинском издании рисунки, изображающие главного героя поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» — Чичикова (Гоголь II, с. 325, 341, 357, 391, 408 и др.). Их автором был не З. Е. Пичугин, а Сергей Иванович Ягужинский (1862 — после 1937).
Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены! — Отзвук гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), где этому произошедшему в миргородском суде событию посвящены конец IV-й и вся V-я глава (см.: Гоголь I, с. 312–315). Иллюстрации к «Повести о том...» для сытинского издания выполнены З. Е. Пичугиным (см.: Гоголь I, с. 301, 323).
...друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. — Эту телеграмму отправили тогдашнему президенту Соединенных Штатов Уоррену Джорджу Гардингу (1865–1923) брат танцовщицы Августин Дункан (1873–1954) и ее импресарио Сол Юрок (1888–1974).
С. 165–166. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня... — Правда, газета «Нью-Йорк Гералд» писала 3 октября 1922 г., что «поэта не допрашивали» (цит. в пер. по: IE, p. 111).
С. 166. ...не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине. — Это произошло в ночь с 12 на 13 мая в берлинском «Доме искусств» и получило заметный резонанс в печати Европы и Америки. Такое же обещание Есенину пришлось дать и ранее, когда 29 июня 1922 г. он и его жена обратились с просьбой о помощи к заместителю народного комиссара Советской России по иностранным делам М. М. Литвинову: «Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтоб мы выбрались из Германии и попали в Гаагу, обещаю держать себя корректно и в публичных местах “Интернационал” не петь» (наст. изд., т. 7).
Нас встретила заинтригованная газетами толпа. — Этот эпизод широко освещался в американской прессе, например: «...Айседора Дункан и ее муж, Сергей Есенин, были окружены толпой репортеров, которые осыпали их разными вопросами, в числе которых фигурировал вопрос: коммунисты ли они?.. “Мой муж главным образом интересуется поэзией, а я — танцами и судьбой русских сирот”, — был ответ Дункан» (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 4 октября, № 3539).
...я сказал журналистам: «Mi like Amerika...». — Ср.: «Сергей Есенин заявил репортерам, что он напишет поэму о нью-йоркских небоскребах и знаменитой Статуе Свободы» (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 4 октября, № 3539). Другие подробности см.: IE, p. 111–112.
С. 167. Культурники — термин, появление которого в «Железном Миргороде», скорее всего, связано с тогдашней дискуссией в советской печати. Она была начата статьей Троцкого «Эпоха “культурничества” и ее задачи» (газ. «Правда, М., 1923, 1 июля, № 145). См. также: Карпинский В. Коренной вопрос эпохи «культурничества» (К статье т. Троцкого). — Газ. «Правда», М., 1923, 12 июля, № 154 — и др.
...от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500000)... — Американская статистика давала тогда для численности индейцев такой же порядок величины. Есенин мог получить сведения об этом из газетной заметки «Индейцы в Соед. Штатах», начинавшейся со слов: «Последняя народная перепись в Америке насчитала 336337 индейцев в Соед. Штатах» (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 19 октября, № 3554; без подписи).
Гайавата — главный герой поэмы американского писателя Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (полный русский перевод И. А. Бунина — 1896–1903), написанной на основе легенд североамериканских индейцев. Есенин употреблял это имя в «Железном Миргороде» только в собирательном смысле.
С. 168. ...около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, ‹...› и броненосцы громадными рычагами ‹...› подымают их и сажают на свои железные плечи. — Ср. с главкой «Бурже» из очерка Маяковского «Париж»:
«Бурже — это находящийся сейчас же за Парижем колоссальный аэродром. ‹...› Один за другим стоят стальные (еле видимые верхушками) аэропланные ангары. ‹...› За дверью аккуратненькие блестящие аэропланы. ‹...› Распахнутые “жилеты” открывают блестящие груди многосильнейших моторов ‹и т. д.›» (газ. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», М., 1923, 6 февраля, № 26; текст см. также в: Маяковский 4 (1957), с. 226–227).
Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. — Не называя Есенина прямо, Троцкий возразил ему в статье «Футуризм», завершенной 19 сентября 1923 г. (авторская дата в первой публикации): «Практическая зависимость искусства, особенно словесного, от материальной техники ничтожна. Поэму, воспевающую небоскребы, дирижабли и подводные лодки, можно создать в глуши Рязанской губернии на серой бумаге обломком карандаша. Чтобы зажечь свежее рязанское воображение, достаточно, если небоскребы, дирижабли, подводные лодки существуют в Америке. Человеческое слово — самый портативный из всех материалов» (газ. «Правда», М., 1923, 25 сентября, № 216).
В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я... — Есенин как бы полемизирует здесь с высказыванием Троцкого о том, что от поэта, «хоть он и левее нас, грешных, — все-таки попахивает средневековьем» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224); см. также комментарий Ю. Л. Прокушева в кн.: Есенин С. Собр. соч. в двух томах. М., 1991, т. 2, с. 357. Фраза: «Со всеми устоями на советской платформе» — содержится и в автобиографии поэта 1923 года, написанной после возвращения из-за рубежа (наст. изд., т. 7).
...предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. — Здесь вновь продолжен диалог с Троцким, в частности, с его высказываниями из статьи «Формальная школа поэзии и марксизм», опубликованной всего за неделю до возвращения Есенина из-за границы:
«Телега русского мужика приспособлена к потребностям его хозяйства, к силам лошаденки и к свойствам проселка. Автомобиль, являющийся бесспорным порождением новой техники, обнаруживает, однако, тот же “сюжет” — четыре колеса на двух осях. И тем не менее каждый раз, когда на русской дороге ночью крестьянская лошаденка шарахается в ужасе перед ослепившим ее прожектором автомобиля, в этом эпизоде находит свое выражение конфликт двух культур. ‹...› быт человека, в том числе и художника, т. е. условия его воспитания и жизни, находят свое выражение в его творчестве...» (газ. «Правда», М., 1923, 26 июля, № 166).
Ср. также с декларацией «В кого вгрызается Леф?»: «Мы боролись со старым бытом. Мы будем бороться с остатками этого быта в сегодня» (журн. «Леф», М., 1923, № 1, март, с. 9; выделено авторами).
В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей... — Ср. со словами Маяковского в его очерке «Париж (Записки Людогуся)»: «...кажется, ‹в Париже› есть одна, последняя лошадь, — ее показывают в зверинце» (Маяковский 4 (1957), с. 208).
С. 169. ...«Умри, Денис!..» — Часть фразы, приписываемой князю Г. А. Потемкину-Таврическому. Денис — русский драматург Денис Иванович Фонвизин (1744 или 1745–1792). Более подробно см. в комментарии к допечатной редакции очерка.
Выставочная Америка. — Эпитет «выставочный» не сходил в 1923 г. со страниц августовских московских газет в связи с открытием в Москве 19 августа первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки СССР.
С. 170. По Эдгар (1809–1849) — американский поэт, прозаик, драматург и эссеист.
С. 171. Эдисон Томас Алва (1847–1931) — американский изобретатель. Будучи в Америке, Есенин мог обратить внимание на заметки об Эдисоне в местной печати на русском языке, выдержанные в приподнятых тонах (газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1922, 20 октября, № 3555 и др.).
Жаргонная культура, жаргон, жаргонисты — слово «жаргон» и производные от него употреблены здесь в тогдашнем обиходном значении, принятом для именования языка идиш — разновидности еврейского языка.
Мани-Лейб (псевд., наст. имя и фамилия — Мани Лейб Брагинский; 1884–1953) — еврейский поэт; писал на идише.
С. 172. ...от ‹...› Гофштейна до Маркиша. — Давид Наумович Гофштейн (1889–1952) и Перец Давидович Маркиш (1895–1952) — еврейские поэты советской эпохи; писали на идише.
...нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. — Здесь, как и в первой части очерка, речь идет о «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя (см. также комментарий выше).
Как у последних не было города лучше Полтавы... — Хотя в конце «Повести о том...» этот город упоминается (см.: Гоголь I, с. 325), точно такой формулировки там нет. В то же время похожие места есть в других произведениях Н. В. Гоголя. Ср.: «Нет лучшего места, как Париж...» (Гоголь II, с. 96; из отрывка «Рим»); «Нет ничего лучше Невского проспекта...» (Гоголь III, с. 303; начало повести «Невский проспект»).
С. 266. ...меня просят в нашу кабин. — Здесь и далее по всему тексту в соответствии с рукописью Есенина воспроизводится русская калька английского слова «cabin» (каюта).
Я шел через громадные залы ‹...› (невольно пожалел, что не было Маяковского)... — Есенин, очевидно, имел здесь в виду строки поэмы Маяковского «150000000» из описания дворца американского президента Вильсона:
(Журн. «Художественное слово», М., 1920, кн. 1, с. 14; без подписи).
С. 266–267. Народ наш мне показался ‹...› 150000000-ым рогатым скотом, о котором писал когда-то ‹...› в «Летописи» Горького некий Тальников. — В этой инвективе нашли отзвук:
— уже упоминавшаяся поэма Маяковского — на этот раз само ее заглавие («150000000»);
— эссе М. Горького «О русском крестьянстве» (Берлин, 1922), содержащее весьма нелестные высказывания о русском народе (подробнее см.: Субботин С. Есенин. Россия. Народ. — Журн. «Российская провинция», М., 1995, № 4, с. 26);
— статья Д. Тальникова (Давида Лазаревича Шпитальникова; 1882, по другим данным, 1885–1961) «При свете культуры (Чехов, Бунин, С. Подъячев, Ив. Вольный)» (журн. «Летопись», Пг., 1916, № 1, январь, с. 275–299); чуть ниже Есенин обратился именно к тем фрагментам рассказа И. А. Бунина «Я все молчу» (1913), — например, про «Лазаря», — которые рассматривались Тальниковым (там же, с. 291).
С. 267. Я ‹...› пожал бы ему руку, ибо это была большая правда ‹...› в эпоху квасного патриотизма. — Тальников, в частности, писал о «квасном патриотизме среднего обывателя» (журн. «Летопись», Пг., 1916, № 1, январь, с. 290).
Постройте лучше из них ‹церквей› сортиры, чтоб мужик не ходил «до ветру» в чужой огород. — Ср. со словами Чекистова в драматической поэме Есенина «Страна негодяев» (1922–1923):
...буду, быть может, ‹близок›... — Конъектура вызвана опиской в автографе — слово «буду» в этом фрагменте Есенин ошибочно написал дважды. Такое же исправление было сделано редактором «Известий» (уже в корректуре); оно вошло в первопечатный текст (см. в наст. томе).
...лишь бы поменьше было таких ценителей искусства, как Мещеряков в Госиздате или ‹...› покойный Вейс. — Николай Леонидович Мещеряков (1865–1942) в то время был заведующим, а Давид Лазаревич Вейс (1877–1940) — заместителем заведующего Госиздатом РСФСР. Почему Вейс назван здесь покойным — неясно; возможно, это метафора. В 1919 году Мещеряков, будучи членом редколлегии газеты «Правда», написал на рукописи поэмы Есенина «Небесный барабанщик», предложенной к печати: «Нескладная чепуха. Не пойдет», — чем серьезно обидел поэта (см.: Устинов Г. Годы восхода и заката (Воспоминания о Сергее Есенине) — сб. «Памяти Есенина», М., 1926, с. 84). Более близким по времени поводом вспомнить о Мещерякове был выпуск Госиздатом журнала «Леф», редактируемого Маяковским. Незадолго до возвращения Есенина из зарубежной поездки вышел третий номер «Лефа». Авторы этого номера шумно «отругивались» от статьи Л. С. Сосновского «Желтая кофта из советского ситца» (газ. «Правда», М., 1923, 24 мая, № 113), имевшей тогда немалый резонанс. В этой статье упоминался и Мещеряков, порицавшийся за то, что руководимый им Госиздат тратит деньги на «лефовскую» литературную продукцию.
С. 271. О том, что такое Нью-Йорк, поговорим после. — Этим обещанием продолжения (в печать не попавшим — см. об этом выше) заканчивается первая часть рукописи Есенина. Аналогичная концовка — у «парижской» статьи Маяковского «Осенний салон»: «Дальше я буду говорить о торговцах, ‹...›, литературе и пр.» (газ. «Известия ВЦИК», М., 1922, 27 декабря, № 294).
С. 272. Гайявата. — Здесь и ниже сохранено есенинское написание этого слова, выдержанное по всей рукописи.
С. 273. У какого-то ‹...› поэта, написавшего «сто пятьдесят лимонов»... — Ироническое переосмысление названия поэмы Маяковского: и в тогдашнем, и в нынешнем просторечии слово «лимон» означает «миллион рублей».
...есть строчки о Чикаго как символе Америки... — Далее Есенин (по памяти и в сокращении) приводит отрывок из поэмы «150000000». В первой публикации это место имело вид:
(журн. «Художественное слово», М., 1920, кн. 1, с. 14; без подписи).
Сие описание «флигелей»... — Скорее всего, это последнее слово возникло здесь по ассоциации с «колоночками», «балкончиками» и «портиками» Маяковского (см. предыдущее примечание).
С. 273–274. ...напоминает мне описание Козьмы Индикоплова, который уверял всех, что он видел то место, где земля сходится с пологом неба. — Козьма Индикоплов, византийский путешественник и космограф (VI век), оставил сочинение о строении вселенной «Христианская топография», в котором, в частности, говорится: «К краям земли с четырех ее сторон небо приклеено своими краями, образуя, так сказать, четырехугольный вид куба. На верху на высоте небо изгибается в виде свода в длину и образуется как бы большой купол...» (цит. по кн.: Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. М., 1916. ч. 1, с. 110).
С. 274. ...перелагая Уитмана... — Уолт Уитмен (1819–1892) — американский поэт. Ср. частушку Есенина: «Ах, сыпь, ах, жарь, // Маяковский — бездарь. // Рожа краской питана, // Обокрал Уитмана», а также комментарий к ней в наст. изд. (т. 4).
...«умри, Денис, лучше не напишешь». — Сведения об этих словах екатерининского вельможи о комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782) Есенин мог почерпнуть еще в отрочестве из книги, выпущенной в РКлБ, где они даны в изложении С. С. Дудышкина: «...Потемкин, выходя из первого представления “Недоросля”, говорит автору: “Умри, Денис, лучше ничего не напишешь!”» (Фонвизин Д. И. Избранные сочинения, СПб., 1909, с. 160. — РКлБ, вып. VII).
С. 275. ...музикхольный... — Почти так выглядело это слово и в русской печати 1910-х годов. Ср. с заголовком одного из футуристических манифестов Ф. Т. Маринетти — «Музик-холл» (в кн. «Манифесты итальянского футуризма... Пер. В. Шершеневича», М., 1914, с. 72).
С. 276. «Bisnes» — записанное Есениным латиницей слово «бизнес».
...народ они весьма молодой и не вполне сложившийся в формы. — Ср. с лексикой Троцкого в «Литературных попутчиках революции»: «...их тон реалистический, но пока еще не сложившийся. ‹...› ... эта связь еще очень бесформенна; ‹...› они еще очень молоды» (газ. «Правда», М., 1922, 5 октября, № 224).
С. 278. ...в той среде, которая называется рабочим классом; об этой среде поговорим особо. — Эта часть фразы в тексте «Известий» отсутствует. Какие-либо публикации или записи Есенина о рабочем классе Америки неизвестны. Продолжения «Железного Миргорода» не последовало.
Ярославны плачут
Журн. «Женская жизнь», М., 1915, № 4, 22 февраля, с. 14. Подпись: «Сергей Есетин» (очевидная опечатка, см. ниже).
Печатается по первой публикации.
Автограф неизвестен.
Датируется 1914–1915 гг. с учетом следующих обстоятельств.
Цитируемые стихи печатались в московской и петроградской периодике с сентября по ноябрь 1914 г. Тогда Есенин, как и многие другие литераторы, был захвачен патриотическим чувством скорой победы над кайзеровской Германией (см. в т. 4 наст. изд.: «Богатырский посвист», «Узоры», «Удалец» и другие стихотворения второй половины 1914 — начала 1915 гг.). Выход журнала «Женская жизнь» с есенинской статьей помечен 22 февраля 1915 г.
Это дает основание предположить, что статья написана в конце 1914 или в самом начале 1915 г.
Существование у Есенина статьи «о горе обездоленных войной русских женщин, о Ярославнах, тоскующих по своим милым, ушедшим на фронт», отметил в воспоминаниях, опубликованных в 1958 г., поэт Д. Н. Семёновский. «Помнится, — писал мемуарист, — статья, построенная на выдержках из писем, так и называлась: “Ярославны”». Статью, по словам Семёновского, он видел «в одном еженедельнике или двухнедельнике» (Восп., 1, 153). Судя по воспоминаниям, речь шла о зиме 1914–1915 гг., когда оба поэта посещали лекции в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского.
В начале 1960-х годов С. М. Городецкий в разговоре о выступлениях Есенина как критика вспоминал: «По приезде в Петроград, в пятнадцатом году, он показывал мне какой-то московский журнальчик со своей статьей. Тогда шла война, и в статье писалось о военных стихах... О чьих стихах — сказать не могу, но что цитат из стихов было много — припоминаю...» (Кошечкин С. Забытая статья Сергея Есенина. — Журн. «Молодая гвардия», М., 1975, № 10, ‹октябрь›, с. 281).
В 1972 г. в газете «Советская Мордовия» (Саранск, 22 июля, № 170) была напечатана заметка А. Котлова «Забытая статья С. Есенина». Здесь было указано издание, где появилась эта статья, приведено ее полное название, дан краткий пересказ содержания. Неточность в фамилии Есенина автор заметки оставил без внимания.
В 1975 г., в связи с 80-летием со дня рождения поэта, одновременно в двух московских журналах появились публикации, где подробно обосновывалось авторство Есенина. Так, в одной из них говорилось: «Статья Есенина “Ярославны плачут” органически связана с его поэзией тех лет. Есенин входил в большую литературу в годы первой мировой войны, и это обстоятельство определило тогда идейный и эмоциональный настрой всей его лирики... Боль и тревога за судьбу родины пронизывают лучшие стихотворения Есенина той поры... Эти настроения слышатся и в статье “Ярославны плачут”»(Вдовин В. Материалы к творческой биографии С. Есенина. — Журн. «Вопросы литературы», М., 1975, № 10, октябрь, с. 217–218, 219).
В другой публикации отмечалось: «Что касается подписи под статьей — “Сергей Есетин”, то это явная опечатка, какие в журнале не были редкостью. На его страницах, например, можно встретить вместо “Анна Ахматова” — “Анна Арматова”, вместо “Сергей Буданцев” — “Сергей Бузанцев”, балерина Балашова превращалась в Балашеву, поэт Ив. Белоусов — в Н. Белоусова и т. д.» (Кошечкин С. Забытая статья Сергея Есенина. — Журн. «Молодая гвардия», М., 1975, № 10, ‹октябрь›, с. 283).
Появление статьи «Ярославны плачут» в журнале «Женская жизнь», возможно, связано с тем, что в нем печатался поэт и прозаик Николай Иванович Колоколов (1897–1933), одновременно с Есениным посещавший Университет имени А. Л. Шанявского. Он-то, вероятнее всего, и познакомил Есенина с редакцией журнала. Колоколову принадлежит статья «Мировая война и русская поэзия», содержащая обзор военных стихов Н. Агнивцева, В. Брюсова, С. Городецкого, Л. Столицы, Ф. Сологуба и других поэтов. Некоторых из них Есенин упоминает в начале своей статьи. Обзор Н. Колоколова, напечатанный в «Свободном журнале» (Пг.-М., 1914, ноябрь), возможно, «подсказал» Есенину композицию и его выступления как критика.
Среди авторов журнала «Женская жизнь», прекратившего свое существование в середине 1916 г., были С. Городецкий, Вл. Лидин, Н. Никитин, Л. Никулин, Н. Павлович, А. Свирский...
С. 175. «Внимая ужасам войны» — первая строка стихотворения без названия Н. А. Некрасова. Произведение написано в 1855–1856 гг. как отклик на Крымскую войну (1853–1856). Этой же строкой озаглавлена статья А. Громова, напечатанная в «Журнале для женщин» (М., 1914, № 13, 7 августа, с. 2–3).
Липецкий Алексей (псевд., наст. имя и фам.: Алексей Владимирович Каменский; 1887–1942) — поэт, родился в г. Липецке. Часто печатался в дореволюционных журналах. Помимо упоминания в статье «Ярославны плачут», Есенин называет Алексея Липецкого в письме к А. В. Ширяевцу от 21 января 1915 г. (см. т. 6 наст. изд.).
...«сладко лиричный» Цензор заплясал под солдатскую песню. — Цензор Дмитрий Михайлович (1877–1947) — поэт, его стихотворения нередко появлялись на страницах столичных изданий. Слова «сладко лиричный» взяты из очерка Мих. Левидова «Безсильные», напечатанного в журнале «Жемчужина» (Пг., 1914, № 7, 24 ноября, с. 15–16). Рассматривая стихи поэтов, посвященные войне, автор пишет: «Против искушения быть патетичными не устояли такие, как холодно-мудрый В. Брюсов, трагически-ехидный Сологуб, ласково-буйный С. Городецкий, утонченный С. Маковский, скромный и тихий Андрусон, сладко-лиричный Д. Цензор, поэт последнего дня Г. Иванов, «гениальная бездарь» Игорь Северянин и, наконец, футуристы Мандельштам и Маяковский» (с. 15). В этом же номере журнала помещено стихотворение Дмитрия Цензора «Солдатская песня», первые строки которого звучат так:
Следует заметить, что через некоторое время воинственная патетика Д. М. Цензора сменилась иными чувствами. В стихотворении «Прости меня» (1916) он писал:
(Цензор Д. Стихотворения. 1903–1938. К тридцатипятилетию литературной деятельности. Л., 1940, с. 101–102)
...закатывались «золотой звездой» на расцвете своего таланта, как Мирра Лохвицкая. — Лохвицкая (в замужестве Жибер) Мирра (Мария) Александровна (1869–1905) — поэтесса, драматург. Есенин перефразирует здесь третью строку из первой строфы ее стихотворения «Я хочу умереть молодой...»:
(Лохвицкая (Жибер) М. А. Стихотворения. Т. III. 1898–1900, СПб., 1900, с. 32)
Мы еще не успели забыть и «невесту в атласном белом платье» Надежду Львову... — Львова (в замужестве Полторацкая) Надежда Григорьевна (1891–1913) — поэтесса. В ноябре 1913 г. покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви к В. Я. Брюсову. Есенин использует часть первой строки начальной строфы ее стихотворения без названия. Вся строфа читается так:
(Львова Н. Старая сказка. М., 1913, с. 13; то же, 2-е доп. изд., М., 1914)
...заплакала и Зинаида X. — Далее Есенин цитирует и кратко пересказывает стихотворение в двух частях «“Завтра наш полк выступает”, молвили вы на прощанье...» Зинаиды X., опубликованное в журнале «Женское дело» (М., 1914, № 21, 1 ноября, с. 18). Полное имя автора установить не удалось.
С. 176. Сердце смириться не хочет... — цитируются строки из первой строфы второй части стихотворения. Полностью и точно строфа читается так:
«Новую сплетню готовя, две ядовитые дамы», «Завтра наш полк выступает», «Молча к стене прислониться» — отдельные строки и слова из первой части стихотворения, исполненной двустишиями. Полностью начало ее звучит так:
...«выдавала матушка далече замуж» — строка одного из вариантов русской народной песни, бытовавшей в различных губерниях. Близкие варианты: «Выдала матушка далече замуж...» (Чулков М. Собрание разных песен. М., 1770, ч. 1, с. 197); «Отдала меня матушка замуж далеко...» (Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном. Т. 1. Вып. 1. СПб., 1898, с. 220); «Отдала меня матушка далеким-далекошенько...», «Отдал мене батюшка далече замуж...» (Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. 2, ч. 1, М., ‹1917›, ч. 2, М., 1929).
Щепкина-Куперник — литературное имя поэтессы, беллетриста, драматурга и переводчицы Татьяны Львовны Куперник (по мужу Полыновой; 1874–1952). По матери правнучка знаменитого артиста М. С. Щепкина. Среди ее книг: Отзвуки войны. Стихи. М., 1915; Песня брюссельских кружевниц. М., 1915. В статье цитируются отдельные строфы и строки из ее «Песни над рубашкой» (Бирж. вед., утр. вып., Пг., 1914, 5 (18) октября, № 14414). Строка, цитируемая Есениным: «Кто бы ни был мой воин безвестный» в газетной публикации читается: «Кто б ты ни был, мой воин безвестный».
С. 177. ...тихой нежной лермонтовской колыбельной песней веет от слов... — Речь идет о «Казачьей колыбельной песне» (1840) М. Ю. Лермонтова. Цитируя строфу из стихотворения Т. Л. Щепкиной-Куперник:
Есенин, вероятно, имел в виду лермонтовские строки:
По рассказам сестер Есенина, «Колыбельная» Лермонтова нередко пелась матерью поэта Татьяной Федоровной и считалась «семейной» песней.
С. 178. ...ее слезы больше слезы матери. Она по большей части томится «в безутешном ожидании» и молится перед иконой. — Реминисценция из той же «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова:
...вздохи матери Андрия и Остапа... — Имеются в виду переживания матери накануне отъезда ее сыновей в Запорожскую Сечь, описанные в первой главе повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (повесть вошла в книгу «Миргород»).
...по струнам своей лиры ударила Любовь Столица. — Столица Любовь Никитична (урожд. Ершова; 1884–1934) — поэтесса и драматург (подробнее см. в т. 4 наст. изд.). Есенин цитирует четвертую заключительную строфу ее стихотворения «Казак» («Свободный журнал», Пг.-М., 1914, № 39, октябрь, стб. 3–4). Первая строфа стихотворения:
Полностью стихотворение приведено в указанной выше статье Николая Колоколова «Мировая война и русская поэзия» («Свободный журнал», Пг.-М., 1914, ноябрь). В домашней библиотеке Есенина в селе Константинове были два сборника Л. Столицы: Лада. Песенник. М., Альциона, 1912; Русь. Третья книга стихов. М., Новая жизнь, 1915 (с дарственной надписью поэтессы).
Трубецкая Мария Григорьевна, кн. — поэтесса, переводчица, автор, двух сборников стихотворений: «По дороге», Полтава, 1909; «Маки», Полтава, 1914. Есенин не по порядку цитирует строки из пятой и восьмой строф ее стихотворения «В далеком прошлом, в иные годы...» (журн. «Нива», Пг., 1914, № 39, 27 сентября, с. 757). Полностью эти строфы читаются так:
С. 179. Хмельницкая Екатерина Фаддеевна — поэтесса, автор сборника стихотворений «Вперед, смелее!» (Пг., 1915; 2-е изд., М., 1916). В статье цитируются строки из ее стихотворения «Тесно сомкнувшись полками, вперед... (Посвящается русским воинам)». Оно опубликовано в журн. «Солнце России», Пг., 1914, № 247 (44), ноябрь. Военный номер, № 7, с. 16. Последняя 7-я строфа в статье напечатана с неточностью. Ниже приводятся полностью 5-я и 6-я строфы, откуда взяты цитируемые Есениным строки, и 7-я — по тексту журн. «Солнце России»:
Отчее слово (По поводу романа Андрея Белого «Котик Летаев»)
Газ. «Знамя труда», М., 1918, 5 апреля (23 ‹марта›), № 172; в газ. ошибочно указано — 5 (23) апреля.
Автограф неизвестен.
Печатается и датируется по газетной публикации.
Во всех изданиях, начиная с пятитомного Собрания сочинений С. А. Есенина 1961–1962 гг. (кроме 2-ой кн. четырехтомника «Сергей Есенин в стихах и жизни. Поэмы 1912–1925. Проза 1915–1925». М., 1995), статья печаталась с неточно прочтенными отдельными словами газетной публикации.
Роман «Котик Летаев», начатый в октябре 1915 г., по замыслу автора, должен был стать первой частью эпопеи «Моя жизнь». Эпопея предполагалась в семи частях: «Котик Летаев» (годы младенчества), «Коля Летаев» (годы отрочества), «Николай Летаев» (юность), «Леонид Ледяной» (мужество), «Свет с востока» (восток), «Сфинкс» (запад), «У преддверия Храма» (мировая война). В то же время, как отмечал Андрей Белый, «каждая часть — самостоятельное целое». Замысел писателя был осуществлен лишь частично — окончательно доработан был только роман «Котик Летаев». С подзаголовком «Первая часть романа “Моя жизнь”» он появился в двух сборниках «Скифы», вышедших из печати в июле и декабре 1917 г. (2-ой сб. помечен 1918 г.). В «Скифах» же напечатаны поэма Есенина «Марфа Посадница» и под общим заголовком «Голубень» его четыре стихотворения (Ск-1); поэмы «Товарищ», «Ус», «Певущий зов», «Отчарь» под общим заголовком «Стихослов» и цикл из пятнадцати стихотворений — «Под отчим кровом» (Ск-2).
С Андреем Белым Есенин лично познакомился в Царском Селе у Р. В. Иванова-Разумника в феврале 1917 г. Это было время, когда Андрей Белый увлекался антропософией немецкого философа Рудольфа Штейнера (1861–1925). Суть антропософии — в сверхчувственном исследовании, познании мира и человека; она включает в себя толкование различных областей знания и методику развития неких «тайных способностей» человека, ведущих к духовному господству над природой.
В свете антропософии Андрей Белый разрабатывал свою теорию поэтической речи, определял роль звукового образа в ней, пытался познать скрытый смысл изначального Слова.
Встречаясь с Андреем Белым, Есенин поначалу увлекся его теоретическими поисками. В ряду свидетельств этого — две статьи молодого поэта: одна — «Отчее слово», вторая — не дошедшая до нас. О ней писал Р. В. Иванов-Разумник А. Белому 3 марта 1926 г.: «Есть у меня и неизданная статья его о Вас (Вы большое влияние оказали на него ‹Есенина›, Борис Николаевич, быть может, сами того не зная)» (РГБ, ф. А. Белого, карт. 16, ед. хр. 66).
В подзаголовке «Отчего слова» указано: «По поводу романа Андрея Белого “Котик Летаев”». И это уточнение не случайно. В статье Есенина не столько анализируется само произведение, сколько автором излагаются собственные мысли о жизни слова и образа в поэтической речи. При этом он в какой-то мере опирается на суждения, содержащиеся в статье Андрея Белого «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» — опубликована в Ск-1.
Некоторые идеи Есенина, высказанные в «Отчем слове», были развиты им в статьях «Ключи Марии» (1918), «Быт и искусство (Отрывки из книги “Словесные орнаменты”)» (1920).
В заметке «О себе» (1925) Есенин отметил: «Белый дал мне много в смысле формы». Что же касается антропософских увлечений Андрея Белого, то еще в 1922 г. Есенин отозвался о них весьма определенно («Только бы вот выбить... из Белого — Штейнера...» — см. письмо к Р. В. Иванову-Разумнику от 6 марта 1922 г. в т. 6 наст. изд.).
С. 180. ...с Божьим «туком» и вон`ями плащаницы. — По Библии (Третья книга Моисеева. Левит. Гл. III, 3–5), тук — жир, покрывающий внутренности крупного и мелкого скота. После закалывания животного тук сжигается на жертвеннике: «Это жертва, благоухание, приятное Господу». В иносказательном смысле слово тук часто употребляется «для обозначения лучших и богатейших земных произведений, равно как для означения отрадных духовных благословений» (Библейская энциклопедия. М., Терра, 1990. Репринт с изд. 1891 г., с. 710). Именно иносказательный смысл и имеет это слово в статье Есенина.
Вон`я (церковнослав.) — приятный запах, благовоние, благоухание.
Плащаница — чистое полотно, погребальная пелена, в чем тело умершего Иисуса было положено во гроб. Выражение «вон`ями плащаницы» восходит к Библии — от Иоанна, XIX, 40: «Итак они ‹Иосиф и Никодим› взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями...»
С. 181. В затонах тишины созвучьям ставит сеть — неточно воспроизведенная строка стихотворения Н. А. Клюева «Звук ангелу собрат, бесплотному лучу...», входящего в цикл «Земля и железо» (1916) и опубликованного в Ск-1, 103. Вся строфа читается так:
Слово изначала было... — В Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанн, I, 1–3).
Возглас «Да будет!» повесил на этой воде небо и землю... — По Библии (Первая книга Моисеева, Бытие I, 1–3), прежде, чем была сотворена земля, Дух Божий носился над водою. Своим словом «Да будет» Бог «из ничего» совершил небо (твердь), землю и «все воинство их».
...мы, созданные по подобию... — Ср.: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему...» (Бытие, I, 26).
...рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее «отворись». — Ср.: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откровение святого Иоанна Богослова. III, 20); «...я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как-бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего» (там же, IV, 1). Слово «отворись» имеет в статье ключевое значение: оно звучит в начале статьи («маленькая жемчужина — “отворись”») и оно же завершает размышление автора о значении духовных ценностей («И только смелые, только сильные... найдут то “отворись”...»).
«Прекрасное только то — чего нет», — говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию ‹...› оно есть и манит нас... — Есенин использует слова В. А. Жуковского из статьи «О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю» (1848): «Руссо говорит: ‹...› — прекрасно только то, чего нет. Это не значит: только то, что не существует; прекрасное существует, но его нет, ибо оно, так сказать, нам является единственно для того, чтобы исчезнуть...» (Полн. собр. соч. В. А. Жуковского. В 3-х т. Т. 3. СПб., 1906, с. 227).
У златой околицы // Доит Богородица // Белых коз... — Источник этих строк, скорее всего, духовный стих. Ср. строки из есенинского «Преображения» (1917): «...Богородица... // У облачной околицы // Скликает в рай телят» (см. т. 2 наст. изд.).
...Андрее-Беловское «выкусывание за спиной». — Словосочетания «выкусывание за спиной» в тексте романа Андрея Белого нет, но есть другие выражения: «подсматривания себе за спину» (Ск-1, 18); «Я... подсмотрел ее ‹старуху — образ одного из внетелесных состояний Котика Летаева› у себя за спиной, — когда она, описывая в пространстве дугу, рушилась мне прямо в спину...» (там же, с. 19). Мысль Есенина состоит в том, что через внетелесное состояние своего «я», высматриваемое за спиной, человек приближается к «кровному крову». (Ср. слова Есенина, записанные А. Блоком 4 января 1918 г.: «Образ творчества: схватить, прокусить» — Восп., 1, 177.)
Футуризм, пропищавший жалобно о «заумном языке», раздавлен под самый корень достижениями в «Котике Летаеве». — Понятие «заумный язык» появилось в 1913 г. в работах футуристов (будетлян). Так, в статье «Новые пути слова» А. Крученых писал: «Ясное и решительное доказательство тому, что до сих пор слово было в кандалах, является его подчиненность смыслу, до сих пор утверждали: “мысль диктует законы слову, а не наоборот”.
Мы указали на эту ошибку и дали свободный язык, заумный и вселенский» (Цит. по кн.: «Трое. В. Хлебников. А. Крученых. Е. Гуро». СПб., Журавль, ‹1913›, с. 24).
В книге А. Крученых и В. Хлебникова «Слово как таковое» (М., ‹1913›), в частности, говорилось: «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы — разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность. И этим именно отличается язык стремительной современности, уничтожившей прежний застывший язык...» (с. 12).
В той же книге (с. 9) авторы замечали:
«Мы дали образец иного звуко- и словосочетания:
дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
рл эз
(кстати, в этом пятистишии больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина)».
Подобные «творения» Есенин высмеял в шутливом экспромте, написанным по-«заумному»:
(Крученых А. Гибель Есенина — на обл.: «Драма Есенина». М., 1926, с. 11).
К «заумному языку» футуристов критически относился Андрей Белый. В статье «Жезл Аарона» он писал: «...Слишком раннее истечение звука слов из теплицы молчания только — «выкидыш», «недоносок»; такой «выкидыш» — футуризм; все убожество футуризма — в его появлении на свет до истечения сроков» (Ск-1, 209).
«Заумному языку» футуристов Есенин противопоставляет умение Андрея Белого в романе зачерпнуть «словом то самое, о чем мы мыслим только тенями мыслей», стремление писателя как можно точнее передать чувство, движение мысли, найти им соответствующие ритм и звуковой образ.
Макарий Желтоводский — Преподобный Макарий, игумен Троицкой Желтоводской обители близ Нижнего Новгорода; в Хронологическом списке русских святых указан как преподобный Макарий Унженский (1350–1444), так как последние годы своей жизни он провел в обители на берегу реки Унжи.
С. 182. ...снести такое же яйцо, какое несет «Кува — красный ворон»... — Кува — красный ворон — в мифах народов севера России — мудрый ворон, «участвовал» в сотворении мира. В произведении Н. А. Клюева «Беседный наигрыш. Стих доброписный» (1915) говорится:
Они ‹горбатые слова›... «через мудрены вырезы» пройдут мурашами, в озере ходят щукой, в чистом поле оленем скачут, за тучами орлом летят... — ср. строки из былин «Волх Всеславьевич» и «Вольга и Микула». В первой былине говорится, как богатырь Волх (Вольх) со своей «дружиной хороброй» подошел «ко стене белокаменной» царства Индейского:
(Былины. М., 1988, с. 32. Библиотека русского фольклора)
В другой былине повествуется о том, как «молодой Вольга Святославович» стал «ростеть-матереть»:
(там же, с. 41)
...Гете, не обладая швабским наречием, понимал Гебеля без словаря... — Гебель Иоганн Петер (1760–1826) — немецкий поэт и прозаик, автор стихотворений «Овсяный кисель», «Красный карбункул. Сказка», «Деревенский сторож в полночь» и некоторых других, переведенных в 1816–1831 гг. В. А. Жуковским.
Об «Овсяном киселе» В. А. Жуковский сообщал своему другу: «Это перевод из Гебеля, ‹...› он писал на швабском диалекте и для поселян. Но я ничего лучшего не знаю! Поэзия во всем совершенстве простоты и непорочности». (Полн. собр. соч. В. А. Жуковского. В 3-х т. Т. 1. СПб., 1906, с. XVIII).
В примечании к своему переводу «Овсяного киселя» Жуковский привел отзыв Гете о стихах Гебеля, где, в частности, говорится: «Милая простота наречия, избранного поэтом, весьма благоприятны его прекрасному, оригинальному таланту. Во всем, — и на земле и на небесах, — он видит своего сельского жителя; с пленительным простосердечием описывает он его полевые труды, его семейственные радости и печали; особенно удаются ему изображения времен дня и года; он дает души растениям...» (там же, с. 565–566). Писал Гебель, помимо швабского, и на других диалектах немецкого языка.
Как вспоминал И. В. Грузинов, однажды во время беседы о литературе Есенин сказал ему: «Я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт» (Восп., 1, 364).
В статье «Ключи Марии» (1918) Есенин называет Гебеля среди художников слова, в которых жила «узловая завязь самой природы». В той же статье, говоря о произведениях, построенных на ангелическом образе, Есенин упоминает гебелевский «Ночной разговор» (видимо, ошибка памяти: стихотворения с таким названием у Гебеля нет; скорее всего, это стихотворение «Тленность. Разговор на дороге в Базель, в виду развалин замка Ретлера, вечером»; перевод В. А. Жуковского).
См. также: Дымшиц А. Сергей Есенин и... два немецких поэта. — Дымшиц А. Проблемы и портреты. М., 1972, с. 230–233.
...ворота в его рай узки, как игольное ухо, только совершенные могут легко пройти в них. — Это образное выражение восходит к Новому Завету Библии: «И еще говорю вам: удобнее пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Матф., XIX, 24).
...под тень «словесного дерева». — Понятие «словесное дерево», вероятно, восходит к стихотворению Н. А. Клюева «Оттого в глазах моих просинь...» (1916 или 1917), напечатанного в Ск-1 в составе цикла «Земля и железо» с посвящением: «Прекраснейшему из сынов крещеного царства крестьянину Рязанской губернии поэту Сергею Есенину». Тринадцатая строфа стихотворения читается так:
Надо полагать, из того же источника это понятие пришло и в статью Андрея Белого «Жезл Аарона». В главе «Словесное древо» Андрей Белый сравнивает «растущую целостность слова» и единство «многоветвистого дуба» (Ск-1, с. 205–206).
«Туга по небесной стране...» — отвечал Козьма Индикоплов... — Туга — печаль, кручина, скорбь.
Козьма Индикоплов — византийский монах и купец, в VI в. совершивший путешествие в Индию и другие восточные страны. Он — автор книги «Христианская топография», где описано его путешествие и изложена теория строения Вселенной (см. также поэму Есенина «Инония» и коммент. к ней в т. 2 наст. изд.).
С. 183. «Слетит мне звездочка на постельку, усиком поморгает...» — Во фразе соединены две неточные цитаты из романа «Котик Летаев»: «...самоцветная звездочка — мне летит на постель; и — уколется усиком...»; «...самоцветная звездочка — мне летит на постель; глазиком поморгает; усядется в локонах; усом уколется в носик...» (Ск-1, с. 47, 62).
...«природа тебя обстающая — ты»... — слова из «Предисловия» автора к «Котику Летаеву» (Ск-1, 13).
«Приложитесь ко мне, братья...» — строфа из стихотворения Н. А. Клюева «Поддонный псалом» (1916).
«Слова поэта уже суть дела его» — неточно воспроизведенная часть фразы Пушкина из начала статьи Гоголя «О том, что такое слово» (1844, вошла в кн. «Выбранные места из переписки с друзьями»). Гоголь писал:
«Пушкин, когда прочитал следующие строки из оды Державина к Храповицкому:
сказал так: “Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела”. Пушкин прав» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. Статьи. М., 1952, с. 229).
Да, дела, но не те, о которых думал Жуковский... — Имеются в виду суждения В. А. Жуковского о высказывании Пушкина: «Слова поэта суть уже его дела». Эти суждения содержатся в письме Жуковского к Гоголю «О поэте и современном его значении» (1848). Письмо явилось ответом на статью Гоголя «О том, что такое слово» и его же письмо из Неаполя от 10 января 1848 г.
Как пишет Жуковский, выражение Пушкина «Слова поэта суть уже его дела», передаваемые Гоголем, может быть рассматриваемо в двух отношениях: в «более тесном» — художник «совершил свое дело, произведя прекрасное, которое одно есть предмет художества», и в «более обширном» — «дела художника относятся не к одному его произведению, но к его особенному высшему призванию» ‹...›. «Творец вложил свой дух в творение: поэт его посланник, ищет, находит и открывает другим повсеместное присутствие духа Божия». ‹...› «...Прекрасно и справедливо сказал ты ‹Гоголь› в письме своем, назвав искусство примирением с жизнью...» (Полн. собр. соч. В. А. Жуковского. В 3-х т. Т. 3. СПб., 1906, с. 229, 232).
«Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю»... — две первые строки четвертой строфы песни Председателя из маленькой трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830). Вся строфа читается так:
(Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 тт. Т. 5. Л., 1978, с. 356)
Свободный в выборе предмета не свободен выйти из него. — В статье «О поэте и современном его значении. Письмо к Н. В. Гоголю» В. А. Жуковский писал: «Поэт в выборе предмета не подвержен никакому обязующему направлению ‹...› Но поэт, свободный в выборе предмета, не свободен отделить от него самого себя: что скрыто внутри его души, то будет вложено тайно, безнамеренно и даже противунамеренно и в его создание; что он сам, то будет и его создание». (Полн. собр. соч. В. А. Жуковского. В 3-х т. Т. 3. СПб., 1906, с. 230).
«О слово, отчее слово, мы ходили с тобой на крыле ветряном и устне наши невозбраним во еже знати тебе...» — Здесь соединены в свободной композиции фрагменты текстов из двух богослужебных книг. Из «Триоди постной»: «Премудрости Наставниче, ‹...› утверди, вразуми сердце мое. Владыко! Ты даждь ми слово, Отчее Слово, се бо устне мои не возбрано, во еже звати Тебе»; из «Псалтири» (Псалом Давиду, 103): «Господи Боже мой, ‹...› полагаяй облаки на восхождение Свое, ходяй на крылу ветрено» (Православный богослужебный сборник. М., 1991, с. 245, 9).
О «Зареве» Орешина (с. 184). — Журн. «Наш путь», Пг., 1918, № 2, май, с. 256–257 (в разделе «Критика и библиография»).
Автограф неизвестен.
Печатается и датируется по журнальной публикации.
Сборник «Зарево», вышедший в марте 1918 г. в Петрограде, — первая книга стихотворений поэта и прозаика Петра Васильевича Орешина (1887–1938). Она состояла из разделов: «Русь-матушка»; «Алый Храм»; «Война»; «Зверюга»; «На Святой земле».
Первые публикации стихотворений Орешина состоялись в 1911 г. в киевской и саратовской периодике («Вегетарианское обозрение», Киев, 1911, № 3, с. 3; «Саратовский листок», 1911, 10 апреля. Пасхальное приложение. Подпись: П. О-нъ). Позже часто печатался в газетах и журналах Петрограда («Дело народа», «Земля и воля», «Новый сатирикон», «Знамя труда», «Воля народа», «Новая жизнь», «Ежемесячный журнал» («Журнал для всех») и т. д.), Москвы, Саратова, Рязани и других городов.
С Есениным Орешин познакомился осенью 1917 г. Вместе с другими литераторами оба поэта выступали с чтением стихов на литературных вечерах и концертах-митингах в Петрограде. Имена Есенина и Орешина нередко соседствовали в альманахах и сборниках первых послереволюционных лет (Ск-1, 1917; «Красный звон» — 1918; «Явь» — 1919...). В период близости Есенина к имажинистам Орешин с осуждением писал о творчестве членов этой литературной группировки:
(«Пегасу на Тверской» — сб. «Радуга», М., 1922, с. 169–171)
Это время отмечено сложными отношениями между поэтами. Так, в письме к А. В. Ширяевцу от 26 июня 1920 г. Есенин сообщал: «...Орешин глядит как-то все исподлобья, словно съесть хочет. Сейчас он в Саратове, пишет плохие коммунистические стихи и со всеми ругается. Я очень его любил, часто старался его приблизить себе, но ему все казалось, что я отрезаю ему голову, так у нас ничего и не вышло, а сейчас он, вероятно, думает обо мне еще хуже» (см. т. 6 наст. изд.).
Тем не менее взаимные симпатии у поэтов сохранялись до конца жизни Есенина.
На смерть друга Орешин откликнулся несколькими стихотворениями («Сергей Есенин», «Ответ», «На караул»), воспоминаниями «Мое знакомство с Сергеем Есениным». В 1927 г. к годовщине смерти Сергея Есенина напечатал статью «Великий лирик» (журн. «Красная новь», М., 1927, № 1, с. 240–244).
Позднее Орешин заявил об отходе от поэтических традиций, связывавших его с творчеством Есенина. Так, в поэме «Моя библиотека» (первая публикация: журн. «Красная нива», 1928, № 48, с. 6–7) он писал:
Однако, «другие дороги» литературных удач Орешину не принесли.
Сохранилась дарственная надпись на фотографии Есенина Орешину (см. т. 7 наст. изд.).
С. 184. Кто любит Родину?.. — 5-я и 6-я строфы одноименного стихотворения Орешина (1915) в сборнике «Зарево».
С. 185. Отче наш, иже еси... — первые слова «Молитвы Господней» (Матф. VI, 9–13).
Зори над хатами вяжут широченные сети... — первая строка 9-й строфы стихотворения «Дед-краснобай» (1917).
...красный петух в облаках прокричал... — неточная цитата первых двух строк из стихотворения «На заре» (1917):
Месяц ушел в облака... — 14-я строфа стихотворения «На заре».
Ключи Марии
Сергей Есенин. Ключи Марии. М., изд-во «Московской трудовой артели художников слова», 1920 (на обороте титула — 1919).
Печатается по тексту первой публикации. Судя по дарственной надписи Есенина А. М. Эфросу (автограф в собрании Э. И. Григолюка, Москва), книга вышла не позже декабря 1919 г. На основании заметки Д. Н. Семёновского «Пестрядь...» (газ. «Рабочий край», Иваново-Вознесенск, 1919, 21 февраля, № 41; подпись: Дельта) можно предположить, что книга вышла ранее декабря 1919 г.: «...Московской Трудовою Артелью Художников Слова изданы следующие сборники стихов Сергея Есенина: Радоница ‹так!›, Голубень, Исус-Младенец, Преображение, Сельский Часослов и Ключи Марии (мысли о творчестве)». См. также: Юсов, с. 18–19. Однако информацию об этом Д. Н. Семёновский, видимо, почерпнул из рекламы, напечатанной в сборниках «Сельский часослов» или «Радуница» (М.: МТАХС, ‹1918›): «Имеются на складе: Сергей Есенин. ‹...› Ключи Марии (мысли о творчестве)». В. В. Базанов уже отмечал, что издательство МТАХС в своих рекламных объявлениях часто называло готовящиеся книги как «имеющиеся на складе» (сб. «Есенин и современность», М., 1975, с. 134). Возможно, сам поэт рассказал Д. Н. Семёновскому о ближайших планах издательства МТАХС, упомянув и «Ключи Марии», когда в самом начале 1919 г. тот встречался с Есениным в Москве (Восп., 1, 159–162).
Было сообщение и о том, что Есениным «печатается в провинции второе издание “Ключей Марии”» (журн. «Знамя», М., 1920, № 3/4 (5/6), май-июнь, стб. 62). Однако ныне известно только одно издание есенинской книги.
Набор «Ключей Марии» осуществлялся непосредственно с авторской рукописи, поскольку на ней имеются типографские пометы (2 гр. — 14 гр., т. е. гранки, и волнистые линии, обозначающие их границы), выполненные ярко-фиолетовыми чернилами.
Автограф (ИМЛИ; 44 л.) выполнен разными чернилами:
лл. 1–2 — бледно-черными;
лл. 3 — перв. половина 4, 7–8 (в том числе и правка), 14 (вторая половина) — 17 и 32–44 (часть третья) — ярко-черными, исключение составляют л. 33 — черными (вычеркивание — фиолетовыми) и л. 39 — фиолетовыми; правка на лл. 3–4 — черными, красными и фиолетовыми чернилами; эпиграф ко второй части рукописи (л. 16) и вычеркивание в конце л. 17 — бледно-фиолетовыми;
лл. 4 (вторая половина) — 6 (текст и правка) — красными, текст на обороте л. 4 и вычеркивание на л. 5 — черными; правка на л. 6 — черными, красными и фиолетовыми;
лл. 9–12: текст — фиолетовыми, правка — фиолетовыми и черными;
лл. 13 — перв. половина 14, 18–31: текст и правка — бледно-фиолетовыми чернилами.
В рукописи по сравнению с печатным текстом (кроме небольших текстуальных разночтений) отсутствуют: название работы; посвящение; цифра «1», обозначающая первый раздел, часть или статью (хотя есть цифры «2» и «3»).
Книга вышла с опечатками и пропусками слов. В собраниях сочинений Есенина 60–90-х годов некоторые искажения, попавшие в печать, были устранены.
Для настоящего издания текст первой публикации «Ключей Марии» заново сверен с автографом. В результате:
— внесены следующие исправления: вместо «вздыхай» — «воздыхай»; вместо «...выражать себя через средства...» — «...выражать себя через средство...»; вместо «встав от сна» — «восстав от сна»; вместо «...слово умение (умеет) запрягло в себе...» — «...слово умение (умеет) заперло в себе...»; вместо «мифологической эпики» — «мифологичной эпики»; вместо «...Трисмегист говорил: “Что вверху...”» — «...Трисмегист говорил о том, что “чт`о вверху...”»; вместо «в наших мифологиях земного шара» — «в мифологиях земного шара»; вместо «...умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба...» — «...умирал, как живое существо, умирал, как выплеснутая ‹и т. д.›»; вместо «...кто взбурлил волны...» — «...кто взбурлил эти волны...»; вместо «стрибожьи внуци...» — «...стрибожи внуци...»; вместо «...о этих образах...» — «...о тайне этих образов...»; вместо «Но в древней Руси и по сию пору...» — «Но в древней Руси, да и по сию пору...»; вместо «Сивка» — «Сивко»; вместо «Он не нашел в воздухе воды не только озера...» — «Он не нашел в воздухе не только озера...»; вместо «...не мог просунуться...» — «Он не мог просунуться...»; вместо «...новой эры, пока они не засекли его» — «...новой эры, пока они не засекли ее»; вместо «Гонители св‹ятого› духа-мистицизма» — «Гонители Святого Духа-мистизма»;
— во втором разделе произведения, где начертания некоторых букв русского алфавита сравниваются с позами человеческого тела (с. 199–203), те из букв, которые были набраны в первой публикации как заглавные (Б, В и Я), заменены (в соответствии с рукописью) строчными;
— кроме того, в текст «Ключей Марии» введены рисунки букв, выполненные Есениным в рукописи, но не воспроизведенные в прижизненном издании, видимо, из-за полиграфических трудностей.
В публикации дата — «1918. Сентябрь», в рукописи — «Сентябрь-ноябрь». На основании этих источников в настоящем издании «Ключи Марии» датируются: «Сентябрь-ноябрь 1918».
«Ключи Марии» — основное теоретическое произведение Есенина, работа о творчестве в целом и словесном искусстве в частности. С. М. Городецкий вспоминал: «Из всех бесед, которые у меня были с ним ‹Есениным› в то время, из настойчивых напоминаний — «Прочитай “Ключи Марии”» — у меня сложилось твердое мнение, что эту книгу он любил и считал для себя важной. Такой она и останется в литературном наследстве Есенина. Она далась ему не без труда. В этой книге он попытался оформить и осознать свои литературные искания и идеи. Здесь он определенно говорит, что поэт должен искать образы, которые соединяли бы его с каким-то незримым миром. Одним словом, в этой книге он подходит вплотную ко всем идеям дореволюционного Петербурга» (Восп., 1, 183).
Эти идеи были восприняты Есениным прежде всего из личного общения с Блоком, Клюевым, Андреем Белым, Ивановым-Разумником и другими современниками. Суждения об этом содержатся, например, в воспоминаниях В. С. Чернявского, который был свидетелем (а иногда и участником) петроградских бесед Есенина с Клюевым в 1915–1916 гг.: «Из тогдашнего постоянного общения с Клюевым родился, конечно, и теоретический трактат Есенина “Ключи Марии”...» (сб. «Воспоминания о Сергее Есенине», М., 1975, с. 163). Сам Есенин в разговоре с И. Н. Розановым обмолвился: «Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной» (Восп., 1, 442). Встречи и разговоры с Есениным в 1918 г. зафиксированы и А. Белым в его «Раккурсе к дневнику» (1930–1931), иногда с пометой о характере разговора — «значительный» (РГАЛИ, ф. А. Белого). О том, что, по мнению его соратников по имажинизму, в нем «еще не выветрился дух разумниковской ‹имеется в виду Иванов-Разумник› школы», Есенин упомянул в статье «Быт и искусство» (см. в наст. томе).
Без сомнения, Есенин обращался также к соответствующим литературным источникам, что явствует из самого текста «Ключей Марии». Излагая в своем произведении самобытную концепцию образного слова, поэт продемонстрировал обширные познания в мифологии, искусствоведении и эстетике. Однако определить конкретные источники того или иного места из «Ключей Марии», как правило, непросто — ведь Есенин почти всегда цитировал чужие произведения по памяти и без отсылок.
Выяснением истоков «Ключей Марии» занимались многие исследователи (Б. В. Нейман, А. М. Марченко, Н. Ф. Бабушкин, В. А. Вдовин, А. А. Козловский и др.). Наиболее обстоятельно возможные идейные и типологические источники статьи Есенина рассмотрены в работах В. Г. Базанова (сб. «Миф — фольклор — литература», Л., 1978, с. 204–249; кн. «Сергей Есенин и крестьянская Россия», Л., 1982, с. 46–79). В них было проведено развернутое сопоставление «Ключей Марии» с трудами В. В. Стасова, Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и др., показано сходство и различие идей поэта и названных ученых. Немало конкретных источников есенинского текста было выявлено также при подготовке предыдущих собраний сочинений поэта (см.: Есенин 5 (1962), с. 277–288; Есенин V (1979), с. 317–321, 324–325, 333–349).
При подготовке наст. изд. эта работа была продолжена. При ее проведении было сделано следующее наблюдение: «Если Есенин писал, так или иначе ориентируясь на конкретные источники, — например, полемизируя с оппонентами, — он иногда непроизвольно переходил на их язык, делая “своими” и “чужие” выражения, и даже отдельные слова...» (С. И. Субботин; сб. «Есенин академический», М., 1995, с. 47).
Это наблюдение послужило исходным пунктом систематического анализа предполагаемых источников «Ключей Марии», предпринятого для выявления в них лексических и фразеологических параллелей, соответствующих есенинскому тексту. Конкретные результаты этого анализа изложены в реальном комментарии к произведению (см. ниже). Б`ольшая часть вновь найденных литературных источников «Ключей Марии» вводится здесь в научный оборот впервые.
Творчество Есенина в целом питалось из самых разнообразных истоков, главными из которых были русская природа, крестьянский быт, трудовая и духовная жизнь народа, его мудрость, воплощенная в устном поэтическом творчестве, собранная исследователями и зафиксированная в книгах (Библия, Веды, Калевала, «Слово о полку Игореве», легенды, мифы и сказки народов мира, книги Гомера, Шекспира, Лонгфелло, Афанасьева, Буслаева и др.). Впитывая народную и книжную мудрость, Есенин всегда оставался самим собой. Его оригинальная эстетическая система, изложенная в теоретических статьях, опиралась прежде всего на собственный творческий опыт, на созданный им художественно-философский поэтический мир. Вот почему «Ключи Марии» так важны для понимания его произведений. Книги же А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева и других исследователей народного словесного и изобразительного искусства были лишь необходимым подспорьем в самостоятельной творческой работе поэта.
Размышления Есенина, изложенные в «Ключах Марии», нашли отражение и в других его статьях и рецензиях 1918 года («Отчее слово», «О “Зареве” Орешина», «‹О сборниках произведений пролетарских писателей›») и были продолжены в работе «Быт и искусство (Отрывки из книги “Словесные орнаменты”)» (‹1920›). Видимо, их, а также, возможно, не дошедшие до нас или так и не написанные работы поэт предполагал объединить в книге «Словесные орнаменты» (или «Словесная орнаментика») (см. комм. А. А. Козловского — Есенин V (1979), с. 314–325). В «Заявлении» «В Отдел Печати МСР и КД» (до 18 февр. 1920 г.) Есенин подчеркивал: «“Слов‹есная› орнаментика” необходима как теоретическое показание развития слов‹есных› знаков, идущих на путь открытий невыявленных возможностей человека» (см. т. 7 наст. изд.). Статьи Есенина 1918–1920 гг. имеют много общего между собой: перекликаются, развиваются и уточняются важнейшие принципы, термины, образы его теоретических построений (см. выше).
В литературе о поэте нет единого мнения о жанре «Ключей Марии». «Издание книги 1920 ‹1919› года, как известно, не имеет каких-либо авторских пояснений, в нем отсутствует уточняющий подзаголовок. Однако этот подзаголовок имеется в рекламных объявлениях о подготовке книги к печати и о наличии ее на складе издательства. Подзаголовки эти в разных рекламах и объявлениях не всегда совпадают. ‹...› Известно четыре варианта подзаголовка этой книги: “Мысли о творчестве”, “Теория”, “Теория имажинизма” и, наконец, просто “Статьи”» (Базанов В. В.; сб. «Есенин и современность», М., 1975, с. 136). Современники Есенина чаще всего называли «Ключи Марии» книгой, книжкой, брошюрой (Я. Е. Шапирштейн-Лерс, Н. Н. Захаров-Мэнский, В. Г. Шершеневич, В. Л. Львов-Рогачевский, Н. Н. Асеев, С. М. Городецкий), реже — статьей (А. К. Воронский), трактатом (Б. М. Эйхенбаум, В. С. Чернявский) или манифестом.
Сам Есенин, по словам И. В. Грузинова, считал «Ключи Марии» теоретической работой: «В том же ‹1920› году, после выхода в свет “Ключей Марии”, в кафе “Домино” он ‹Есенин› спрашивает: хорошо ли написана им теория искусства? Нравятся ли мне “Ключи Марии”?» (Восп., 1, 365).
Еще до выхода книги в свет, 26 марта 1919 г., было объявлено о выступлении Есенина на эстраде-столовой Всероссийского Союза поэтов (Тверская, 18) с докладом под названием «Ключи Марии» (афиша — ГЛМ).
В 1922 г. Н. Н. Асеев писал: «Насколько нам известно, “Ключи Марии” не заслужили внимания тт. критиков, а между тем они заслуживают его не в меньшей степени, чем пастушеское происхождение нашего поэта...» (ПиР, 1922, № 8, ноябрь-декабрь, с. 41).
В настоящее время известно более двадцати прижизненных откликов на «Ключи Марии» (см.: Юсов, с. 19–20). Информация, рецензии и небольшие заметки о книге Есенина стали появляться в газетах и журналах в 1919–1920 гг. Ее воспринимали то как «книжечку статей о графике древней Руси» (Н. Захаров-Мэнский; журн. «Вестник театра», М., 1920, № 58, 23–28 марта, с. 15) или «о смысле орнамента» (И. Гр.; газ. «Жизнь искусства», Пг., 1920, 13 мая, № 450), то как «статью об имажинизме» (А. К. Воронский; Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 276).
Вопрос о том, литературную платформу какой группы разрабатывал Есенин в «Ключах Марии», поднимался многими рецензентами и авторами статей. В зависимости от ответа на него поэта хвалили или критиковали. Есенин создал оригинальную эстетическую теорию, но многие его современники трактовали ее тенденциозно, рассматривая «Ключи Марии» с групповых позиций. Так, Я. Е. Шапирштейн-Лерс, прочитав «Ключи Марии», заявил, что там «речь идет об искусстве социализма» и невольно испытал «чувство неловкости ‹...› за искусство социализма при чтении книжки С. Есенина» (журн. «Вестник театра», М., 1920, № 50, 29 января — 4 февраля, с. 15). А через два года тот же автор утверждал, что «Есенин написал брошюру “Ключи Марии”, которую можно считать изложением его эстетико-общественных взглядов. Это мессионистская игра в мужицкую революцию, Россию, и т. д.» (в его кн. «Общественный смысл русского литературного футуризма: (Неонародничество русской литературы XX в.)», М., 1922, с. 46). Следует отметить, что этот критик всех имажинистов, в том числе и Есенина, называл футуристами (там же, с. 34, 49).
С ним не был согласен имажинист В. Г. Шершеневич. В рецензии на «Ключи Марии» он писал: «Эта небольшая книга одного из идеологов имажинизма рисует нам философию имажинизма, чертит то миропонимание новой школы, которое упорно не хотят заметить враги нового искусства. ‹...› Отмежевавшись от беспочвенного машинизма русского и итальянского футуризма, Есенин создает новый образ современной идеологии» (журн. «Знамя», М., 1920, № 2 (4), май, стб. 57, 58). Имажинистом считал Есенина и А. К. Воронский (Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 276–277; см. также его кн. «Литературные типы», М., ‹1925›, с. 45).
В. Л. Львов-Рогачевский в двух своих книгах, выпущенных при жизни Есенина («Имажинизм и его образоносцы: Есенин. Кусиков. Мариенгоф. Шершеневич», ‹М.,›, 1921; «Новейшая русская литература», М., 1922 ‹1923›, и 3-е изд., М.-Л., 1925) считал его символистом (в последней книге глава XII о поэте называлась «Новокрестьянский поэт-символист Сергей Есенин»), выделяя его из имажинизма и отделяя от футуристов, к которым он относил остальных имажинистов: «Форма Есенина, ведущая свое начало от символизма, ничего не имеет общего ‹...› с футуризмом Маринетти, Маяковского, Шершеневича, Мариенгофа, которым Сергей Есенин объявляет смертельную борьбу в своей книге “Ключи Марии”. ‹...›
Бессилию футуризма Есенин противопоставил силу символизма с его окнами в вечность, с его мыслимыми подобиями, с его сопоставлениями. Этот символизм Есенин пытается связать с древней народной символикой, с узорами, орнаментами, с мифотворчеством народа-Садко. ‹...›
Поэт, не ведая этого, после 25-тилетней работы символистов, вновь открывает Америку символизма. Разница между ним и представителями русской школы символистов лишь в том, что почвой его творчества является народное коллективное мифотворчество, а не абстрактные построения индивидуалистической мысли» (в его кн. «Новейшая русская литература», М.-Л., 1925, с. 304, 305).
Отклики 1920 г. на «Ключи Марии» были краткими и односторонне (чаще всего негативно) оценивающими сложную работу Есенина (Я. Е. Шапирштейн-Лерс, Н. Н. Захаров-Мэнский и др.). Так, В. Я. Гликман в стихах и прозе Есенина увидел только «белый свет подлинной национальной религиозности» (журн. «Вестник литературы», Пг., 1920, № 9 (21), с. 9; подпись: В. Ирецкий). Другой петроградский рецензент, пересказав или процитировав несколько отрывков из «Ключей Марии» об орнаменте, также сделал поверхностный вывод: «Сергей Есенин видит в такой тайнописи существо творчества и с сектантской нетерпимостью обрушивается на “невероятнейшее отупение русской литературы...”» (газ. «Жизнь искусства», Пг., 1920, 13 мая, № 450; подпись: И. Гр.).
В. Г. Шершеневич наряду со спорными положениями, цитировавшимися выше, высказал ряд верных мыслей о «Ключах Марии»: «Разбирая глубоко и научно наш словесный орнамент, к которому Есенин переходит от орнамента бытового, автор связует языческое миропонимание с современным, попутно объясняя любопытно и оригинально многие словопроисхождения, а также орнаментно-графическое значение и начертание букв. ‹...›
Книга написана с большой эрудицией и с еще большим лирическим темпераментом. Многое в ней спорно, но в ней нет ни “устаревшей истины”, ни “новаторской галиматьи”» (журн. «Знамя», М., 1920, № 2 (4), май, стб. 57, 58).
В. Л. Львов-Рогачевский, начиная с 1921 г., с одной стороны, сводил основной прием Есенина в «Ключах Марии» («метод сопоставления») к психологическому параллелизму, «о котором так блестяще писал Александр Веселовский в своей статье “Психологический параллелизм и его формы в отражении поэтического стиля”. ‹...›
То, что писал Сергей Есенин в своих “Ключах Марии” об узловой завязи природы с сущностью человека, сводится к психологическому параллелизму народного творчества.
Символизм Сергея Есенина, сына рязанского крестьянина, тесно связан с этим психологическим параллелизмом патриархального мировоззрения» (в его кн. «Новейшая русская литература», М., 1925, с. 307; выделено автором). С другой стороны, он же писал о космизме и широте художественного мышления Есенина, о том, что «футуризм урбаниста Шершеневича ничего общего не имеет с космизмом сына полей Сергея Есенина. ‹...› Один именует себя индивидуалистом, другой исходит в поэзии из принципов разных школ» (там же, с. 279).
Н. Н. Асееву и А. К. Воронскому особенно не понравилось возражение Есенина против «марксистской опеки» в литературе. Первый из них подчеркивал: «Все дело в том, что С. Есенин хочет отпихнуться, во что бы то ни стало, от классового самоопределения. ‹...›
И вот утверждение Есенина о “вере человека не от классового сознания, а от осознания объемлющего его храма вечности” превращается в чистейший символизм с его потяготой к язычеству, к традициям, канонам и мистике искусства — давно стертыми заставками...» (ПиР, 1922, № 8, ноябрь-декабрь, с. 44).
Второй критиковал народно-крестьянские корни теории Есенина, изложенной в «Ключах Марии»: «Но наличие заумных настроений, полнейшая чуждость рабочему, естественно, должны были привести поэта к своеобразному имажинистскому символизму, к мужицким религиозным отвлеченным акафистам, к непомерному “животному” гиперболизму, к причудливому сочетанию язычества времен Перуна и Дажбога с современным космизмом, к жажде преобразить вселенную в чудесный, счастливый мужицкий рай. ‹...› Получается сочетание космических настроений XX века с первобытным язычеством. ‹...› От церковности Есенин пришел не к материализму, а к этой помеси язычества с новейшим пантеизмом» (Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 275–276, 277).
Кроме крестьянской («пастушеской», по терминологии критика) основы творчества в понимании Есенина, Н. Н. Асеев называет и другие истоки есенинской эстетики: «“Ключи Марии” остаются теми же “ключами тайн” символизма потебне-беловского уклона. ‹...› Смесь “пастушеской” наивности с натягиваемой на лицо миной мистической торжественности проглядывает на каждой странице книги. Вычитанное в старинных “лествицах”, запомнившееся из трудов Потебни, Буслаева, Стасова, — все это, отлакированное в поэтической мастерской бело-блоковского символизма, заварилось кашей в горячей голове талантливого пастушонка» (ПиР, 1922, № 8, ноябрь-декабрь, с. 42, 43).
Сразу после смерти Есенина, когда еще свежи были воспоминания о поэте, на вечерах его памяти и в печати не раз говорилось о «Ключах Марии». Эта работа рассматривалась в уже цитировавшейся статье С. М. Городецкого (см. выше) и в двух выступлениях Б. М. Эйхенбаума. Они пытались определить источники, которые легли в основу есенинских взглядов на литературу и искусство.
«Как мы уже видели, — писал С. М. Городецкий, — система опирающихся на древнюю поэзию идеалистических образов была воспитана в Есенине традициями деревенского искусства и закреплена питерским периодом его творчества. Ко времени революции эта система не была потревожена. Наоборот, Есенин пытался обосновать ее теоретически именно в связи с революцией» (журн. «Новый мир», М., 1926, № 2, февраль, с. 142).
По-своему трактовал источники, смысл и значение «Ключей Марии» Б. М. Эйхенбаум: «Есенин мечется среди хаоса литературных споров, новых группировок и манифестов, в обстановке мировой войны и начинающейся революции. ‹...› Из хаоса теоретических споров, шумящих вокруг него, рождается фантастический трактат или манифест “имажинизма” — Ключи Марии. Это — попытка вырваться из замкнутого круга влияний и стать на ноги; это — результат того буйного подъема, который пережит был Есениным вместе со многими другими в 1918 году ‹...›.
Ключи Марии, с ее этимологическими тенденциями (пастух = пас-дух) и символикой букв, резко отражает на себе влияние теоретических трактатов этого времени и более всего — влияние Андрея Белого (даже в языке). Но сквозь этот наивный, наносный и наскоро усвоенный материал просвечивает подлинное одушевление — пафос возрождения славянской мифологии, поэтизация деревенской культуры, восторг перед обрядовой мудростью “избяной литургии”: Голубиная Книга, русский “бытовой орнамент” (узоры на полотенцах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца и пр.), символика “древа”, образы в загадках — вот что противопоставляет Есенин изношенной поэзии нашего времени, вот в чем видит он “великую значную эпопею” ‹...›.
Ключи Марии — это “литературные мечтания” ‹аналогичные “Литературным мечтаниям” молодого В. Г. Белинского› Есенина, которые могли окрылять его только в фантастической обстановке 1918–1920 гг. Дальше должны были начаться поступки, а на самом деле — началось разочарование, началась тоска» (журн. «Revue des Études slaves», Paris, 1995, t. LXVII/1, p. 118–119; публикация С. И. Субботина).
Еще при жизни Есенина Н. Н. Асеев также писал о том, что «в “Ключах Марии” талантливый поэт стоит на распутьи, и в зависимости от правильной критики может двинуться или в глушь формального метода, внешней мистики индивидуалистического крохоборства, либо выйти на подлинный путь современья» (ПиР, 1922, № 8, ноябрь-декабрь, с. 41).
С этим высказыванием перекликаются слова С. М. Городецкого, опубликованные уже после смерти Есенина: «Моя ошибка и ошибка всей критики, которая, впрочем, тогда почти не существовала, что “Ключи Марии” не были взяты достаточно всерьез. Если б какой-нибудь дельный — даже не марксист, а просто материалист, разбил бы имажинистскую, идеалистическую систему этой книги, творчество Есенина могло бы взять другое русло» (Восп., 1, 185).
Современники Есенина не оценили по достоинству его центральную теоретическую работу.
В «Ключах Марии» выражены важнейшие представления поэта о путях и целях искусства, о сближении искусства с жизнью и бытом народа, с окружающей его природой, народным творчеством.
В центре книги — проблема образности искусства: сущность образа и его разновидности, происхождение образов, а также протест Есенина против «словесной мертвенности» современной ему поэзии. Поэт разрабатывает теорию «органического образа». Современники по-разному относились к ней, часто связывали ее с символизмом, отождествляли с имажинизмом или футуризмом. Так, Б. М. Эйхенбаум говорил в своем выступлении 1926 г.: «Он ‹Есенин› строит невнятную, но увлекательную теорию органического образа, не замечая, что все эти мысли являются последним отголоском символизма и что в трактате своем ‹“Ключи Марии”› он говорит как его ученик. Но мечтательный этот пафос, поддерживаемый фантастической обстановкой первых лет революции, окрыляет его и дает ему надежду на создание какой-то новой, невиданной поэзии, имеющей почти космическое значение» (журн. «Revue des Études slaves», Paris, 1995, t. LXVII/1, p. 123).
А. К. Воронский считал образную теорию Есенина, опиравшуюся, по мнению критика, на древность, устаревшей, не способной решать проблемы XX века: «Наши мысли, наши ощущения даже, стали несравненно более отвлеченными. Нам часто не нужно той наглядности, той осязаемости, которые требуются для примитивного и конкретного мышления; помимо того, более абстрактный дух нашей эпохи требует иных поэтических средств. Стороннику теории относительности Эйнштейна потребуются совершенно иные поэтические средства, чем певцу неподвижного древнего мира Гомера и Баяна» (Кр. новь, 1924, № 1, январь-февраль, с. 288).
Особенно много противоречивых суждений вызвала есенинская классификация образов, деление их на заставочные, корабельные и ангелические. Первым эти термины попытался истолковать В. Л. Львов-Рогачевский, определяя их, соответственно, как метафору-уподобление, импрессионистический образ и образ-миф (в его кн. «Новейшая русская литература», М., 1925, с. 305–306).
В статье «Быт и искусство» (‹1920›) Есенин развивает и поясняет свою классификацию, выделяя образы «словесный», «заставочный, или мифический», «типический, или собирательный», «корабельный, или образ двойного зрения» и «ангелический, или изобретательный». При этом поэт приводит ряд примеров.
Над своей теорией Есенин продолжал размышлять и после выхода «Ключей Марии»: «Все творчество мое есть плод моих индивидуальных чувств и умонастроений. ‹...›
В стихах моих читатель должен главным образом обращать внимание на лирическое чувствование и ту образность, которая указала пути многим и многим молодым поэтам и беллетристам. Не я выдумал этот образ, он был и есть основа русского духа и глаза, но я первый развил его и положил основным камнем в своих стихах.
Он живет во мне органически так же, как мои страсти и чувства. Это моя особенность, и этому у меня можно учиться так же, как я могу учиться чему-нибудь другому у других» («Предисловие», 1924, наст. том).
С. 186. Ключи Марии. Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу. — За титульным листом книги «Ключи Марии» следует шмуцтитул, где повторенный еще раз заголовок снабжен авторским пояснением к слову «Мария» в виде сноски. По содержанию есенинского примечания можно предположить, что источником для него послужило исследование епископа Алексия (в миру — А. Я. Дородницына) «Шелапутская община». Ср.: «Слово “шелапут” на малорусском наречии означает человека беспринципного ‹...›. ... православный крестьянин гнушается шелапутов, как людей, сбившихся с пути истины (откуда и самое название шелапут) ‹...›. В некоторых местностях те же сектанты имеют другие названия. Так, в Ставропольской губернии они известны под именем хлыстов ‹...›. Сами шелапуты называют себя “духовными христианами”, ‹...› “братьями духовной жизни”. ‹...› Стремление передать священному тексту смысл, согласный с основными положениями вероучения шелапутов, заключенными в “совершенной тайне”, развилось в аллегоризме, которому шелапуты дают широкое применение при изъяснении священного текста. Так, например, ‹...› воскрешение Лазаря (Ев‹ангелие от› Иоанна, 11 глава) д`олжно понимать так: Марфа — плоть, Мария — душа, Лазарь — это ум...» (в его кн. «Шелапутская община», Казань, 1906, с. 2, 48, 27; выделено автором).
М. Никё обращает внимание на гностический тип секты шелапутов («Есенинский сборник», Даугавпилс, 1995, с. 30). В связи с этим не исключено, что заглавие произведения Есенина несет на себе отзвук наименований несохранившихся древних книг гностиков («Великие вопросы Марии», «Малые вопросы Марии», ‹“Родословие Марии”›»), перечисленных Ю. Николаевым в монографии «В поисках за божеством: Очерки из истории гностицизма» (СПб., 1913, с. 240). Есенин мог познакомиться с трудом Николаева, прочитав о нем у Н. А. Бердяева, который дал этому сочинению позитивную оценку в своей книге «Смысл творчества» (М., 1916, с. 355), — последняя, согласно спискам, составленным сестрами поэта (списки ГМЗЕ), была в его личной библиотеке (см. об этом работу Л. А. Архиповой: «Есенинский вестник», ‹Рязань, 1994›, вып. 3, с. 7).
По наблюдениям М. Никё за лексикой статьи Есенина, гностический ее пласт особенно важен «во второй половине второй части “Ключей Марии” и в третьей части» («Есенинский сборник», Даугавпилс, 1995, с. 25). В этой связи резонно предположить, что Есенин, скорее всего, дал заголовок своему произведению уже после его завершения.
Название «Ключи Марии» отсутствует и в наборной рукописи (см. выше), на первой странице которой авторскому тексту предшествует незачеркнутый эпиграф из Н. А. Клюева; в книге его уже нет. В третьей части произведения (наряду с явно выраженным гностическим пластом) содержится недвусмысленно высказанное критическое отношение к эстетической позиции Клюева, тогда как в первой части Есенин цитировал стихи последнего в положительном смысле. Такой резкий переход к прямо противоположной оценке дает возможность полагать, что название есенинского трактата может иметь, кроме всего прочего, и полемический оттенок по отношению к Клюеву. Это подтверждается явной перекличкой примечания на шмуцтитуле «Ключей Марии» со следующими строками Клюева:
(ЛН, М., 1987, т. 92, кн. 4, с. 496, с грубым искажением («народившемся» вместо «неродившемся»); здесь исправлено по автографу — РГАЛИ, ф. А. А. Блока).
Однако стихотворение Клюева «Сколько перепутий, тропок-невидимок...» (1910), из которого взяты эти строки, было опубликовано лишь в наши дни, так что Есенин мог знать его только изустно. Этот факт может рассматриваться как одно из подтверждений слов В. С. Чернявского (свидетеля бесед Клюева и Есенина в 1915–1916 гг.), приведенных выше.
Некоторые современники поэта обратили внимание на еще один источник есенинского заголовка. Н. Н. Асеев (ПиР, 1922, № 8, ноябрь-декабрь, с. 42) связывал название «Ключи Марии» с широко известной в литературных кругах начала XX века статьей В. Я. Брюсова «Ключи тайн» (журн. «Весы», М., 1904, № 1, с. 3–21), которая воспринималась как манифест символизма.
Финал этой статьи В. Я. Брюсова и в самом деле перекликается с некоторыми идеями «Ключей Марии»: «Пусть же современные художники сознательно куют свои создания в виде ключей тайн, в виде мистических ключей, растворяющих человечеству двери из его “голубой тюрьмы” к вечной свободе» (там же, с. 21).
Посвящаю с любовью Анатолию Мариенгофу. — Об адресате посвящения см. наст. изд., т. 1. Согласно авторской дате в рукописи «Ключей Марии», произведение было завершено в ноябре 1918 г. Знакомство же свое с Есениным Мариенгоф отнес к концу августа того же года (Восп., 1, 310), а о беседах с ним до выпуска совместной «Декларации» имажинистов (1919) вспоминал:
«У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл заставками, динамические, движущиеся — корабельными ‹...›; говорил об орнаменте нашего алфавита, ‹...› о коньке на крыше крестьянского дома, ‹...› об узоре на тканях...» (Восп., 1, 311; выделено автором).
Из всего этого с несомненностью следует, что есенинское посвящение Мариенгофу появилось в «Ключах Марии» существенно позже, чем само произведение (см. также выше об эпиграфе из Н. А. Клюева, имевшемся в рукописи произведения первоначально) — наблюдение А. А. Козловского: Есенин V (1979), с. 320.
...«избяной обоз»... — Эти слова восходят к строкам стихотворения Н. А. Клюева «Есть горькая супесь, глухой чернозем...» (1916; Ск-1, с. 101):
...за шквалом наших земных событий недалек уже берег. — Ср.:
С. 187. Значение и пути его ‹орнамента› объясняли в трудах своих Стасов и Буслаев, много других... — Владимир Васильевич Стасов (1824–1906) — художественный и музыкальный критик и историк искусства. Издал со своими вступительными статьями два обширных атласа с образцами орнамента: «Русский народный орнамент. Выпуск первый. Шитье, ткани, кружева» (СПб., 1872) и «Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени. Вып. 1–3» (СПб., 1884; 1887); о перекличках «Ключей Марии» с первой из этих статей см. в наст. томе. В личной библиотеке поэта (списки ГМЗЕ) был сборник статей Д. В. Философова «Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901–1908 гг.)» (СПб., 1909), завершавшийся некрологом Стасову, где критик, в частности, писал о покойном (с. 323): «Он тщательно собирал старые вышивки и кружева и возвел “петушки и гребешки” в перл создания». Скорее всего, именно по этой книге юный Есенин мог впервые познакомиться со взглядами Стасова — известного исследователя и собирателя орнамента.
Федор Иванович Буслаев (1818–1897) — языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства. Его труды по орнаменту, при жизни печатавшиеся лишь в журналах и сборниках специального характера, впоследствии составили книгу «Исторические очерки Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту в рукописях» (Пг.: Типография Академии наук, 1917). Говоря о происхождении русского орнамента (и вообще о народном искусстве), Есенин в «Ключах Марии» не раз полемизирует с Буслаевым.
Из той же буслаевской книги Есенин получил представление о работах других ученых, писавших об орнаменте. Это — атлас В. И. Бутовского «История русского орнамента с X по XI столетие по древним рукописям» (М., 1870) с его вступительной статьей, а также книга французского архитектора и историка искусства Е. Виолле-ле-Дюка «Русское искусство: Его источники, его составные элементы, его высшее развитие, его будущность» (рус. пер. Н. Султанова — М., 1879; оригинал — Paris, 1877), обширным критическим разбором которой открываются «Исторические очерки Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту...».
...на кровле конек // Есть знак молчаливый, что путь наш далек. — В этой цитате из стихотворения Н. А. Клюева «Есть горькая супесь, глухой чернозем...» Есенин заменил словом «наш» авторское «так».
Все ученые, как гробокопатели, старались отыскать прежде всего влияние на нем ‹орнаменте›... — Наряду с другими Есенин имеет здесь в виду суждения Стасова и Буслаева о несамостоятельности происхождения русского орнамента и полемизирует с ними. Ср.: «...в них ‹узорах орнамента› нет ничего самостоятельного, потому что все главные составные части их существуют у известных народностей азиатского происхождения, которые обладают ими в течение долгих столетий и, конечно, никоим образом не могли заимствовать их от русских» (Стасов 1872, с. XI); «...русский орнамент только в XII в. стал освобождаться от рабского копирования византийских и южнославянских оригиналов, и хотя выказывал некоторую самодеятельность в XII и XIII вв., но все же под сильным влиянием южнославянским...» (Буслаев 1917, с. 34).
...старались доказать, что в узорах его больше колдуют ассирийские заклинатели, чем Персия и Византия. — Конец этого предложения в автографе первоначально имел вид: «...больше Ассирия, чем Персия». Указанная фраза близка следующим местам из рецензии Ф. И. Буслаева на книгу Е. Виолле-ле-Дюка: «...утверждает он — Индия и Персия формулируют элементы русской архитектуры, равно как и ее орнаментации»; «...элементы нашего ‹...› орнамента ‹...› Виолле-ле-Дюк отсылает по принадлежности более к Индии, чем к Византии» (Буслаев 1917, с. 8, 56–57; выделено автором). Такой неявный параллелизм позволяет подвергнуть сомнению жесткое утверждение Б. В. Неймана об этой части текста: «Хотя Стасов здесь не назван, но, очевидно, речь идет именно о нем...» (сб. «Художественный фольклор», М., 1929, ‹вып.› 4–5, с. 210). Ведь здесь — впрочем, как и почти во всех других местах «Ключей Марии» (о единственном исключении см. ниже) — Есенин, обращаясь к работам других авторов, ссылается на суть их суждений и высказываний по памяти, как правило, не прибегая при этом к уточнению формулировок по источникам и точному их цитированию.
...никто не будет отрицать того, что наши древние рукописи XIII и XIV веков носят на себе явные признаки сербско-болгарского отражения. — Отклик на слова Ф. И. Буслаева: «...новгородский ‹орнамент рукописей› XII–XIV вв. составляет ‹...› органическую отрасль орнамента югославянского или сербо-болгарского» (Буслаев 1917, с. 27).
Никто не скажет, что новгородская и ярославская иконопись нашли себя в своих композициях самостоятельно. Все величайшие наши мастера зависели всецело от крещеного Востока. — На факте, указанном здесь, действительно основывались взгляды многих искусствоведов на русскую иконопись. Например, Е. Виолле-ле-Дюк отмечал «неизменность типов русской иконографии, заимствованной из Византии» (в его кн. «Русское искусство: Его источники, его основные элементы, его высшее развитие, его будущность. Пер. Н. Султанов», М., 1879, с. 117).
Второе из комментируемых предложений первоначально было начато Есениным так: «Величайшие наши мастера в своих фресках ‹выделено нами›». Без сомнения, здесь имелись в виду авторы древних настенных росписей новгородских и ярославских храмов. Среди них одним из самых известных был изограф Гурий Никитин (Кинешемцев; 1630-е — 1691), сравнения с которым удостоился Есенин в письме Н. А. Клюева 1916 года (Письма, 312). Ср. также с описанием убранства Феодоровского собора в Царском Селе — храма, где не раз бывал Есенин в 1916–1917 гг.: «...потолки расписаны фресковым орнаментом в характере орнаментики Ярославской церкви Иоанна Предтечи, XVII века...» («Феодоровский Государев Собор в Царском Селе», М., ‹1915›, с. 42).
Самою первою и главною отраслью нашего искусства ‹...› был и есть орнамент. — Исходным вариантом этой фразы в есенинском автографе было: «Самая ранняя и главная отрасль нашего искусства есть песня». В 1981 году В. Г. Базанов впервые поставил начальное предложение «Ключей Марии» («Орнамент — это музыка») в прямую связь со словами Н. А. Клюева из его письма от 5 ноября 1910 г. к А. А. Блоку (тогда еще не опубликованного):
«Вглядывались ли Вы когда-нибудь в простонародную резьбу, например, на ковшах, дугах, шеломках, на дорожных батожках, в шитье на утиральниках, ширинках, — везде какая-то зубчатость, чаще круг-диск и от него линии, какая-то лучистость, “карта звездного неба”, “знаки Зодиака”. Народ почти не рисует, а только отмечает, только проводит линии, ибо музыка линий не ложна... ‹...› ...народное искусство безглагольно. Вы скажете: а песня? На это я отвечу так: народная песня, наружно всегда однообразная, действует не физиономией, не словосочетаниями, а какой-то внутренней музыкой, опять-таки линией, и кому понятен язык линий, тому понятна во всей полноте и народная песня» (сб. «В мире Блока», М., 1981, с. 397; в цитату внесены поправки по публикации К. М. Азадовского: ЛН, М., 1987, т. 92, кн. 4, с. 502).
Нечто похожее Клюев наверняка высказывал и в беседах с Есениным. Возможно, из отзвука этих бесед возникло «равноправие» «песни» и «орнамента», поначалу проявившееся под пером Есенина в данном месте «Ключей Марии».
...вглядываясь во все исследования специалистов из этой области... — Кроме трудов, упомянутых выше, в поле зрения Есенина были также выпущенные отдельными книгами работы, написанные в полемике с Е. Виолле-ле-Дюком и в его защиту. Это — «Русское искусство Е. Виолле-ле-Дюк и архитектура в России от X-го по XVIII-й век» графа С. Г. Строганова (выпущена без указания автора; СПб., 1878), а также «Русское искусство и мнения о нем Е. Виолле-ле-Дюка, французского ученого архитектора, и Ф. И. Буслаева, русского ученого археолога. Критический обзор В. И. Бутовского» (М., 1879).
Одно из свидетельств этому — появление среди черновых вариантов «Ключей Марии» фамилии «Полевой» (см. об этом ниже в наст. томе): очевидно, Есенин был знаком с трудом П. Н. Полевого «Очерки русской истории в памятниках быта. ‹Вып.› II. Период с XI — XIII век: Княжество Киевское. — Княжество Владимиро-Суздальское» (СПб., 1880), где, в частности, были кратко изложены (на с. 222–223) основные идеи только что названных книг.
...мы не встречаем почти ни единого указания на то, что он существовал раньше ‹...› приплытия к нашему берегу миссионеров из Греции. — Действительно, лишь В. И. Бутовский (да и то в самом общем виде) писал в предисловии к составленному им атласу: «Кому не случалось любоваться разноцветными коймами и узорами на полотенцах, скатертях и сорочках русского деревенского рукоделия. ‹...› Существование этой крестьянской самодельщины исконное: ему насчитываются целые столетия» (в кн. «История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям», М., 1870, с. 4).
С. 188. Все, что рассматривается извне, никогда не рождается в ясли с лучами звезд в глазах и мистическим ореолом над головой. — Имеется в виду не только евангельское словесное описание рождения Спасителя (Богородица «родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли» — Лк. II, 7), но и икона «Рождество Христово», на которой младенец Христос изображается с ореолом над головой (см., например: «Феодоровский Государев Собор в Царском Селе», М., ‹1915›. с. 51).
Метафора «лучи звезд в глазах», скорее всего, восходит к другому иконописному изображению Христа — образу «Спас Ярое Око».
«Как же мне, старцу ~ Золотой ключ волной выплесну». — Этот текст восходит к русским народным духовным стихам схожего сюжета, опубликованным в разных изданиях под заголовками, данными собирателями: «Песня глухой нетовщины, оставшаяся после времен самосжигательства», «О старце» («Сборник русских духовных стихов, составленный В. Варенцовым», СПб., 1860, с. 183–185); «Встреча инока со Христом» («Труды Музыкально-этнографической комиссии...», М., 1906, т. I, с. 25–27; перепечатано в сб. «Стихи духовные», М., 1991, с. 263–264); «Стих о иноке-черноризце» («Труды Владимирской ученой архивной комиссии», 1914, кн. XVI, с. 40). Сопоставление их текстов с приводимым Есениным показывает, что стих в «Ключах Марии» содержит элементы всех перечисленных вариантов, бытовавших в народе, не повторяя их в точности. В то же время в есенинском тексте есть строки, не встречающиеся в народных стихах (например: «Книгу новую я вытку звездами»). Это дает основание предположить, что вариация стиха о старце в «Ключах Марии» принадлежит самому их автору.
Из чувства национальной гордости Равинский подчеркивал нечто в нашем орнаменте, но это нечто было лишь бледными словами о том, что у наших переписчиков выписка и вырисовка образов стояли на первом месте, между тем как в других странах это стояло на втором плане. — Судя по автографу, Есенин вначале назвал автором этого суждения Ф. И. Буслаева, затем заменил его фамилию на «Полевой» и, наконец, остановился на Равинском.
Таким образом, рукопись отражает сомнения поэта в том, правильно ли он именовал автора, мысли которого излагал.
Эти сомнения были далеко небезосновательными, ибо даже окончательный выбор Есенина не стал верным. Приводимое им суждение об орнаменте оказалось пересказом следующих мест из работ В. В. Стасова и Ф. И. Буслаева: 1) «...употребление в течение долгих столетий всем русским народом этих узоров — придают им значение чего-то действительно национального» (Стасов 1872, с. XIX); 2) «...рукописи ‹...› у нас в России самый богатый и разнообразный материал для истории орнамента... ‹...› На Западе рукопись не имеет такого первенствующего значения в истории художества, как у нас, потому что роскошное разнообразие в произведениях прочих искусств отодвигало там скромную работу писца на второй план» (Буслаев 1917, с. 8–9).
Причина, почему Есенин отказался от фамилии Буслаева, в общем правильно названной им ранее, возможно, состоит в том, что при перечитывании написанного его внимание было остановлено на начале фразы («Из чувства национальной гордости Буслаев...») — поэт мог вспомнить, что оппоненты ученого нередко говорили о недостатке у него патриотизма. Вот что писал, например, В. И. Бутовский: «...г. Буслаев решительно подтверждает, что все русские орнаменты наших письменных памятников, а именно: Остромирова Евангелия и Святослав‹ов›а Изборника, единственно оставшихся от XI века, суть ничто иное, как рабские копии с византийских и южнославянских оригиналов. Мы же заявляем, что не можем согласиться с таким приговором. По нашему убеждению, он несправедлив и ошибочен. Все эти орнаменты суть русские оригинальные произведения...» (в его кн. «Русское искусство и мнения о нем Е. Виолле-ле-Дюка, французского ученого архитектора, и Ф. И. Буслаева, русского ученого археолога: Критический разбор...», М., 1879, с. 61–62).
О возможных причинах появления здесь фамилии археолога и историка русской литературы Петра Николаевича Полевого (1839–1902) см. ниже в наст. томе.
Однако обозначенный Есениным в окончательном варианте текста Дмитрий Александрович Ровинский (1824–1895) — собиратель русской гравюры и народного лубка, исследователь иконописания в России, ранние работы которого печатались за подписью «Равинский», — не занимался русским орнаментом. К тому же в его трудах, как и в трудах Ф. И. Буслаева, «чувство национальной гордости» не подчеркивалось (см., например, цитаты из работ Д. А. Ровинского, приведенные в комментарии В. А. Вдовина к «Ключам Марии», — ВЛ, 1973, № 7, июль, с. 227–228; Есенин V (1979), с. 339).
Вероятно, дело здесь в ошибке памяти Есенина. Он написал «Равинский» вместо созвучной фамилии «Бутовский»: ведь именно в работах В. И. Бутовского (особенно в только что процитированной книге) отчетливо звучит нота национальной гордости, запомнившаяся поэту.
С. 188–189. ...символическое древо, которое означает «семью». — Ср.: «Размножение семьи, рода исстари сравнивалось с ростками, пускаемыми из себя деревом... ‹...› Параллель, проводимая в языке и народных поверьях между ветвистым деревом и многочадною семьею или целым родом, с особенною наглядностию заявила себя в обычае обозначать происхождение ‹...› людей и степени их родства через так называемое родословное древо...» (Аф. II, 478, 479; выделено автором).
С. 189. Маврикийский дуб — образ, восходящий к Библии (подробнее см. наст. изд., т. 2).
Скандинавская Иггдразиль — поклонение ясеню... — Ср.: «Эдда ‹древнеисландский эпос› рассказывает о старом мировом серединном дереве Иггдразиле. Это дерево — ясень...» (Аф. II, 279; выделено автором); «Иггдразиль северной мифологии или всемирное древо исторического развития народов ‹...› имеет ‹...› в скандинавских сказаньях малое подобие или как бы сокращение — в семейном древе, которое растет в жилище Вёльзунга ‹...›. Это дерево — дуб. Как под всемирным Иггдразилем ‹...› собирались боги для суда и расправы, так и Вёльзунг судил и рядил народ под своим домашним дубом...» (Буслаев I (1861), с. 442; выделено автором).
...то древо, под которым сидел Гаутама... — Сиддхартха Гаутама (623–544 до н. э.) — основатель буддизма. Под именем «Будда» Есенин упоминает о нем еще в письме к Г. А. Панфилову (март 1913 г.): «Гений для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды, представляют не что иное, как блудники...» (наст. изд., т. 6). Об упомянутом древе см.: «Гаутама ‹...› сел ‹...› под тень большого дерева, известного с тех пор под именем священного дерева Бо, или древа мудрости» (Рис-Дэвидс Т. В. «Буддизм: Очерк жизни и учений Гаутамы Будды», 2-е изд., СПб., 1906, с. 41).
...слово пас-тух (= пас-дух... — Ср.: «...наше “душа” от ду-ть, через ду-хъ...» (Буслаев I (1861), с. 138; выделено автором). Эта конкретная параллель «Есенин — Буслаев» была отмечена В. Г. Базановым, далее констатировавшим: «В “Ключах Марии” Есенин, используя лингвистические приемы, пытается восстановить первоначальную мифологическую основу отдельных слов и выражений» (сб. «Миф — фольклор — литература», Л., 1978, с. 207).
«Я не царь и не царский сын, — я пастух, а говорить меня научили звезды», — пишет пророк Амос. — Из Книги Пророка Амоса (Ветхий Завет): «...я — не пророк и не сын пророка; я был пастух, и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: “Иди, пророчествуй к народу Моему...”» (Ам. VII, 14–15).
Наши бахари орнамента без всяких скрещиваний с санскритством ‹...› увидели через листья своих ногтей, через пальцы ветвей ‹...› и через ствол ‹...›, что мы есть чада древа... — Первоначально Есенин начал эту фразу так: «Наши бахари без всяких сан‹с›кри... ‹возможно, санскритств”?›»; слово «орнамента» было вписано в текст в другое время (хотя и такими же чернилами, но другим пером). Судя не только по смысловому, но также по лексическому и фразеологическому сходству этого места «Ключей Марии» (особенно прозрачному в первом варианте текста) с суждениями Ф. И. Буслаева из статьи «Эпическая поэзия», Есенин здесь вступил в полемику с ученым. Ср.: «В санскрите ‹...› две формы: б’а и б’ас; и та и другая значит: светить, казаться, что совершенно согласно с значением наших: басить, баский. Как “казистый”, в значении красивого, происходит от казаться, так и баский будет относиться к санскритскому б’ас. ‹...› Таким образом, санскр. б’а светить, казаться ‹...› употребляется ‹...› у нас ‹в значениях› — и говорить: ба-ти, баяти, и казаться, украшать, в корне бас; а как с значением слова соединяются понятия о чародействе и лечении, то баситься, в провинциальных наречиях, и именно в Рязанской губернии, употребляется в смысле лечиться, а бахарь — лекарь»; «Ногами человек прикасается к земле, а, по представлению в санскрите, даже исходит из нее как растение корнем и стволом; потому по-санскритски пада ‹...› значит не только нога, но и корень дерева»; «Из прочих частей тела человеческого особенное внимание обращали на себя руки, как необходимое орудие в деле. Как волосы были сравниваемы с травою, так руки и пальцы казались сучком с ветвями. По представлениям языка, как дерев`а, так и люди имеют общего между собою то, что родятся и растут; потому от корня род происходят и рождение и род (на-род); ‹...›. Языки индоевропейские особенное сходство с растением находили в руке; так, в санскрите названия руки, пальцев, ногтей образовались уподоблением с растением: палец кара сак’а (кара рука, собственно: делающая, от кри делать, и сак’а сук, сучок), потому и рука называется сложным словом, значащим по переводу: имеющая пять ветвей или сучков: панча сак’а (панчан пять и сак’а сук); ноготь же вырастает на пальце, как лист на ветви, а потому и называется кара-руйа (кара рука и руи расти), собственно: растущий на руке» (Буслаев I (1861), с. 16–17, 14, 12).
...дуба, под которым Авраам встречает святую Троицу, — то есть дуба Мамре (Маврикийского дуба — подробнее см. наст. изд., т. 2). Употребление слова «Троица», скорее всего, связано здесь не только с соответствующим библейским текстом (Быт. XVIII, 1–9), но и с иконами Пресвятой Троицы, где непременно изображался и дуб, о котором упомянул Есенин (см., например, кн. «Феодоровский Государев Собор в Царском Селе», М., ‹1915›, с. 43).
С. 189–190. ...былина «о хоробром Егории»: У них волосы — трава, // Телеса — кора древесная. — Обычно (в том числе в учебных хрестоматиях по русской словесности начала XX века) это произведение именуется «Стих о Егории Храбром». Во всех опубликованных его вариантах место, о котором пишет Есенин, звучит несколько по-иному. Например:
(«Русская хрестоматия: Памятники древней русской литературы и народной словесности... Для средних учебных заведений. Сост. Ф. Буслаев. Изд. 12-е», М., 1912, с. 375, 377).
Очевидно, «Стих о Егории...» приведен здесь Есениным по памяти.
Называя этот стих «былиной», Есенин, возможно, придерживался определения того же Буслаева: «...песня содержания повествовательного именуется былиною...» (Буслаев I (1861), с. 18; выделено автором).
С. 190. Мысль об этом происхождении от древа породила вместе с музыкой и мифический эпос. ‹...› Без всякого Иовулла и Вейнемейнена наш народ через ‹...› безымянного пастуха открыл две скрытых силы воздуха вместе. Этот пастух ‹...› срезал на могиле тростинку ‹...›, а она сама поведала миру через него свою ‹...› тайну: «Играй, играй, пастушок. ‹...› Я когда-то была девицей. Погубили девицу сестры. За серебряное блюдечко, за наливчатое яблочко». ‹...› Узлом слияния потустороннего мира с миром видимым является скрытая вера в переселение души. — Излагая здесь собственное мнение о зарождении русского эпоса, Есенин вновь исходил из статьи Буслаева «Эпическая поэзия». Ср.: «Так как поэзия в древнейшую эпоху пелась и сопровождалась музыкальным инструментом, то изобретение этого инструмента, как и поэзии, приписывалось богам. Финнам пятиструнную арфу (cantelo) дал бог Вейнемейнен: он сделал ее из березы... ‹...› Как финская береза, из которой Вейнемейнен сделал арфу, плачет и рассказывает свое горе, так и у нас изобретение дудки соединяется с преданием о переселении душ. ‹...› Известна на Руси вариация этого предания. На могиле убитого вырастал тростник; пастух срезал тростинку, сделал дудку, и дудка запела и рассказала преступление» (Буслаев I (1861), с. 19–21).
Набросок начала комментируемого фрагмента «Ключей Марии», имеющийся в автографе («Мы не помним, кто первый взыграл у нас на Руси до Бояна и кто наши гусли выдумал. [Опираясь на племенное родство с финнами ‹...›] В этом случае мы возьмем Вейнемейнена. Старый верный Вейнемейнен ‹здесь набросок оборван и вычеркнут автором›»), перекликается с «Эпической поэзией» Буслаева (см. там же, с. 19) еще более явственно.
Старый верный Вейнемейнен — «формульная» характеристика одного из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» (в пер. Л. П. Бельского); возникнув в самом начале русского перевода эпоса, она сохраняется неизменной и по всему его тексту (см., например: «Калевала. Финская народная эпопея: Руны 1–3, 10, 21, 23, 41 и 42», СПб., 1902 (РКлБ, сер. II, вып. XXIV), с. 10, 13–16, 19, 20, 22).
Иовулл. — До сих пор комментаторы прозы поэта отождествляли это имя с именем героя одноименного англосаксонского эпоса (например: «Есенин, очевидно, имеет в виду Беовульфа...» — Есенин 5 (1962), с. 284). Вряд ли это справедливо, хотя бы потому, что первый русский перевод «Беовульфа» был опубликован в 1975 г. (сб. «Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах», М., 1975). К тому же в рукописи это имя первоначально было дано как Иогулл. Затем Есенин переправил в нем «г» на «в», очевидно, усомнившись в правильности своего написания. Эти сомнения были небезосновательными. В «Саге о Финнбоге Сильном» действительно есть персонаж с похожим именем (Иокуль), выступающий постоянным противником главного героя Финнбога («Древне-северные саги и песни скальдов в переводах русских писателей», СПб., 1903 (РКлБ, сер. II, вып. XXV), с. 103 и сл.). Но в то же время из контекста употребления этого имени в «Ключах Марии» («...Иовулл и Вейнемейнен...») следует: по Есенину, Иовулл — такой же эпический герой — создатель музыки и поэзии, как Вейнемейнен. Скорее всего, здесь (по памяти, а потому неточно) под этим именем подразумевался бог Один из Эдды, упомянутый в аналогичном контексте Буслаевым (см. Буслаев I (1861), с. 19). Ср.: «Одно из ‹многочисленных› прозваний Одина было Iolnir или Iolfadir...» (Аф. I, 746; выделено автором).
Место комментируемого фрагмента, оформленное Есениным как цитата («Играй, играй, пастушок ‹и т. п.›»), является вольным изложением отрывка из «Сказки о серебряном блюдечке и наливном яблочке», вошедшей в сборник «Народные русские сказки А. Н. Афанасьева» (М.: И. Д. Сытин, 1897, т. 2, с. 121).
...празднество этой каны... — от Каны Галилейской, города вблизи Назарета, где, согласно Новому Завету (Иоанн. II, 1–11), Иисус на пиру сотворил чудо, превратив воду в вино.
Исследователи древнерусской письменности и строительного орнамента... — то есть Ф. И. Буслаев, В. В. Стасов, С. Г. Строганов, В. И. Бутовский, Е. Виолле-ле-Дюк и др., с трудами которых был знаком Есенин.
С. 191. Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, ‹...›, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья... — Есенин опять полемизирует здесь с Ф. И. Буслаевым: «...русский орнамент и в самом высшем своем развитии в XIV в. не мог приобрести способности к воспроизведению натуры в ее рельефности и переливах колорита. ‹...› ... это рисунок ткани, однообразно повторяющийся на наволоке до бесконечности; это не живопись и не рельеф, а просто узорочье, ласкающее глаз всем своим целым, а не по частям» (Буслаев 1917, с. 36; выделено автором).
Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу... — Ср. с замечанием А. Н. Афанасьева: «Позднее у германцев и у славян возникло обыкновение ‹...› ставить на верху крыш их ‹лошадиных голов› деревянные изображения — так называемые коньки» (Аф. I, 637; выделено автором). Очевидно, Есенин прошел мимо этого места «Поэтических воззрений славян на природу». Кроме того, в исследовании В. Г. Базанова о «Ключах Марии» справедливо отмечено: «Судя по всему, Есенину не были известны все работы Стасова, в частности, его обширная рецензия “Коньки на крестьянских крышах” (1861). Между тем ‹...› Стасов ‹...› в ней ‹...› во многом предвосхищает Есенина как автора “Ключей Марии”» (сб. «Миф — фольклор — литература», Л., 1978, с. 216).
...уподобляя свою хату под ним колеснице. — Восходит к стихотворению Н. А. Клюева «Есть горькая супесь, глухой чернозем...»: «Изба — колесница, колеса — углы...» (Ск-1, с. 101); о других перекличках с этим же текстом см. выше.
...отношение к вечности как к родительскому очагу... — Об этом говорит Есенин в одном из стихотворений, написанных ранее «Ключей Марии»: «Полюбил я мир и вечность, // Как родительский очаг...» («Не напрасно дули ветры...», ‹1917›).
С. 192. Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство ‹орнамента›, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей... — Вначале в рукописи было: «...почувствовал бы всю клевету на эту мужичью правду всех наших кустарных музеев». Скорее всего, это есенинское суждение отражает его отношение к изделиям, представляемым «кустарными музеями» под маркой произведений народного искусства. Об этих изделиях Есенин знал не понаслышке — помимо своей официальной деятельности, «кустарные музеи» были учреждениями, поставлявшими предметы интерьера для зданий Феодоровского городка в Царском Селе, где поэт проходил в 1916–1917 гг. военную службу. Суждения Есенина перекликаются с рецензией Д. Крючкова на иллюстрированное издание «Русское народное искусство на второй всероссийской кустарной выставке в Петрограде» (Пг., 1914), которая была напечатана в том же журнале, что и первая петроградская публикация стихов юного поэта: «...после просмотра их ‹снимков с кустарных работ› получается определенно двойственное впечатление. С одной стороны, кустари вдохновляются подлинным народным творчеством и дают вещи оригинальные, яркие, большой художественной ценности, с другой же — образчиками им часто служит псевдонародное слащавое манерничанье ‹...›, результатом чего является типично рыночная пошловатая дешевка» (журн. «Голос жизни», Пг., 1915, № 15, 8 апреля, с. 19).
Он бы выгнал их, как торгующих из храма... — Ср.: «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме...» (Мф. XXI, 12).
...как хулителей на Святого Духа... — Ср.: «...кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится» (Лк. XII, 10).
С. 192–193. Древо ‹...› ни на чем не вышивается, кроме полотенца... — Хотя среди образцов крестьянских вышивок, представленных в атласе В. В. Стасова «Русский народный орнамент» (СПб., 1872), изображение древа на полотенцах преобладает количественно (см.: л. II, № 10; л. XI, № 49; л. XII, № 51; л. XVII, № 73; л. ХХШ, № 94 и мн. др.), все же есть случаи вышивки древа и на простынях (л. XXVI, № 103; л. XXIX, № 108).
С. 193. ...чтоб, подобно древу, он ‹народ› мог осыпать с себя шишки слов и дум... — В 1917 г. Есенин писал в поэме «Октоих»:
И «отселе», выражаясь пушкинским языком, нам видно «потоков рожденье». — Взятые в кавычки слова — из стихотворения А. С. Пушкина «Кавказ» (1829).
Уже в X и XI веках мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов и образов поражает нас ‹...› смелостью своих выискиваемых положений... — Скорее всего, здесь имеются в виду русские былины и духовные стихи.
...ярчащая... — это либо причастие от глагола «ярчать» (возможный неологизм автора), либо письменная фиксация Есениным собственного произношения литературного слова — «ярчайшая» (то есть своего рода «фонетическая» транскрипция последнего).
С. 194. Первое, что внесли нам западные славяне, это есть письменность. — Создатели славянской азбуки и письма Кирилл и Мефодий проповедовали христианство в Великоморавском княжестве на территории нынешней Чехии. В «Повести временных лет» под 888–897 гг. записано: «Бѣ единъ языкъ Словѣнескъ: Словѣни, иже сѣдяху по Дунаеви, ихъ же пріяша Угри, и Морава, и Чеси, и Ляхове, и Поляне, яже нынѣ зовомоя Русь. Симъ бо первое преложены книги Моравѣ, яже прозвася грамота Словѣньская, яже грамота есть въ Руси и въ Болгарѣхъ Дунайскихъ» («Летопись Нестора... 3-е испр. изд.», СПб., 1912 (РКлБ, вып. XVI), с. 12).
...мир ‹нашего› слова ‹...› похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живет, преображаясь. — Образность этого места текста восходит к Новому Завету: «В начале было Слово, ‹...› и Слово было Бог» (Иоанн I, 1); «Иисус ‹...› возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет» (Мф. XVII, 1–2). Гора, на которой произошло Преображение Господне, традиционно именуется Фавор; в Новом Завете ее название отсутствует.
Красный угол, например, в избе есть уподобление заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути. — Ср.: «...изба — подобие Вселенной: // В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь» (из стихотворения Н. А. Клюева «Где пахнет кумачом — там бабьи посиделки...» (1916); Ск-1, с. 104).
...«семь коров тощих пожрали семь коров тучных»... — Имеется в виду библейское предание о фараоновых коровах, предвещающее семь лет засухи и голода после семи урожайных лет (см.: Быт. XLI, 17–32).
С. 195. В «Голубиной книге» так и сказано: «У нас помыслы от облак Божиих... // Дух от ветра... // Глаза от солнца... // Кровь от черного моря... // Кости от камней... // Тело от сырой земли...» — Этот фрагмент, отнесенный Есениным к известному духовному стиху (входившему в годы отрочества поэта в программу по русской словесности для средних учебных заведений Российской империи), на самом деле объединяет часть текста «Голубиной книги» с апокрифическим сказанием о сотворении человека. Его источником, скорее всего, было следующее место из статьи Ф. И. Буслаева «Повесть о Горе-Злочастии...»: «...предание о стихийном составе тела человеческого одно и то же как в нашем ‹апокрифическом› сказании, так и в Голубиной Книге:
Вот как значится это место в сказании: “Плотский человек, первозданный Адам от перстной земли, кости от камня, кровь от чермного моря, мысли от облак, очи от солнца, дыхание от ветра...”» (Буслаев I (1861), с. 616; выделено автором).
С. 196. Солнце ‹...› уподобилось колесу... — Ср. Аф. I, 207; 593. ...тельцу... — Ср.: Аф. I, 658–660. Подробнее см. ниже.
«Волцы задрали солнечко». — Ср. также: «...у нас уцелела старинная поговорка: “серый волк на небе звезды ловит”, т. е. черная туча закрывает звезды» (Аф. I, 750; выделено автором); «Волк-туча — пожиратель небесных светил...» (Аф. I, 764).
Эдда построила мир из отдельных частей тела убитого Имира, Индия в Ведах через браман утверждает то же самое, что и Даниил Заточник: «Тело составляется жилами, яко древо корением. По ним же тече секерою сок и кровь, иже память воды». — Первоначально в рукописи Есенина приписанные им здесь древнерусскому автору XII или XIII в. Даниилу Заточнику слова выглядели так: «Тело составляется жилами [якожде] яко древо корением. По ним тече кровь, иже память воды». В связи с этим прослеживаются явные параллели исходного текста комментируемого фрагмента в целом с некоторыми положениями статьи Ф. И. Буслаева «Мифические предания о человеке и природе, сохранившиеся в языке и поэзии» (см.: Буслаев I (1861), с. 143, 147–148).
Слово «сок», введенное Есениным в окончательный вариант текста наряду с «кровью» («сок и кровь»), возможно, возникло по ассоциации с ранее написанным («Индия в Ведах через браман...»). Ср.: у индийского мыслителя «является вопрос о жизненном соке в веществах (ср., напр., Chândogya Упанишад I, 1, 2: “жизненный сок этих творений есть земля, сок земли — воды, сок вод — растения, сок растений — человек ‹и т. д.›”)» (в кн. Г. Ольденберга «Будда, его жизнь, учение и община. Пер. с 4-го нем. изд. А. Н. Ачкасова», ‹М., 1905›, с. 33).
Что касается вписанного перед словом «сок» слова «секера» (в автографе — «сѣкѣрою»), то в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля (СПб.-М., 1882, т. 4, с. 382) такой вариант написания отсутствует. Нормативный вид этого слова — «сѣкира», а диалектный вариант — «сокера». Согласно словарю Даля, этим словом прежде всего именуют разновидность топора (или оружие в виде топора). Но кроме этого, Даль зарегистрировал растение с таким названием, а также переносное употребление слова в Архангельской губернии («беда, опасность, гроза»). И все же ни одно из этих толкований (за исключением, может быть, «растения», да и то с немалой натяжкой) не объясняет появления этого слова в контексте есенинской «цитаты», в которую оно было вставлено.
С. 197. ...чем каждое племя резче отделялось друг от друга бытовым положением, тем резче вырисовывались их особенности. Это ясно подчеркнул наш бытовой орнамент и романский стиль железных орлов, крылья которых ‹...› подчеркивали устремление немцев к мечте о победе над ‹...› Европой. — Ср. со статьей Ф. И. Буслаева «Древнейшие эпические предания славянских племен»: «...уже в самих воззрениях на природу славяне отличаются от германских племен более спокойным, мирным и светлым тоном ‹и т. д.›» (Буслаев I (1861), с. 359). Под «железными орлами» имеется здесь в виду непременный атрибут гербов германских государств, а под «романским стилем» подразумевается, согласно П. Н. Полевому, «особый архитектурный стиль, преобладавший в Ломбардии, Нормандии и Германии с конца X до половины XIII в.» (в его кн. «Очерки русской истории в памятниках быта. ‹Вып.› II. Период с XI — XIII век», СПб, 1880, с. 189).
Вавилонянам через то, что на пастбищах туч Оаннес пас быка-солнце, нужна была башня. — О Вавилонской башне, которую люди стали строить, чтобы достигнуть неба, упоминается в Библии (см.: Быт. XI, 4). Оаннес — первочеловек в шумеро-аккадской мифологии, научивший жителей Вавилонии письму, наукам и ремеслам.
...Перун и Даждьбог пели стрелами Стрибога... — Согласно «Поэтическим воззрениям славян на природу», в русской мифологии Перун был богом грома и молний (Аф. I, 91), Даждьбог — богом солнца (Аф. I, 65), Стрибог — богом ветров (Аф. I, 91). Современные исследователи славянской мифологии рассматривают два последние толкования как предположительные. Стрелы Стрибога — образ, восходящий к «Слову о полку Игореве» (см. также начало третьего раздела «Ключей Марии»).
...Гермес Трисмегист говорил о том, что «чт`о вверху, то внизу, что внизу, то вверху. Звезды на небе и звезды на земле»... — Полумифическому Гермесу Трисмегисту (Триждывеличайшему) приписываются оккультные, астрологические и алхимические сочинения, время создания которых, по современным данным, с III в. до н. э. по III в. н. э. «Приводимая цитата — начало второй сентенции “Изумрудной таблицы” или “Изумрудной скрижали”, текст которой, по преданию, был высечен на могиле Гермеса Трисмегиста» (Есенин V (1979), с. 343; здесь же даны варианты русских переводов этого места «Изумрудной скрижали», появившихся в 1909–1913 гг.). Однако есенинский вариант слов, автором которых поэт называет Гермеса Трисмегиста, отвечает (да и то не дословно) этим переводам лишь в первой фразе цитаты (Есенин: «Что вверху, то внизу, что внизу, то вверху»; один из переводов: «То, что находится внизу, подобно находящемуся наверху, и обратно, то, что находится наверху, подобно находящемуся внизу» — Папюс. Первоначальные сведения по оккультизму. Изд. 3-е, СПб., 1911, с. 65). В своем анализе гностических мотивов в «Ключах Марии» М. Никё отмечает, что аналогичное приводимому Есениным «изречение стоит эпиграфом к статье Н. Бердяева “О новом религиозном сознании” (Вопросы жизни. 1905, Сент.; вошла в кн.: Sub specie aeternitatis. — СПб., 1907, с. 338–373...)» («Есенинский сборник», Даугавпилс, 1995, с. 30). Этот эпиграф выглядит так:
— что гораздо ближе есенинскому тексту в целом. Скорее всего, поэт был знаком со статьей Н. А. Бердяева, указанной М. Никё (см. также об этом ниже).
...Гомер мог сказать о слове, что оно, «как птица, вылетает из-за городьбы зубов»... — Парафраза слов Ф. И. Буслаева: «...еще Гомер сказал: “Что за слово вылетело из-за городьбы зубов?” (Одис‹сея›, I, 64)» (Буслаев I (1861), с. 12).
С. 197–198. ...наш Боян не мог не дать образа перстам и струнам, уподобляя первых десяти соколам, а вторых стае лебедей... — Ср.: «...Боян ‹...› не десять соколов на стадо лебедей пускал: он свои вещие персты на живые струны вскладал...» («Слово о полку Игоря», СПб., 1911, 9-е изд. (РКлБ, вып. I), с. 17).
С. 198. ...«Бояне вещий Велесов внуче»... — в древнерусском тексте «Слова...»: «...вѣщій Бояне, Велесовъ внуче...» (там же, с. 3).
...соловьем скачет по ветвям этого древа мысли... — цитата из «Слова...»: «...скача, славію, по мыслену древу...» (там же, с. 2).
...народ наш заморского музыканта назвал в песнях своих Соловьем Будимировичем. — Былиной про Соловья Будимировича открывался известный сборник «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (1-е изд. — 1804; 5-е изд. — 1901). В отличие от вариантов этого произведения, включавшихся в XIX–XX вв. в пособия по русской словесности для средних учебных заведений (см., например: РКлБ, вып. XIII, СПб., 1912, 3-е изд., с. 78–80), в тексте из сборника Кирши Данилова герой былины изображался не только заморским купцом-женихом, но и музыкантом, играющим в своем терему на «звончатых гуслях» («Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», СПб., ‹1892›, с. 7. — Дешевая библиотека, № 237). Наиболее развернуто изображена игра Соловья Будимировича на гуслях в сводном варианте былины, включенном в одну из книг, изданных тогда «для народа» — «Чурило Пленкович, Дюк Степанович, Соловей Будимирович: По сборникам Кирши Данилова, Киреевского, Рыбникова и Гильфердинга. Сост. В. и Л. Р-н» (М.: И. Д. Сытин, 1898, с. 61).
...«соловьем скакаше по древу мысленну»... — Воспроизведение по памяти места из «Слова...», уже приведенного чуть выше.
...наш Боян рассказывает, так же как и Гомер, целую эпопею о своем отношении к творческому слову. — Ср.: «Цветущее замышление Бояна ‹...› заменяло автору “Слова” гомерову Музу» (Буслаев I (1861), с. 396; из статьи «Русская поэзия XI и начала XII века»).
...он ‹Боян› может взлететь соколом под облаки, в море сплеснуть щукою, в поле проскакать оленем... — В «Слове...» Боян «растекался ‹...› серым волком по земле, сизым орлом под облаками» (РКлБ, вып. I, СПб., 1911, изд. 9-е, с. 17). Есенин в своем пересказе этого места «Слова» ближе к былине «Вольга Святославович и Микула Селянинович»:
(«Русская хрестоматия: Памятники древней русской литературы и народной словесности... Для средних учебных заведений. Сост. Ф. Буслаев. Изд. 12-е», М., 1912, с. 380).
...мир для него есть вечное ‹...› древо, на ветвях которого растут плоды дум и образов. — См. комментарий выше.
С. 199. Борей — бог северного ветра в греческой мифологии.
Это ‹...› образ, который родит алфавит непрочитанной грамоты. — Затем Есенин написал и тут же зачеркнул: «Знаки родятся из постижений». Между тем чтение этих слов без отрыва от предыдущей фразы помогает здесь надежно установить исходный источник направления авторской мысли, получившей ниже дальнейшее развитие. Ср.:
Это — фрагмент «Поддонного псалма» Н. А. Клюева («Ежемесячный журнал», Пг., 1917, № 1, январь, стб. 56, под заглавием «Новый псалом»; выделено комментатором). К указанному произведению Есенин не раз обращался ранее. Он упоминал его в письме к Иванову-Разумнику конца декабря 1917 г. (наст. изд., т. 6) и сочувственно цитировал в статье «Отчее слово» (‹1918›; см. выше).
Мысль ставит чему-нибудь непонятному ей рыбачью сеть, уловляет его... — Ср.: «Истинный художник ‹...› есть тот ловец, о котором так хорошо сказал Клюев:
(«Отчее слово»; см. выше). Клюевская строка взята из стихотворения «Звук ангелу собрат, бесплотному лучу...» (1916; Ск-1, с. 103). Предшествующая строчка — «Но древний рыбарь-сон, чтоб лову не скудеть».
Начальная буква в алфавите а есть не что иное, как образ человека, ощупывающего на коленях землю. ‹...› Буква б представляет из себя ощупывание этим человеком воздуха. ‹...› Пуп есть узел человеческого существа, и поэтому, определяя себя или ощупывая, человек как-то невольно опустил свои руки на эту завязь, и получилась буква в. — Трактовка начертаний букв русского алфавита в соответствии с человеческими позами и жестами восходит к беседам Есенина с Андреем Белым осенью 1917 г. в Царском Селе, когда последний работал над своей «поэмой о звуке» «Глоссолалия» (вышла отдельной книгой лишь в 1922 году). В этом сочинении много места уделено «жестам звуков» человеческого голоса (Белый А. «Глоссолалия: Поэма о звуке», Берлин, 1922, с. 15–16).
Словесные определения «жестов» отдельных звуков сопровождаются в книге А. Белого соответствующими схематическими рисунками (например, для звуков «h (ха)», «r (эр)», «p (пэ)» (Белый А. «Глоссолалия...», Берлин, 1922, с. 16–18). Есенин по-своему истолковывает рисунки «поз» букв в «Ключах Марии».
Буква б ‹...› Поднятые руки рисуют как бы небесный свод, а согнутые колени, на которые он ‹человек› присел, землю. — Ср.: «...вот жесты “b”: отступя шаг назад, наклонив долу голову, приподымаю я руку над ней, уходя под покров» (Белый А. «Глоссолалия...», Берлин, 1922, с. 15). Иллюстрация к «жесту» звука «b» в книге Белого отсутствует; однако она есть (в авторском исполнении) среди сохранившихся рукописных материалов к «Глоссолалии» (РГБ, ф. 25, карт. 3, ед. хр. 12, л. 117). Это изображение звука «b» Белым и поза человека, «ощупывающего воздух», в поисках формы буквы «б» нарисованная Есениным в автографе «Ключей Марии», имеют несомненное типологическое сходство.
С. 201. ...в Данте, Гебеле, Шекспире и других художниках слова... — В этом ряду наименее известен писатель и теолог Иоганн (Иохан) Петер Гебель (Хебель; 1760–1826); о нем см. выше в наст. томе.
...эта мистическая песня человека ‹...› единственно от жажды впивала в себя всякую воду из нечистых луж сектантства вроде охтенских богородиц... — Имеется в виду петербургская домовладелица из крестьян Дарья Васильевна Смирнова, осужденная в марте 1914 г. Петербургским окружным судом по обвинению в совращении в «изуверную» секту лиц православного вероисповедания. Д. В. Смирнова была основательницей религиозной сектантской общины, искавшей «живого бога», то есть общины, близкой по характеру шелапутским общинам. В журнале «Заветы» (СПб., 1914, № 4, апрель, с. 79–88) был помещен очерк М. М. Пришвина о процессе «Охтенской богородицы» — «“Астралъ”». Этот журнал попал в поле зрения Есенина с 1913 г. (подробнее см.: Письма, 40), так что он вполне мог прочесть очерк Пришвина еще до своего первого приезда в Петроград.
...или белых голубей. — Об этой скопческой секте Есенин мог слышать от Н. А. Клюева, нередко рассказывавшего о своей жизни у «голубей» в ранней юности (см., в частности, его мифологизированную автобиографическую прозу «Гагарья судьбина» (1919) — журн. «Север», Петрозаводск, 1992, № 6, ‹июнь›, с. 151–152). Не исключено поэтому, что выражение «нечистые лужи сектантства» отразило скрытую полемику Есенина как с петербургскими интеллигентами-«богоискателями» (М. М. Пришвиным), так и с Н. А. Клюевым.
С. 201–202. ...он протянул ему, как прокаженному, руку и сказал: «Возьми одр твой и ходи». — Цитата из Нового Завета (Иоанн. V, 8).
С. 202. ...пахарь пробьет теперь окно не только глазком к Богу, а целым огромным ‹...› глазом. — Восходит к «Поэтическим воззрениям славян...»: «В нашем языке окно ‹...›, как отверстие, пропускающее свет в избу, лингвистически тождественно с словом око ‹...›; окно, следоват‹ельно›, есть глаз избы» (Аф. I, 158; выделено автором).
Звездная книга ‹...› теперь открыта снова. Ключ, оброненный старцем в море, ‹...› выплеснут золотыми волнами. — См. стих о старце, приведенный в первом разделе «Ключей Марии».
Завила кудри // Завила русы // ~ // Со воды узор // Сонимаючи. — Фольклорное происхождение этого текста очевидно, но источник его не установлен.
Вертоград (устар.) — виноградник, сад.
...рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где «избы новые, кипарисовым тесом крытые»... — Пересказ и прямое цитирование следующего места из стихотворения Н. А. Клюева «Поминный причит» (1915):
(в его кн. «Мирские думы», Пг., 1916, с. 23).
С. 202. ...где дряхлое время, бродя по лугам, ‹...› обносит ‹...›, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой. — Такую же образную картину «мужицкого рая» Есенин впервые создал в поэме «Отчарь» (1917): «Там дряхлое время, // Бродя по лугам, // Все русское племя // Сзывает к столам. // И, славя отвагу // И гордый твой дух, // Сычёною брагой // Обносит их круг».
С. 203. Но дорога к этому свету искусства ~ имеет еще целые рощи колючих кустов шиповника ~ в восприятии мысли... — Ср.: «...мы с тобой козлы в литературном огороде, и ‹...› в нем ‹...› есть немало ядовитых колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здравия ‹...› духовного...» (из письма Клюева к Есенину 1915 г. — Письма, 207).
...колесница, которая увозит пророка Илью в облака. — Ср.: «...вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, ‹...› и понесся Илия в вихре на небо» (4 Цар. II, 11).
...предки ‹...› не простыми завитками дали нам фиту и ижицу... — Первоначальный вариант: «...завитками византийского стиля». Эта оговорка указывает еще на один подспудный источник, побудивший автора «Ключей Марии» к разработке собственной концепции рождения русского алфавита, — на орнаментальные буквицы древнерусских рукописных книг, во множестве воспроизведенные, например, в Буслаеве 1917 и в атласах В. И. Бутовского (1870) и В. В. Стасова (1884, 1887).
...опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба... — В вышеупомянутой статье Н. А. Бердяева «О новом религиозном сознании», с которой, скорее всего, был знаком Есенин приводится цитата из труда Д. С. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский», отчетливо перекликающаяся с есенинскими словами:
«Надо полюбить землю до конца, до последнего края земли — до неба, надо полюбить небо до конца, до последнего края неба — до земли, и тогда мы поймем, что это не две, а одна любовь, что небо сходит на землю, обнимает землю, как любящий обнимает любимую (две половины, два пола мира), и земля отдается небу, открывается небу...» (цит. по кн. Н. А. Бердяева «Sub specie aeternitatis», СПб., 1907, с. 348; выделено автором).
С. 204. ...пятнадцатилетнему отроку, которого за его стихи Феб приказал выпороть. — Имеется в виду начало «Эпиграммы» А. С. Пушкина (1829):
...небо не оправа для алмазных звезд, — а ‹...› море... — Ср.: «Еще в первоначальной родине своей арии ‹...› легко могли уподобить небо — морю...» (Аф. II, 121).
...звезды ‹...› стаи рыб... — Ср.: «И заря, опуская веки, // Будет звездных ловить в них ‹реках› рыб» («Инония», 1918).
...поставить в хоровой чин, так же как поставлены по блеску луна, солнце и земля. — Еще в начале второго раздела рукописи «Ключей Марии» есть место со словами: «...орнамент слова, который “по блеску в мету” стал уже “в чин”...», затем вычеркнутое автором (полный текст этого места см. в разделе «Варианты» наст. тома). Здесь Есениным использована лексика и фразеология восьмой строфы стихотворения В. К. Тредиаковского «Парафразис песни пророка Аввакума» (‹1752›):
(Тредиаковский В. К. Сочинения, т. 1, М., 1849, с. 353). Первые четыре строки этой строфы первоначально предполагалось поставить эпиграфом ко второй части статьи (см. раздел «Варианты» наст. тома). Чин — устроенный порядок, обряд, устав.
...существо человека ‹разделяется› на три вида — душа, плоть и разум. — По наблюдению М. Никё, «Есенин излагает такую же ‹гностическую› концепцию человека, — микрокосма ‹по Есенину, “чаши космических обособленностей”: см. выше› с тройственным составом (плоть [sôma], душа [psukhê] и разум или дух [noûs, pneuma])» («Есенинский сборник», Даугавпилс, 1995, с. 26). Это ощущали и некоторые современники Есенина; так, В. Л. Львов-Рогачевский назвал терминологию образов в «Ключах Марии» «схематически-сектантской» (в его кн. «Имажинизм и его образоносцы: Есенин. Кусиков. Мариенгоф. Шершеневич», ‹М.›, 1921, с. 54).
С. 205. Образ ~ можно назвать ~ корабельным и ~ ангелическим. — Термин «корабельный» созвучен самоименованию хлыстовской общины: «Корабль плывет по морю житейскому, верующие корабельщики изображаются в песне под видом гостей-купцов» (Бирюков П. «Песни, псалмы и гимны русских сектантов, рационалистов и мистиков» — в кн.: «История русской литературы. Под ред. Е. В. Аничкова», М., 1908, т. 1, с. 398); к тому же и сами эти песни называются у хлыстов «корабельными». «Ангел» — один из учительских чинов у скопцов, ибо они очистили свою плоть и стали бесплотными, и, будучи ограждены такой благодатью, грешить уже не могут (см.: Иоанн Сергеев, свящ. «Изъяснение раскола, именуемого Христовщина, или Хлыстовщина» — «Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских при Московском университете», М., 1874, кн. 3, отд. V, с. 68).
Солнце — колесо, телец, заяц... — Из стихотворения Есенина «Нивы сжаты, рощи голы...» (1917): «Колесом за сини горы // Солнце тихое скатилось». Ср. также: «Кругловидная форма солнца заставляла древнего человека видеть в нем огненное колесо...» (Аф. I, 207; выделено автором; самое начало главы V «Поэтических воззрений...» — «Солнце и богиня весенних гроз»); «Санскр. gô ‹...›, сохранившееся в русском говядо, имеет следующие значения: бык, корова, небо, солнечные лучи...» (Аф. I, 653; выделено автором); «У нас до сих пор колеблющееся на стене отражение солнечных лучей от воды или зеркала называется игрою зайчика...» (Аф. I, 641; выделено автором).
Солнце — ‹...› белка. Тучи — ели... — Ср.: «Туча — ель, а солнце — белка // С раззолоченным хвостом» (начало стихотворения Н. А. Клюева «Смерть ручья» — «Ежемесячный журнал», Пг., 1915, № 8, август, с. 4).
Тучи — ‹...› корабли, стадо овец. — Ср.: «Представление облака, тучи — кораблем возникло одновременно с представлением неба — воздушным океаном...» (Аф. I, 552); «...арийское племя не только признавало в облаках небесное руно, но и сверх того олицетворяло их ‹...› резвыми овцами...» (Аф. I, 682; выделено автором).
Звезды — гвозди, зерна... — Ср.: «Греко-римское представление звезд блестящими головками гвоздей, вбитых в кристальный свод неба, доселе существует...» (Аф. I, 281); «Болгары сравнивают звезды с просом и зерновою пшеницею ‹...›: “синя риза и бройница, полна с просо и ченица”...» (Аф. II, 761; выделено автором).
...караси, ласточки. — По наблюдению Б. В. Неймана, «звезды-рыбы — такого образа не знают русские загадки, и мы напрасно стали бы его искать у Даля или Садовникова. ‹...› Схожего происхождения есенинская звезда-птица, часто поющая в его строках. То она слетит в кусты малиновкой журчащей ‹“Преображение”, 1917›; то она канет вниз, как ласточка ‹“Пришествие”, 1917› ‹...›. ‹...› Этого образа звезды не знают русские загадки» (сб. «Художественный фольклор», М., 1929, ‹вып.› 4/5, с. 208; выделено автором).
Ветер — олень, Сивка Бурка, метельщик. — Ср.: «...в Эдде четыре главные ветра олицетворены оленями...» (Аф. I, 640); «Буйные ветры, ходячие облака, грозовые тучи ‹...› — все эти различные явления на поэтическом языке назывались небесными конями. ‹...› Чудесный конь наших сказок называется сивка-бурка...» (Аф. I, 611, 616; выделено автором); «Ветры метут облака ‹...›, словно небесная метла в руках чародейных сил; ‹...›; оттого слова: ме(я)тель, заметь и метла происходят от одного корня ‹...›. Мы до сих пор удерживаем выражения: “вьюга метет”, “ветр заметает”...» (Аф. I, 569; выделено автором).
Дождик — стрелы, посев, бисер... — Ср.: «Поэтическая фантазия, сблизившая утренние лучи солнца ‹...› с “летучими” стрелами, то же самое уподобление допускала и по отношению к ‹...› шумно ниспадающему дождю, как это видно из ‹...› Слова о полку: ‹...› “быть грому великому, идти дождю стрелами”» (Аф. I, 490; выделено автором); «С небесною грозою язык тесно, нераздельно сочетал понятие посева. ‹...› Народная песня выражается о дожде: “Ой, на дворе дождик идет — // Не ситечком сеет, // Ведром поливает”» (Аф. I, 570–571; выделено автором); «...берется Вейнемейнен за струны кантелы, ‹...› и чудная музыка вызывает ‹...› слезы: они льются рекою по его лицу ‹...› и превращаются в светлые жемчужины» (Аф. I, 603).
...нитки. — Общеупотребительная поэтическая метафора; ср., например, со стихотворением Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (1828):
Радуга — лук, ‹...› дуга. — Ср.: «...поэтическая фантазия древнего человека сближала радугу с разнообразными предметами... ‹...› а) Радуга = лук, дуга, арка» (Аф. I, 349; выделено автором).
Радуга — ‹...› верея... — Ср. со стихотворением С. А. Клычкова «Радуга» (1913):
Данная часть «Ключей Марии» была написана в ноябре 1918 г., когда Есенин и Клычков не только часто общались, но и жили вместе (свидетельство Л. И. Повицкого: Восп., 2, 232). Стихи Клычкова цитируются также в конце «Ключей Марии» (наст. том, выше). Верея — столб, на который навешиваются ворота; косяк ворот (ср. у Есенина здесь же: «Радуга — ‹...› ворота...»).
Давид ‹...› говорит, что человек словами течет, как дождь, язык во рту для него есть ключ от души ‹...›. Мысли для него струны, из звуков которых он слагает песню Господу. — Ср.: «Я пролился, как вода...» (Пс. XXI, 15); «Излилось из сердца моего слово благое; ‹...› язык мой — трость скорописца» (Пс. XLIV, 2); «Пойте Господу песнь новую...» (Пс. CXLXIX, 1); «...хвалите Его на псалтири и гуслях. ‹...› ... хвалите Его на струнах и органе» (Пс. CL, 3, 4). Очевидно, Есенин дает здесь вольное изложение канонических текстов.
Соломон, глядя в лицо ‹...› Суламифи, ‹...› восклицает, что зубы ее «как стадо остриженных коз, бегущих с гор Галаада». — Ср.: «...волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; зубы твои, как стадо выстриженных овец...» (Книга Песни Песней Соломона, IV, 1–2).
...«на Немизе снопы стелют головами ~ костьми русьскых сынов». — В автографе «Ключей Марии» это место было написано без помарок и имело такой вид: «На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ цѣпы харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брези не бологомь бяхуть посѣяни, — посѣяни костьми русьскыхъ сыновъ». По характеру расстановки концевых знаков «ь» или «ъ» после согласных, написанию слова «русьскыхъ» и некоторых других слов, а также особенностям пунктуации в цитате установлено, что она была взята непосредственно из книги «Слово о полку Игоря», СПб., 1911, изд. 9-е, с. 12 (РКлБ, вып. I). Это подтверждается также есенинской правкой другого места из «Слова о полку...», сделанной в рукописи (см. ниже).
С. 206. ...египетского быка в небе... — Имеется в виду Мневис, божество египетской мифологии в виде черного быка, почитавшееся как живое воплощение бога солнца Ра, либо Апис, почитавшийся также и как бог плодородия; его воплощением был черный бык с особыми белыми отметинами.
...стрибожи внуци, «веють с моря стрелами»... — Первый вариант этого места в рукописи («...стрибоговы внуки вѣютъ съ моря стрѣлами на храбрыя полки Игоревы») соответствует фрагменту статьи Ф. И. Буслаева «Русская поэзия XI и начала XII веков»: «...стрибоговы внуки вѣютъ стрѣлами на полки Игоревы» (Буслаев I (1861), с. 382). Очевидно, он был написан по памяти, так как Есенин тут же выправил текст по указанной выше книге, что дало: «...стрибожи внуци “вѣють съ моря стрѣлами на храбрыя полкы Игоревы”» (выделено комментатором). Затем последние четыре слова цитаты были вычеркнуты.
...Эдгар По построил на нем ‹ангелическом образе› свое «Эльдорадо»... — Речь идет об одноименном стихотворении американского поэта Эдгара Аллана По (1809–1849) «Eldorado» (рус. пер. К. Д. Бальмонта — ‹1899›). Заголовок его — от названия мифической южноамериканской страны (El Dorado — по-испански «золоченый»), к XIX веку ставшей символом счастливого края, в который стремятся в мечтах.
...Лонгфелло — «Песнь о Гайавате»... — Указанное сочинение (в оригинале — «The song of Hiawatha») американского поэта Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807–1882) Есенин знал в переводе И. А. Бунина (1896–1903). По словам Е. А. Есениной, бунинский перевод был в личной библиотеке ее брата (сообщено Ю. Л. Прокушевым). «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло (без указания переводчика) значится в списках ГМЗЕ.
...Гебель — свой «Ночной разговор»... — В действительности стихотворение И. П. Гебеля (о нем см. выше в наст. томе), о котором здесь говорит Есенин, называлось «Die Verganglichkeit» («Тленность», рус. пер. В. А. Жуковского — 1816). Его перевод входил во все более или менее полные собрания сочинений В. А. Жуковского, не раз издававшиеся в России (в том числе в 1901–1917 гг.).
...Уланд — свой «Пир в небесной стороне»... — Имеется в виду стихотворение немецкого поэта Иоганна-Людвига Уланда (1787–1862) «Lied eines Armens» («Песня бедняка»; рус. пер. В. А. Жуковского — 1816). Есенин дает ему название по словам из последней строфы:
(в кн. И.-Л. Уланда «Избранные стихотворения в переводах русских поэтов», СПб., 1902 (РКлБ, сер. II, вып. XXIII), с. 3).
...Шекспир — нутро «Гамлета», ведьм и Бирнамский лес в «Макбете». — Упомянуты трагедии английского драматурга У. Шекспира. В первом явлении четвертого действия трагедии «Макбет» ведьмы пророчествуют главному герою: «Макбет не будет побежден, пока // Против него не двинется Бирнамский // Лес к Донсинану» (цит. по кн. Шекспира «Макбет: Трагедия в пяти действиях. Пер. М. В. Вронченко», СПб., 1902 (РКлБ, сер. II, вып. XXII), с. 69–70).
...«Стих о Голубиной книге»... — Об этом произведении см. выше.
...«Златая цепь», «Слово о Данииле Заточнике»... — Первое заглавие (другая его транскрипция — «Златая чепь») относится к сборникам XIV–XVI веков, содержащим статьи учителей церкви, отрывки из хронографов и патериков, а также постановлений церковных соборов; эти сборники являлись своеобразными хрестоматиями энциклопедического характера. «Словом о Данииле Заточнике» был назван в первой публикации 40-х годов XIX в. один из списков произведения XII–XIII вв., две различных редакции которого впоследствии получили названия — «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. Одним из первых исследователей «Златой цепи» и «Слова о Данииле Заточнике» был Ф. И. Буслаев, не раз ссылавшийся на эти сочинения и в работах, написанных им на другие темы (см., например, Буслаев I (1861), с. 588). Скорее всего, в «Ключах Марии» Есенин дал названия указанным сочинениям вслед за работами Буслаева.
Для Клюева ‹...› все сплошь стало идиллией гладко причесанных английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый порядок воинственных всадников. — О Николае Алексеевиче Клюеве (1884–1937) см. наст. изд., т. 1. Этот отзыв о творчестве Клюева схож с определением Есенина в письме Иванову-Разумнику: «Только изограф, но не открыватель» (конец декабря 1917 г., наст. изд., т. 6). Есенин сопроводил комментируемое суждение о Клюеве скрытой цитатой из стихотворения «Золотистого меда струя из бутылки текла...», принадлежащего другому поэту — О. Э. Мандельштаму. Ср.:
(Зн. тр., 1918, 8 июня (26 мая), № 222, под заглавием «Виноград»); на эту реминисценцию впервые указал Б. А. Филиппов (в кн.: Клюев Н. Соч. Т. 1, ‹Мюнхен›, 1969, с. 173).
С. 207. Оптина пустынь — Козельская Введенская Оптина пустынь Калужской епархии, центр русского старчества.
...он повеял на нас безжизненным кружевным ветром деревенского Обри Бердслея... ‹...› Уайльд в лаптях для нас столь же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице... — Есенин познакомился с творчеством английского художника-графика Обри Бёрдсли (1872–1898), вероятнее всего, по книгам «Обри Бердслей. Рисунки» и А. А. Сидорова «Обри Бердслей: Жизнь и творчество» (обе — М.: Венок, 1917). Издателями этих книг были Александр Мелетьевич (Мелентьевич) Кожебаткин (1884–1942) и Давид Самойлович Айзенштат (Айзенштадт; 1880–1947), которых Есенин узнал осенью 1918 г. (через несколько месяцев они стали компаньонами книжной лавки «Московской трудовой артели художников слова», организованной Есениным и А. Б. Мариенгофом).
А. М. Кожебаткин и (или) Д. С. Айзенштат могли обратить внимание поэта и на другие книги с иллюстрациями О. Бёрдсли, изданные в России, — в частности, на книгу Оскара Уайльда (1854–1900) «Саломея: Драма в одном действии» (СПб., ‹1908›). Кроме уайльдовского текста и рисунков Бёрдсли к нему, в нее вошли также статьи об авторе «Саломеи» (К. Бальмонта) и о Бёрдсли (С. Маковского). Знакомство Есенина с этой книгой подтверждается как упоминанием в «Ключах Марии» имен Уайльда и Бёрдсли в едином контексте, так и некоторыми лексическими и типологическими параллелями с упомянутой статьей С. Маковского (см. в кн. О. Уайльда «Саломея...», СПб., ‹1908›, с. 125–126).
...ночи-вставки он ‹Клюев›отливает в перстень яснее дней, а мозоль ‹...› вставляет в пятку, как алтарную ладанку. — Пересказ следующего места из стихотворения Н. А. Клюева «Товарищ» (1918): «Потемки шахты, дымок овина // Отлились в перстень яснее дней. // А ночи-вставки... // ‹...› // Как воск алтарный — мозоль на пятке...» (первая публикация — журн. «Пламя», Пг., 1918, № 27, 7 ноября, с. 2; о ней см. также наст. изд., т. 1). Появление здесь этой цитаты свидетельствует, кроме всего прочего, о том, что третий раздел «Ключей Марии» был написан не ранее 8 ноября 1918 г.
...«изрони женьчужну душу из храбра тела, чрез злато ожерелие»... — Цитата из «Слова о полку Игореве» (РКлБ, вып. I, СПб., 1911, изд. 9-е, с. 12).
Целитель Пантелимон (Пантелеймон, Пантолеон) — св. великомученик; готовился быть врачом, а впоследствии помогал всем больным безвозмездно; казнен в 305 г.
С. 207–208. Там о месяце говорят: «Сивко море перескочил, // Да копыт не замочил»; «Лысый мерин через синее // Прясло глядит». Роса там определяется таким словесным узором, как // «Заря-заряница, ~ Солнце скрало». — Примеры загадок и порядок их цитирования здесь те же, что и в статье Ф. И. Буслаева «Эпическая поэзия». Ср.: «Многие из них ‹загадок› весьма древни и отзываются периодом мифическим. ‹...› ... так, о месяце сербская загадка говорит: “Сивко море перескочил, а копыта не смочил”. То же представление и в нашей: “Сивый жеребец под вороты глядит”... ‹...› В загадке о росе: “Заря заряница, красная девица, к церкви ходила, ключи обронила, месяц увидел, солнце скрало” — тоже очевидны мифические образы как светил, так и зари, росы» (Буслаев I (1861), с. 34). Ср. также: «...наши загадки представляют месяц, блуждающий по ночному небу, конем: “Лысый конь у ворота загляда”, или: “Сивый жеребец (мерин) через ворота (прясла) смотрит”» (Аф. I, 597; выделено автором).
С. 208. Очертив себя кругом Хомы Брута из сказки о Вие... — Речь идет об эпизоде из повести Н. В. Гоголя «Вий» (1835) с участием главного героя.
...«проходящий в ночи»... — Вначале Есенин написал вместо «проходящий» — «приходящий», что указывает на источник этих слов более явственно: они восходят к притче Иисуса о пшенице и плевелах. Ср.: «...Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел...» (Мф. XIII, 24–25).
...в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства. — Ср. с суждением Ф. И. Буслаева о древнерусском орнаменте: «...он ‹...› усвоил себе от Византии еще XI века ту ветку с листиками, или византийский завиток, с которым не расставался русский писец и в XIV в., то влагая его в клюв птицы или в пасть животного чудовища, то завершая им их хвосты или украшая им же углы заставок и выступы заглавных букв. Это — та Ноева масличная ветка, которою русский орнамент непрестанно напоминал древней Руси обетованные края Царьграда, Солуня и Афонской горы» (Буслаев 1917, с. 36). Общий источник образа, использованного обоими авторами, — библейский миф о всемирном потопе: «По прошествии сорока дней Ной открыл ‹...› окно ковчега и ‹...› выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. ‹...› Голубь возвратился к нему в вечернее время; и вот, свежий масличный лист во рту у него: и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Быт. VIII, 6, 8, 11).
Маринетти, крикнувший клич войны... — Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), итальянский поэт и прозаик, создатель и теоретик направления футуризма в европейской литературе и искусстве, писал в «Первом манифесте футуризма» (1909): «Мы хотим прославить войну — единственную гигиену мира...» (сб. «Манифесты итальянского футуризма... Пер. В. Шершеневича», М., 1914, с. 7).
Нашим подголоскам Маяковскому, Бурлюку и другим, рожденным распоротым животом этого ротастого итальянца... — В автографе перечень фамилий футуристов начинался так: «Хлебник‹ову› ‹тут же зачеркнуто Есениным›, Шершеневичу ‹далее по тексту›». Русские футуристы — Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников (1885–1922), Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893–1942), Владимир Владимирович Маяковский (1893–1930), Давид Давидович Бурлюк (1882–1967) — последовательно подчеркивали, что в России футуризм возник независимо от Европы (подробнее см. в кн. В. А. Катаняна «Маяковский: Хроника жизни и деятельности», изд. 5-е, доп., М., 1985, с. 75, 86).
...движется, вещуя гибель, Бирнамский лес... — Образная параллель с эпизодом из трагедии У. Шекспира «Макбет» (см. также примеч. выше).
...повернув сосну кореньями вверх ‹...›, он ‹футуризм› ‹...› не нашел ‹...› даже маленькой лужицы, где б можно было окунуть корни... — Ср. с высказываниями участников дискуссии о футуризме в журнале «Голос жизни»: «Футуристическая вода свободно на нас хлынула и никого не залила. Образовалась небольшая лужа в низинах литературы, и в ней заквакали лягушки. Вот и весь результат столкновения стихий» (Д. Философов; журн. «Голос жизни», Пг., 1915, № 18, 29 апреля, с. 4); «Все формы бунта ‹русского футуризма›, казалось, соблюдены были ‹...›: и прошлое с небывалой жестокостью словесным пожаром в пепел превратили, ‹...›, все черты преступили, каноны с корнями повыворотили, — но только ‹...› энтузиазма бунтовщического во всем этом и не ночевало» (В. Ховин; журн. «Голос жизни», Пг., 1915, № 22, 27 мая, с. 8).
С. 209. ...подобно Андрее-Беловскому «Котику Летаеву», вытягивается из тела руками души... — Имеется в виду следующее место из романа Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева; 1880–1934; см. о нем наст. изд., т. 1) «Котик Летаев» (1915–1916): «Я нервный мальчик: и громкие звуки меня убивают; я сжимаюся в точку, чтоб в тихом молчаньи из центра сознания вытянуть: линии, пункты грани» (Ск-1, с. 32).
Когда Котик плачет в горизонт... — Ср.: «Плачу я под окном — в горизонт, а горизонт — ясновзорен...» (Ск-2, с. 40).
...когда на него мычит черная ночь... — Ср. с заключительной фразой пятой главы романа «Котик Летаев»: «Светлоногий день идет в ночь; чернорогая ночь забодает его» (Ск-2, с. 62).
...и звездочка слетает к нему в постельку усиком поморгать... — В романе А. Белого: «...самоцветная звездочка — мне летит на постель; глазиком поморгает, ‹...› усом уколется в носик...» (Ск-1, с. 62).
...между Белым земным и Белым небесным происходит некое сочетание в браке. Нам является лик человека... — «Дуализм» лирического героя Белого отчетливо проявлен в его стихотворении «“Я”» (декабрь 1917):
(Зн. тр., 1918, 4 апреля (22 марта), № 171). В сентябре 1918 г. А. Белый работал над трактатом «Кризис культуры», где вариант этого восьмистишия (также вошедший в текст трактата) получил на языке лирико-философской эссеистики такое толкование: «...“я”, разрываясь в себе, распинаясь в себе, посередине себя наблюдает огромную ночь: посередине ее стоит Солнце: но Самое Солнце — Круг Солнца — есть Лик, восходящий во мне...» (в его кн. «На перевале. III. Кризис культуры», Пб., 1920, с. 86; выделено автором). Похожие рассуждения Есенин, вероятно, слышал от самого Белого, с которым часто встречался осенью 1918 г.
...завершаемый с обоих концов ногами. Ему уже нет пространства, а есть две тверди. Голова у него уж не верхняя точка, а точка центра... — Во второй части «Ключей Марии» Есенин писал о человеке, который «захотел найти свое место в пространстве»: «Человек, идущий по небесному своду, попадет головой в голову человеку, идущему по земле. Это есть знак того, что опрокинутость земли сольется в браке с опрокинутостью неба. Пространство будет побеждено...» (см. выше в наст. томе).
Туловище человека ‹...› разделяется на два световых круга, где верхняя часть ‹...› подлежит солнечному влиянию, а нижняя — лунному. — Первый вариант этой фразы в рукописи: «Теософы не напрасно разделяют туловище человека на два световых влияния», — что проясняет источник данного суждения поэта. Ср.: «...Луна отделилась от Земли. Произошел великий переворот. ‹...› Человек ‹...› измени‹л› свою собственную вещественность. ‹...› Одна часть его с двумя органами движения превратилась в нижнюю половину тела ‹...›. Другая часть была как бы обращена вверх. Из двух других органов движения образовались зачатки рук. А органы, раньше служившие еще для питания и размножения, преобразовались в органы речи и мышления. Человек выпрямился. ‹...› Вся его низшая половина ‹...› попала под разумно-организующее влияние высших существ. ‹...› Описанные высокие существа обладают родством с Луною, они в известной мере лунные боги. ‹...› ... во второй верхней половине человека развилось нечто, на что вышеописанные высокие существа не имеют влияния. Над этой половиной приобретают власть иные существа. ‹...› Так подпадает человек двойному водительству. Своей нижней частью находится он под властью лунных богов, своей же образовавшейся личностью подпадает он водительству тех существ, которых объединяют под именем их вождя “Люцифера” ‹...›, что значит “носитель света”, почему в тайноведении эти существа обозначаются как “солнечные боги”» (Штейнер Р. Из летописи мира (Aus der Akasha-Chronik), M., 1914, с. 124–130; выделено в переводе).
...колесо нашего мозга... — Ср. с «умными сердечными колесами» А. Белого (в его кн. «На перевале. III. Кризис культуры», Пб., 1920, с. 84).
...он мог просунуться так же легко, как и верблюд в игольное ухо... — Образ из Нового Завета («...удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие»: Мф. XIX, 24).
Мист — согласно М. Никё, «это слово ‹...› соответствует французскому myste (в котором конечное е не произносится) и значит “посвященный [в тайну]”. Слова “мист” и “посвящение” С. Есенин употребляет на одной странице ‹“Ключей Марии”›» («Столетие Сергея Есенина», М., 1997, вып. III, кн. 1, с. 129; выделено автором). Термин «мист» постоянно употребляется в книге Р. Штейнера «Мистерии древности и христианство» (М., MCMXII ‹1912›), которая была в личной библиотеке Есенина (списки ГМЗЕ). Суждения поэта о Голгофе, следующие ниже, свидетельствуют об их связи с положениями указанной книги Штейнера (об Иисусовой Голгофе как мировой мистерии см. с. 115–116 «Мистерий древности...»).
...терновый венок и гвоздиные язвы. — Ср.: «И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову...» (Иоанн. XIX, 2); «Распялся еси мене ради, ‹...› гвоздьми пригвоздился еси...» (Блаженна, глас 4; поется в Великую Пятницу: «Православный богослужебный сборник», М., 1991, с. 283).
С. 210. Он ‹мист› знает, что идущий по небесной тверди, окунувшись в темя ему, образует с ним знак ‹...› креста... — Возвращаясь вновь к «лику человека, завершаемому с обоих концов ногами», Есенин, возможно, вспомнил такие слова А. Белого: «...стоящее в точке (“я” в “я”) есть оясненный лик круга Солнца; и лик, как бы там ни назвать этот лик — человеком воистину, сверхчеловеком иль Богом, — есть “я”; оно — “я” всего мира и “я” человека; явление связи двух “я” есть Христос» (в его кн. «На перевале. III. Кризис культуры», Пб., 1920, с. 84; выделено автором).
...на котором висела вместе с телом доска с надписью І. Н. Ц. І. — Ср.: «Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Иоанн. XIX, 19), а также изображения распятия Христова (например, в кн. «Феодоровский Государев Собор в Царском Селе», М., ‹1915›, с. 44).
...только через Голгофу он ‹Христос› мог оставить следы на ладонях Елеона (луны), уходя вознесением ко отцу (то есть солнечному пространству). — Своеобразный автокомментарий к словам из поэмы «Пришествие» (кстати, посвященной А. Белому):
...пр`оклятая смоковница, которая рождена на бесплодие. — «Факт со смоковницей» уже возникал в первой части текста (см.: Варианты). Восходит к Новому Завету; ср.: «И увидев ‹...› одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла» (Мф. XXI, 19). Возможно, появление этого образа в «Ключах Марии» опосредовано неоднократным обращением к нему А. Белого в его статье «Жезл Аарона». Ср.: «Слово-мудрость бежит по истории в олицетворениях растительной жизни (проповедь под смоковницей Будды, проклятие засохшей смоковницы)»; «Современный философ молчит иссушенным сознанием, проклятым, как сухая смоковница...» (Ск-1, с. 158, 172).
С. 210–211. ...сказал ‹...› Гамлет: «Черт вас возьми! ~ но не играть на нас». — Парафраза слов главного героя трагедии У. Шекспира (действие III, явление второе): «Черт возьми, думаешь ты, что на мне легче играть, чем на флейте? Назови меня каким угодно инструментом — ты можешь меня расстроить, но не играть на мне» (в кн. Шекспира «Гамлет». Пер. А. Кронеберга, М., 1911, с. 72).
С. 211. Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определенный круг звуков ‹...› мелодии или сонаты... ‹...› Так на этом пути она смела монархизм, так рассосала круги классицизма, декаданса, импрессионизма и футуризма, так ‹...› рассосет сонм кругов, которые ей уготованы впереди. — Судя по лексике, Есенин, скорее всего, полемизировал здесь со следующими суждениями, слышанными им от А. Белого: «...слова о “колесах”, “кругах” ‹...› мысли — слова об огромнейшей правде существ, обитающей даже в схемах рассудочной мысли. ‹...› Символы формируют природу души... ‹...› Символ сущего — круг; ‹...› цивилизация — линия; ‹...› в культуре, которую ждем, мы увидим соединение линий с кругами... ‹...› И — в сторону декадентов: ‹...› эволюционная философия породила кубизм, футуризм, где последние миги искусств только хаосы первого мига ‹...›; ‹...› линия описала лишь круг. ‹...› ... есть в классицизме кусок футуризма...» (в его кн. «На перевале. III. Кризис культуры», Пб., 1920, с. 70–71, 74–76; выделено автором).
Тысчу лет и Лембэй пущей правит... — Строки из стихотворения Н. А. Клюева «Беседный наигрыш, стих доброписный» (1915). Лембэй, или Лембой — от вепсского «lemboi› (черт).
...«убийца святей потира»... — Из стихотворения Н. А. Клюева «Товарищ» (1918; о нем см. выше). Потир — греческое название чаши, из которой православные причащаются Тела и Крови Христовой.
С. 212. ...православие, ‹...› посадив Святого Георгия на коня, пронзило копьем ‹...› змия... — Речь идет об известном сюжете «Чудо Георгия о змие»; одноименная икона воспроизведена, например, в кн. «Феодоровский Государев Собор в Царском Селе», М., ‹1915›, с. 51).
Они должны... высидеть на яйцах своих слов птенцов... — Ср.:
...кануть ‹...› в море Леты. — То есть «кануть в Лету».
...и прав ‹...› Сергей Клычков, говорящий нам, что «уж несется предзорняя конница...» — Сергей Антонович Клычков (1889–1937), поэт и прозаик, в 1918 г. вместе с Есениным участвовал в работе «Московской трудовой артели художников слова», под маркой которой вышла его книга «Дубравна» (1918). Стихотворение «На чужбине, далёко от родины...» (1914), процитированное здесь Есениным, входило в эту книгу. См. также выше.
...земля поехала, ‹...› эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам... — Ср. с обращением к «красному коню»:
С. 213. Иаковская лестница — образ из Ветхого Завета: «...лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит...» (Быт. XXVIII, 12–13). Названа по имени Иакова, одного из сыновей библейского патриарха Исаака — Иаков увидел эту лестницу во сне. Иаковская лестница — нередкий сюжет в православной и народной лубочной иконографии. См. также комментарий в т. 2 наст. изд.
«Ной выпускает ворона». — Ср.: «...Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды» (Быт. VIII, 6–7).
...масличная ветвь будет принесена только голубем... — См.: Быт. VIII, 11, а также примечание выше.
С. 289. То, что принесло оно ‹христианство› к нам в чаше своего имени, уже жило у нас религиозным течением братчины и побратимства. — Ср.: «Уже в глубокой древности, как видно из наших старинных богатырских песней ‹...›, существовало названое братство богатырей ‹...›. ‹...› Впоследствии этот обычай языческих времен принял религиозный характер и освящался церковным обрядом. Существовали для того в старых требниках особые последования» (примечания Н. И. Костомарова к публикации «Легенды о братстве» в сб. «Памятники старинной русской литературы, издаваемые гр. Г. Кушелевым-Безбородко, под ред. Н. Костомарова», СПб., 1860, вып. I, с. 126). Указанный сборник значится в примечаниях к т. 8 Собр. соч. А. М. Ремизова «Русальные действа» (СПб., 1912, с. 269) среди использованной автором в процессе сочинения литературы, — но лишь в экземпляре тома, подаренного Ремизовым Есенину: этот источник Ремизов вписал в печатный текст от руки (РГБ, ф. 393, карт. 2, ед. хр. 11).
С. 290. «Толковая псалтирь» — Псалтирь, снабженная толкованиями отцов церкви либо других законоучителей. Среди авторов толкований псалтири — Иоанн Златоуст, Василий Великий, протопоп Аввакум...
С. 294. Еще Гораций Флакк говорил о том, что «к человеческой голове приделать рыбье туловище, а вместо рук прикрепить хвостами двух змей возможно всякому»... — Речь идет о сочинении Квинта Горация Флакка (65–8 до н. э.) «Послание к Пизонам (Об искусстве поэзии)», прочитанном Есениным в той же книге В. К. Тредиаковского, из которой был взят первоначальный эпиграф ко второй части «Ключей Марии» (о нем см. выше). Перевод Тредиаковского изложен Есениным достаточно свободно. Ср.: «Если б живописец присовокупил к человеческой голове конскую шею, ‹...› собрав от всех животных члены так, чтоб прекрасная сверху женская особа имела мерским видом черный рыбий хвост... ‹...› Правда, я знаю, что живописцы и пииты всегда имели равную власть дерзать на все в своем художестве...» (Тредиаковский В. К. Сочинения, СПб., 1849, т. 1, с. 85–86). Скорее всего, Есенин знал и другой (уже стихотворный) перевод сочинения Горация, сделанный М. А. Дмитриевым (см. его, например, в кн. В. А. Воскресенского «Поэтика: Исторический сб. статей о поэзии», СПб., 1886, с. 72).
С. 300. ...предки их не простыми завитками византийского стиля, где в букве П, как в рамке, сидит голубок другой. — Уже на одной из первых страниц сборника трудов Ф. И. Буслаева о древнерусском орнаменте дана в качестве иллюстрации «Заставка из Евангелия XII–XIII в.» в виде буквы П как рамки, внутри которой писец поместил двух обращенных друг к другу головами птиц, очень похожих на голубей (Буслаев 1917, с. 4). См. также таблицу XXX атласа В. И. Бутовского (1870), где это изображение дано в цвете.
С. 302. Душа — кукушка... — Ср.: «Говоря о полете душ, они ‹песни› намекают на древнейшее представление их птицами. ‹...› — “Прилетай ко мне хоть кукушечкой, прокукуй мне свою волюшку!” (Тамбов. губ.)» (Аф. III, 219–221; выделено автором).
У Данте Бертрам, подняв свою отрубленную голову, говорит, [что] «вот фонарь, которым я освещал мою дорогу». — Тот же пример — в статье Ф. И. Буслаева «Эпическая поэзия»: «...глаз не только видит, но и освещает, светит, подобно солнцу или огню. Такое представление прекрасно выразил Данте в образе Бертрама-дель-Борнио: “Свою отрубленную голову держал он за волосы, неся в руке, будто фонарь, и голова смотрела на нас и говорила: увы мне! себе самой была светилом” (Inferno, XXVIII, 121–124)» (Буслаев I (1861), с. 10–11). Ср. также: «...прекрасный образ трубадура Бертрама даль-Борнио в Дантовом “Аде”: он несет за волосы свою собственную голову, отделенную от туловища, и освещает ею путь, как фонарем» (Аф. I, 165). Здесь идет речь о провансальском трубадуре Бертране де Борне (ок. 1140 — ок. 1215), который стал героем 28-й песни «Ада» итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321).
Быт и искусство (Отрывок из книги «Словесные орнаменты»)
Журн. «Знамя», М., 1921, № 9 (11), май, стб. 78–82.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту журнала с исправлением явных искажений, языковых погрешностей и уточнением написания некоторых собственных имен. Так, на стр. 217 вместо «употребление» печатается «уподобление»; на стр. 219 вместо «одежду имена» — «одежду имени». Кроме того, в цитате из «Весенней грозы» Ф. И. Тютчева вместо «промокающий кубок» восстановлено авторское «громокипящий кубок». На стр. 215 слово «мавров» заменено как явно ошибочное словом «тавров», ибо мавры, жители Северной Африки и юга Пиренейского полуострова, не имели никакого отношения к скифам и их эпохе, о которой идет речь в тексте. Имена собственные даются в соответствии с современным написанием: Пятнистый Олень, Красный Ветер и т. п.
Датируется 1920 г. на основании следующих фактов:
1. В «Заявлении», адресованном в Отдел Печати Моск. Совета рабочих и крестьянских депутатов на имя Н. С. Ангарского, Есенин просил выдать ему разрешение на печатание нескольких книг, в том числе книги «Словесная орнаментика» (объемом 3 печатных листа, тиражом 3000 экз.). В примечаниях к «Заявлению» Есенин, в частности, указывал: «“Словесная орнаментика” необходима как теоретическое показание развития словесных знаков, идущих на путь открытия невыявленных возможностей человека». В тех же примечаниях отмечалось: «Бумага для книг имеется». «Заявление» датируется до 18 февраля 1920 г. Книга «Словесная орнаментика» из печати не выходила (об этом подробнее см. т. 6 наст. изд.).
2. 5 октября 1920 г. газета «Известия ВЦИК...» в разделе «В театрах» сообщала: «В клубе поэтов... 8-го ‹октября› — доклад Есенина “Словесная орнаментика”».
3. В журн. «Знамя» (М., 1920, № 3–4 (5–6), май-июнь, с. 42) появилась статья В. Шершеневича «Слово-гранильня (Об имажинизме)». В примечании сообщалось: «К оценке “имажинизма” “Знамя” вернется в одном из ближайших номеров».
Статья Есенина, опубликованная через четыре номера после статьи В. Шершеневича, возвращала читателя к теме имажинизма и, скорее всего, подразумевалась в редакционном примечании журнала.
С. 214. Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство. Вне всяких влияний жизни и ее уклада. — Ср.: В. Шершеневич: «Поэты никогда не творят того, “что от них требует жизнь”. П. ч. жизнь не может ничего требовать. Жизнь складывается так, как этого требует искусство, п. ч. жизнь вытекла из искусства». (Шершеневич В. 2×2=5. М., 1920, с. 12–13); А. Мариенгоф: «Не искусство боится жизни, а жизнь боится искусства, т. к. искусство несет смерть и, разумеется, не мертвому же бояться живого» (Мариенгоф А. Буян-Остров. Имажинизм. М., 1920, с. 5).
...во мне еще не выветрился дух разумниковской школы... — Речь идет о влиянии идейно-эстетических взглядов Иванова-Разумника (псевд. Иванова Разумника Васильевича, 1878–1946) на духовную жизнь Есенина в период их общения в 1916–1918 гг. (подробнее см. коммент. к стих. «Осень» в т. 1 наст. изд., а также т. 6 наст. изд.).
...им ‹собратьям по течению› кажется, что слова и образ — это уже все. — Ср.: В. Шершеневич: «Лозунги имажинистической демонстрации: образ, как самоцель. Образ, как тема и содержание» (2×2=5, с. 18); А. Мариенгоф: «Одна из целей поэта — вызвать у читателя максимум внутреннего напряжения. Как можно глубже всадить в ладони читательского восприятия занозу образа» (Буян-Остров, с. 11–12); А. Авраамов: «Слово себе давлеет образно, ритмически, фонетически» (Воплощение. Есенин — Мариенгоф. М., 1921, с. 10). И. Грузинов: «Основное в поэзии — композиция образов. Весь прочий материал поэзии — евфонию, ритм — мы считаем второстепенным, подчиненным композиции образов» (Имажинизма основное, М., 1921, с. 7).
С. 215. ...к нашей скифской эпохе. — эпохе объединения древних народов в Северном Причерноморье во главе со скифами (VII в. до н. э. — III в. н. э.). В IV в. до н. э. они создали Скифское государство. В III в. н. э., после разгрома готами, скифы растворились среди других племен.
Вспомним тавров, будинов и сарматов. — Тавры — древнейшее население южной части Крыма (Таврии), XI в. до н. э. — IV в. н. э. С I в. н. э. смешались с соседними племенами (тавро-скифы и др.); будины — кочевые племена на территории между Днепром и Волгой (1-е тыс. до н. э.); сарматы — кочевые скотоводческие племена, в VI–IV вв. до н. э. жили на территории от реки Тобол до Волги. В III в. до н. э. вытеснили скифов из Северного Причерноморья, в IV в. н. э. были рагромлены гуннами.
Описывая скифов, Геродот... — Имеется в виду «История греко-персидских войн» древнегреческого ученого Геродота (ок. 485–425 гг. до н. э.), прозванного «отцом истории». Рассказывая в IV книге «Истории» о походе персидского царя Дария I на скифов, Геродот касается происхождения скифов, их верований и нравов (см. Геродот. История в девяти книгах. Т. I, кн. I–IV, М., 1885, с. 297–342; новейшее издание: Геродот. История в девяти книгах. М., 1972).
С. 217. Собратья мои не признают порядка и согласованности в сочетаниях слов и образов. — Ср.: В. Шершеневич: «Стихотворение не организм, а толпа образов; из него без ущерба может быть вынут один образ или вставлено еще десять»; «В “нет никаких законов” — главный и великолепный закон поэзии»; «Все дороги ведут в Рим — грамматика должна быть уничтожена... Поломка грамматики, уничтожение старых форм и создание новых, аграмматичность, — это выдаст смысл с головой в руки образа» (2×2=5, с. 15, 36, 43, 44); А. Мариенгоф: «Музыкальность — одно из роковых заблуждений символизма...» (Буян-Остров, с. 17).
С. 218. Даждьбог — см. примеч. к статье «Ключи Марии» в наст. т.
Громокипящий кубок с неба... — из последней строфы стихотворения Ф. И. Тютчева «Весенняя гроза» (1828, 1854):
Взбрезжи, полночь, луны кувшин... — из стихотворения Есенина «Хулиган» (1919) — см. т. 1 наст. изд.
С. 219. «Инония» — иная страна, страна счастья (см. «маленькую» поэму Есенина «Инония» и коммент. к ней в т. 2 наст. изд.).
С. 220. ...«Марьи зажги снега, заиграй овражки»... — из народного земледельческого календаря (день Марии Египетской — 14 апреля н. ст.).
...«Авдотьи подмочи порог»... — из народного календаря (день Евдокии — 14 марта н. с.). Ср.: «Евдокии — подмочи порог» (Даль В. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 875). «Евдокия — замочи подол. Евдокия — замочи подол — под порогом мокро» (Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. I, Пб., 1902, с. 152).
...«Федули сестреньки» — из народного календаря (день Агафьи и Федульи — 18 февраля н. с.).
У собратьев моих нет чувства родины... — Ср.: В. Шершеневич: «Национальная поэзия — это абсурд, ерунда; признавать национальную поэзию это то же самое, что признавать поэзию крестьянскую, буржуазную и рабочую. Нет искусства классового и нет искусства национального ‹...›. Можно прощать национальные черты поэта (Гоголь), но любить его именно за это — чепуха» (Шершеневич В. Кому я жму руку. ‹М., 1921›. На обл.: Шершеневич жмет руку кому).
У Анатоля Франса есть чудный рассказ об одном акробате... — Имеется в виду рассказ французского писателя Анатоля Франса (1844–1924) «Le jongleur de Notre-Dame». Публикации русских переводов: Акробат. Пер. А. и Е. Герцык. — В кн.: Франс А. Рассказы. М., 1906, Жонглер святой девы. Пер. Ю. Бромлей. — В кн.: Франс А. Перламутровый ларчик. М., 1907, Жонглер Богоматери. Пер. А. И. Куприна. — В кн.: Франс А. Рассказы, СПб., 1909, Простое сердце. Пер. Ан. Анненского. — В кн.: Франс А. Перламутровый ларец. СПб., 1911 и др.
Вступление ‹к сборнику «Стихи скандалиста»›
Сергей Есенин. Стихи скандалиста. Берлин: И. Т. Благов, 1923, с. 5.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту книги.
Датируется по авторской пометке под текстом.
С. 221. ...нечистых слов нет. — Ср. ответ Есенина на вопрос ‹о причине пристрастия к «крепким словам»›:
«Хочется бросить вызов литературному и всяческому мещанству! Старые слова и образы затрепаны, нужно пробить толщу мещанского литературного самодовольства старым прейскурантом “зарекомендованных” слов: отсюда выход в цинизм, в вульгарность, отсюда моя радость тому,
(Эльвич. Вульгаризация и порнография в современной художественной литературе. — Журн. «Худож. мысль». Харьков, 1922, № 10, 22–30 апреля, с. 7).
Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. — Ср.: В. В. Маяковский: «Каждое слово должно быть, как в войске солдат...» (статья «И нам мяса». — Газ. «Новь», М., 1914, 16 ноября, № 116).
Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые. — Это стихотворения: «Да! Теперь решено! Без возврата...», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», «...Сыпь, гармоника! Скука, скука...», «Пой же, пой! На проклятой гитаре...» В сборнике они напечатаны сплошным текстом, без разбивки на отдельные произведения. Цикл посвящен А. Кусикову (о нем см. т. 1 наст. изд.).
Благов Иван Терентьевич (1881–1942) — издатель произведений русских литераторов в Берлине. Среди авторов выпущенных им книг — С. А. Есенин, А. Н. Толстой, А. П. Каменский, А. Б. Кусиков.
Предисловие
Журн. «Красная новь», М.-Л., 1924, январь-февраль, № 1 (18), с. 273 (в статье А. Воронского «Литературные силуэты. Сергей Есенин» — отрывок с сокращением); полностью — Сергей Есенин, Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 77–79.
Печатается и датируется по черновому автографу (РГАЛИ).
Отрывок из «Предисловия», вошедший в статью А. К. Воронского, вызвал отклик поэта и критика А. А. Туринцева. Он писал в статье «Поэзия современной России»: «Нет, сколько бы ни извинялся Есенин... за “самый щекотливый этап” свой — религиозность, сколько бы ни просил читателя “относиться ко всем его Иисусам, Божьим Матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии”, для нас ясно: весь религиозный строй души его к куцему позитивизму сведен быть не может. И после того, как одержимое требование преображения, жажда обрести немедленно же обетованную Инонию чуда не произвели — отчаяния, богоотступничества нет. По-прежнему взыскует он нездешних “неведомых пределов”. Неизменна его религиозная устремленность, порыв к Божеству, меняется лишь внутреннее освещение, обновляется содержание. Собственно бунт Есенина символический изначальный Прометеев бунт» (журн. «Своими путями». Прага, 1925, № 6–7, май-июнь, с. 26).
С. 222. В этом томе собрано почти все... Большие вещи... отходят во 2-й том. — О каком конкретно собрании стихотворений и поэм в 2-х томах идет речь, не установлено. Вместе с тем попытки Есенина издать двухтомник своих произведений восходят к 1920 г. — о готовящемся издании 1-го тома под названием «Телец» сообщалось в рекламном объявлении, помещенном в сборнике «Плавильня слов» (вышел в феврале того же года). В феврале 1921 года издательство «Имажинисты» выпустило есенинскую книгу «Трерядница», где указывалось о подготовке к печати сборника «Ржаные кони» в двух книгах. Ни «Телец», ни «Ржаные кони» в свет не вышли, хотя оба издания были сверстаны (их верстки сохранились). Спустя год, 14 марта 1922 г., газ. «Известия ВЦИК...» (№ 59) поместила объявление о том, что издательством «Альциона» «печатаются и готовятся два тома Сергея Есенина “Ржаные кони”». И эти тома не появились. В октябре-ноябре 1922 года издательство З. И. Гржебина выпустило первый том «Собрания стихов и поэм» Есенина. Второй том не выходил.
По возвращении из-за границы Есенин вновь пытался осуществить замысел издания двухтомника своих произведений. Поскольку «Предисловие» находилось в распоряжении А. К. Воронского, имевшего непосредственное отношение к издательству «Круг», можно предположить: рукопись предназначалась для есенинского двухтомника, намечаемого к выпуску в «Круге». Издание по неизвестным причинам не состоялось. В конце 1924 г. «Круг» выпустил небольшой сборник Есенина «Стихи (1920–24)»; из «маленьких поэм» в книгу вошли: «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «На родине» («Возвращение на родину»), «Русь Советская».
...сказалось весьма сильное влияние моего деда... Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка. — О жизни Сергея Есенина в семье деда по матери Федора Андреевича Титова (1845–1927) и бабушки Натальи Евтихиевны Титовой (1847–1911) см. автобиографии поэта в т. 7 наст. изд., а также воспоминания троюродного брата поэта по линии матери Н. И. Титова «Школьные годы Есенина» (Сб. «Воспоминания о Сергее Есенине», М., 1965 г.) и книгу А. Панфилова «Константиновский меридиан», ч. 1. М., 1992, с. 120–123.
С. 223. ...протухшие настроения о Розах, Крестах... — вероятно, имеются в виду религиозно-философские настроения, затронувшие определенную часть интеллигенции России в начале XX в., особенно после поражения революции 1905–1907 годов.
«Роза и Крест» — название драмы Александра Блока, написанной в 1913 г.
...Я очень люблю и ценю Блока... — С первой встречи и до конца дней своих Есенин с большим уважением относился к А. А. Блоку. В автобиографиях, в беседах с современниками, в публичных выступлениях Есенин отзывался о Блоке как об одном из своих наставников, научившем его лиричности. «Блок... для меня... — говорил Есенин в 1923 г., — был и остался... главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете» (Пяст В. А. Встречи с Есениным. — Воспоминания-95, 386). Подробнее о взаимоотношениях Есенина и Блока см. следующие работы: Мурашёв М. П. А. Блок и С. Есенин (Страницы из воспоминаний). — Сб. «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество». М., 1926, с. 65–70; Правдина И. С. Есенин и Блок. — Есенин и русская поэзия. Л., 1967, с. 110–136; Блок и Есенин. ‹Выдержки из воспоминаний, дневников и записей поэтов и их современников›. Публикация и примечания Ю. Юшкина. — Газ. «Литературная Россия», 1980, 17 октября, № 42, с. 9, 16–17; Енишерлов В. Три года. Александр Блок и Сергей Есенин. — «В мире Есенина». Сб. статей, М., 1986, с. 449–456.
...‹на› наших полях он часто глядит как голландец. — Слово «голландец» здесь имеет метафорический смысл: намек на иностранное происхождение предков Блока.
Озирис (Осирис) — в египетской мифологии бог производительных сил природы, царь загробного мира.
Оаннес — в шумеро-аккадской мифологии первочеловек в образе полурыбы-получеловека.
Зевс — в греческой мифологии верховное божество, отец богов и людей, глава олимпийской семьи богов.
Афродита — в греческой мифологии богиня любви и красоты.
Афина — в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны.
Анкета ‹журнала› «Книга о книгах». К Пушкинскому юбилею. ‹Ответы›
Журн. «Книга о книгах», М., 1924, № 5–6, июнь, с. 18, 20, 23.
Печатается по подлиннику (РГАЛИ, ф. С. Д. Мстиславского) — машинописному бланку анкеты с ответами Есенина, вписанными карандашом.
Датируется годом журнальной публикации.
В № 4 журнала «Книга о книгах» за 1924 год в разделе «Литературная хроника» была напечатана следующая информация:
«125-летие со дня рождения А. С. Пушкина. “Книга о книгах” провела, в связи с 125-летием дня рождения Пушкина, анкету, результаты которой будут опубликованы в следующем номере журнала» (с. 62).
В очередном, № 5–6 журнала, в частности, сообщалось: «На разосланные и розданные анкетные листы ответов поступило всего 27 — на 200 распределенных анкет». Напечатано ответов на каждый из трех вопросов — 20, среди них, помимо Есенина, ответы А. Я. Аросева, Ф. А. Березовского, Н. К. Гудзия, П. С. Когана, С. А. Клычкова, Г. Лелевича, В. Л. Львова-Рогачевского, Н. К. Пиксанова, В. П. Полонского, А. И. Тарасова-Родионова, Д. А. Фурманова и других литераторов.
Из ответов на первый вопрос анкеты:
Клычков С.: «Чувство влечения к Пушкину, любви к его поэзии — как чувство голода, жажды: почти физическое чувство. В разгар футуризма и поэтического атеизма, Пушкин для меня всегда был образом утешения, успокоения и надежды, — надежды, что вся эта шумливость, заносчивость нелепости, самоутвержденная непростота и бездумье — пройдет без следа и заметы в сердце человечества. Если мы еще не вплотную подошли к Пушкину, то это будет завтра».
Фурманов Дм.: «Разумеется, сила впечатления от пушкинских творений не та, что была прежде, теперь, зрелому политически, многое представляется в ином свете. К примеру — “Капитанская дочка” прежде всего воспринималась почти исключительно как высоко-художественное произведение, без классового подхода, без соответствующего анализа. Теперь другое: видишь, что и движение народное, и сам Пугачев, и вообще все персонажи повести — даны под известным углом зрения, даны представителем определенного класса».
Гудзий Н.: «Русская литература в своих лучших достижениях всегда так или иначе жила с оглядкой на Пушкина. Современная — живет так же, и чем дальше, тем больше, в той мере, в какой прислушивается к пушкинскому предостережению:
‹...› Вообще в будущем наше стихотворство, видимо, будет тянуться к Пушкину больше, чем наша проза».
Из ответов на второй вопрос анкеты:
Клычков С.: «Сейчас на нем будут учиться, подражать его стилю, удивляться его поэтической манере — завтра литература будет жить Пушкиным».
Фурманов Дм.: «Пушкин не умрет, не пропадет, не сойдет со сцены. Часть произведений, видимо, отойдет в тень, но крупнейшие останутся перлами литературы, только марксистская критика углубленно их проанализирует и поставит на должное место в общем историческом процессе».
Из ответов на третий вопрос анкеты:
Аросев А.: «Не мудрствуя лукаво, дать надо Пушкина таким, как он есть, не делая из него популярных вырезок».
Березовский Ф.: «Интеллигенции можно дать Пушкина так, как печатали его до сих пор. Рабочему и крестьянину нужно давать Пушкина с особыми разъяснениями о роли его творчества для его эпохи, о его месте в русской литературе и о том значении, которое он имеет сейчас».
Клычков С.: «Издать Пушкина для народа».
Фурманов Дм.: «Не сырьем, а непременно снабжая предисловиями, примечаниями и т. д., открывая современному читателю глаза не только на художественную значимость пушкинских произведений, но и на значение их социально-политическое и общекультурное».
125-летие со дня рождения А. С. Пушкина широко отмечалось по всей стране. В газетах и журналах печатались статьи о жизни и творчестве великого сына России, поэты посвящали ему стихи. Есенин написал стихотворение «Пушкину» и читал его на юбилейном митинге в июне 1924 г. у памятника поэту на Тверском бульваре.
Сочинения Пушкина были настольными книгами Есенина и в Константинове, и в Москве. Несколько изданий произведений автора «Евгения Онегина» из домашней библиотеки Есениных хранится в фондах Государственного Музея-заповедника в Константинове. Среди них — однотомник избранных произведений Пушкина (изданный в 1899 г.) с подписью: «Эта книга принадлежала Александру Никитичу Есенину — отцу поэта. А. Есенина». Книга, бывавшая в руках Сергея Есенина с его детских лет...
О восприятии Пушкина Есениным в разные годы см. его стихи, письма, автобиографии в томах наст. изд.
См. также статьи: Жаворонков А. С. А. Есенин и русские писатели XIX–XX вв. — Учен. зап., Кировский пед. ин-т, вып. 49. Каф. лит., 1971, с. 109–136; Прокушев Ю. Пушкин и Есенин. — Журн. «Огонек», М., 1974, № 41, с. 24–26, № 42, с. 12–13; Цыбин В. Пушкинское в Есенине. — Журн. «Москва», 1975, № 10, с. 172–177; Турбин В. Традиции Пушкина в творчестве Есенина. «Евгений Онегин» и «Анна Снегина» — Сб. ст. «В мире Есенина», М., 1986, с. 264–284; Кошечкин С. Разговор с Всеволодом Рождественским о Есенине. Газ. «Автограф», М., 1995, № 8, с. 2.
В. Я. Брюсов
Альманах «Литературная Рязань», кн. 1, 1955 ‹фактически: 2-я половина января. 1956 г.›, с. 339 (в статье Ю. Прокушева «Сергей Есенин. Литературные заметки и публикации новых материалов»; с сокращением); полностью — Сергей Есенин. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 81–82.
Печатается по фотокопии недатированного автографа статьи (ИМЛИ).
Датируется по содержанию.
9 октября 1924 г. умер Валерий Яковлевич Брюсов (род. 1874). Это печальное известие застало Есенина в редакции тифлисской газеты «Заря Востока». «Он ходил мрачный, — вспоминал Н. К. Вержбицкий, — неопределенно и растерянно разводил руками, что-то говорил про себя... Вечером показал мне наскоро набросанную статью под названием “В. Я. Брюсов”. Мы сговорились с Сергеем так, что он эту явно недоговоренную статью положит в основу другой статьи, более обстоятельной.
Прошли дни. Есенину уже трудно было возвращаться к этой теме, его захватила работа над новыми вещами, и листки с наброском статьи, посвященной В. Я. Брюсову, остались лежать в одной из папок на моем письменном столе. Потом они исчезли, — очевидно, понравились кому-то из тех, кто с болезненной страстью коллекционирует автографы». (Вержбицкий Н Встречи с Есениным. Воспоминания. Тбилиси, 1961, с. 75–76).
Несколько по-иному излагает историю со статьей «В. Я. Брюсов» другой сотрудник газеты «Заря Востока» — Н. П. Стор (см. об этом в т. 4 наст. изд.). В письме к С. А. Толстой-Есениной из Тифлиса от 2 июня 1927 г. Н. П. Стор сообщал: «Я на днях случайно нашел в своем столе неопубликованную статью С. А., посвященную В. Я. Брюсову. Статья, по-видимому, написана в дни смерти В. Я.» (Письма, 449).
Автограф статьи до 1984 г. хранился у Н. П. Стора. Местонахождение подлинника в настоящее время неизвестно.
С. 227. Все мы учились у него. — Н. Вержбицкий вспоминал свою беседу с Есениным по поводу статьи: «“Все мы учились у Брюсова”, — повторил Есенин и добавил, что он сам вечерами сидел над томиком этого поэта и строку за строчкой разбирал структуру стиха...» (Вержбицкий Н. Указ. соч., с. 76).
...он внес в затхлую жизнь после шестидесятников и девятидесятников струю свежей и новой формы. — Н. К. Вержбицкий вспоминал: «Говоря о “затхлой жизни девятидесятников”, Есенин разумел период перед революцией 1905 года, когда среди русской интеллигенции впервые появился нездоровый вкус к декаденщине» (Вержбицкий Н. Указ. соч., с. 76).
...Гиппиус и Мережковского... — см. о них памфлет «Дама с лорнетом» и коммент. к нему в наст. томе.
Русский символизм кончился давно... — Н. К. Вержбицкий вспоминал: «С Брюсовым символизм канул в Лету окончательно», — на этой мысли Есенин не настаивал. Он согласился с тем, что “отец символизма” — Тютчев — жив и по сей день и будет еще долго жить, но только в силу своего огромного поэтического дара» (Вержбицкий Н. Указ. соч., с. 76).
После смерти Блока — Александр Александрович Блок умер 7 августа 1921 г. в Петрограде.
О, закрой свои бледные ноги. — Однострочное стихотворение В. Я. Брюсова (1894), впервые напечатано в третьем выпуске сборника «Русские символисты» (1895).
С. 228. Но вас, кто меня уничтожит... — строка из заключительной строфы стихотворения В. Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1904, 1905). Вся строфа читается так:
(Брюсов В. Я. Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1, М., 1973, с. 433)
...на таком литературном безрыбьи. — Н. К. Вержбицкий вспоминал: «“Литературное безрыбье”... это была постоянная тема Есенина в 1924 году. Он был невысокого мнения об уровне тогдашней поэзии и в ряде случаев ошибался в оценках» (Вержбицкий Н. Указ. соч., с. 77); см. также стихотворение Есенина «На Кавказе» (1924) — т. 2 наст. изд.
В статье упомянуты поэты: Семен Яковлевич Надсон (1862–1887), Василий Федорович Наседкин (1894/1895–1938), Иван Приблудный (Яков Петрович Овчаренко; 1905–1937); Родион Михайлович Акульшин (1896–1988).
Кончине поэта посвящено также стихотворение Есенина «Памяти Брюсова» (см. текст и коммент. к нему в т. 4 наст. изд.).
Дама с лорнетом (Вроде письма. На общеизвестное)
Журн. «Новый мир», М., 1957, № 5, май, с. 273–274 (в статье А. Жаворонкова «Два письма С. Есенина» — отрывки); полностью — Сергей Есенин. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 83–84.
Печатается по беловому недатированному автографу (ИРЛИ).
Текст написан фиолетовыми чернилами на 6 бланках с типографским штампом: «Центральный Комитет Азербайджанской Коммунистической Партии (больш.)». Подпись: «С. Е.»
Бланки, скорее всего, были получены Есениным от П. И. Чагина, секретаря ЦК КП Азербайджана, ответственного редактора газеты «Бакинский рабочий» во время пребывания поэта в Баку весной 1925 г. — с 30 марта по 25 мая.
Непосредственным поводом к написанию памфлета явилась статья З. Н. Гиппиус «Общеизвестное» в газете «Последние новости», Париж, 1925, 8 апреля, № 1520. В связи с этим, а также с учетом срока пребывания Есенина в Баку памфлет датируется кануном апреля — маем (не позже 25 мая) 1925 г.
Гиппиус Зинаида Николаевна (в замужестве Мережковская; 1869–1945) — поэт, прозаик, литературный критик. Псевдонимы: Антон Крайний, Роман Аренский, Антон Кирша, Л. Денисов, Лев Пущин, Товарищ Герман.
З. Н. Гиппиус занимала заметное место в русской литературе конца прошлого и первой половины нынешнего века. «Зинаида Гиппиус, — писала Мариэтта Шагинян, — была одной из самых умных и талантливых женщин, каких я знала в моей долгой жизни. Но ей не хватало широты понимания исторической действительности, не хватало простой человеческой любви к народу» (Шагинян М. Человек и время. История человеческого становления. М., 1980, с. 347).
«Я считаю З. Н. ‹Гиппиус› очень замечательным человеком, но и очень мучительным, — писал Н. Бердяев. — Меня всегда поражала ее змеиная холодность. В ней отсутствовала человеческая теплота. Явно была перемешанность женской природы с мужской, и трудно было определить, что сильнее» (Бердяев Н. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1990, с. 131).
С первых же дней после Октября З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский стали ярыми противниками нового строя, с озлоблением восприняли переход многих писателей на сторону революционной России. 11 января 1918 г. З. Н. Гиппиус записала в свои «Черные тетради» («Петербургский Дневник») «“за упокой” интеллигентов-перебежчиков» — всего 22 фамилии. Среди них: «Александр Блок — поэт, “потерянное дитя”, внеобщественник, скорее примыкал, сочувствием, к правым (во время царя), убежденный антисемит. Теперь с большевиками через лево-эсеров»; «Рюрик Ивнев — ничтожный, неврастенический поэтик»; «Серафимович... Пим. Карпов — всякая беллетристическая и другая мелкота из неважных»; «Ник. Клюев, Сергей Есенин — два поэта ‹из народа›, 1-й старше, друг Блока, какой-то сектант, 2-й молодой парень, глупый, оба не без дарования» (Звенья. Исторический альманах. Вып. 2. М. — СПб., 1992, с. 58–59).
В статье «Люди и нелюди» (газ. «Новые ведомости», веч. вып., Пг., 28 (15) марта 1918 г.) З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) к «безответственным писателям— “нелюдям”» — отнесла А. Блока, С. Есенина, В. Розанова за то, что каждый из них «примкнул к власти сегодняшнего дня».
В начале 1920 г. вместе с другом семьи Д. В. Философовым З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский эмигрировали за границу. Непримиримыми врагами Советской страны Мережковские оставались до конца их жизни.
И. В. Грузинов вспоминал: в 1922 году «перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:
— Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?
— А ты руки ему не подавай! — отвечает Сахаров.
— Я не подам руки Мережковскому, — соглашается Есенин. — Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!» (Восп., 1, 371–372).
Статья «Общеизвестное», по словам самой З. Н. Гиппиус, «это — краткая сводка, конспект современных разговоров, ставших “почти банальными”». «Конспект» имеет форму диалога двух эмигрантов — Оптимиста и Пессимиста. Разговор затрагивает вопросы политического самоопределения эмигрантской интеллигенции. За словами Оптимиста просматривается позиция самой З. Н. Гиппиус, что и было подмечено Есениным.
Несколькими неделями раньше «Общеизвестного» в той же газете была напечатана другая статья З. Н. Гиппиус (под псевдонимом: Антон Крайний). В этой статье о Есенине, в частности, говорилось: «...Есенин, в похмельи, еще бормочет насчет “октября”, но уж без прежнего “вздыба”. “Кудри повылезли”, и он патетически восклицает: “живите, пойте, юные!”» (Поэзия наших дней. — Газ. «Парижские новости», 1925, 22 февраля, № 1482).
С. 229. Когда-то я..., проезжая Петербург, зашел к Блоку. — В «Автобиографии» ‹1923› Есенин писал: «19 лет попал в Петербург проездом в Ревель к дяде. Зашел к Блоку...» Известно, что Есенин посетил Блока 9 марта 1915 г. (см. записку Есенина к Блоку и коммент. к ней в т. 6 наст. изд.). Каких-либо других данных о предполагаемой поездке Есенина в это время в Ревель (ныне — Таллинн) не обнаружено.
...Блок мне тут же заметил, вероятно, по указаниям Ив‹анова›-Разумника: «Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура». — Отношения между А. А. Блоком и З. Н. Гиппиус всегда были непростыми. Особенно они ухудшились и стали почти враждебными после Октября (см. Блок А. Записные книжки 1901–1920. М., 1965 и Блок А. Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. Автобиография 1915. Дневники 1901–1921. М.-Л., 1963, с. 19–426; Гиппиус З. Петербургский Дневник; а также статью А. В. Лаврова «“Рожденные в года глухие...” Александр Блок и З. Н. Гиппиус» — Журн. «Русская литература», СПб., 1995, № 4, с. 128–131.
Об Р. В. Иванове-Разумнике см. тт. 1 и 6 наст. изд.
...впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус — подозрительно. — Ср. строки Есенина в письме к Н. Н. Ливкину от 12 августа 1916 г.: «Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мережковские, гиппиус и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне..., я презирал их — и с деньгами, и с всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них» (т. 6 наст. изд.; см. там же письмо Есенина к А. Ширяевцу от 25 июня 1917 г.).
Об отношении Есенина к Мережковскому и Гиппиус в первые годы знакомства с ними рассказывали друзья поэта. Так, В. С. Чернявский писал: «Сам Мережковский казался ему сумрачным, “выходил редко, больше все молчал” и как-то стеснял его. О Гиппиус, тоже рассматривавшей его в усмешливый лорнет и ставившей ему испытующие вопросы, он отзывался с все растущим неудовольствием. “Она меня, как вещь, ощупывает!” — говорил он» (Восп., 1, 207). А. Б. Мариенгоф вспоминал о таком восклицании Есенина: «Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!..» (Восп., 1, 313).
Один только Философов... занимает мой кругозор... — Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — литературный критик и публицист. Есенин познакомился с ним в марте 1915 г.
«К Философову он относился хорошо, — замечал В. С. Чернявский о Есенине. — Тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно мягким тоном джентльмена» (Восп., 1, 207). При содействии Д. В. Философова в петроградском журнале «Голос жизни» (1915, 22 апреля, № 17, с. 13) были опубликованы четыре стихотворения Есенина — см. коммент. к стих. «Под венком лесной ромашки» в т. 1 наст. изд.
В первой книге Есенина «Радуница» (Пг., 1916) ему посвящено стихотворение «Выть» («Черная, потом пропахшая выть...», 1914). Известны письмо Есенина к Д. В. Философову (до 20 августа 1915 года) и дарственная надпись на «Радунице» (Пг., 1916) — см. тт. 6 и 7 наст. изд.
Сохранились две дарственные надписи и Д. В. Философова Есенину. Одна — на его книге «Неугасимая лампада. Статьи по церковным и религиозным вопросам» (М., 1912): «Сергею Александровичу Есенину с верой, что русская лампада не угаснет. Д. Философов. 12 апр. 1915 г.»; вторая — на книге «Старое и новое. Сборник статей по вопросам искусства и литературы» (М., 1912): «Сергею Александровичу Есенину на память о “несоленых” людях Питера от автора. 12 апр. 1915 г.» (ГЛМ. Библиотека).
Несмотря на негативное высказывание о Д. В. Философове в письме к Н. Н. Ливкину (см. выше), Есенин в последующие годы отделял его от Мережковских, что, в частности, видно и по памфлету.
...но все же Клюев и на него составил стихи... — эти стихи не обнаружены (сообщено С. И. Субботиным, исследователем жизни и творчества Николая Алексеевича Клюева).
В газете «Ecler» ‹точнее — «L’Eclair»› Мережковский называл меня хамом... — Вероятно, имеется в виду опубликованная в этой парижской газете 16 июня 1923 г. статья Д. С. Мережковского «Когда Россия возродится...» В этой статье содержится заявление автора, оскорбительное для А. Дункан и С. Есенина (см. письмо А. Дункан редактору газеты «L’Eclair» — Письма, 330–331).
Что это на Вас за гетры? — Об этом эпизоде, происшедшем зимой 1915–1916 г., вспоминал В. Б. Шкловский (1893–1984). В статье «Современники и синхронисты», опубликованной в журн. «Русский современник» (Л.-М., 1924, с. 233), он писал: «Есенина я увидел в первый раз в салоне Зинаиды Гиппиус, здесь он был уже в опале.
— Что это у вас за странные гетры? — спросила Зинаида Николаевна, осматривая ноги Есенина через лорнет.
— Это валенки, — ответил Есенин.
Конечно, и Гиппиус знала, что валенки не гетры, и Есенин знал, для чего его спросили. Зинаидин вопрос обозначал: не припомню, не верю я в ваши валенки, никакой вы не крестьянин.
А ответ Есенина обозначал: отстань и совсем ты мне не нужна.
Вот, как это тогда делалось!
Но спор весь шел об Октябрьской революции».
В более поздней публикации этот эпизод описан так:
«Есенина я видел первый раз у Зинаиды Гиппиус. Зинаида — подчеркнутая дама, с лорнетом, взятым в руку нарочно.
Она посмотрела на ноги Есенину и сказала:
— Что это за гетры на вас надеты?
— Это валенки.
Зинаида Гиппиус знала, что это валенки, но вопрос ее обозначал осуждение человеку, появившемуся демонстративно в доме Мурузи.... Валенки Есенина были демонстрацией... и обозначали неуважение к Гиппиус» (Шкловский В. О Маяковском. М., 1940, с. 169, 171).
О том же эпизоде, со слов Есенина, рассказывали в своих мемуарных очерках А. К. Воронский (Памяти Есенина: Из воспоминаний. — Журн. «Красная новь», М.-Л., 1926, № 2, февраль, с. 210); Г. В. Адамович (Есенин: К 10-летию со дня смерти. — Газ. «Последние новости», Париж, 1935, 26 декабря, № 5390).
Поэтесса И. В. Одоевцева (1895–1990) также вспоминала: «Как-то на каком-то чопорном приеме Гиппиус, наставив лорнет на его валенки, громко одобрила их: “Какие на вас интересные гетры!” Все присутствующие покатились со смеха.
Такие обиды не прощаются. И не забываются.
— Очень мне обидно было и горько, — говорит он. — Ведь я был доверчив, наивен...» (Встреча с Сергеем Есениным. — Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1971, 6 июня, № 22272).
С. 230. Потом Мережковский писал: “Альфонс...” А я ему отвечал устно... — В статье, опубликованной 16 июня 1923 г. в газете «L’Eclair», Мережковский обозвал Есенина «мужиком», добавив: «Сегодня его большевизм находит выражение в бесконечном пьянстве и скандалах...» (см. также письмо А. Дункан редактору газеты в изд.: Письма, 330–331); в этом же письме приводится одно из устных высказываний Есенина о Мережковском).
Альфонс — мужчина, состоящий на содержании у женщины, ставшее нарицательным имя персонажа драмы «Господин Альфонс» (1873) французского писателя Александра Дюма-сына (1824–1895). Первое представление пьесы Дюма в Москве происходило 3 октября 1874 г. Русский перевод пьесы был озаглавлен «Красавец» (еще одно название в переводе — «Мосье Альфонс»).
Лориган — марка изысканных духов, выпускаемых парижской фирмой Коти. В стихотворении «Мой путь», написанном в первые месяцы 1925 г., Есенин с сарказмом вспоминает о «салонном вылощенном сброде» и его «привычке к Лориган и к розам» (см. т. 2 наст. изд.).
Ведь вы в «Золотое руно» снимались так же в брюках с портрета Сомова. — Судя по всему, опубликованный в журнале «Золотое руно» (Пб., 1906, № 4) портрет З. Н. Гиппиус Есенин описывал по памяти. Автор портрета не К. С. Сомов, а Л. С. Бакст. «Гиппиус, — вспоминала М. С. Шагинян, — почти всегда принимала гостей сидя: верней, полулежа в своем большом кресле...» (Шагинян М. Указ. соч., с. 340). И на портрете З. Н. Гиппиус изображена сидя, в трико и чулках.
Лживая и скверная Вы. — Ср. строки из воспоминаний редактора парижского журнала «Современные записки» М. В. Вишняка: «За ум и острое, жалящее перо Гиппиус сравнивали со змием и даже с вульгарной “змеей подколодной”. Гумилев называл ее “больной жемчужиной”. Ремизов — “вся в костях и пружинах, устройство сложное, но к живому человеку никак”. Петербургские иерархи — “белой дьяволицей”. Даже друзья, сохранившие верность, — “ведьмой”...» (Вишняк М. В. Современные записки. Воспоминания редактора. СПб., 1993, с. 154).
Вы пишете: «Основа партии — общее утверждение ценностей». — Цитируемые Есениным слова — из статьи Гиппиус «Общеизвестное». Они произнесены Оптимистом в таком контексте: «Теперь принято бранить партийность. Я, напротив, приветствую ее и приветствовал бы наши партии, если бы... они были, действительно, партиями. Но и они страдали тем же недостатком: отсутствием реализма. При большой узости — настоящей дисциплины они не имели. Увы, наша а-реалистичная интеллигенция фатально придавала своим партиям — церковный характер, менее всего пригодный для жизни партии. Основа партии — общее утверждение ценностей, хотя и высоких, но относительных, а не абсолютных. Когда же относительное бессознательно подменяется абсолютным, это извращает принцип партийности, и партии делаются не партиями, а сектами. Отсюда их сдавленность, догматизм, отсюда бесконечное дробление и взаимная нетерпимость» (выделено автором).
Даже Шкловский помнит, что Вы говорили... — вероятно, эти слова Есенина связаны с последней фразой («...спор... шел об Октябрьской революции») цитируемого выше отрывка из статьи В. Шкловского «Современники и синхронисты» (1924). Фраза относится явно к другому, более позднему времени, другой встрече и разговору Есенина с З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским. На это косвенно указывает В. Шкловский в своем мемуарном очерке «И сегодня сегодняшний», написанном незадолго до кончины: «Вспомнил я это потому, что недавно прочел письмо Есенина о ссоре с Мережковским: он ссылается на меня, как на свидетеля» (В мире Есенина. Сб. статей. М., 1986, с. 633).
...и что опять пишете: «крайнюю хату», левую или правую, это безразлично, раз он художник. Такое время. — Эти слова в статье «Общеизвестное» произносит Оптимист, отвечая на вопрос Пессимиста, к какому самоопределению на пути интеллигенция — политическому: «Если угодно, и политическому тоже. Ведь понятие “политичности” очень широко в наше время. Даже обыватель а-политичен только умом; сердцем же политичен каждый. А увидите интеллигента, который жмется к стенке, вертится, “политикой, мол, не занимаюсь, моя хата с краю”, — знайте: это он либо уж наметил себе какую-нибудь “крайнюю” хату, левую или правую, либо, если не наметил, все равно в которой-нибудь автоматически окажется, и это без различия, будь он расхудожник... Такое время».
...(хотя Вы писали обо мне статьи хвалебные). — Известна одна «хвалебная» статья З. Н. Гиппиус о Есенине «Земля и камень» — в журнале «Голос жизни» (Пг., 1915, 22 апреля, № 17, с. 12; подписана псевдонимом: Роман Аренский). З. Н. Гиппиус, в частности, писала: «В стихах Есенина пленяет какая-то “сказанность” слов, слитость звука и значения, которая дает ощущение простоты... Никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие.... Есенин — настоящий современный поэт» (выделено автором).
Зинаиде Гиппиус был подарен один из первых экземпляров первой книги поэта «Радуница» (вышла из печати в конце января 1916 года) с надписью: «Доброй, но проборчивой Зинаиде Николаевне Гиппиус с низким поклоном. Сергей Есенин. 31 января 1916. Петроград» (газ. «Вечерний Харьков», 1995, 23 ноября, № 137 (7439) — в заметке Людмилы Тарасовой «“Радуница” остается в Харькове»).
См. также коммент. к стихотворению «Под венком лесной ромашки...» (1911) в т. 1 наст. изд.
...путешественники... с Бедекером. — Карл Бедекер (1801–1859) — известный составитель путеводителей по странам Европы. Его сыновья основали в Лейпциге (Германия) издательство, специализировавшееся на выпуске путеводителей (ср. название книги Ипполита Соколова — «Бедекер по экспрессионизму». ‹М.›, 1920).
‹О резолюции ЦК РКП(б) о художественной литературе›
«Новая вечерняя газета». Л., 1925, 6 июля, № 93. (В рубрике: «Писатели о резолюции ЦК РКП о художественной литературе»).
Автограф неизвестен.
Печатается и датируется по первой публикации.
Резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» была принята 18 июня 1925 г. и опубликована в газете «Правда» 1 июля того же года (№ 147). В этом документе был подведен итог литературно-политической борьбы, развернувшейся в первой половине 20-х годов (подробнее см. антологию «В тисках идеологии». Сост., вступ. статья Карла Аймермахера. М., 1992).
Помимо Есенина, о резолюции ЦК РКП(б) на страницах этой же газеты высказались: П. С. Коган (№ 90), Г. С. Лелевич (№ 93), А. В. Луначарский (№ 98).
С. 231. Это не то, что декларация напостовцев. — Скорее всего, здесь имеется в виду заметка «От редакции», напечатанная в четвертом, ноябрьском, номере журнала «На посту» за 1923 г. В ней говорилось: «Мы обнаружили с достаточной определенностью, что ряд наших газет и журналов, наших издательств и руководящих товарищей оказались плененными чуждой революционному пролетариату группой литературных лжепопутчиков, ни в какой мере не способных отражать пафос и героизм революции, не организующих волю и не дисциплинирующих сознание молодого революционного класса. ‹Вся фраза выделена черным шрифтом. — Сост.›.
“На посту”, объединяющий вокруг себя наиболее свежие партийные литературно-публицистические силы, не мог пройти спокойно мимо всех этих недопустимых и для коммунистической совести неприемлемых явлений. Решительно и твердо вступил “На посту” в бой и, не жалея ни пороху, ни сил, стал нащупывать противника и целить в него в упор.
А на войне, как на войне! ‹выделено ред. журнала›.
Голос груб, движенья резки, бой беспощаден, патронов не жалко и пленные — излишни» (стб. 6).
Но особенно нравится мне часть, касающаяся литературы «попутчиков». — Речь идет о параграфе 10-м резолюции, где, в частности, говорится: «Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним ‹попутчикам›... Партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам...» («Правда», 1925, 1 июля, № 147). Ср. заявление редакции журнала «На посту» (1923, № 2–3, сентябрь-октябрь, стб. 1–2):
«Мы заявляем: самая беспощадная борьба с мещанским и клеветническим искажением революции в литературе, неустанное разоблачение мелко-буржуазных литературных уклонов в нашей среде, обоснование и защита пролетарской литературы, вот — единственная линия, продолжающая славные традиции нашей партии».
...мне... близки наши литературные критики тов. Троцкий и тов. Воронский. — Ср. строки в «Резолюции 1-й Всесоюзной конференции пролетарских писателей (По докладу тов. Вардина)»: «Троцкий и Воронский не имеют никакого представления о том, каким путем создается общечеловеческое социалистическое искусство» («Правда», 1925, 1 февраля). О них см. тт. 2 и 3 наст. изд.
А не вполне ясен мне параграф 8 резолюции, особенно вопрос о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм. — Среди вопросов, связанных с политикой руководящей партии пролетариата в области художественной литературы, в Резолюции ЦК РКП(б) названы, в частности, «вопросы: соотношение между пролетарскими писателями, крестьянскими писателями и так называемыми «попутчиками» и другими; политика партии по отношению к самим пролетарским писателям; вопросы критики; вопросы о стиле и форме художественных произведений и методах выработки новых художественных форм...». По мысли Есенина, последние из названных вопросов — дело исключительно творческой личности.
‹Ответ редакции «Новой вечерней газеты»›
«Новая вечерняя газета». Л., 1925, 18 ноября, № 208 (в рубрике: «Как живется нашим писателям»).
Автограф неизвестен.
Печатается и датируется по газетной публикации.
В редакционном предисловии к публикации говорится:
«Комиссия по улучшению правового и материального положения писателей разослала анкету с 50 вопросами, касающимися условий, в которых протекает работа писателя.
Каково ваше материальное положение?
С этим вопросом обратился наш сотрудник к целому ряду известных писателей.
Были получены следующие ответы:
Сергей Есенин (поэт)
‹далее идет текст ответа›».
Вслед за есенинским в газете помещены ответы Ю. Либединского, В. Вересаева, Ал. Вознесенского, И. Бабеля, Демьяна Бедного.
В. Вересаев, в частности, ответил: «Хотелось бы, чтобы писателей уравняли в правах с рабочими и служащими и работу их признали бы не менее полезной, чем достижения рабочего производительного труда. То, что профессия писателя приравнена к вольной профессии, создает многие неудобства, хотя бы в смысле квартирной платы и т. д.».
И. Бабель: «Обычно распространено мнение: какой бы высокий гонорар ни получали писатели, но если не халтурить, то жить нельзя. Если писать очень долго, очень медленно, когда действительно есть что сказать, — то производительность невелика. Но странная вещь! Многие из писателей, начавших халтурить, потеряли, так сказать, свой удельный вес, их новые произведения отличаются легковесностью. Известно, что иногда фунт хорошего товара дороже, чем пуд товара среднего качества. Я не халтурю, поэтому, может быть, я зарабатываю больше, чем другие. Я бы крикнул клич: “Товарищи-писатели, не халтурьте, вы теряете время и заработок!”».
Демьян Бедный: «До сих пор ни на одну анкету не отвечал. А вообще говоря — жаловаться мне не на что».
С. 233. Хотелось бы, чтобы писатели пользовались хотя бы льготами, предоставляемыми советским служащим. — Льготы для советских служащих определялись тогда постановлениями Совета Народных Комиссаров. Так, например, для инженерно-технических работников постановление СНК от 25 августа 1921 г. предусматривало «максимально-возможное повышение уровня денежной и натуральной оплаты на основе прожиточного минимума... надлежащие жилищные условия... с правом на дополнительную комнату для домашних занятий...» (Систематическое собрание законов РСФСР, действующих на 1-е января 1928 г. 7 ноября 1917 г. — 31 декабря 1927 г. Т. 1, М., 1928, с. 891).
‹О Глебе Успенском›
Журн. «Нева», М.-Л., 1955, № 3, июнь, с. 169 (в статье Д. Золотницкого «Из ранних стихов Сергея Есенина»; не полностью); полностью — Сергей Есенин. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 62.
Печатается по автографу (ИРЛИ).
Запись эта — фрагмент более обширной рукописи Есенина, связанной с работой петроградского критика и публициста Льва Максимовича Клейнборта (1875–1950) над книгой отзывов читателей из народа об известных русских писателях. «Объектом моего внимания, — отмечал Л. М. Клейнборт в своих воспоминаниях (1926), — были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Гл. Успенский. Разумеется, я не мог не заинтересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах» (Восп., 1, 171).
Судя по авторской нумерации, рукопись состояла из шести листов, из них сохранился только последний — шестой. Этот отрывок и печатается в наст. изд.
Датируется 1915 г. на основе воспоминаний Л. М. Клейнборта о том, что отзывы о писателях Есенин сделал вскоре после первого приезда в Петроград (Восп., 1, 168–171). Кроме того, судя по письмам С. Фомина, Г. Деева-Хомяковского, С. Ганьшина и др. (ИРЛИ), сбор отзывов о писателях, начатый Клейнбортом в 1914 г., в 1915 продолжался.
Как писал Клейнборт, Есенин, «без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов. Но читал он, в лучшем случае, беллетристов. И то, по-видимому, без системы. Так, Толстого он знал преимущественно по народным рассказам, Горького — по первым двум томам издания “Знание”, Короленко — по таким вещам, как “Лес шумит”, “Сон Макара”, “В дурном обществе”. Глеба Успенского знал “Власть земли”, “Крестьянин и крестьянский труд” (Восп., 1, 171–172).
О содержании всех шести листов рукописи Есенина Л. М. Клейнборт вспоминал:
«Писал же он вот что.
О Горьком он отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях-босяках. По его мнению, самый тип этот возможен был “лишь в городе, где нет простору человеческой воле”. Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит все то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.
Из произведений Короленко Есенину пришлись по душе “За иконой” и “Река играет”, прочитанные им, между прочим, по моему указанию. «Река играет» привела его в восторг. “Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике”, — писал он. Короленко стал ему близок “как психолог души народа”, “как народный богоискатель”.
В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало — это “превосходство земледельческой работы над другими”, которое проповедовал Толстой, религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально. Но оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни он выделял Успенского из группы разночинцев-народников. Как сын деревни, вынесший долю крестьянства на своих плечах, он утверждал, что подлинных крестьян у них нет, что это воображаемые крестьяне. В писаниях их есть фальшь. Вот у Успенского он не видел этой фальши. Особенно пришелся ему по вкусу образ Ивана Босых. Он даже утверждал, что Иван Босых — это он. Ведь он, Есенин, был бы полезнее в деревне. Ведь там его дело, к которому лежит его сердце. Здесь же он делает дело не свое. Иван Босых, отбившийся от деревни, спился. Не отравит ли и его город своим смрадным дыханием!
...Все это было малограмотно, хаотично. Но живой смысл бил из каждого суждения рыжего рязанского паренька» (Восп., 1, 172–173).
Рассказ В. Г. Короленко «За иконой» (1887) написан на основе подлинных впечатлений писателя, полученных во время его паломничества с толпой богомольцев в Оранский монастырь, что находился в пятидесяти верстах от Нижнего Новгорода. Из этого монастыря каждое лето приносили в Нижний чудотворную икону. Ее встречали и провожали «кучи разряженных обывателей и обывательниц», деревенский люд из окрестностей и отдаленных сел.
В рассказе В. Г. Короленко «Река играет» (1892) тогдашних читателей привлекла колоритная фигура ветлужского перевозчика Тюлина. «Не похож был лентяй-ветлужанин на литературного мужичка, — писал А. М, Горький, — и в то же время убийственно похож вообще на русского человека, героя на час, в котором активное отношение к жизни пробуждается только в моменты крайней опасности и на короткий срок» (Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962, с. 115).
Упомянутый в воспоминаниях Л. Клейнборта образ Ивана Босых — образ крестьянина Ивана Петрова по прозванию «Босых» из книги очерков Г. И. Успенского «Власть земли» (1882).
С. 234. Для того, чтобы познать народ, не нужно было ходить в деревню. Успенский видел его и на Растеряевой улице. — В очерках «Нравы Растеряевой улицы» (полное издание — 1883) Г. И. Успенский с глубоким сочувствием и болью рассказал о жизни «обглоданного» населения провинциального захолустья — фабричных ремесленников, тульских оружейников, разного городского люда.
‹О сборниках произведений пролетарских писателей›
Альм. «Лит. Рязань», кн. 2, 1957, с. 281–283 (в ст. Юрия Прокушева «Родина и революция в творчестве Есенина. Литературные заметки» — отрывки); полностью — Есенин Сергей. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 69–73 (с неточностями).
Печатается по недатированному автографу (ИМЛИ). Автограф размещен на 12 листах и выполнялся, видимо, в три приема, так как л. 2-й (л. 1-й не сохранился) написан фиолетовыми, лл. 3–8-й черными, лл. 9–12-й красными чернилами. Некоторые вставки в 2–3 слова внесены как черными, так и красными чернилами.
Автограф вместе со строками из стихотворений поэтов исполнен по старой орфографии.
Судя по штампу, рукопись находилась в Музее Есенина при Всероссийском Союзе писателей (Москва, Дом Герцена — Тверской б-р, 25).
В статье рассматриваются, а также фрагментарно цитируются без указания источников отдельные произведения из следующих изданий: «Сборник пролетарских писателей. I». С предисл. М. Горького. Под ред. Н. Сереброва. СПб., Прибой, 1914; «Сборник пролетарских писателей». Под ред. М. Горького, А. Сереброва и А. Чапыгина. Пг., Парус, 1917; «Завод огнекрылый. Сборник стихов» (на обл.: Сборник пролетарских поэтов), М., изд. Пролеткульта, 1918 (с элементами старой орфографии). Цитируемые в статье строки из стихотворения В. Кириллова «Мы» Есенин, возможно, взял из журнала «Грядущее» (Пг., 1918, № 2, май, с. 74) или из книги автора «Стихотворения. 1914–1918-й г.», Пб.‹, 1918›. Скорее же всего, Есенин ознакомился с этим произведением в сборнике «Литературный альманах», Пб. ‹на обл.: Пг.›, изд. Пролеткульта, ‹1918›, где напечатан также рассказ «Детство Кузьки» пролетарского писателя П. Бессалько, упоминаемого в статье Есенина.
Датируется 1918 г. — временем выхода указанных сборников (второе издание «Завода огнекрылого» (М., 1919), напечатанное по новой орфографии, не учитывается).
С. 235. ...Горького брызнуть водою старого, но твердо спаянного кропила. — Видимо, в утраченной части листа (л. 1 рукописи) речь шла о «Сборнике пролетарских писателей. I» (1914) и предисловии к нему Максима Горького. В этом предисловии, в частности, говорилось: «...Кто знает будущее — возможно об этой маленькой книжке со временем упомянут как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы».
Жизнь любит говорить о госте... — Ср. строки из «маленькой поэмы» Есенина «Преображение» (ноябрь 1917):
...идет как жених с светильником «во полунощи». — Имеется в виду библейский сюжет — притча о десяти девах и женихе (Матф. XXV, 1–12; в шестом стихе говорится: «Полунощи же вопль бысть: се жених грядет, исходите в сретение его»).
Сборник пролетарских писателей ярко затронул сердца своим первым и робким огнем лампады... — Имеется в виду «Сборник пролетарских писателей. I» (1914). В книгу, в частности, вошли произведения следующих поэтов и прозаиков: М. Герасимова, А. Поморского, Л. Зилова, М. Артамонова, Н. Чердынцева, Самобытника, Н. Рыбацкого, Л. Котомки.
Сборник вызвал благожелательные отзывы как в центральной, так и периферийной печати. Тотчас же по его появлении в книжных магазинах газ. «Трудовая правда» (СПб., 1914, 10 июня, № 11) напечатала краткую заметку под заглавием: «Первая ласточка». После перечисления авторов сборника в заметке говорилось: «Сегодня... мы поздравим товарищей читателей с книгой, о которой они любовно могут сказать: “это — плоть от плоти нашей и кость от костей наших”». В газете «Рабочий» (СПб., 1914, 23 июня, № 8) появилась рецензия на издание, подписанная: «М. Калинин» (псевдоним К. Еремеева?). В ней, в частности, отмечалось: «Из сотрудников “Первого пролетарского сборника” 15 писателей находятся в тюрьме и ссылке... Ни один класс в современной России не имеет поэтов, пишущих в тюрьмах, на далеком севере, в ссылке... Только пролетариат создает таких борцов и вечно-юных и жизнерадостных художников-поэтов. Даже тюремные песни пролетарских поэтов проникнуты не отчаянием, а мощным порывом».
«В поэтах сборника (не во всех) сказалось острее, чем в беллетристах, что они — взыскующие града, — писал рецензент журнала «Вестник знания» (Пг., 1914, № 7, декабрь, с. 472). — В отношении формы поэты, как и беллетристы, стоят на среднем уровне ‹...› Но вот у Герасимова проступают черты индивидуальности. Он довольно ярко и оригинально отразил в своих стихах, как происходит разрыв с родной деревней, и через оторванность от прежней милой почвы, от самого себя, от своей души, совершается постепенно переход в другой душевный строй — души крестьянина-пахаря в душу рабочего ‹...›.
Пролетарский сборник — это только первые, еще слабые, взмахи крыльев к творческому лету. Но хоть нет в нем ни «нового писателя», ни «нового слова», однако в самом факте его появления есть уже требовательный намек на то и на другое» (Н. В. Голиков. «Взыскующие града»).
Тепло приветствовали сборник также газеты «Заря Поволжья», «Утро Сибири» и другие издания.
...на страницах этих обоих сборников... — т. е. на страницах «Сборника пролетарских писателей. I» (1914) и «Сборника пролетарских писателей» (1917).
...в сады железа и гранита пришли обвитые веснами на торжественный зов гудков... — вольное изложение строк первой строфы стихотворения М. Герасимова «В городе» («В сады железа и гранита...»), напечатанного в «Сборнике пролетарских писателей. I» (1914). Строфа читается так:
На древних Дагинийских праздниках... (может быть — Дагонских) — на праздниках в честь Дагона, верховного божества, бога войны у филистимлян (Палестина, побережье Средиземного моря, конец 2-го — начало 1-го тыс. до н. э.). Филистимляне владели тайной плавки и обработки железа, обладали монополией на изготовление оружия (см.: Библия. Первая книга царств, XIII, 19–22). Отсюда — состязание на мечах и копьях. Под влиянием греков филистимляне ввели в обычай проведение состязаний поэтов, а также хоров, исполнявших дифирамбы.
С. 236. ...довольно громкие, но пустые строки поэта Кириллова... — далее сокращенно цитируются строки из второй строфы стихотворения В. Т. Кириллова «Мы» (декабрь 1917 г.). В «Литературном альманахе» ‹1918› вся строфа читалась так:
В связи с третьей строкой этой строфы член Художественной коллегии Пролеткульта Иер. Ясинский писал: «Рафаэль — велик и несравненен, а все, что “под Рафаэля” — уже второй и третий сорт...
Кстати, вспоминается, как лет тридцать с лишком назад Репин разносил Рафаэля и как недавно наш поэт тов. Кириллов провозгласил, что мы “сожжем Рафаэля”, и за это газета “Новая Жизнь” обрушилась на него со свойственным ей мелкомыслием. Разумеется, Репин в свое время, и т. Кириллов в наши дни имели в виду не буквальное уничтожение Рафаэля, а разрушение рафаэлевщины, т. е. упразднение художественного рабства, вырождающегося непременно всегда в безнадежное безвкусие или художественный идиотизм». (Ясинский Иер. Выставка автодидактов. — Журн. «Грядущее», Пг., 1918, № 4, июнь, 2-я с. обложки).
С. Лешенков ‹С. Клычков›, приведя строки из стихотворения М. Герасимова «Мы» (сб. «Завод огнекрылый», с. 19), —
— писал: «Да, это не поруганный Рафаэль ради еще неведомого “Завтра”, это “не искусства цветы”, растоптанные беспощадным трактором Революции, — здесь, на развалинах старого экономического уклада заревеют новым светом все прекрасные достижения человеческого гения...» (‹Рец. на сб. «Завод огнекрылый»›, журн. «Горн», М., 1918, № 1, с. 84).
Здесь нет того преступного геростратизма по отношению к Софии футуристов с почти вчерашней волчьею мудростью века по акафистам Ницше... — Герострат — грек из Эфеса (М. Азия) — желая стать известным, сжег в 356 г. до н. э. (в ночь рождения Александра Македонского) выдающееся произведение античного искусства — храм Артемиды Эфесской (считался одним из семи чудес света). Герострат был убит. Его имя стало нарицательным.
София — премудрость (греч.) — так названа каждая из трех церквей, построенных в Киеве, Новгороде и Полоцке в XI в. Есенин не без иронии «обыгрывает» здесь двойное значение слова «София». Акафист — здесь: хвалебное чтение (песнопение).
Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, поэт, критиковал буржуазную культуру, проповедовал культ сильной, игнорирующей моральные нормы личности в сочетании с романтическим идеалом «человека будущего». Общий смысл этой фразы: в приводимых строках (как и во всем стихотворении «Мы») В. Т. Кириллова нет попытки во имя собственной славы по вчерашним жестоким проповедям Ницше разрушить храм грядущей жизни.
...указанием на то, что идет «завтра», и на то, что «мы будем сыты». — Намек на вторую и пятую строфы стихотворения В. Т. Кириллова «Мы». Вторая приведена выше, что же касается пятой строфы, то она, имеющаяся в публикации «Литературного альманаха» (Пб., ‹1918›), в некоторых более поздних изданиях стихотворения отсутствует (напр., в антологии «Пролетарские поэты», составленной Владимиром Кирилловым, М., 1925, с. 8–9). Читается строфа так:
Тот, кто чувствует, что где-то есть Америка... что явлено нам в этих сборниках... — Метафорический смысл этих строк: авторам стихов, пытающимся поймать своенравного коня поэзии, еще далеко до подлинного властителя духовных сил.
...луч... того солнца, которое сходит во ад, родив избавление. — Здесь использован сюжет из христианских преданий, известный под названием «Сошествие во ад» — посещение Иисусом Христом преисподней после смерти на кресте и погребения, знаменующее его торжество над смертью и силами сатаны. По преданию, «облистанный» ярким сиянием («се луч от источника света вечного»), Христос появился в аду и, повергнув сатану и поправ смерть, выводит праведников к райским воротам (см.: Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2. М., 1982, с. 465–466). Этот сюжет нашел отражение и в древнерусской живописи: икона «Сошествие во ад».
С. 237. Повеяло грустью холодной в ненастные дни листопада... — первая строфа стихотворения Ивана Игнатьевича Морозова (1883–1942) «Из осенних мотивов», напечатанного в «Сборнике пролетарских писателей» (Пг., 1917, с. 116–117). Среди книг, которые были в домашней библиотеке Есенина в селе Константинове, находился сборник стихотворений И. Морозова «Красный звон» (М., 1916; с биогр. очерком, написанным С. Д. Дрожжиным) с надписью: «Симпатичному поэту нашему, рязанцу Сергею Александровичу Есенину на память о первой встрече. Иван Морозов. 17.VI-1916 г.» На последней странице обложки рукой Есенина — помета карандашом: «Ивану Игнатьевичу Морозову. Москва, Николаевский вокзал, 9 участок пути. Послать ему “Радуницу”». (Ныне — РГБ). Была ли послана Морозову «Радуница» — неизвестно.
Бабушка вздула светильню... — цитируются третья и четвертая строфы стихотворения Кондратия Кузьмича Худякова (1887–1921) «Ночью», напечатанного в «Сборнике пролетарских писателей» (Пг., 1917, с. 160–161).
В одном из вариантов «Заявления инициативной группы крестьянских поэтов и писателей об образовании крестьянской секции при московском Пролеткульте» рукой Есенина написаны фамилии участников этой группы, где указана и фамилия «Кондр. Худякова» (Государственный архив Московской области (Москва); см. т. 7 наст. изд.)
С. 238. Искусство — Антика... (точнее: Антик) — сохранившийся памятник древнего искусства, главным образом памятник скульптуры.
В мире важно предугадать пришествие нового откровения... — в отличие от старого откровения — Апокалипсиса, пророческой книги, написанной св. апостолом Иоанном Богословом. В различных символических образах в Апокалипсисе представлена трагическая история христиан и обещано для них после всех мучений и конца света тысячелетнее царство счастья и мира (Библия. Новый Завет). С «новым откровением» — «как будет» — связана «маленькая поэма» Есенина «Инония» (см. т. 2 наст. изд.).
А здесь на согнутые спины... — цитируется шестая, заключительная, строфа стихотворения Михаила Прокофьевича Герасимова «Кочегар» (сб. «Завод огнекрылый», с. 55).
С. 239. На плащанице звездных гроздий... — седьмая, заключительная, строфа стихотворения М. П. Герасимова «Ночью» («Труба, как факел надмогильный...») — сб. «Завод огнекрылый», М., 1918, с. 46. Стихотворение полностью включено в коллективный сценарий «Зовущие зори» (см. в наст. томе).
Повесть «Вольница»... — произведение Михаила Васильевича Чернокова (1887–1941); напечатано в «Сборнике пролетарских писателей» (Пг., 1917, с. 12–76).
Потехин Алексей Антипович (1829–1908), Засодимский Павел Владимирович (1843–1912) — беллетристы.
...мелкие рассказы... — «Шкалик» Н. Рыбацкого, «Лакировщик Авдей» К. Яковлева, «По Иртышу» и «Дед Антон» Всев. Иванова, «Ермолаев молот» М. Радлова — «Сборник пролетарских писателей», Пг., 1917. Возможно, также: «Мастер в гостях» М. Юфкина-Досова, «Материн выводок» П. Лоптина, «Детство Кузьки» П. Бессалько — «Литературный альманах» (Пб., ‹1918›).
...бледноликий Бибик — Бибик Алексей Павлович (1877–1976), автор романа «К широкой дороге» (журн. «Современный мир», СПб., 1912; отд. изд. СПб., 1914), рассказа «Швырок» (1902) и других произведений.
...слабый от «ныне» Безсалько — Безсалько (Бессалько) Павел Карпович (1887–1920). Кроме упомянутого выше рассказа «Детство Кузьки», написал ряд прозаических и драматических произведений (романы «Катастрофа», «Бессознательным путем», драматический этюд «Каменщик» — изд. в 1918 г.; рассказы, напечатанные в журн. «Грядущее» — Пг., 1918).
Россияне
Наумов Е. Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Л., 1960, с. 188, 190; то же, 2-е изд.; М.-Л., 1965, с. 186 (в обоих изданиях — пересказ, отрывки; Хроника, 2, 281–283 (с сокращениями); Базанов В. Свидетельство очевидца и память истории (Есенин в мемуарах последних лет). — Журн. «Русская литература», Л., 1976, № 1, с. 248, 249 (отрывки); полностью — Хлысталов Э. Неизвестный Есенин — Журн. «Москва», 1990, № 8, с. 198–199.
Статья не закончена. Другое ее начало — см. Варианты.
Печатается по автографу (РГАЛИ).
Датируется ноябрем-декабрем 1923 г. с учетом следующих обстоятельств.
Статья направлена против тех пролетарских писателей, которые допускали в печати резкие нападки на участников других литературных группировок Советской России. Особенно грубой, бездоказательной критикой были отмечены выступления членов редакции и авторов журнала «На посту» — Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова, Ил. Вардина, Л. Сосновского и других. Журнал, начиная с первого номера (июнь 1923 г.), обрушился на попутчиков как писателей, чуждых «идеологии и психике рабочего класса».
Статья обрывается на полуфразе. Можно предположить, что дальнейшей работе над ней помешали события, связанные с инцидентом 20 ноября 1923 г. и последовавшим за ним «делом четырех поэтов» (подробнее см. в т. 7 наст. изд.). Внимание Есенина не могла не привлечь и заметка М. Кольцова «Не надо богемы», опубликованная на первой странице «Правды» от 30 декабря 1923 г. (№ 296). В ней были такие строки: «Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши и в прежние времена — уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте, будем грубы и нечутки, заявим, что все это одно и то же».
За словами Есенина «как бы ни хвалил и не рекомендовал Троцкий разных Безымянских» просматриваются отзывы о некоторых современных поэтах в статьях Троцкого и его предисловие к книге А. Безыменского «Как пахнет жизнь» (изд. «Красная новь», 1924). Сборник А. Безыменского вышел из печати в конце декабря 1923 г., но предисловие Л. Троцкого было напечатано в «Правде» 17 ноября того же года. Ранее Троцкий похвалил «Песню о червонце» «комсомольского поэта А. Жарова» (газ. «Правда», 1923, 18 октября, № 235).
Название «Россияне», как ныне известно, впервые появилось в рекламной информации на листе 13-м авторских материалов книги «Москва кабацкая», где указано: «Готовятся к печати: Есенин. Любовь хулигана. Черный человек. Страна негодяев. Россияне, сборник ‹далее зачеркнуто: при участии Есенина, Клюева, Ганина и других›, Миклашевская, монография» (автограф — РГАЛИ).
После возвращения из-за границы, как вспоминал С. Фомин (сб. «Памяти Есенина», М., 1926, с. 133), Есенин в 1923 году собирался издавать литературный альманах «Россияне». Судя по всему, именно это издание и указывалось в первоначальной редакции рекламы. Зачеркнув фамилии участников сборника, Есенин слово «Россияне» как бы поставил в ряд названий собственных произведений вместе с «Черным человеком», «Страной негодяев»... Возможно, под заглавием «Россияне» Есенин намеревался выпустить отдельным изданием сборник своих статей на литературные темы. Можно предположить также, что тексты под названием «Россияне» и ‹«О писателях-“попутчиках”»› (см. ниже) — сохранившиеся фрагменты этого неосуществленного замысла.
С. 240. — Рр-р-асходись... и песни пели?! — здесь соединены вместе произнесенные в разное время слова главного персонажа из рассказа А. П. Чехова «Унтер Пришибеев» (1885).
...часто подписывается фамилией Сосновский. — Сосновский Лев Семенович (1886–1937) — член РСДРП(б) с 1903 г., в 1923 г. ответственный редактор газеты «Беднота», член Президиума ВЦИК (до 1924 г.). Как публицист и фельетонист часто выступал в центральных газетах «Правда» (с 1912 г. в разные периоды был членом редколлегии), «Известия ВЦИК...», «Беднота», «Рабочая газета»... В своей автобиографии Сосновский отмечал: «Время от времени писал статьи на литературные темы, напр., о Демьяне Бедном, против футуристов, против упадочных произведений литературы вроде Есенина, против извращения советской действительности Пильняком и т. п.» (Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции. Репринтное воспроизведение второго выпуска 41 тома Энциклопедического словаря Гранат. М., 1989, стб. 106–107).
Что касается Есенина, то Сосновский писал о нем с явным пристрастием. Так, первым его откликом на возвращение поэта из зарубежной поездки были ироничные строки в «Правде» от 2 сентября 1923 г., № 197 о фотографии Есенина и Дункан, тексте под ней, помещенных в журнале «Всемирная иллюстрация» (М., № 11, с. 26). Неприкрытой язвительностью были отмечены его статьи по поводу инцидента с поэтами С. Есениным, П. Орешиным, С. Клычковым и А. Ганиным 20 ноября 1923 г. — «Испорченный праздник» («Рабочая газета», М., 1923, 22 ноября, № 264), «Братья-писатели» («Последние новости», Пг., 1923, 3 декабря, № 52). И после смерти Есенина Сосновский не оставлял имя поэта в покое, выступив со статьей «Развенчайте хулиганство» («Правда», 1926, 19 сентября, № 216; «Комсомольская правда», 1926, 19 сентября, № 216). Эта статья вызвала возмущение многих литераторов и читателей, непредвзято судивших о явлениях искусства (см., например, письмо молодых белорусских поэтов в редакцию «Комсомольской правды»; впервые опубликовано Ю. Л. Прокушевым в альманахе «Литературная Рязань», кн. 1, 1955, с. 340–344; запись рассказа одного из авторов письма — Максима Лужанина см. в кн.: Кошечкин С. Весенней гулкой ранью... Этюды-раздумья о Сергее Есенине. Минск, 1989, с. 213–214).
Маленький картофельный журналистик... — видимо, имеются в виду газетные заметки Сосновского по вопросам сельского хозяйства, в частности, о получении «с избытком картошки» и о строительстве «картофелетерочного завода» («Правда», 1923, 7 ноября, № 253). Сам Сосновский писал в автобиографии: «Особое место в литерат. деятельности моей занимают выступления на темы о сельском хозяйстве. Для нашей печати это было новшеством: боевые фельетоны в партийном органе на темы: о животноводстве, о культуре корнеплодов, о новых сортах пшеницы, о новой культуре — кенафе» (Репринтное воспроизведение второго выпуска 41 тома Энциклопедического словаря Гранат. М., 1989, стб. 107).
С. 241. ...ему, как Видоку Фиглярину... — Видок Эжен Франсуа (1775–1857) — французский сыщик; Фиглярин — прозрачное изменение фамилии Булгарина, впервые появилось («Флюгарин, иль Фиглярин») в куплетах П. А. Вяземского «Семь пятниц на неделе» (1826) и стало прозвищем литератора-доносчика. Под именем Видока Фиглярина в эпиграмме «Не то беда, что ты поляк...» (1830) А. С. Пушкин, по его выражению, «побил» Фаддея Бенедиктовича Булгарина (1789–1859) — бездарного писателя, тайного агента жандармского отделения:
(Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Изд. 4-е. Т. 3, Л., Наука, 1977, с. 159)
Все, что он вскрывает, он вскрывает о тех писателях, которые не имеют ничего общего с попутчиками. — Скорее всего, имеются в виду статьи Л. Сосновского: «Желтая кофта из советского ситца» («Правда», 1923, 24 мая, № 113 — направлена против «лефовцев» — В. Каменского, А. Крученых, Г. Винокура); «Кто и чему обучает нашу молодежь?» («Правда», 1923, 1 июня, № 119 — критика книги В. Львова-Рогачевского «Новейшая русская литература», (М., 1923) и содержащихся в ней характеристик творчества М. Волошина, К. Бальмонта, А. Белого...).
...пролетарскому искусству грош цена, за исключением Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других... — Герасимов Михаил Прокофьевич (1889–1937) — поэт, в 1923 г. — член группы «Кузница» (см. также т. 4 наст. изд.); Александровский Василий Дмитриевич (1897–1934) — поэт, в 1923 г. — член группы «Кузница»; Кириллов Владимир Тимофеевич (1890–1937) — поэт, в 1923 г. член группы «Кузница» (см. также в этом томе статью ‹«О сборниках произведений пролетарских писателей»› и коммент. к ней). Среди «некоторых других» могут быть названы пролетарские поэты, творчество которых привлекало внимание Есенина: Казин Василий Васильевич (1898–1981) — о нем см. т. 6 наст. изд.; Санников Григорий Александрович (1899–1969), Обрадович Сергей Александрович (1892–1956).
Ср. высказывания о некоторых из этих поэтов А. Блока и В. Брюсова. Современник А. Блока вспоминал: «Зашел разговор ‹19 июня 1920 года› о пролетарских поэтах, причем Блок отозвался одобрительно о Герасимове и Казине» (Третьяков В. — Газ. «Сегодня», Рига, 1921, 1 сентября, № 198); В. Брюсов: «Наиболее сильные стихи Кириллова написаны в начале пятилетия 17–22 гг. Тогда же удались ему песни борьбы, как напр, прекрасное стихотворение “Матросам”... За пять лет Герасимов вырос в большого писателя в общем смысле слова, ставящего себе чисто литературные задачи, ищущего правильных методов их разрешения... В лучших произведениях Александровский, несомненно, поэт; “пролетарские” темы у него разработаны сильнее других: образ сознательного рабочего, будущая роль пролетариата, значение Октября, интересная поэма “Москва” и т. под. ...В стихах Казина, обладающего подлинным чутьем ритмов, намечаются самостоятельные художественные подходы» (Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. — Журн. «Печать и революция», М., 1922. Кн. 7, сентябрь-октябрь, с. 64–65).
и этих ‹Герасимова, Александровского, Кириллова и некоторых других›... кажется, «заехали» — как выражается Борис Волин... — Волин (псевд., наст. фам. Фрадкин) Борис Михайлович (1886–1957) — партийный работник, один из редакторов журнала «На посту», ответственный редактор газеты «Рабочая Москва» и журнала «Красный перец». «Заехали» — резкая, беспощадная критика. Одна из грамматических форм этого слова появилась в рекламном объявлении на 4-й странице обложки 2–3 номера (сентябрь-октябрь) журнала «На посту» за 1923 г.: «В № 4 “На посту”, между прочим материалом, предполагается поместить след. статьи: Г. Лелевич — Партийная политика в искусстве, Бор. Волин — Марксистская критика и “заезжательство”»... Статья Бор. Волина была напечатана в 4-м, ноябрьском, номере журнала за 1923 г. под заголовком: «Большевики — заезжатели» (стб. 11–28). В этой статье отмечалось: «...Термин “заезжатели” не нов в нашей публицистической литературе ‹...› он уже имеет по крайней мере двадцатилетнюю давность ‹...› меньшевики нас — большевиков — честили заезжателями за резкость нашей полемики, за ортодоксальность нашего мировоззрения...» (стб. 13).
Что касается названных Есениным пролетарских поэтов, то их «заехали» уже в 1-м, июньском, номере «На посту»: «Кириллов поплакивает, Герасимов и Санников оплакивают революцию. Кириллову кажется: революция на ущербе. А Санников и Герасимов вопят: “Каюк. Предали. И мертвецов революции и алые знамена за нэповскую чечевичную похлебку продали. Конец”. А мы не помиримся, утверждают поэты — “революционнейшие из революционных”. Мы будем призывать к новой революции, к новому “Октябрю”. А все-то дело только в том, что не революция, а творчество этих поэтов, получивших звание “пролетарских” — на ущербе в действительности» (Ингулов С. На ущербе. — Журн. «На посту», 1923, № 1, июнь, стб. 67–68).
В том же номере журнала Леопольд Авербах писал: «Во всем, по существу, антиреволюционном брюзжании Кириллова, Обрадовича, Санникова есть густой налет обывательщины» (статья «По эту сторону литературных траншей», стб. 83). За отрыв от революционной действительности, за «устремления в заоблачные миры» М. Герасимов, В. Кириллов и другие пролетарские поэты резкой критике подверглись в статьях С. Ингулова «О живом человеке» и Н. Изгоева «Не тем засеяли» (журн. «На посту», М., 1923, № 4, ноябрь, стб. 77–104 и 171–175).
Бездарнейшая группа мелких интриганов... выдвинула журнал... «На посту»... — «На посту» — журнал критики, теоретический орган объединения «Октябрь». Выходил в Москве в 1923–1925 гг. (шесть номеров) под редакцией Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова. Выступая за новое, пролетарское искусство, против формалистических и декадентских тенденций, журнал в то же время провозглашал и осуществлял на практике нигилистический подход к классическому наследию, непролетарским писателям, т. н. «попутчикам», к числу которых относил также М. Горького и В. Маяковского... После опубликования резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925), осудившей сектантский подход к литературному творчеству, журнал перестал выходить (Литературный энциклопедический словарь, М., 1987, с. 232).
Наиболее активно в номерах журнала за 1923 г. выступали (кроме редакторов): Родов Семен Абрамович (1893–1968), Ингулов Сергей Борисович (1893–1938), Сосновский Лев Семенович (1886–1937), Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938), Либединский Юрий Николаевич (1898–1959), Левман Семен Семенович (1896–1943), Малахов Сергей Арсеньевич (1902–1973).
В «Письме группы писателей, оглашенном на литературном Совещании при Отделе печати ЦК РКП» (9 мая 1924 г.; подписано С. Есениным, М. Герасимовым, В. Кирилловым, И. Бабелем, Ал. Толстым, М. Пришвиным, Вс. Ивановым, Б. Пильняком и другими литераторами), говорилось: «Тон таких журналов, как «На посту», и их критика, выдаваемые притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно. Мы считаем нужным заявить, что такое отношение к литературе не достойно ни литературы, ни революции и деморализует писательские и читательские массы». («К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе», М., 1924, с. 106–107).
‹О писателях-«попутчиках»›
Есенин С. Собр. соч. В 5 т. Т. 5. М., 1962, с. 74–76 (редакционное заглавие: ‹О советских писателях›). Здесь дан заголовок, точнее выражающий содержание отрывка.
Печатается по автографу (РГАЛИ).
Датируется по содержанию: из всех упомянутых произведений самое позднее по времени появления в печати — «Материалы к роману» Б. А. Пильняка (журн. «Красная новь», М.-Л., 1924, кн. 1 — январь-февраль, кн. 2 — март).
Одним из поводов к работе над статьей послужило, возможно, появление в печати письма группы редакторов и авторов журнала «На посту» (Л. Авербах, А. Безыменский, Ил. Вардин, Бор. Волин, С. Ингулов, Г. Лелевич, Ю. Либединский, С. Родов). Оно было опубликовано в газете «Правда» 19 февраля 1924 г. под названием: «Нейтралитет или руководство? К дискуссии о политике РКП в художественной литературе». В этом письме литература того времени разделялась «на три основные группировки: 1) буржуазную, глядящую на мир глазами господствовавших до революции классов; 2) мелкобуржуазную литературу промежуточных социальных слоев; 3) пролетарскую литературу, организующую психику читателя в сторону коммунизма».
К литературе «промежуточных социальных слоев» в письме отнесены «так называемые “попутчики”», которые «имеют очень много оттенков. Одни из них, не определившись политически, большей частью дают произведения, приемлемые для революции (Л. Сейфуллина, Еф. Зозуля, отчасти Вс. Иванов); другие подменяют изображение революции пустячками и анекдотами, постоянно политически колеблясь и отражая идеологию и настроения городского обывателя (М. Зощенко и др.); третьи намеренно или ненамеренно искажают революционную действительность, преломляя ее сквозь призму славянофильства, мистицизма, больной эротики (Б. Пильняк, Н. Никитин и др.); четвертые явно клевещут на революцию, выступая в качестве выразителей идеологии нэпманской буржуазии, и т. д.
К этим же промежуточным группировкам относятся и крестьянские писатели, недостаточно организованные. К сожалению, больше всего пока среди них выявились как раз элементы “мужицкого” консерватизма и даже реакции (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин и др.) ‹...›.
Нужно взять и брать от “попутчиков” все, что есть среди них честного, здорового и приемлемого для революции, решительно отметая вредное и гнилое».
Не исключено, что своей статьей, полемизирующей с рядом положений письма и других выступлений «напостовцев», Есенин хотел обозначить свою позицию в проходившей тогда дискуссии о политике РКП в художественной литературе. Возможно также, что этот текст является фрагментом материала, предназначавшегося, как и «Россияне», для сборника литературно-критических статей Есенина (см. коммент. к «Россиянам»).
С. 242. ...группа... так называемых пролетарских писателей... они... оказались бессильны, фальшивы и подражательны... — Имеется в виду, скорее всего, группа прозаиков, верных догмам Пролеткульта, пренебрегавших культурным наследием, авторов бесцветных, подражательных произведений (некоторых из них Есенин упоминал в статье ‹«О сборниках произведений пролетарских писателей»›. В то же время среди пролетарских поэтов были талантливые люди, с которыми Есенин находился в дружеских отношениях, следил за их творчеством, выделял их стихи из произведений последователей Пролеткульта (напр., отдельные стихи М. Герасимова, В. Казина, В. Кириллова).
С. 242–243. ...в беллетристике мы имеем... имена: Всеволода Иванова, Бориса Пильняка, Вячеслава Шишкова, Михаила Зощенко, Бабеля и Николая Никитина, — которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу. — В этой и предшествующей фразах словом «действительно» Есенин как бы подтверждал справедливость оценок произведений «попутчиков» А. Воронским и Л. Троцким. «Что греха таить, многие попутчики насчет коммунизма очень неблагополучны, на то они и попутчики. Но это наиболее сильное в художественном смысле крыло современной литературы. Достаточно их перечислить: ...прозаики: Б. Пильняк, В. Иванов... Н. Никитин... Бабель... Зощенко» (Воронский А. О пролетарском искусстве и художественной политике нашей партии — Журн. «Красная новь», М.-Л., 1923, № 7, с. 261); «Мы очень хорошо знаем политическую ограниченность, неустойчивость, ненадежность попутчиков. Но если мы выкинем Пильняка с его “Голым годом”, серапионов с Всеволодом Ивановым, Тихоновым и Полонской, Маяковского, Есенина, — так что же, собственно, останется, кроме еще неоплаченных векселей на будущую пролетарскую литературу?» (Троцкий Л. Партийная политика в искусстве — Газ. «Правда», 1923, 16 сентября, № 209).
В то же время строки Есенина полемичны по отношению к заявлению Г. Лелевича в его статье «Нам нужна партийная линия»: «Когда основной кадр сотрудников наших журналов рекрутируется из среды Ивановых, Никитиных, не говоря уже о Пильняке, когда эта партизанская братия определяет литературную физиономию журналов и издательств, — извините! Вывихивать мозги читателей нечего!» (журн. «На посту», М., 1923, № 1, июль, стб. 106).
С. 243. ...каждый из них отражает революцию так, как он видит ее беспристрастными глазами художника. — Ср.: «Наши попутчики не смотрят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них нет, стало быть, объективная правда эпохи для них закрыта» (Вардин Ил. Воронщину необходимо ликвидировать. О политике и литературе. — Журн. «На посту», М., 1924, № 1, май, стб. 16).
«Помилуйте, — слышится из уст доморощенных критиков, — да какой же это писатель, если он в революции ничего не увидел, кроме половых органов?» — В журн. «На посту» печатались статьи, в которых, например, писалось: «Ник. Никитину тоже дано на революцию смотреть по-пильняковски, с точки зрения половых органов» (1923, № 1, июнь, стб. 22); «Когда Пильняк ‹...› считает, что революция является результатом полового психоза ‹...›, — он выступает перед нами в качестве законченного контрреволюционера» (там же, стб. 95). Статья П. С. Когана, опубликованная в газ. «Известия ВЦИК...» (1923, 6 октября, № 225), называлась: «Письма о литературе. О таланте, литературе на заказ, о “половой революции” Бориса Пильняка».
Пильняк изумительно талантливый писатель... — Книги Бориса Андреевича Пильняка (наст. фам. Вогау; 1894–1938), вышедшие по 1925 г.: «С последним пароходом» (М., 1918); «Былье» (М., 1920; Ревель, 1922); «Смертельное манит» (М., 1922); «Никола-на-Посадьях» (М.-Л., 1923); «Простые рассказы» (Пг., 1923); «Английские рассказы» (М.-Л., 1924); роман «Голый год» (три изд. — в Пг., М., Берлине — 1922; М. — 1924); «Материалы к роману» (журн. «Красная новь», 1924, № 1 и № 2) вошли в роман «Машины и волки», выпущенный в 1925 г. в Ленинграде.
Неполная библиография статей о произведениях Б. Пильняка (по 1925 г.) насчитывает более 50 единиц. О его рассказах, повестях, романах писали: Ю. Соболев, Н. Ашукин, В. Правдухин, М. Рыбникова, А. Воронский, Г. Горбачев, Л. Троцкий, М. Шагинян, Н. Осинский и другие литераторы.
О взаимоотношениях писателей см. статью Б. Б. Андроникашвили-Пильняка «Города или веси: Пильняк и Есенин» — Сб. «Борис Пильняк: Опыт сегодняшнего прочтения». М., Наследие, 1995, с. 91–116.
С. 244. Про Всеволода Иванова писали тоже достаточно... — Произведения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963), вышедшие по 1925 г.: «Алтайские сказки» (журн. «Красная новь», 1921, кн. 2), «Партизаны» (1921), «Бронепоезд № 14–69» (1922), «Лога» (рассказы «Дитё», «Лога» — 1922), «Цветные ветра» (повесть, 1922), «Голубые пески» (роман, 1923), «Седьмой берег» (рассказы, 1922, 1923), «Возвращение Будды» (повесть, альм. «Наши дни», 1923, кн. 3), «Заповедник» (рассказы, сб. «Недра», 1924, кн. 3)...
Неполная библиография статей, заметок, рецензий о творчестве Вс. Иванова (до 1925 г.) насчитывает более 60 единиц. О его произведениях писали С. Городецкий, А. Воронский, И. Груздев, В. Правдухин, А. Неверов, М. Шагинян, В. Шкловский, В. Львов-Рогачевский, Л. Троцкий, П. Коган, В. Евгеньев-Максимов...
Сохранилась дарственная надпись на книге «Персидские мотивы» (М., 1925): «Другу Всеволоду с любовью по гроб. Сергей. 20/XI 1925» (см. т. 7 наст. изд.). Об отношении Есенина к творчеству Всеволода Иванова есть свидетельства некоторых мемуаристов. А. К. Воронский: «Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку Есениным вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось «Дитё» и «Цветные ветра» (Восп., 2, 70); В. Ф. Наседкин: «Одним из лучших современных писателей Есенин считал Вс. Иванова» (Восп., 2, 310); И. В. Грузинов: «Берет ‹Есенин› с подоконника “Голубые пески” Всеволода Иванова ‹...›, с аффектацией восклицает: — Гениально! Гениальный писатель!» (Восп., 1, 375).
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) до 1925 г. опубликовал следующие произведения, связанные с сибирской тематикой: «Сибирский сказ» (1916), «Тайга» (повесть, 1918, 1923), «Чуйские были» (1920)...
Гребенщиков Георгий Дмитриевич (псевд. Сибиряк; 1883–1964) — бытописатель Сибири, автор многих повестей, сборников рассказов. После 1917 г. — в эмиграции. Его книги, вышедшие до 1925 г.: «В просторах Сибири» (т. 1 — 1914, т. 2 — 1915), «Степь да небо» (1917), «Волчья жизнь» (1918), «Степные вороны» (1922), «Чураевы» (1922), «Родник в пустыне» (1923).
Михаил Зощенко в рассказах Синебрюхова... — книга Михаила Михайловича Зощенко (1894–1958) «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» вышла в 1922 г. в Петрограде (изд. «Эрато») и в Берлине (изд. «Эпоха»). В 1923 г. в Петрограде же изданы сборники писателя «Разнотык», «Юмористические рассказы», «Рассказы».
‹О смычке поэтов всех народностей›
Есенин С. Собр. соч. В 5 т. Т. 2. М., 1961, с. 300.
Автограф написан и датирован фиолетовым карандашом на листе с пометкой в верхней части: «стр. 9» (на обороте этого листа — черновой автограф строк 1–36 стихотворения «На Кавказе» — заглавие отсутствует) — РГБ.
Печатается и датируется по автографу.
Судя по нумерации последней страницы и содержанию текста, автограф представляет собою окончание несохранившейся статьи, связанной с тогдашней общественной и литературной жизнью страны.
С. 245. ...делают смычку рабочих и крестьян... — Одной из актуальных тем того времени, находящей постоянное отражение в печати, была тема смычки города и деревни. Так, в августе и сентябре 1924 г. в «Правде» появилось большое число подборок и отдельных заметок, о содержании которых говорят их заголовки: «Усилим смычку с деревней» (9 августа), «Смычка городских и сельских учителей» (15 августа), «Как осуществляется смычка рабочих и крестьян» (24 августа), «Помощь засушливым районам» (из Ленинграда, 7 сентября), «Лицом к деревне» (8 сентября), «Курсы по работе в деревне» (11 сентября)...
...дайте нам смычку поэтов всех народностей. — Эта мысль нашла своеобразное отражение в стихотворении Есенина «Поэтам Грузии», написанном в Тифлисе осенью 1924 г. Ср.: «Поэты — все единой крови», «Поэт поэту есть кунак» (см. т. 2 наст. изд.).
...предстоящий сезон в литературе обещает быть шумным. — Речь, вероятно, идет о начавшихся дискуссиях в связи с резолюциями по вопросам художественной литературы, принятыми на Совещании в Отделе Печати ЦК РКП(б) 10 мая 1924 г. и на XIII партийном съезде — «О печати» (конец мая того же года).
Зовущие зори. Сценарий в 4-х частях
Альм. «Литературная Рязань», кн. 2, 1957, с. 289–300 (с примеч. редакции: «Текст сценария “Зовущие зори” подготовлен для публикации одним из его авторов, Н. А. Павлович. Сценарий печатается впервые»).
Воспроизводится по беловому недатированному автографу (ИМЛИ). Из 18 листов автографа первые 11 (включая заглавный лист сценария) написаны рукой Есенина. В части 3-й (Пролеткульт) уточнена нумерация эпизодов (с 10 по 24 включительно). Судя по инвентарному номеру, автограф сценария находился в Музее Есенина при Всероссийском Союзе писателей, с приложенной справкой:
«Рукопись “Зовущие зори” попалась мне в беспорядочной куче литературного материала, вероятно, назначенного к уничтожению по ликвидации журнала “Гудки” литстудии Московского Пролеткульта.
26.II.26 г.
Москва. С. Обрадович».
В собрании Ю. Л. Прокушева (Москва) хранится точная машинописная копия рукописи сценария с припиской: «Дорогой Юрий Львович, я рада, что мы с Вами работаем по воскрешению этой забытой вещи. Над. Павлович. 1957». (В той же 2-й книге «Литературной Рязани» помещены статья Надежды Павлович «Как создавался киносценарий “Зовущие зори”» — с. 301–304, а также литературные заметки Юрия Прокушева «Родина и революция в творчестве Есенина», содержащие, в частности, идейно-художественный анализ произведения — с. 284–288).
Датируется 1918 годом. В этом году Есенин и его друг Сергей Антонович Клычков наиболее часто встречались с пролетарскими поэтами Михаилом Прокофьевичем Герасимовым и Надеждой Александровной Павлович — ответственными работниками Московского Пролеткульта.
«Все мы были очень разными, — позже вспоминала Надежда Павлович, — но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе.
Обособленность человеческая кончается, индивидуализм преодолеется в коллективе. Вместо “Я” в человеческом сознании будет естественно возникать “Мы”. А как же будет с художественным творчеством, с поэзией?
Можно ли коллективно создавать литературные произведения? Можно ли писать втроем, вчетвером? Об этом мы не раз спорили и решили испытать на деле. Так появились и киносценарий “Зовущие зори”, написанный Есениным, Герасимовым, Клычковым и мной, и “Кантата”, написанная Есениным, Герасимовым и Клычковым ‹см. т. 4 наст. изд.›.
Эти юношеские опыты для сегодняшнего читателя и наивны, и несовершенны, но в них отразились и эпоха, и наши тогдашние художественные искания, и мы сами, до некоторой степени явившиеся прототипами отдельных персонажей. Материалом для “Зовущих зорь” послужили и московский Пролеткульт, и наши действительные разговоры, и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха, когда бои в Кремле были вчерашним, совсем свежим воспоминанием.
Мы были и ощущали себя прежде всего поэтами, оттого и в списке авторов помечено — “поэты”. Свой реалистический материал мы хотели дать именно в “преображении” поэтическом: одна из частей так и названа — “Преображение”. Для Есенина был особенно дорог этот высокий, преображающий строй чувств и образов. Исходил он из реального, конкретного, не выдумывая о человеке или ситуации, но как бы видя глубоко заложенное и только требующее поэтического раскрытия.
Для Есенина, как и для нас — его соавторов, было важно показать ритм и стремительность этого преображения действительности ‹...›.
Некоторые собственные психологические и даже биографические черты мы вложили в героев сценария. В Назарове, “рабочем, бывшем политэмигранте, с ярко выраженной волей в глазах и складках рта, высокого роста”, есть черты Михаила Герасимова, который после революции вернулся из политэмиграции. Правда, Герасимов — сын железнодорожного рабочего, спокойный, сильный и красивый человек, крепко ходящий по земле, — совсем не был похож на “вихревую птицу”, как значится в сценарии. Все сравнения его с птицей, относящиеся к “преображению”, задуманы Есениным. Некоторые черты Веры Павловны Рыбинцевой навеяны моим тогдашним обликом ‹...›.
Саховой ближе Клычкову: от Есенина тут может быть только налет мягкого юмора. А сцены в Кремле, арест и бегство Рыбинцева должны быть отнесены, главным образом, к Есенину. Вся эта часть сценария идет под знаком есенинского “преображения” ‹...›.
Начало IV части “На фронт мировой революции” в основном принадлежит Есенину и Клычкову, а конец — Герасимову. Его же — образ “мадонны на фоне моря”.
Возникает вопрос: был ли этот сценарий случайным для Есенина? Едва ли.
Весь этот непродолжительный период сближения с пролетарскими поэтами был существен для его пути ‹...›.
Есенин не мог не видеть недостатков нашего незрелого детища, но он своей рукой переписывает большую часть чистового экземпляра сценария, не отрекаясь от него, желая довести до печати» (Восп., 1, 301–303).
В беседе с Ю. Л. Прокушевым Н. А. Павлович заметила: «Во второй и третьей частях предусматривалось включение документальной кинохроники о боевой жизни царицынского, южного, дутовского фронтов, первомайской демонстрации 1918 года в Москве» (Прокушев Ю. Новое о Есенине: ‹3›. Есенин пишет сценарий. — Сб. «День поэзии», М., 1962, с. 281).
Причины, помешавшие осуществить постановку фильма «Зовущие зори», остались неизвестными. Можно лишь предполагать, что в первую очередь здесь сказалась техническая слабость нашей тогдашней кинематографии, невозможность качественных съемок массовых сцен на заводах, улицах, площадях, в московском Кремле, а также картин будущего «царства свободы» — в павильонах.
Не удалось опубликовать сценарий и в журнале литературной студии московского Пролеткульта «Гудки».
Как вспоминал Н. А. Сардановский, «одно время Есенин носился с идеей написать сценарий для кино. Мне кажется, сценарий им был написан, но безрезультатно» (цит. по указ. выше статье Ю. Прокушева, с. 281). Скорее всего, речь шла именно о «Зовущих зорях». И это свидетельство современника лишний раз показывает, с каким воодушевлением относился Есенин к созданию киносценария.
В том же 1918 г., когда создавались «Зовущие зори», пробовал свои силы как сценарист и актер Владимир Маяковский. Он написал сценарии и снялся в главных ролях в картинах «Барышня и хулиган» (по мотивам повести итальянского писателя Э. д’Амичиса «Учительница рабочих»), «Не для денег родившийся» (по мотивам романа Джека Лондона «Мартин Иден») и «Закованная фильмой» (на собственную оригинальную тему).
С. 256. Рабочий поэт М. Герасимов читает свои стихи... — полностью цитируется стихотворение М. П. Герасимова «Ночью». Седьмую, заключительную, строфу этого произведения Есенин приводит в своей статье ‹«О сборниках произведений пролетарских писателей»› — см. в наст. томе.
Обрадович Сергей Александрович (1892–1956) — пролетарский поэт, член литературной студии московского Пролеткульта, сотрудник журнала «Гудки».
Список условных сокращений
Аф. I, II, III — Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу в трех томах, М., «Индрик», 1994 (репринт издания 1865–1869 гг.).
Бирж. вед. — газ. «Биржевые ведомости», СПб. — Пг., 1880–1917.
Буслаев I (1861) — Исторические очерки русской народной словесности и искусства. Сочинения Ф. Буслаева. Том I. СПб., издание Д. Е. Кожанчикова, 1861.
Буслаев 1917 — Исторические очерки Ф. И. Буслаева по русскому орнаменту в рукописях, Пг., тип. Академии наук, 1917.
ВЛ — журн. «Вопросы литературы», М., с 1957 г.
Восп., 1, 2 — сб. «С. А. Есенин в воспоминаниях современников», тт. 1–2, М., «Художественная литература», 1986.
Воспоминания-95 — сб. «Сергей Есенин в стихах и жизни: Воспоминания современников», М., «Республика», 1995.
Гоголь I, II, III — «Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя. С его биографией и примечаниями. В 3-х томах», М., издание Т-ва И. Д. Сытина, 1902, тт. I, II и III.
Есенин 5 (1962) — Сергей Есенин. Собрание сочинений. Том 5. Автобиографии, статьи, письма, М., «Государственное издательство художественной литературы», 1962.
Есенин V (1979) — С. А. Есенин. Собрание сочинений. Том V. Проза. Статьи и заметки. Автобиографии, М., «Художественная литература», 1979.
Есенина А. А. — Есенина А. А. Родное и близкое. Изд. 2-е, доп., М., «Советская Россия», 1979.
Зн. тр. — газ. «Знамя труда», Пг., затем М., 1917–1918.
Кр. новь — журн. «Красная новь», М., 1921–1942.
ЛН — непериод. сб. «Литературное наследство», с 1931 г.
Материалы — сб. «С. А. Есенин: Материалы к биографии», М., «Историческое наследие», 1993 (на тит. л. ошибочно: 1992).
Маяковский 4 (1957) — Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений. Том 4. 1922 — февраль 1923, М., «Государственное издательство художественной литературы», 1957.
Отклики Кавказа — газ. «Отклики Кавказа», Армавир, 1909–1917.
Панфилов, 1, 2 — Панфилов А. Д. Константиновский меридиан. В 2-х частях, М., «Энциклопедия Российских деревень», «Народная книга», 1992.
ПиР — журн. «Печать и революция», М., 1921–1930.
РКлБ — серийное издание «Русская классная библиотека, издаваемая под ред. А. Н. Чудинова: Пособие при изучении русской литературы», СПб., издание И. Глазунова, 1891–1918.
РКлБ, сер. II — серийное издание «Русская классная библиотека, издаваемая под ред. А. Н. Чудинова: Серия вторая. Классические произведения иностранных литератур в переводах русских писателей», СПб., издание И. Глазунова, 1896–1904.
Ск-1 — «Скифы», сборник 1-й, СПб., «Скифы», 1917.
Ск-2 — «Скифы», сборник 2-й, СПб., «Скифы», 1918 (фактически: декабрь 1917).
Собр. ст. — Сергей Есенин. Собрание стихотворений (Стихи и проза. Т. 4). М.-Л., Госиздат, 1927.
Списки ГМЗЕ — перечни книг из личной библиотеки С. А. Есенина, составленные его сестрами (ГМЗЕ).
Стасов 1872 — атлас «Русский народный орнамент. Выпуск первый. Шитье, ткани, кружева. Издание Общества поощрения художников с объяснительным текстом В. Стасова», СПб., типография товарищества «Общественная польза», 1872 (на обл.: 1871).
Хроника 1, 2 — Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника, ч. 1–2, М., «Советская Россия», 1969–1970.
Юсов — Юсов Н. Г. Прижизненные издания С. А. Есенина: Библиографический справочник. М., «Златоуст», 1994.
Юсов — Юсов Н. Г. Прижизненные издания С. А. Есенина: Библиографический справочник. М., «Златоуст», 1994.
IE — Gordon McVay. Isadora and Esenin, ‹Ann Arbor, Michigan,› «Ardis», ‹1980›.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГЛМ — Государственный литературный музей Российской Федерации. Отдел рукописных фондов (Москва).
ГМЗЕ — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина (с. Константиново Рязанской обл.).
ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук. Рукописный отдел (Москва).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук. Рукописный отдел (Санкт-Петербург).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).