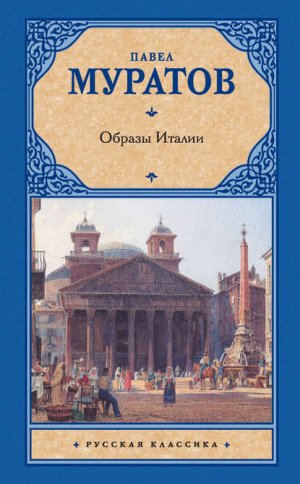
Том 1
Венеция
Летейские воды
Есть две Венеции. Одна – это та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на Пьяцетте и на набережной Скьявони. С этой Венецией соединены голуби, приливы иностранцев, столики перед кафе Флориана, лавки с изделиями из блестящего стекла. Круглый год, кроме двух-трех зимних месяцев, здесь идет неугомонно-праздная жизнь, такая праздная, какой нет нигде. Надо только видеть движение человеческих волн утром на мосту делла Палья, надо слышать легкий шум разноязычного говора и легкий шорох шагов по мраморным плитам! Но вот часы указывают полдень. Пора идти вместе с толпой на площадь, смотреть, как на torre dell’Orologio[1] бронзовые люди бьют в колокол. Это один из обрядов венецианской праздности, и, кто исполнил его, тот может с чистым сердцем радоваться своей свободе от всех земных дел. Остается ехать куда-то в гондоле, или сидеть вместе со стариками под аркадами Дворца дожей, или зайти в Сан-Марко и рассеянно смотреть на мозаики, на древние полы, на группы разнообразных, все новых и новых людей. А там наступает и вечер. Зажигаются огни, голуби ложатся спать, Флориан и Квадри выдвигают столики на площадь. Газетчики пробегают под Прокурациями. Во всех окнах бусы, зеркальца, стекло – те наивные блестящие вещи, которые никому не пришло бы в голову продавать или покупать где-нибудь, кроме Венеции. Играет музыка, толпа журчит, журчит рекой по каменным плитам. Храм Марка мерцает цветными отблесками, и небо над головой – синее небо итальянского вечера. Так летит здесь время, точно дитя, без забот и без мыслей.
В этой жизни есть своя прелесть. Но она неизменно приносит минуты печали. Можно легко утомиться музыкой, блестящими окнами, вечным рокотом чужой толпы. Венеция часто дает испытывать одиночество, она не утешает и не просветляет, как Флоренция или Рим. Да и не вся Венеция на Пьяцце и на Пьяцетте. Стоит немного отойти вглубь от Сан-Марко, чтобы почувствовать наплыв иных чувств, чем там, на площади. Узкие переулки вдруг поражают своим глубоким, немым выражением. Шаги редкого прохожего звучат здесь как будто очень издалека. Они звучат и умолкают, их ритм остается как след и уводит за собой воображение в страну воспоминаний. То, что было на Пьяцетте лишь живописной подробностью: черная гондола, черный платок на плечах у венецианки, – выступает здесь в строгом, почти торжественном значении векового обряда. А вода! Вода странно приковывает и поглощает все мысли, так же как она поглощает здесь все звуки, и глубочайшая тишина ложится на сердце. На каком-нибудь мостике через узкий канал, на Понте дель Парадизо например, можно забыться, заслушаться, уйти взором надолго в зеленое лоно слабо колеблемых отражений. В такие минуты открывается другая Венеция, которой не знают многие гости Флориана и о которой нельзя угадать по легкой и детски-праздной жизни на площади Марка.
Эта Венеция узнается лучше всего во время скитаний по городу, в поисках еще нового Тинторетто, еще не виданного Карпаччио. Только в первые дни трудно разобраться в лабиринте венецианских переулков и мелких каналов, потом привыкаешь к нему и начинаешь даже любить его неожиданную логику. Так, передвигаясь наподобие шахматного коня и не без уклонения от прямой линии, можно пройти в отдаленный квартал Мадонна дель Орто. Там есть одно удивительное место – открытый и пустынный бассейн около прежнего аббатства Мизерикордия. Неподвижность этих мелких вод, безлюдье, огромные заброшенные здания на берегу – все здесь внушает чувство покоя, какого не бывает в жизни. Все напоминает давний, забытый сон. Недалеко оттуда набережная Фондамента Нуова с видом на Мурано и на снежные Альпы Фриуля. За этими горами – все, что оставили мы в прежней жизни и от чего отделяет нас теперь зеркало лагуны. И глубоко уединение Мурано, окруженного лагуной. Маленький остров разделен надвое широким, извивающимся в виде петли каналом. Это почти река, только река, которая течет ниоткуда и никуда. На плоских берегах стоят пережившие свое время, часто необитаемые дома; встречается скудная растительность, напоминающая о прежних садах. Умирание или как бы тонкое таяние жизни здесь разлито во всем. Лица работниц на стеклянных фабриках бледны, как воск, и кажутся еще бледнее от черных платков. Не тени ли это, не тень ли и гондола, без шума и без усилия увозящая нас к Венеции? И самые эти воды – не воды ли смерти, забвения?
Нынешняя Венеция – только призрак былой жизни, и вечный праздник на Пьяцце – только пир чужих людей на покинутом хозяевами месте. Прежняя Венеция жива лишь в дошедших до нас произведениях ее художников. И странно – в искусстве мы тоже начинаем скоро различать две Венеции. Все знают, что в венецианской живописи много любви к праздничной и красивой внешности жизни, к дорогому убранству, богатым тканям, пирам, процессиям, восточным нарядам, чернокожим слугам и златоволосым женщинам. Карпаччио и Джентиле Беллини изображали все это в XV веке, Тициан, Бонифацио и Паоло Веронезе – в XVI, Тьеполо – в XVIII. Но наряду с этими художниками здесь были и другие: Джорджоне, Тинторетто и Джованни Беллини. У этих немногое было отдано поверхности жизни, и лучшие их силы уходят в глубину. Джованни Беллини, или, как его зовут на местный лад, Джамбеллино, был венецианцем из венецианцев. Не только он здесь родился и вырос, но живопись его так расцвела здесь, что долго Венеция не хотела знать никакой другой, и десятки художников повторяли, списывали и даже подделывали ее. Джамбеллино был понят и любим, и его искусство выражало чистейшую линию в душевном сложении Венеции.
Джованни Беллини написал множество мадонн, очень простых, серьезных, не печальных и не улыбающихся, но всегда погруженных в ровную и важную задумчивость. Это созерцательные и тихие души, в них есть полнота какого-то равновесия – и не таков ли был сам художник? С первого взгляда он кажется слишком неподвижным, неярким, почти неинтересным. Но он из тех мастеров, которых узнаешь со временем. У него есть своя стихия, не только краски и формы, но целый объем чувств и переживаний, составляющих как бы воздух его картин. Никто другой не умеет так, как он, соединять все помыслы зрителя на какой-то неопределенной сосредоточенности, приводить его к самозабвенному и беспредметному созерцанию. Это созерцание бесстрастно и бесцельно. Или, вернее, цель его неизвестна, и оно само становится высочайшей целью искусства. Рассеянное воображение Беллини часто бывает обращено к простым вещам, оно охотно смешивает великое с малым. Он часто пишет пейзаж, деревню и горы, о которых всегда думается в Венеции. На фоне «Преображения» изображена дорога, где крестьянин гонит волов; на фоне одной из мадонн едет всадник, двое беседуют под деревом, и обезьянка сидит на мраморной вазе, на которой начертана надпись художника. Здесь сказалась его глубокая задумчивость, то рассеяние мысли и чувств, какое бывает на границе между бодрствованием и сном, жизнью и смертью.
Джованни Беллини любил писать также аллегории. Несколько их есть в Венецианской академии, но самая замечательная, произведение, вне всяких сомнений, гениальное, находится теперь в Уффициях, во Флоренции. Изображена терраса чисто венецианская, выстланная разноцветными плитами. Посредине открытая дверка, выходящая на широкое пространство спокойных вод. На том берегу скалистые горы, в которых много пещер, поселение, дальше замок – немного странный пейзаж, – над всем этим небо с нежными облаками, отражающимися в темнеющем зеркале вод. На террасе несколько фигур. В одном углу – мраморный трон, на котором сидит Богоматерь с опущенной головой и сложенными руками. Слева от нее – склонивши голову, женщина в венце, справа, ближе к зрителю – другая женщина, высокая, молодая и стройная, в черном платке, в том самом «zendaletto», который до сих пор носят венецианки. За мраморными перилами два старца, по-видимому, апостолы Павел и Петр. Павел держит в руке меч, Петр с умилением смотрит на группу, занимающую среднюю часть террасы. Здесь в глиняной вазе растет невысокое дерево с густой плотной листвой. Четверо младенцев играют около него. Один охватил ствол, как бы желая его потрясти, остальные держат в руках уже упавшие золотые яблоки; с другого конца террасы к ним медленно идут св. Иов с молитвенно сложенными руками и юный, обнаженный и женственно прекрасный св. Себастьян. На том берегу, за пространством тихих вод, видны различные, несколько фантастические существа. У самой воды, в пещере – пастух и около него козы и овцы. Эремит спускается по лесенке от одиноко стоящего креста, и тут же стоит, как бы ожидая его, кентавр. Еще дальше, у домов селения, двое гонят осла и женщина беседует со стариком. И еще одна малопонятная мужская фигура в широкой одежде и белом восточном тюрбане видна на том же берегу, где терраса и группы святых, – она находится за перилами и, удаляясь от Мадонны, как бы уходит из поля картины.
Был неизвестен долгое время сюжет этой картины. Ее считали одним из «собеседований», Santa Conversazione[2], какие встречаются нередко в современной Беллини живописи. Или еще, не без основания считая группу младенцев, играющих под деревом, центральной в картине и по значению, ее называли «аллегорией дерева жизни». Лишь несколько лет назад трудами недавно умершего немецкого ученого Людвига, посвятившего всю свою короткую жизнь изучению венецианской живописи, был найден источник этой аллегории. Сюжет ее взят из французской поэмы XVI века «Паломничество души». Младенцы – это души чистилища, мистическое дерево с золотыми яблоками символизирует Христа. О душах молятся их святые покровители Иов и Себастьян, апостолы Петр и Павел. О них молится сама Богоматерь, и Правосудие, оставив меч в руках у апостола Павла, смиренно склоняет свою увенчанную голову. За мраморной балюстрадой видна река Лета. Картина должна быть названа «Души чистилища».
Таково последнее истолкование картины Беллини. В ней остается еще многое, чего не объясняет старинная французская поэма. Фигура венецианки в черном платке, другая фигура в восточном тюрбане, странные существа, кентавры и эремиты, населяющие пейзаж, – все это чистые создания Беллини. И, может быть, ключ в его картине находится не столько в том, что изображено, сколько в самом чувстве, каким проникнуто здесь все. Летейские воды – так вот что эти воды, в которых отражаются золотистые облака! И нам вдруг понятен медленный ритм видений Беллини. Нам понятны глубокое созерцательное раздумье, в которое погружены его святые, и бесплотная тонкость младенческих игр с золотыми яблоками темнолиственного мистического дерева. В той стране, которая открывается за уснувшими зеркальными водами Леты, мы узнаем нашу страну молитв и очарований. Там бродят в уединении скал наши души, когда их освобождает сон; как анахорет, они припадают там к подножию высокого деревянного креста или встречают в темных пещерах кентавров и пастухов, имеющих лишь смутное человеческое подобие, или на улицах неизвестных селений видят воплощенные образы евангельской притчи. На утренней заре они второй раз погружаются в летейские воды и выходят, храня печаль, на берег жизни.
В картине Беллини запечатлено какое-то единственное мгновение равновесия между жизнью и смертью. Отсюда ее чистота, ее невыразимо глубокий покой и религиозная важность. Как это бывает с образами наших снов, созданные художником образы не утратили зримой и яркой полноты. Воображение Беллини облекло их в краски и формы, напоминающие нам какие-то места, где воды были так же зеркальны, облака так же светлы и тонки, далекие горы так же волшебны и мрамор так же бел и прозрачен. Все это было, все это видено, хочется сказать при взгляде на картину Беллини, и мысль о Венеции неизменно овладевает душой. Ибо Венеция сквозит из нее всюду: Венеция в разноцветных плитах террасы и в мраморе ограды и трона, Венеция в улыбке успокоенных вод, в этом прозрачном небе и в этом полете взгляда к линиям гор, Венеция в черном платке на плечах молодой и стройной женщины. И эта женщина, внимающая таинству душ, покинувших мир, и созерцающая мир в его прощальном очаровании, не есть ли она сама олицетворенная Венеция? Не ее ли тихая и рассеянно светлая душа ожила в этом образе, созданном самым мечтательным и отвлеченным из ее художников? Для нас, северных людей, вступающих в Италию через золотые ворота Венеции, воды лагуны становятся в самом деле летейскими водами. В часы, проведенные у старых картин, украшающих венецианские церкви, или в скользящей гондоле, или в блужданиях по немым переулкам, или даже среди приливов и отливов говорливой толпы на площади Марка, мы пьем легкое сладостное вино забвения. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, и остается лишь немного пепла, так немного, что он умещается в ладанку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия – Италия так близко, за этим пространством лагуны!
Мысль о прекрасной земле, на которую сейчас опускается ночь, там, за тихими водами, за туманными равнинами, где течет Брента, с особенной силой пробуждается всякий раз при наступлении вечера в Венеции. Среди огней и движения на Пьяцце она приходит внезапно и уносит далеко, так далеко, что говор и смех праздной толпы звучит в ушах, как слабый шум отдаленного моря. В этой толпе всегда немало людей, только что ступивших на землю Италии и согласно переживающих ту же рассеянную мечту. Свет улыбки в их невидящих взорах выдает освобожденные души – души, уже испытавшие силу летейских вод.
Тинторетто
Из всех великих венецианских художников только Карпаччио и Тинторетто можно хорошо узнать в Венеции. Чтобы найти истинное понятие о Тициане, надо побывать в Мадриде. Нельзя судить о Беллини, не видев Уффиций и Бреры. Произведения Джорджоне и Веронезе разбросаны по всей Европе. Только Карпаччио и Тинторетто до сих пор дома, в Венеции. И даже самое представление о Венеции нераздельно связано с воспоминанием о зеленоватых, точно видимых сквозь морскую воду, картинах первого и о потемневших, но все еще пламенно живописных полотнах второго.
Перед св. Георгием Карпаччио в маленькой и уютной «оратории» Сан-Джорджио дельи Скьявони можно провести одно прекрасное венецианское утро. Кого поразит рыцарское великолепие этих сцен или романтическое очарование этих пейзажей, тот будет и дальше искать по Венеции милого художника, которого нельзя не любить, – не полюбить сразу. Тогда неисчерпаемым источником наслаждения сделается комната местной галереи, где очень искусно размещен цикл больших полотен Карпаччио, изображающих легенду св. Урсулы. В той же галерее есть и его «Чудо св. Креста». В этой картине оживает старая Венеция; ее колорит, благодаря изысканному сочетанию розоватых и золотистых тонов с зеленым, уже предвещает будущую славу венецианского колорита. Есть Карпаччио еще в Сан-Джорджио Маджоре на острове. Там, в уединенной часовне наверху, светлокудрый св. Георгий поражает дракона. Этот Георгий даже лучше Георгия из маленькой оратории: еще прекраснее молодой рыцарь и еще волшебнее романтический пейзаж с круглым горным озером. Карпаччио можно видеть также в Сан-Витале, и, наконец, одна любопытная его картина находится в новом городском музее. Две куртизанки сидят на балконе и просушивают волосы, только что выкрашенные в золотой цвет, – в знаменитый золотой цвет волос венецианок. Они развлекаются с птицами, собаками; кудрявый мальчик играет с павлином; здесь же стоят высокие приставные каблуки, предмет затейливой и стеснительной моды. Может быть, эти женщины испробовали как раз тот рецепт, который дошел до нас в одной старинной книге. «Возьми, – говорится там, – четыре унции золототысячника, две унции гуммиарабика и унцию твердого мыла, поставь на огонь, дай вскипеть и затем крась этим свои волосы на солнце».
В 1514 году, значит, как раз в те годы, когда Карпаччио написал эту картину, венецианский сенат решил обложить налогом всех куртизанок. По переписи их оказалось около одиннадцати тысяч. Эта цифра сразу вводит нас в несколько головокружительный масштаб тогдашней венецианской жизни.
Чтобы нарядить и убрать всех этих женщин и всех патрицианок, сколько нужно было золота, сколько излюбленного венецианками жемчуга, сколько зеркал, сколько мехов, кружев и драгоценных камней! Никогда и нигде не было такого богатства и разнообразия тканей, как в Венеции XVI века. В дни больших праздников и торжеств залы дворцов, церкви, фасады домов, гондолы и самые площади бывали увешаны и устланы бархатом, парчой, редкими коврами. Во время процессий на Большом Канале сотни гондол бывали покрыты алым шелком. Но нам трудно, почти невозможно представить себе все это. Нами уже утрачено понимание красоты цветных драгоценных тканей, покрывающих огромные поверхности или падающих каскадом с высоких потолков. Современная жизнь не дает таких праздников глазу, и мы знаем не ткань, а только кусочки ткани. Вот почему наше понятие об убранстве венецианского праздника может быть лишь отдаленным, как отдаленно понятие о море у человека, знающего только ручьи и мелкие реки.
Эпоха грандиоза, славы и роскоши Венеции приходится между годами Камбрейской лиги и битвы при Лепанто, между 1508-м и 1571-м. Жизнь и деятельность Тинторетто охватывает этот промежуток времени. По рождению он не был призван к участию в пире важных сенаторов и пышноволосых патрицианок, которых так много писал впоследствии. Маленький красильщик и сын красильщика, он родился в отдаленном квартале близ пустынного ныне бассейна Мизерикордия. Там до сих пор показывают место, где стоял его дом, напротив церкви Мадонна дель Орто. В этой церкви он погребен. Узкий канал ведет туда мимо старого здания, служившего когда-то складом товаров для восточных купцов; на его стене еще сохранился барельеф, изображающий человека в чалме, который ведет верблюда.
В этом отдаленном и тихом квартале, откуда видна лагуна и за ней вдали снежные горы, Тинторетто провел всю жизнь. То немногое, что известно о нем, указывает, что и в жизни также он держался «в стороне» от других. Он не водил дружбы с Аретином, как Тициан, и не принимал участия в его оргиях. Есть что-то волчье в лицах Аретина и Тициана, но лицо Тинторетто – удивительно человеческое, очень светлое человеческое лицо. Он представляется высоким, сильным стариком с благородными мягкими чертами, с седой бородой и блестящими глазами. У него был непреклонный, прямой нрав; люди, не любившие его, должны были его бояться. Когда Аретин стал слишком дерзко бранить его, Тинторетто пригрозил ему пистолетом, и тот замолчал. Этот человек, ни перед чем не отступавший ни в искусстве, ни в жизни, любил музыку. Его любимым развлечением были домашние концерты, в которых принимали участие он сам и его дочь, отличная музыкантша и недурная портретистка.
Дом Тинторетто, в котором жилось так духовно и так углубленно и в котором по вечерам звучали спинет и лютня, представляется каким-то оазисом среди регламентированного праздника, среди деловитой и парадной Венеции того времени. Трудно забыть, что времена наибольшего великолепия совпадают как раз с наибольшим развитием тягостей венецианской государственности. Сенат не только облагал налогом куртизанок, он во всем точно определял их ремесло. Государство надзирало за всем; не преувеличивая, можно сказать, что ему был известен каждый шаг каждого человека. Оно следило за нарядами, за семейными нравами, за привозом вин, за посещением церквей, за тайными грехами, за новыми модами, за старыми обычаями, за свадьбами, похоронами, балами и обедами. Оно допускало только то, что находило нужным, и как раз в оценке того, что можно и чего нельзя, оно и проявляло свою изумительную мудрость. Каждый человек был тогда, желал ли он того или нет, на службе у «яснейшей» республики, и каждый делал для нее какое-то дело. И во всем, что теперь на картинах кажется случайным и счастливым соединением богато одетых людей, заморских слуг и дорогих тканей, был когда-то скрытый государственный смысл, и «польза отечества» присутствовала незримо во всех событиях. Может быть, даже оргии в саду Тициана только потому могли происходить, что чей-то умный глаз видел в этом родину «Венер» и «Вакханалий», которым суждено было прославить Венецию.
Можно удивляться силе, богатству, талантливости и жизненности венецианского государства. Можно уважать его за тонкость приемов и воздействий, с помощью которых оно заставляло служить себе индивидуальные дарования. Но все-таки есть нечто двойственное и охлаждающее в мысли, что весь этот блеск и вся эта пышность были наполовину делом и забавой лишь наполовину. Становится немного душно от сознания всеобъемлющей, невероятной деловитости этих грузных бородатых и лукавых патрициев, умевших служить отечеству даже прелестью женщин и красотой жизни. Государственный механизм работал у них слишком правильно и обидно-точно, не оставляя ничего для случая, для безрассудства, для трогательной нелепости. В Венеции XVI века нет едва приметной печали, скрытой в улыбке, которая озарила ее XVIII век, – тот век, когда обветшалый государственный механизм стал не более чем механизмом волшебного комедийного театра. В тициановской Венеции нет вообще никакой печали и никакой улыбки, и оттого так трудно чувствовать сердцем ее восхищающую глаз пышность.
Венецианское государство заставило служить себе даже внежизненный гений Тинторетто. Он написал для зал Дворца дожей гигантские торжественные полотна, превосходящие по размерам все, что было до него написано. Десятки сделанных им портретов, разбросанных теперь по всем европейским галереям, увековечили черты целого поколения венецианских дожей, сенаторов и адмиралов. Для Тинторетто венецианская государственность была хороша тем, что она напрягала деятельность каждого из ее работников до последних пределов. Этот художник был одержим страстью к работе, и тогдашняя Венеция могла завалить его работой. Он ни от чего не отказывался, не спорил из-за цены и в иных случаях писал даже даром. Существует много анекдотов, рисующих быстроту его работы и его бескорыстие. Но здесь дело, конечно, не в бескорыстии. Тинторетто стремился к работе, потому что душа его была переполнена художественными замыслами и обуреваема жаждой воплощения. Воображение жгло его. Недаром Вазари назвал его «самой отчаянной головой, какая только была среди живописцев».
Тинторетто, работавший с такой страстью и быстротой в течение всей своей долгой жизни, успел сделать очень много. Известно более трехсот его, или с большой вероятностью приписанных ему, вещей в разных городах, кроме Венеции. Венеция же и до сих пор бесконечно богата его картинами. Время отнеслось к ним сурово: Тинторетто потемнел так сильно, как редко какой художник. В полутемных венецианских церквах его картины являют вид забвения, почти гибели, но под этой чернотой, пылью и копотью свечей еще кипит сила, еще светится вдохновение. Время не в состоянии погасить жара картин Тинторетто. Вдохновение его будто даже яснее, ближе оттого, что он редко доканчивал и бросал как-то вдруг, в минуту наибольшего душевного подъема, не успев еще воплотить обуявшие его образы. За этой «отчаянной головой» не всегда поспевала кисть, и не все, что сделал Тинторетто, хорошо до конца и до конца удачно. Героические усилия этого на все посягавшего духа кончались иногда неудачей. Хаос овладевает иногда полем его картин, и тогда его образы своим смятением напоминают нестройные толпы побежденных в каком-то великом сражении. Но величие неосуществленных стремлений есть в самих неудачах художника, и от них не отвернется тот, кто видел это молнии подобное воображение в его счастливейшие мгновения.
Нет более благородной цели в прогулках по Венеции, чем поиски Тинторетто. Для этого надо побывать во многих церквах, обойти весь город от Мадонна дель Орто до Сан-Тровазо и от Сан-Заккария до Сан-Рокко, надо также съездить в гондоле в церковь на островке Сан-Джоржио Маджоре. Но прежде всего надо побывать в двухэтажном здании прекрасной архитектуры начала XVI века, называемом Скуола ди Сан-Рокко. Именем «школ» назывались в Венеции, начиная с XIII века, сообщества мирян, соединявшихся для благотворительных или иных целей и избравших своим покровителем какого-либо святого. Такому сообществу в честь «Сан-Рокко» принадлежало это здание, и его старшины пригласили в шестидесятых годах XVI века для украшения стен и потолков Тинторетто. Работа, которую исполнил здесь художник, колоссальна. Помимо плафонов и бесчисленных декоративных панно, ему надо было написать около двадцати больших композиций. В их числе находится огромное «Распятие» на стене трапезной. Эта Голгофа – целый мир, мир трагического движения, в котором отдельные люди и даже всадники теряются, как песчинки, и событие, как ураган, проносится над ними вместе с грозовыми облаками на смятенном небе. В той же комнате, на другой стене, «Христос перед Пилатом», – в белой одежде среди сгущающейся над ним горячей тьмы, незабываемо одинокий, спокойный, поставленный на этих ступенях рукой судьбы – один из лучших образов Христа в искусстве. Особенно верно передает дух Тинторетто «Благовещение», написанное в нижней зале. В тихую комнату Марии с бедным каменным полом и соломенным стулом, где так хорошо думалось, ворвалась буря, не один ангел, но целый сонм ангелов, подобный огненному облаку. Стена рухнула, и Ave Maria[3] звучит грозной радостью сквозь шум разрушения.
Другое распятие Тинторетто находится в церкви Сан-Кассиано. Кресты, лестницы, немногочисленные фигуры на переднем плане, целый лес копий и на фоне – небо безмерное, как океан. Это одно из величайших произведений Тинторетто, и он достиг здесь совершенства в двух областях своего гения – в колорите и в композиции. Живописная роскошь неба, зеленого с розоватыми и золотистыми облаками, превосходит все, что было написано даже Веронезе. И конечно, никто другой не мог бы создать такой грациозной и сжатой композиции, выражающей трагическое действие немногих больших фигур, поднятых к небу над узкой полосой темной земли и над лесом копий. Чтобы оценить, каким мастером композиции был Тинторетто, надо посмотреть также «Введение во храм» в церкви Мадонна дель Орто. Можно ли сделать значительнее эту сцену, чем сделал Тинторетто, разместив фигуры на высокой монументальной лестнице! Может быть, впрочем, в его композициях видно не столько обдуманное мастерство, сколько родство с глубиной и огромностью библейских тем. Тинторетто был сам из семьи героев и потому мог рассказывать про них на их же языке, не переводя его на обыденную, спокойную речь, как делал это Тициан. Нельзя спорить против того, что Леонардо создал в «Тайной вечере» самую умную, законченную и полную иллюстрацию слов Евангелия. Но кто не согласится, что одна часть великого события – его тревога, его предчувствие, отдаленные молнии надвигающейся грозы – была более открыта для Тинторетто, когда он писал «Тайную вечерю» в Сан-Поло в Венеции. Он был более художником, чем Леонардо, когда вместо психологического повествования перенес на полотно трепетный свет, золотые брызги солнца, садящегося за синий горизонт, и нарастающую тьму, уже поглотившую высокую фигуру Иуды.
Лиризм Тинторетто соединен с классическими мифами. И в этой мятущейся душе наступали иногда прозрачные созерцательные минуты. В такие минуты написаны четыре картины в зале Антеколеджио, составляющие драгоценнейшее украшение Дворца дожей. «Меркурий и Грации», «Минерва и Марс», «Бахус и Ариадна», «Кузница Вулкана» – таковы эти картины, написанные в 1574 году и таким образом стоящие в конце всего пути, пройденного итальянским Возрождением. «Многие из моих читателей, видевшие эту картину, – пишет Симондс о Бахусе и Ариадне, – согласятся, что если это не самая великая, то, по крайней мере, самая прелестная из существующих на свете картин, писанных масляными красками… Нечто из дара мифотворчества должно было еще жить в Тинторетто, и оно вдохновило его на передачу греческого сказания, исполненную таким острым и живым чувством прекрасного». «Бахус и Ариадна», «Меркурий и Грации» написаны с неподражаемым совершенством. Золотистое солнце, легкие тени и зеленые ветки на второй из этих картин относятся к области живописной магии – ее силу нельзя рассказать словами. Великая школа должна быть для каждого живописца в «Искушении Адама», в «Убиении Авеля», висящих в академии, или в «Сусанне», которая находится теперь в Венской галерее. Даже на фотографии эта картина кажется созданной из драгоценностей, но там на полотне соединились самые красивые вещи в мире: тело женщины цвета слоновой кости, золотые волосы, шелк, нити жемчуга, зеркало, трельяж, увитый бархатными розами, и жаркая, рыжая зелень сада; аромат высоты, исходящий от них, густ и крепок, как те ароматы, которые продавали в Венеции восточные купцы, и, как они, он крепок до головокружения.
Тинторетто остался глубоким и важным в своем изображении земной и вещественной красоты. Одухотворенность его искусства проявилась еще с большим порывом в портретах. Его портреты всегда отлично написаны, но чисто живописные задачи отходят здесь на второй план. Горячая тень, пламенно-красные пятна на лице и зеленое морское окно – все это создает чрезвычайно красивое колористическое целое. Но есть что-то еще более важное во внутреннем движении изображенного лица, в его взгляде. Предмет этого искусства – дух человеческий, и только один Тинторетто мог взяться за это и запечатлеть его на полотне. Он ничем не украшает и не объясняет свои портреты. Если в галерее Колонна, в Риме, есть старик, играющий на спинете, и если море открывается в окне за спиной Винченцо Зено и адмирала Веньера в Питти и в Уффициях, то это лишь потому, что душа этих людей живет не только в них, но и в звуках спинета или в зеленых равнинах моря. Тинторетто не психологичен, характер мало интересует его, ибо характер – только минутная и случайная особенность единого человеческого духа. Одни из этих патрициев были добры, другие злы, одни коварны, другие великодушны – важно ли это? И не важнее ли всего то человеческое, вечное и общее, что было в них, – та стихия жизни, которая двигала их грузные, широко задрапированные в красные мантии тела, давала острый блеск взгляду и роила мысль под их огненными черепами.
Тинторетто был последним из великих художников итальянского Возрождения. Мятущаяся и тревожная человечность его искусства перекидывает мост через глубокую пропасть, отделяющую нас от существ, создавших эру Ренессанса. Они кажутся нам полубогами, как Леонардо, мифическими героями, как Шекспир. Им можно поклоняться, но их не дано лицезреть простому человеческому глазу. Лицо Тинторетто кажется почти знакомым, светлым человеческим лицом. Его черты напоминают черты Броунинга, Толстого – черты великих людей нашего времени, наших мыслителей и поэтов.
Век маски
Dust and ashes, dead and done with, Venice spent what Venice earned. The soul, doubtless, is immortal – Where a soul can de discerned.
Rob. Browning[4]
За что можно любить XVIII век? Вот вопрос, который часто приходит в голову теперь, когда проходит особое увлечение этой эпохой. В опустошенном Версале, осенью или ранней весной, есть большая гордость и печальная красота. И изумляющей нас красотой проникнуто все, что осталось от уклада той жизни. Искусство XVIII века мы всегда видим как-то вместе с жизнью, с бестелесными призраками ее, придающими всякой вещи того времени аромат живых воспоминаний. Иное дело, например, живопись голландцев, которая остается для нас просто эстетическим фактом. Она не привлекает воображения к тем людям, какие создали ее и для каких она существовала. Что касается итальянского Возрождения, то нас отделяет от него слишком большой промежуток времени. Мы слишком мало знаем о нем, иначе как из картин и книг, а может быть, память поддерживается в поколениях не столько музеем и документом, как традицией, живущей в вещах, в незаметных подробностях быта, привычек, вкусов. В нашей жизни сохранились, может быть, до сих пор какие-то следы и черточки такой традиции, восходящей к XVIII веку. Мы всегда чувствуем себя его прямыми наследниками и от этого так легко о нем вспоминаем. Нам всегда кажется, будто кто-то в нашем детстве рассказывал нам про то время, повторяя на старости лет рассказы, слышанные в своем детстве и еще не вполне забытые.
Во всяком воспоминании есть благодарность, есть убаюкивающее очарование. Прошлое одевается убором, сотканным из тончайшей душевной пряжи. Оно является воображению в особой игре света и тени, после которой слишком будничным и скучным кажется изучение его при дневном свете книжной истории. Но без такого изучения нельзя обойтись, хотя бы по одному тому, что все наши библиотеки завалены книгами того времени – они невольно попадаются под руку. Мы слишком хорошо знаем внутреннюю жизнь той эпохи, чтобы иметь возможность отрешиться от нашего знания. И не странно ли, что эта внутренняя жизнь, самая душа эпохи, кажется нам бедной, пустой, ничтожной в то самое время, когда значительным, увлекательным и великолепным представляется все, что составляло ее внешность и форму. Мы умеем любоваться превосходными виньетками, буквами и переплетами сочинений Вольтера, мы готовы, пожалуй, еще оценить его стиль, но для кого интересна сейчас сущность Вольтера, его философия и даже его esprit?[5] «Идеи» XVIII века кажутся нам слишком элементарными, они слишком вошли в обиход современной жизни. Они или очевидно верны, или очевидно ошибочны, и в том и в другом случае о них нечего думать. Но ведь эти идеи – гордость и лучшее достояние, как принято считать, тех самых людей, которые настраивают наше воображение на такой мечтательный лад. За идеями рисуются характеры, лица – умные, трезвые глаза, рот, искривленный намеренной саркастической усмешкой, сухой, себялюбиво замкнутый профиль. Ребяческий задор таких слов, как «торжество разума», вызывает у нас только улыбку. Но если не разум, так рассудочность в самом деле торжествовала тогда, и сколько было в этом самодовольства и ограниченности! Смертельная сухость была в тогдашних сердцах, и сплошным утомительным днем была вся жизнь «философов», на которую ничто неведомое не бросало своей освежающей тени. От этих мыслей нельзя отделаться, когда читаешь даже такую замечательную книгу, как «Liaisons dangereuses»[6] Лакло. Эта мало известная у нас книга удивительно выражает свою эпоху. В ней достигнуты вершины того, что дано было достигнуть литературе XVIII века. Блеск ума, холодная ясная наблюдательность и точность бесстрастной выдумки, с какими рассказывается здесь история светских обольщений, едва ли превзойдены романистами нашего времени. В истории романа Лакло – огромное, с явной несправедливостью пропущенное имя. Сложные постройки Бальзака кажутся непрочными рядом с математически верным построением этого романа в письмах. И понятно почему: Бальзак вечно теряет равновесие под наплывом теплых человеческих чувств и симпатий. У Лакло нет симпатий, и неизвестно, чувствовало ли что-нибудь его каменное сердце. Он приводит на ум пушкинское «Homme sans moeurs et sans religion»[7].
Подвиги героев Лакло, опасного соблазнителя графа Вальмона и еще более опасной развратницы и интриганки маркизы де Мертейль, это в сущности подвиги аналитической мысли. У них все построено на знании людей, на убеждении, что можно проникнуть умом в самые тайные уголки человеческой души. Ибо, конечно, тайн нет, нет случая и судьбы, и еще не изобретены «скандинавские туманы», на которые станет жаловаться впоследствии такой ученик XVIII века, как Эдмон де Гонкур. Никаких препятствий не существует для «философа», постигнувшего некий механизм, который двигает обществом и людьми. В его умелых руках они становятся послушными марионетками. Лакло сам верил так же твердо в свое окончательное знание человеческой природы, как верил его Вальмон и как верили все люди того века. Пятьдесят лет спустя Бальзак был принужден ввести гигантские колеблющиеся образы, какие-то нечеловеческие тени в свою «Человеческую комедию». Но в 1780 году все казалось еще доступным измерению любопытствующего разума и подчиненным циничным выводам психологической геометрии. В книге Лакло нет ни одной строчки, не идущей к делу. Ничто в этих письмах – в этом цикле последовательных теорем – не говорится так себе, «на воздух». В этой книге в самом деле как будто нет воздуха, и в ее острой, сухой умственности есть что-то невыносимо удушливое. В конце концов граф Вальмон и маркиза де Мертейль становятся прямо страшными. Этого, несомненно, не ожидал Лакло – все равно, писал ли он книгу для назидания, как говорится в предисловии, или, что вернее, просто ради наслаждения своим знанием людей и нравов. И в этом мы приближаемся к странному повороту в воззрениях на XVIII век, с того момента, когда он торжественно отошел в прошлое под выстрелы наполеоновских пушек. В наши представления об иных характерах того времени вкрадывается немного жуткое чувство. Они поражают воображение своей смутностью, показывающей, что и тогда далеко не все было так ясно, как это казалось для современников. На гравюрах той эпохи граф Вальмон изображен розовым круглолицым юношей, и как это бесконечно далеко от мрачного гения, каким нарисовал его Бердсли. Но гораздо раньше Бердсли и задолго до того, как родилось жуткое и едкое искусство Сомова, XVIII век стал внушать двойственные и фантастические образы. Точно крушение старой жизни освободило вдруг скрытое в ней колдовство, которое заклубилось над колыбелями Эрнста Теодора Гофмана, Эдгара По и гениального автора «Пиковой дамы».
XVIII век был отечеством романтизма, и не только сентиментального, «тихого» романтизма Руссо и Шатобриана, но и всей фантастической романтики. По какому-то историческому возмездию этот век неустанного «Просвещения» и веры в разум хранил в себе зерна, из которых выросли потом причудливые и необыкновенные деревья, – целый заколдованный романтический лес, полный чудес и теней. Стоило только немного уйти вперед и оглянуться на ту жизнь, чтобы среди толпы «философов», остроумцев, политических деятелей и естествоиспытателей увидеть безумного Крейслера, увидеть Коппелиуса, увидеть человека, потерявшего свое отражение, – увидеть, словом, все то, что увидел Гофман. Стоило лишь найти другой угол зрения, изменить некоторые пропорции фигур, групп, аксессуаров и обстановки в картине XVIII века, чтобы все эти дворы, салоны, игорные дома, театры, концертные залы, гостиницы и академии, с переполняющей их пестрой толпой, обратились вдруг в очаровательно нереальное зрелище. Чтобы лучше чувствовать все это, надо было отойти от большой дороги истории, от энциклопедии, от финансовых реформ и споров о конституции. Гофману, кроме того, что он жил позднее, помогли его скитания по немецким проселкам, где встречались уже вдохновенные романтические юноши, и по маленьким немецким столицам, где так добросовестно следили за веком во всем, что касалось поклонов, париков и пряжек, но где так почтенно отставали от модных идей. И еще больше того Гофману помогло его пребывание в Италии в Венеции.
В XVIII веке, что блестяще показала в своей замечательной книге Вернон Ли, Италия не была погружена, как обычно думают, в апатию – она осталась родиной художественного гения и дала миру новое искусство – музыку. Повторяя вместе с остальной Европой французские нравы и вкусы, принимая чужой покрой одежды и даже чужой покрой мыслей, Италия осталась в основе своей особенной и нисколько не похожей на Францию. Она не могла всерьез проникнуться «философией» XVIII века, не могла понять его esprit, не могла воспринять его сухой и черствой, чисто французской рассудочности. К идеям того времени она не прибавила ничего, да, кажется, из всех привозимых из-за Альп предметов идеи интересовали ее меньше всего. От этого, может быть, зрелище XVIII века нигде не представляет такой занимательности и затейливости, не омраченной никакими серьезными размышлениями и предчувствиями, как в Италии. То, что было в Париже лишь декорацией, плохо скрывавшей ход каких-то грозных исторических событий, то в Италии было действительно театральной декорацией – декорацией оперы, комедии нравов, фантастической комедии, комедии масок. Никогда и нигде жизнь не была так похожа на театральное зрелище, как в Италии XVIII века. Что иное, как не сознание себя участником какой-то вечной комедии, разыгрываемой на улицах и площадях, в виду моря, гор и садов, заставляло итальянцев тех времен с такой страстью рядиться и с такой радостью надевать маску в дни карнавала. В этой «ненастоящей» жизни было все, чтобы создать Гофмана. Можно удивляться, что только один Гофман нашелся среди бесчисленных путешественников, наводнявших самый фантастический город тогдашней Италии и всей Европы – Венецию.
Можно не очень любить XVIII век вообще, но даже и в этом случае трудно избежать очарования Венеции XVIII века. Там с удивительной чистотой и крепостью отстоялась художественная сущность того времени, эссенция той жизни, до сих пор не утратившая своего аромата. Венеция была тогда второй столицей Европы. Она делила с Парижем поровну всех знаменитостей сцены, искусства и любви, всех знатных путешественников, всех необыкновенных людей, всех авантюристов, всех любопытных, всех тонких ценителей жизни и всех ее изобразителей. Но у Венеции было то преимущество, что в ней не было резонеров, лицемерных моралистов, деловых людей и скучных насмешников.
XVIII век был веком музыки, и ни один из городов Европы и даже Италии не мог сравниться тогда с Венецией по музыкальности. Одним из самых замечательных композиторов того времени был венецианский патриций Марчелло. Венеция превратила четыре женских монастыря в превосходно поставленные музыкальные школы, и слово «консерватория», обозначающее собственно приют, сделалось с тех пор нарицательным именем для всякой музыкальной академии. Во главе этих консерваторий стояли лучшие музыканты эпохи: Доменико Скарлатти, Гассе, Порпора, Иомелли, Галуппи. На всех, кто слышал тогда пение у «Инкурабили» или слышал у «Мендиканти» исполнение оркестра, состоявшего исключительно из девочек и девушек, одетых в белые платья с гранатовыми цветами в волосах, эти концерты производили неизгладимое впечатление. «Я не имел прежде никакого представления о подобных голосах», – пишет Гете. «Я не имел раньше понятия о таком наслаждении, о таких нежных волнениях, какие заставляет испытывать эта музыка…» – пишет Руссо. «Мало что я жалел так, расставаясь с Венецией, как эту консерваторию Мендиканти!» – восклицает Бекфорд.
XVIII век часто называют веком беспрерывного праздника. Но это плохо вяжется с той огромной работой, подготовлявшей переворот, которая совершалась в Париже. Не вернее ли думать, что никогда еще Париж не работал так напряженно, как тогда, потому что он работал для всей Европы? Он изготовлял на всю Европу новые моды и новые научные открытия, новые блюда и новые идеи, новые эпиграммы и новые политические теории. Кое-что из этого приходилось и на долю Венеции, но сама Венеция не делала решительно ничего. Венецианская жизнь XVIII века была действительно вечным праздником. «Венеция, – пишет Монье, – накопила за собой слишком много истории, она отметила слишком много дат и пролила слишком много крови. Она слишком долго и слишком далеко отправляла свои страшные галеры, слишком много мечтала о грандиозных предназначениях и слишком многие из них осуществила… После трудной недели настало наконец воскресенье и начался праздник. Ее население – это праздничная и праздная толпа: поэты и приживальщики, парикмахеры и ростовщики, певцы, веселые женщины, танцовщицы, актрисы, сводники и банкометы, – все, что живет удовольствиями или создает их. Благословенный час театров и концертов – это час их праздника. И все, окружающее их в этот час, – это убранство праздника. Жизнь покинула огромные давящие дворцы, она стала общей и уличной и весело разлилась ярмаркой по всему городу. Она нашла себе постоянное место на Пьяцце, на Пьяцетте и поблизости оттуда, под аркадами, перед лавками, вдоль Большого Канала, в кафе, в казино, в Брольо, где патриции заводят еще мелочные интриги, и в Ридотто, где они серьезно, точно в совете, мечут банк с открытым лицом среди маскированной толпы. Ночей нет или, по крайней мере, есть только бессонные ночи. В Венеции семь театров, двести постоянно открытых кафе, бесчисленное множество казино, в которых зажигаются свечи только в два часа ночи и в которых самые благородные кавалеры и дамы смешиваются с толпой незнакомцев… Днем перед кафе пятьсот посетителей сидят за столиками, и говор их смешивается со звоном ложечек, которыми мешают шербет. Под аркадами Прокураций проходят плащи из серого шелка, из голубого шелка, из красного шелка, из черного шелка, проходят зеленые камзолы, обшитые золотом и отделанные мехом, проходят пурпурные рясы, халаты с разводами, золотые ризы, муфты из леопарда, веера из бумаги, тюрбаны, султаны и маленькие женские треуголки, вызывающе сдвинутые на ухо. Это народонаселение феерии, восточного базара, морского порта, где все обычаи встречаются, где сталкиваются и уживаются рядом все наречия и где, не будь Кампаниле, англичанин Бекфорд готов был считать себя в Вавилоне».
XVIII век был веком маски. Но в Венеции маска стала почти что государственным учреждением, одним из последних созданий этого утратившего всякий серьезный смысл государства. С первого воскресенья в октябре и до Рождества, с 6 января и до первого дня поста, в День св. Марка, в праздник Вознесения, в день выборов дожа и других должностных лиц каждому из венецианцев было позволено носить маску. В эти дни открыты театры, это карнавал, и он длится таким образом полгода. «И пока он длится, все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться; разрешенная Республикой маска находится под ее покровительством. Маскированным можно войти всюду: в салон, в канцелярию, в монастырь, на бал, во дворец, в Ридотто. Это легко читать, сидя в кресле, но надо только представить себе это как следует! Никаких преград, никаких званий. Нет больше ни патриция в длинной мантии, ни носильщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни сбира, ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, ни бедняка, ни иностранца. Нет ничего, кроме одного титула и одного существа, Sior Maschera…»[8] Надо представить себе все это, но как уйти от наших вечных деловитых будней, как вообразить целый город с полуторастатысячным населением, целый народ, охваченный таким прекрасным сумасбродством, какого никогда до тех пор не видел мир и какого, конечно, он больше никогда не увидит. Нам остается перечитать книги счастливых путешественников того времени и над страницами старинных записок вновь переживать энтузиазм Гете, де Бросса, Бекфорда и Архенгольца. Но – благодарение судьбе! – нам остается больше, чем это. Венеция XVIII века еще жива в тех ее образах, которые бережно и преданно сохранил для нас последний из ее художников, Пьетро Лонги.
В Венеции XVIII века было немало превосходных художников. Среди них были люди такого полета, как Тьеполо, такого редкого изящества, как Гварди, такой тонкости зрения, как Каналетто. Едва ли с ними может сравниться Пьетро Лонги, если рассматривать его как живописца. Он не был, что называется, большим мастером. Но никакой другой художник не сравнится с Лонги в прелести изображения венецианской жизни. Здесь важно, разумеется, не то, что жанры Лонги являются неоценимым документом для истории нравов. Лонги был не только бытописателем своего времени, он был настоящим поэтом. Он верно воспроизводил то, что видел, но видел он как раз то, в чем и были выражены самые остропрелестные черты эпохи. Он чувствовал все художественные возможности, которые давала окружавшая его жизнь. Если он не был в состоянии обратить их в мастерские произведения, то это не его вина. От этого картинки не менее теплы, душисты и так неожиданно трогательны.
Лонги верно понял главный художественный «нерв» тогдашней венецианской жизни – красоту маски. Маска является главным мотивом почти всех его картин. Самое представление о Лонги нераздельно с представлением о «баутте», об этой странно установившейся форме венецианского карнавала. «Bautta» значит вообще «домино», но венецианская «баутта» подчинена изумительно строгому рисунку и строгому сочетанию двух цветов – черного и белого. В этом видна прекрасная привычка к художественному закону, и до сих пор управляющему городом черных гондол и черных платков «zendaletto». Венецианская «баутта» состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз и из широкого черного плаща с черной кружевной пелериной. К маске был прикреплен кусок черного шелка, совершенно закрывавший нижнюю часть лица, шею и затылок. На голову надевалась треугольная черная шляпа, отделанная серебряным галуном. При «баутте» носили белые шелковые чулки и черные туфли с пряжками.
В недавно открытых залах музея Коррер есть манекен, наряженный в полный костюм «баутты». Там собраны и другие венецианские костюмы того времени, разные принадлежности быта, курьезный театр марионеток, мебель работы знаменитого Брустолона. Там есть несколько великолепных люстр и зеркал, чудесные изделия стеклянных заводов Мурано. Так бесконечно грустно сравнивать эти произведения высокого мастерства с безвкусицей нынешних муранских стекол. Это чувство хорошо знакомо каждому, кто побывал в музее на самом острове и бродил по его пустынным залам, хранящим вещи божественной красоты рядом с доказательствами нашего убожества. Прекрасно старое муранское стекло и старое венецианское зеркало! Их хрупкая красота – тонкий звон хрустальных подвесок люстры, матовый блеск зеркал, игра бриллиантовых искр в окаймляющих их стеклянных украшениях – так шла к Венеции XVIII века, к ее искусству, к ее ненастоящей, почти что только нарисованной жизни. Маска, свеча и зеркало – вот образ Венеции XVIII века.
Маски, свечи и зеркала – вот что постоянно встречается на картинах Пьетро Лонги. Несколько таких картин украшают новые комнаты музея Коррер, заканчивая стройность этого памятника, который Венеция воздвигла наконец своему XVIII веку. Здесь есть ряд картин, изображающих сцены в «Ридотто». Этим именем назывался открытый игорный дом, разрешенный правительством, в котором дозволено было держать банк только патрициям, но в котором всякий мог понтировать. Ридотто было настоящим центром тогдашней венецианской жизни. Здесь завязывались любовные интриги, здесь начиналась карьера авантюристов. Здесь заканчивались веселые ужины и ученые заседания. Сюда приходили после прогулки в гондоле, после театра, после часов безделья в кафе на Пьяцце, после свидания в своем казино. Сюда приходили с новой возлюбленной, чтобы испытать счастье новой четы, и часто эта возлюбленная бывала переодетой монахиней. Но кто мог бы узнать ее под таинственной «бауттой», открывавшей только руку, держащую веер, да маленькую ногу в низко срезанной туфельке. Когда в 1774 году сенат постановил наконец закрыть Ридотто, уныние охватило Венецию. «Все стали ипохондриками, – писали тогда отсюда, – купцы не торгуют, ростовщики-евреи пожелтели, как дыни, продавцы масок умирают с голода, и у разных господ, привыкших тасовать карты десять часов в сутки, окоченели руки. Положительно пороки необходимы для деятельности каждого государства».
На картинах Лонги перед нами Ридотто в дни его расцвета. В залах сумрачно, несмотря на блеск свечей в многочисленных люстрах, свешивающихся с потолка. Кое-где слабо мерцают зеркала. У стен стоят столы, за которыми видны патриции в больших париках. Толпа масок наполняет залы. «Баутты» проходят одна за другой, как фантастические и немного зловещие ночные птицы. Резкие тени подчеркивают огромные носы и глубокие глазные впадины масок, большие муфты из горностая увеличивают впечатление сказки, какого-то необыкновенного сна. Среди толпы «баутт» встречаются женщины-простолюдинки в коротких юбках и открытых корсажах с забавными, совершенно круглыми масками коломбины на лицах. Встречаются дети, одетые маленькими арлекинами, страшные замаскированные персонажи в высоких шляпах и люди, напоминающие своими нарядами восточные моря. Все это образует группы неслыханной красоты, причудливости и мрачной пышности. Наш ум отказывается верить, что перед нами только жанровые сценки, аккуратно списанные с жизни.
В сценах из жизни Ридотто Лонги коснулся самых фантастических сторон Венеции XVIII века. Как будто около игорных столов та жизнь заражалась магизмом, всегда скрытым в картах и в золоте, и ее образы становились образами, стоящими на границе с бредом, с галлюцинацией. В толпе, наполнявшей Ридотто, бродили все духи XVIII века, смеявшиеся над его философией, немного страшные, но в сущности благожелательные существа, скорее опасные шутники, дьявольские арлекины, чем настоящие враги радостей человека. Не выходя из музея Коррер и продолжая рассматривать картинки Лонги, можно узнать более тихое счастье и более ясную праздность венецианского дня. Утро в приемной комнате монастыря Сан-Заккариа. За решетчатыми квадратными окнами целый рой белых девушек. Они прижимаются к самым решеткам, чтобы получше рассмотреть всех своих гостей и потише шептаться с тем, с кем это нужно. Их всегда стараются развлечь, на всех картинках, изображающих монастырские приемные, видны марионеточные театрики. Гости тоже поворачивают головы в сторону нехитрой забавы и сопровождающей ее нехитрой музыки. Важные прелаты и нарядные дамы, держащие в руках чашку кофе, снисходительно смотрят на крохотные фигурки, танцующие фурлану. Но иногда фурлану танцуют не только куколки, но кавалеры и дамы, сбросившие с себя баутты и сдвинувшие с лица маски, и тогда под сводами монастыря раздается музыка маленького оркестра. Тогда вечер, горят свечи, и это бал в монастырской приемной, одна из любимых вольностей венецианского карнавала.
В картинках Лонги перед нами проходит вся домашняя и уличная жизнь Венеции XVIII века. Дама совершает свой первый утренний туалет. Немного позже дама полулежит на софе, накинув на плечи мех, и пьет шоколад, слушая последний сонет домашнего поэта. Далее следует ряд утренних сцен с парикмахером, с зеркалом, с портным, принесшим новую материю. Или перед хорошенькой круглолицей женщиной с черной ленточкой на шее вырастает посланец с любовным письмом, огромный негр в красном кафтане, в белой меховой шапке с пером. Или ее «чичисбей», исполняя свою скромную роль cavaliere servente[9], прибегает сказать ей, что гондола ожидает внизу. Венецианка учится, старый балетный мастер обучает ее под скрипку юного и несмелого музыканта. Сидя перед клавесином, она ожидает учителя музыки, сгорбленного чудака в старомодном парике, забывая прогнать левретку, которая, конечно, присоединяет свое тявканье к ариям Паизиелло и Чимарозы. Она учится географии и безжалостно колет циркулем глобус в ответ на почтительные вопросы учителя. Она даже не замечает, что в это время другой гость всецело поглощен созерцанием слишком большого выреза ее платья.
Венецианка показывает свои таланты вечером на домашнем концерте, в салонной беседе с учеными аббатами или на балу. Балы Лонги написаны так, что от них пахнет пудрой, духами и воском свечей. Часто его персонажи играют в карты за круглым столом; летом они охотятся или устраивают пикники. Он знает про них все, он знает, как венецианка болеет, как падает в обморок, как принимает визит маски. В цикле картинок под названием «Семь таинств» он берется за глубочайшую задачу жанра – изображение важнейших моментов в жизни человека, от крещения и до последнего причастия.
И все-таки лучше всего Лонги чувствует себя на улице. Венеция XVIII века дает не слишком много тем любителю домашней жизни, она вся на улице. Там никому не сидится дома. Путешественник де Бросс рассказывает, что он выходил из дома по четыре раза в день, чтобы наслаждаться зрелищем венецианской жизни. И, наверное, Лонги проводил на улице целые дни в поисках живописных приключений черных баутт, раздуваемых теплым морским ветром.
Маски бродят под аркадами Дворца дожей, приостанавливаясь, чтобы заглянуть в домик марионеток, или рассеянно преследуя встречных женщин. Молодая дама в домино, но с открытым лицом мимоходом протягивает руку старой гадалке и с улыбкой слушает ее привычную лесть. При выходе из полутемного дворца продавщица духов предлагает свой товар проплывающим бауттам. Компания замаскированных знатных господ заходит от нечего делать в балаган кукольного театра или в палатку шарлатана. Но вот разносится новость: в Венецию привезли великана Корнелио Маграт, и маски толпятся около нового «чуда». Художник Пьетро Лонги приходит туда же и потом рисует великана, масок вокруг него и отмечает точно дату такого великого события. После великана привозят льва, после льва – носорога, после носорога – слона. Лонги рисует и льва, и слона, и носорога.
Во время своих прогулок по городу Лонги видит добрый венецианский народ. Он пишет прачек, продавщиц кренделей «чиамбелли», фурлану, исполненную под аккомпанемент бубна в каком-нибудь глухом закоулке. Ни в его картинах, ни в книгах того времени венецианский народ не кажется несчастным, обездоленным. Он как-то тоже участвует в празднике жизни. В этом глубокое отличие Венеции XVIII века от Парижа. Здесь нет таких острых общественных противоречий, и в воздухе, которым здесь дышит смешанная толпа, не разлит яд ненависти. Это чисто итальянская черта. Италия всегда была и до сих пор останется народной. Говоря о праздной и счастливой жизни в Венеции того времени, мы не должны о чем-то умалчивать, закрывать глаза на чьи-то социальные страдания. Если здесь был праздник, то этот праздник был действительно для всех. Залой его была сама улица, и бальным костюмом была общая для всех баутта. Что еще важнее, всякий мог им наслаждаться, потому что умел наслаждаться. В душе самых простых людей здесь жило такое чувство прекрасного, такой врожденный аристократизм вкусов и удовольствий, какого не знала Франция, несмотря на долгую и трудную придворную выучку. Ведь только этим можно объяснить такое создание итальянского народного гения, как комедия масок.
Венеция XVIII века видела последнюю великолепную вспышку итальянской комедии масок (Commedia dell’Arte). Комедию масок можно считать самым древним искусством на итальянской земле. Представления с участием нескольких «характеров», выраженных определенными масками, свободно импровизирующими свои роли, существовали в Италии в римские времена и продолжали существовать вместе с комедиями Теренция и Плавта под именем «ателланских фарсов». Судьба импровизированной комедии в Средние века мало известна. Известно только, что она воскресла в эпоху Возрождения и во второй половине XVI века сделалась излюбленным итальянским зрелищем. Увлечение этой забавой охватило всю Италию, от Альп до Калабрии. И вслед за тем оно распространилось по всей Европе. Труппы итальянских комедиантов появляются в Германии, в Англии, в Испании; со времен Генриха III итальянская комедия прочно обосновывается при французском дворе.
В XVII веке, когда живопись уже приютилась под сень академий, когда музыка еще не отделилась от церкви и когда опера только искала будущей формы, в Италии существовало, строго говоря, одно всенародное и полное жизни искусство – комедия масок. Она воплощала в себе весь художественный мир божественно одаренного народа. На ней искренно отдыхали люди «барокко», уставшие от бесчисленных академий, церемонных поклонов и огромных париков. Даже такой эпохе холодной парадности, как XVII век, Италия сумела найти противоядие и сумела нарушить ее молчаливую пышность пестротой и путаницей диалогов, ужимок, дурачеств, трескотней и хохотом народной комедии. Комедия масок раскидывала свой лагерь на строгих площадях, размеренных «барочными» архитекторами, перед виллами папских племянников и перед фасадами иезуитских церквей. Иногда она, прикрывшись скромным плащом, проникала в грандиозные залы с лепными потолками и фресками Караччи, где общество дипломатов, педантов и прелатов развлекалось выходками Арлекина и Скарамуша. И иногда у этих важных «персон» XVII века возникало желание самим участвовать в народной забаве. До нас дошли воспоминания о комедиях, в которых роли главных масок были разыграны во Флоренции художником Сальватором Розой, математиком Торричелли и эллинистом Дати. До нас ничего не дошло от старинной комедии масок, кроме немногих воспоминаний. Иначе и не могло быть с искусством, которое существовало лишь в словах и движениях создавших его людей. Эта комедия должна была исчезнуть бесследно со смертью ее последнего актера. Сохранилось несколько написанных сюжетов, где рассказан ход пьесы и указана последовательность выходов. Но, как говорит Вернон Ли, их можно сравнить с бесформенными сооружениями, оставшимися после какого-то чудесного фейерверка. «От всех огненных дворцов, внезапно выраставших из земли, от всех фонтанов пламени, от всех букетов искр и снопов лучей, от всего этого удивительного, волшебного мира ничего не осталось, кроме угрюмых столбов и унылых проволок». Ибо главное в комедии масок было не в том листке с ходом пьесы, который вывешивался в кулисах для сведения актеров, но в их диалогах, шутках и проделках, которые были чистой импровизацией. Разумеется, каждому актеру не приходилось что ни вечер, то с начала и до конца импровизировать свою роль. Всю жизнь он играл одну и ту же маску, он сживался с ее характером и постепенно накоплял запас фраз, движений и комических положений. Оставалось только применить их к данному случаю. «Актеры комедии масок, – говорит Вернон Ли, – скорее всего, были вовсе не актерами, но фантастическими существами. Писаная роль была так же не нужна им, как не нужна такая роль всякому существу, естественно живущему своей жизнью. В силу необходимости, по закону своей природы, они чувствовали, действовали и говорили то, что было нужно и как было нужно. Ясно, что для них не нужно было ничего писать, надо было только противопоставить их одного другому. Тогда встреча Панталоне и Бригеллы, Арлекина и Доктора, Пульчинеллы и Скарамуша производила в силу автоматической коллизии характеров всегда новые и всегда естественные действия и диалоги».
Каждое из этих «фантастических существ» насчитывало за собой века жизни, традиций, преданий. Множество масок возникало на короткий миг и потом опять пропадало, но главные маски итальянской комедии без особых изменений дошли со времен Торквато Тассо до времен Гольдони и Гете. Все тем же был знаменитый венецианский купец Панталоне де Бизоньози, ревнивый, нерешительный и ничего не видящий в своем странном, наполовину средневековом обличье, – длинные красные чулки, короткий камзол, торчащая вперед борода и плащ с капюшоном. Все таким же оставался доктор Баланцоне, порожденный педантами Возрождения, и окружали его те же двое слуг, плуты и повесы, полосатый Бригелла и Арлекин, наряженный в костюм из разноцветных кусочков. В числе главных масок надо еще назвать служанку Коломбину, простака Тарталью, грубияна Пульчинеллу и забияку Скарамуша, затем идут разновидности Арлекина, его братья, сыновья и племянники, Труффальдины, Медзетины, Ковиелло. Кроме того, в каждой пьесе есть непременно влюбленная пара с оперными именами, как Лелио и Фламиния, Зелинда и Линдор, Леандро и Розаура.
Чрезвычайно типична для Италии связь каждой из этих масок с каким-нибудь определенным городом. Здесь еще раз сказывается яркий «индивидуализм» итальянских городов, стремящихся создать непременно свое во всем – в истории, в искусстве и даже в комедийном характере. На сцене каждый из этих персонажей говорил на диалекте своего города. Комедия масок смешивала детский говор венецианца Панталоне с грубоватой речью Доктора, который, как и подобает ученому, родился в ученой Болонье. Арлекин из Бергамо и Бригелла из Брешии должны были немало помогать мимикой своему выговору, такому чужому для итальянского уха. Пульчинелла со времен Цицерона составляет необходимую принадлежность Неаполя. Менегино родом из Милана, Фаджолино – из Болоньи, Стентерелло – флорентиец, Паскариелло – римлянин. У итальянской маски, как видно, была своя карта, так же ярко окрашенная в местные цвета, как карта итальянской живописи и поэзии.
Если мы бросим взгляд на эту карту, то сразу увидим, так сказать, преобладание Венеции. Итальянская комедия немыслима без венецианца Панталоне и венецианки Коломбины, без двух шутов, Арлекина и Бригеллы, родившихся в венецианских провинциях Бергамо и Брешии. В Венеции комедия масок быстрее всего расцвела, и здесь она прежде, чем где-либо, стала клониться к упадку. Здесь в 1707 году родился Карло Гольдони, с именем которого связана уже новая эпоха в истории итальянского театра. Гольдони вырос среди масок, он воспитался на старой комедии и бессознательно воспринял многие из ее традиций, удержал многое из духа. Но он чувствовал себя реформатором, призванным свергнуть комедию импровизаций, чтобы на ее место поставить новую, свою комедию. Он объявил маскам беспощадную войну и среди своих шумных успехов подписал смертный приговор тем наивным и пестрым созданиям, которые столько веков бесхитростно веселили Италию.
Когда теперь, через сто пятьдесят лет, мы обращаем взор к тем временам, то для нас ясно, что Гольдони руководила историческая судьба вещей.
Комедия масок рано или поздно должна была уступить место писаной реалистической комедии, и Гольдони был просто выражением некоей исторической потребности. Как бы мы ни восхищались комедией масок, мы не можем считать Гольдони злодеем за то, что он выступил врагом маски. Напротив, в перспективе веков комедия Гольдони представляется нам чуть ли не разновидностью старой Commedia dell’Arte. Старые Арлекины и Панталоне видны для нас в персонажах Гольдони, и нам ясно, что Гольдони только перекрестил и переодел их, но нисколько не уничтожил. Но то, что видно на расстоянии, не могло так примирительно и спокойно чувствоваться в эпоху его наибольших триумфов. Тогда еще не был ясен даже путь, которым шел Гольдони. Когда мы говорим о Гольдони теперь, мы говорим только об его милых и простых бытовых венецианских комедиях. Мы забываем, что Гольдони писал еще трагедии, в подражание ничтожным, надутым и лживым французским трагедиям эпохи. Мы упускаем из виду, что эти трагедии прежде всего составили славу Гольдони и что эту славу он делил с таким бездарным версификатором и изготовителем слезливых моралистических пьес, как аббат Кьяри.
Около 1755 года для каждого, кто любил комедию масок, кто видел в ней одно из прекрасных проявлений итальянского народного гения, кто сжился с детства с ее простыми радостями, настали печальные дни в Венеции. Последняя комедийная труппа, труппа знаменитого арлекина Сакки, должна была оставить родной город и искать заработков в далекой Португалии. Все театры были заполнены трагедиями Кьяри, переведенными с французского, пьесами Гольдони, подражающими французским, или его «реформированными» комедиями. Однажды в книжной лавке Беттинелли, расположенной в темном закоулке за Toppe дель Оролоджио, встретились несколько литераторов. В их числе был сам Гольдони. Опьяненный своим успехом, он долго рассказывал о значении сделанного им переворота в итальянском театре, он осыпал насмешками и бранью старую комедию масок. Тогда один из присутствующих, высокий и худой человек, молчаливо сидевший до тех пор на связке книг, поднялся и воскликнул: «Клянусь, что с помощью масок нашей старой комедии я соберу больше зрителей на «Любовь к трем апельсинам», чем вы на разные ваши «Памелы и Ирканы». Все рассмеялись этой шутке графа Карло Гоцци: «Любовь к трем апельсинам» была народной сказкой, которую рассказывали тогда няньки маленьким детям. Но Карло Гоцци не думал шутить, и Венеция скоро убедилась в этом. Случай благоприятствовал на этот раз Гоцци. Лиссабонское землетрясение прогнало из Португалии труппу Сакки. «Никогда, – пишет Гоцци в своих мемуарах, – наша народная комедия масок не была в лучших руках… Глава труппы, старый Сакки, замечательно играл Труффальдина, полный огня и веселья неаполитанец Фиорилли исполнял роль Тартальи, Цаннони был Бригеллой, а венецианец Дарбес неподражаемым Панталоне». Вскоре после их возвращения появилась маленькая афиша, извещавшая публику об открытии вновь театра Сан-Самуэле. Карло Гоцци сдержал свое слово: он поставил пьесу «Любовь к трем апельсинам». Зрительный зал был переполнен. Перед открытием занавеса на сцену вышел ребенок, одетый Прологом. Он подошел к рампе и сказал, что автор по своему чудачеству захотел поставить пьесу, которая еще нигде и никогда не шла. Он просит прощения у зрителей, что не показывает им вещь старую, переведенную с другого языка, истрепанную, приукрашенную павлиньими перьями и неуклюжими моральными сентенциями. Затем Пролог ушел, и пьеса началась. На сцене король бубен – Труффальдин и его сын – Тарталья. Тарталья медленно умирает от скуки и тоски. Слезливые драмы из репертуара Кьяри, убийственные переводы с французского привели его к смертельной меланхолии. Король бубен советуется со своими министрами – Панталоне, Бригеллой, Леандром. Одни советуют опиум, другие – модные французские идеи, третьи – трагикомический декокт Гольдони. Но Коломбина уверяет, что от этого молодому принцу будет только хуже. Спрашивают оракула, и тот отвечает, что юношу вылечит только смех. Король бубен открывает двери своего дворца и обещает награду всякому, кто развеселит больного. Перед ним танцуют, его всячески забавляют – ничего не помогает, и он печален. Но вот старая женщина приходит вместе с другими, пользуясь случаем, набрать воды из царского колодца. Панталоне и Бригелла пристают к ней с разными дурачествами, проделывая все классические «ладзи» итальянской комедии. Старуха замахивается на них палкой и вдруг падает, высоко подняв ноги. Принц смеется и мгновенно выздоравливает. Но старуха оказывается злой феей Фата-Морганой, она обрекает принца на любовь к трем апельсинам. И дальше идут еще четыре акта, наполненные превращениями, феями и всеми чудесами детской волшебной сказки.
Сквозь всю пьесу проходят роли четырех масок, исполненные неутомимыми и блестящими актерами, понимающими всю важность этой битвы за старую народную комедию. И благодаря им битва выиграна. Торжество Гоцци было полным. На другой день в театре Сан-Сальваторе в одну из комедий Гольдони были вставлены слова: «Чтобы называться поэтом, надо сделать нечто большее, чем повторять рассказы нянек. Надо писать комедии, а не детские сказки». Гоцци принял и этот вызов. Он понял, что воскресшая в Венеции комедия масок нуждается в новом репертуаре. Он должен был вложить новую жизнь в формы этого древнего искусства. «Я знал, – говорит он в мемуарах, – с кем имею дело, – у венецианцев есть любовь к чудесному. Гольдони заглушил это поэтическое чувство и тем оболгал наш национальный характер. Теперь надо было его пробудить снова». Реалистической и бытовой комедии Гольдони Гоцци противопоставил свою фантастическую комедию. За первой сказкой через короткие промежутки времени последовали «Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея», «Зеленая птица». Успех Гоцци и труппы Сакки был неслыханным. В театре Сан-Самуэле каждый вечер был полный сбор, другие театры стали пустовать. «Актеры и публика начали требовать от Кьяри комедий-сказок. Бедный Кьяри не умел их писать. Он бежал в Америку, полагая справедливо, что Труффальдины и Панталоне не станут преследовать его так далеко». Да и сам Гольдони слишком плохо переносил такой удар его самолюбию. Он скоро уехал в Париж и навсегда оставил Венецию. Поле сражения осталось за Гоцци. Еще раз Венеция увидела небывало блестящий расцвет театра масок, так умно и тонко соединенного теперь с фантастической комедией. Еще раз венецианский праздник озарило чистое и милое веселье прежней Италии, и пламень его погас лишь с концом труппы старого Сакки и с кончиной последнего друга Арлекинов и Коломбин, первого романтика в истории, графа Карло Гоцци.
Кто же был этот Гоцци и каковы были его комедии-сказки? Когда мы теперь держим в руках маленький томик, где мелкими старинными буквами напечатаны эти Fiabe teatrali[10], нами овладевает странное чувство. Бывают книги, которые заставляют забыть о времени своими вечными мыслями и вечными образами. Бывают другие книги, от которых веет историей, эпохой, в них оживают голоса и картины былой жизни. Но книга Гоцци не принадлежит ни к тем ни к другим. В ней есть что-то очень личное, какой-то слишком особенный склад ума и чувств, который не мог ни передаться в века, ни слиться с эпохой. Все эти пьески не что другое, как записанные сны, может быть сны наяву, некоего чудака и мечтателя. К ним даже трудно подходить как к литературным произведениям. Может ли быть у них какая-нибудь объективная ценность? Чтобы оценить их, надо непременно самому быть «немного Гоцци», то есть немного чудаком и мечтателем. Так как есть особый мир, мир Гоцци, красоту которого не дано видеть чужому и равнодушному взгляду.
«Это мир, где все случается и где живет Синяя птица. Там есть говорящие голуби, короли, обращенные в оленей, и коварные трусы, принимающие вид королей… Там статуи хохочут, как только солжет женщина; там есть лестницы, имеющие сорок миллионов семьсот две тысячи четыре ступеньки, и столы, полные яств, появляющиеся среди пустыни, откуда исходит голос, при звуках которого пустыня становится прекрасным садом. Действующие лица – это короли настоящие или короли карточные, очарованные принцессы, маги, колдуны, министры, визири, драконы, птицы, профили с Пьяццы и сверх всего четыре маски знаменитой труппы Сакки: Тарталья, Труффальдин, Бригелла и Панталоне. В своем дворце, порожденном Ночью, прекрасная Барберина не может утешиться. Она безутешна оттого, что все блага на земле дались ей без труда, но у нее нет золотой воды и поющего яблока. Норандо, князь Дамасский, едет на морском чудовище. Дилара показывает под платьем свою ножку с копытцем козы. Бык извергает огонь из рогов и хвоста. Дракон проливает слезы величиной с орех. Змея, дышащая пламенем, поднимается из гробницы. Путешествия на луну совершаются в мгновение ока. Охотники с собаками мчатся по лесам за медведями и оленями. Происходят жестокие битвы с амазонками при блеске обнаженных ятаганов, среди шума и крови. В пустыне Труффальдин и Бригелла спорят о комедии масок, под деревом они рассказывают друг другу про фей, в походной палатке они обмениваются стихами Ариосто при лунном свете. Тарталья и Панталоне, в одних рубашках, со свечами в руках, ссорятся в тронном зале. Если высунуть руку наружу, там идет чернильный дождь. Идет кровавый дождь, огненный дождь, набегают бури, гремит гром. Происходят землетрясения, вихри, волшебства, видения, чудеса. И чем больше чудес, тем лучше. Ничто ничем не оправдывается. Ничто не может быть объяснено жалкими законами здравого смысла».
Без маленького театрика, в котором сквозь затуманенный от свечей воздух видны поглощенные представлением баутты, красные драпировки лож, картонные леса и китайские дворцы на сцене, без четырех масок, составляющих душу этого зрелища, пьесы Гоцци кажутся неживыми и увядшими, точно давно сорванные цветы, заложенные в старинной книге, от которых отлетел аромат и которых краски поблекли. Для поколения прямых наследников Гоцци они были чем-то другим. Их хорошо знал англичанин Бекфорд, написавший в 1782 году свою восточную сказку «Ватек». Вся Германия аплодировала «Турандот», переведенной Шиллером и поставленной во многих немецких столицах. Гофман серьезно изучал пьесы Гоцци и писал к ним комментарии. Тик и другие романтики воспитывались на них. Поль де Мюссе показал перед глазами удивленной Франции романтизма эту забытую фигуру отдаленного предшественника Нодье и Жерар де Нерваля.
Без труппы доблестного Сакки у нас нет возможности увидеть воплощенными видения Гоцци. Но у нас еще есть возможность проникнуть во внутренний мир этого необыкновенного человека и испытать наслаждение, переживая вместе с ним его прекрасную жизнь, такую же смешную и грустную, как сама комедия масок. Перед смертью Гоцци написал свою автобиографию, назвав ее «Бесполезными воспоминаниями». Он рассказывает там о своем детстве, о годах, проведенных в Далмации на службе у Республики, о любовных неудачах, о семейных ссорах, о театральных битвах с Кьяри и Гольдони, о своих друзьях-актерах, о коварствах Теодоры Риччи, актрисы, в которую он был влюблен под старость, о своем одиноком конце, пришедшем вместе с концом Венеции. Он говорит о своих сношениях с миром духов и фей, о той мести, которую насылали на него эти таинственные существа, когда он слишком дерзко подвергал их в комедиях насмешкам Арлекина и Бригеллы. И во всем, что он вспоминает, есть детская чистота, благородство великого сердца, тонкий юмор мудреца, ирония романтика.
Он описывает себя: «Я большого роста – я знаю это по тому количеству материи, которое идет на мой плащ, и по тем ударам, которые испытывает моя шляпа, когда мне надо входить в низкие двери. Я никогда не был толстым. Я хожу рассеянно и никогда не знаю, куда ступает моя нога. Мое лицо, как мне кажется, ни красиво, ни безобразно, – впрочем, я его очень мало знаю и легко обхожусь без зеркала. Думаю, что я ни горбатый, ни хромой, ни косой, ни кривой. Но если бы меня постигло одно из этих несчастий или хоть все сразу, я перенес бы их так, что мое расположение духа не переменилось бы.
Если меня видели когда-нибудь одетым по моде, так это только ошибка портного. Джузеппе Форначе, который одевает меня сорок лет, может засвидетельствовать, что я никогда не спорю из-за покроя… Моя прическа не менялась с 1735-го до 1780-го, хотя люди переменились с тех пор сто раз… Я весел, это несомненно, и мои писания это доказывают. Однако всегда почему-то бывает, что у меня в голове целая куча мыслей. То это разные семейные дела, то процессы, то безденежье, то, наконец, стихи или комедии. И всегда выходит, что я похож на чудака и мечтателя, который бредет, опустив голову и бормоча бессвязные слова. Это, если присоединить сюда мою медленную походку, мою молчаливость, мою любовь к одиноким прогулкам, заставило меня прослыть человеком малообщительным и, может быть, даже злым. Видя, как я блуждаю по закоулкам нашего города, угрюмый, озабоченный, потупя взор, меня могли заподозрить, что я хочу кого-то убить, – а я в это время просто мечтал о моей комедии «Зеленая птица».
Время, когда Гоцци жил в тесной дружбе с труппой Сакки, он называет самым счастливым временем в своей жизни. «Кто мог бы сосчитать, – восклицает он, – бесчисленные прологи и прощания, которые я составлял в начале и в конце сезона? Сколько комплиментов зрительному залу от молодых дебютанток! Сколько просьб о снисхождении, прочитанных свежими дрожащими губами! Сколько песенок, вставленных в роль для тех, у кого был голос! Сколько вздора я заставлял их говорить, о боже! Сколько исписал бумаги! Сколько монологов, сцен отчаяния, угроз, упреков, дурачеств, выходок – и все для того, чтобы заслужить эту желанную награду – аплодисменты.
Сколько сыновей я исправил для этого, сколько обманул стариков и сколько свадеб устроил в финальных сценах! Меня всегда выбирали кумом при крещении и шафером на свадьбах. Скольких маленьких существ я был крестным отцом! Я был советником, посредником, примирителем, другом, судьей, спасителем, и всегда с удовольствием и никогда не выходя из пределов шутки. Всем молодым женщинам труппы хотелось хорошо играть и иметь успех. Надо было им помочь, их научить, и как прекрасно они слушались меня! Я учил их правильной речи и верному произношению. Они показывали мне письма, наполненные самыми невероятными грамматическими ошибками, и я терпеливо поправлял их.
Ошибается тот, кто думает, что можно жить посреди актрис и обойтись без любви. Чтобы направлять как надо этих бедных женщин, необходимо их любить или, по крайней мере, делать вид, что любишь… Они слеплены из любовного теста. Как только им минет двенадцать лет, любовь уже ведет их куда-то. Они издалека видят ее пылающий факел и идут за ним сквозь сумерки детства… Моя кулисная любовь ограничивалась беседами, поединком острот, шутками, которые меня развлекали. Я любил всех молодых актрис, не имея особой склонности ни к одной из них… Некоторые из них охотно сделали бы поэта своим мужем, но у меня было достаточно твердости, чтобы не оставить им на это никаких надежд. Случалось, что я бывал предметом ссор, споров, ревности и даже слез. Но эти происшествия действительной жизни смешивались с пьесой, которая разыгрывалась в тот вечер, и пропадали бесследно в театральной перспективе…»
Единственно, что нарушало ясное и спокойное течение такой «комедийной» жизни, это вмешательство невидимых сил, которых Гоцци имел неосторожность потревожить своими пьесами. Так, по крайней мере, рассказывает он сам. Он уверяет даже, что как раз это, а не что другое заставило его в конце концов бросить писание волшебных комедий-сказок. «Нельзя играть безнаказанно с демонами и феями. Из мира духов нельзя уйти так легко, как хотелось бы, раз только бросился в него безрассудно. Все шло хорошо до представления «Турандот». Невидимые силы прощали мне эти первые опыты… Но вот «Женщина-змея» и «Зобеида» заставили таинственный мир обратить внимание на мою дерзость. Он выслушал эти пьесы, колеблясь между осуждением и снисходительностью. «Голубое чудовище» и «Зеленая птица» возбудили его ропот. У меня было смутное предчувствие в один вечер, когда очень плохо действовали театральные машины. У главной актрисы случилась внезапная мигрень. Два раза пришлось менять пьесу за час до открытия театра. Посредине одной импровизации у превосходного актера Цаннони пропал голос. Эти зловещие предзнаменования должны были открыть мне глаза. Но я был слишком молод, чтобы оценить настоящую опасность, которая мне угрожала… В день представления «Царя духов» негодование невидимых врагов проявилось ясно. На мне были новые панталоны, и я пил кофе за кулисами. Занавес поднялся. Густая притихшая толпа наполняла театр. Пьеса уже началась, и все указывало на успех, когда вдруг непобедимый страх овладел мною и меня охватила дрожь. Мои руки сделали неловкое движение, и я опрокинул чашку кофе на свои новые шелковые панталоны. Спеша пробраться в актерское фойе, я поскользнулся на лестнице и разорвал на колене злосчастные панталоны, уже залитые кофе».
Разве не кажется эта страница, взятая из мемуаров Гоцци, страницей из фантастического рассказа Гофмана? Но еще удивительнее весь Гофман предсказан в главе, где говорится о шутках таинственных сил, которые преследовали Гоцци на улицах Венеции. «Если бы я хотел рассказать все промахи и неприятности, которым меня подвергали злые духи, не то что часто, но в каждую минуту моей жизни, я мог бы составить толстый том. Обыкновенно, когда одно лицо принимают за другое, ошибка основывается на каком-то сходстве физиономий или фигур, но дьявол не церемонился со мной настолько, чтобы соблюдать хоть это. Вдруг, и бог знает почему, тысячи людей начинали называть меня чужим именем и смешивать с кем-то, кто на меня ни капельки не похож… Все знают или знавали Микеле дель Агата, знаменитого импресарио нашей оперы. Все знают, что он меньше меня на четверть и толще на две четверти, что он одевается иначе, чем я, и лицом ничуть не походит на меня. Почему же несколько лет подряд и до самой смерти этого Микеле меня почти каждый день останавливали на улице и называли его именем певцы, певицы, танцовщики, танцовщицы, капельмейстеры, портные, художники и почтальоны? Я принужден был выслушивать долгие жалобы, благодарности, просьбы о ложе, требования денег, мольбы, слезы, соображения о костюмах и декорациях. Я должен был отсылать письма и пакеты, адресованные Микеле Агата, и все это крича, протестуя, клянясь, что я вовсе не Микеле. И тогда все эти околдованные люди смотрели на меня дико и уходили, встревоженные и раздосадованные, не понимая, какие могут быть у Микеле причины желать, чтобы его не называли Микеле!»
Не только в этом выражались преследования духов. «Зима ли была, или лето, беру небо в свидетели, никогда, о никогда внезапный ливень не разражался над городом без того, чтобы я не был на улице и не под зонтом. Восемь раз из десяти в течение всей моей жизни, как только я хотел быть один и работать, надоедливый посетитель непременно прерывал меня и доводил мое терпение до крайних пределов. Восемь раз из десяти, как только я начинал бриться, сейчас же раздавался звонок и оказывалось, что кому-то надо говорить со мной безотлагательно. В самое лучшее время года, в самую сухую погоду, уж если где-нибудь между плит мостовой таилась хоть одна лужа, злой дух толкал как раз туда мою рассеянную ногу. Когда одна из тех печальных необходимостей, на которые обрекла нас природа, заставляла меня искать на улице укромного уголка, ни разу не случалось, чтобы враждебные демоны не заставили пройти около меня красивую даму, – или даже передо мной отворялась дверь, и оттуда выходило целое общество, приводя в отчаяние мою скромность. Царь духов, не стыдно ли тебе было падать так низко в твоей ненависти!» Однажды Гоцци уехал во Фриуль, в свое имение. Он вернулся оттуда в ноябре и, подъезжая к Венеции, был измучен холодом, трудной дорогой и желанием поесть и выспаться. Когда он приближался уже к дому, он с удивлением увидел, что улица запружена толпой масок. Он не мог пробраться к своей двери и был принужден зайти со стороны канала. На мостике он остолбенел от изумления, увидев, что все окна в его доме были освещены, оттуда доносилась музыка и видны были танцующие пары. Его едва пустили в дом, и там ему было объявлено, что патриций Брагадин, празднующий свое избрание патриархом, благодарит его за любезное позволение соединить дом Гоцци с дворцом Брагадина и пользоваться его залами для праздника. «Но сколько же продлится это празднество?» – мог только спросить Гоцци. «Чтобы не солгать вам, – ответил дворецкий, – три дня и три ночи». Эти три дня и три ночи бедный Гоцци провел в гостинице. Когда все наконец кончилось, он отправился с визитом к Брагадину, и тот, рассыпавшись в благодарностях, рассказал Гоцци, как некий граф Барзиза отправил к нему курьера с письмом и как было получено разрешение, подписанное именем Гоцци. «Я первый раз слышал про это письмо и про ответ. Я без труда угадал, откуда все это идет… Я скрыл мой гнев и ужас и просил синьора Брагадина располагать мной и моим домом и в будущем, если ему что-либо надо будет праздновать, даже не прибегая к письмам графа Барзизы.
Что злые духи могли перехватить письмо, утопить или увозить в грязи посланца Барзизы – это еще куда ни шло, – но отвечать за меня!.. Бог знает, может быть, курьер нашел вымышленного Гоцци в вымышленном поместье какого-то несуществующего Фриулия! Может быть, какой-то демон, принявший мою наружность, взломал печать, что-то сказал за меня и послал это согласие, о котором я никогда не думал. Все это вещи, которые не подлежат объяснению. Их надо оставить в скрывающем их тумане».
Местью духов за все шутки арлекинов над феями, магическими палочками и превращениями Гоцци готов был объяснить бурный финал своего тихого вначале романа с актрисой Теодорой Риччи. Как объяснить, в самом деле, что женщина, бывшая пять лет его другом, его послушной ученицей, резко изменилась в один месяц и предпочла стареющему поэту молодого «англомана» и франта Гратароля! Как могло статься, что она забыла вдруг свою репутацию, на страже которой стоял Гоцци, забыла его уроки хороших манер и произношения, забыла даже, что он сделал ее порядочной актрисой?
Положительно, какое-то колдовство было скрыто в тех конфетах (diablotins de Naples)[11], которыми Гратароль угощал за кулисами актрис труппы Сакки и которые с церемонным поклоном принимал от него сам сердитый и недоумевающий Гоцци. «Что случилось с Теодорой! Какая перемена в ее манерах, в ее образе жизни, в ее словах, в ее поведении! Ее нельзя было узнать. Какая роскошь нарядов, какая расточительность! Нет более добродетельных свечей в подсвечниках – аристократический воск горел теперь в ложе, рядом с бутылками испанских вин, кофейницами, полными мокко, шоколадом и множеством других сластей… «Когда же я поеду в Париж? – повторяла эта сумасбродка, жеманясь. – Там богатые банкиры ухаживают за актрисами и дарят им кошельки с золотом так же легко, как здесь подарили бы грушу. В Париже только и делают, что веселятся, тратят деньги, наряжаются и влюбляются!» Кулисы были отравлены невыносимым запахом мускуса. Если кто-нибудь жаловался на головную боль, она улыбалась с презрением и, делая гримасы, которые считала самыми французскими, говорила: «В Париже даже деревья в Тюильри – и те пахнут духами».
В главе, где Гоцци рассказывает о своем разрыве с Теодорой Риччи, есть необычайная сцена, которая стоит любой его комедии-сказки. «Я был еще в халате, – рассказывает Гоцци, – когда мне доложили о прибытии синьора Гратароля. Этот раздушенный молодой человек вошел ко мне с самым дружеским видом, взял меня за руки и наговорил кучу любезностей, похвал и выражений симпатии. Он советовался со мной о своих делах, предлагал мне руководство труппой комедийных актеров-любителей из высшего общества и наговорил мне столько вздору, сколько я не осмелился бы ждать от этого секретаря сената и будущего посланника при короле Обеих Сицилий. Пока он говорил, грассируя, подражая англичанам и с ужимками, пока слышен был его трескучий голос, я впал в какое-то оцепенение. Не то от скуки, не то от его одурманивающих духов я погрузился в забытье и сделался как сомнамбула.
Этот господин, – думал я, – едва ли венецианец. Это даже не итальянец. Да человек ли это вообще? Нет, он больше похож на птицу. Боже, а что, если это дух, принявший человеческий облик и еще не совсем привыкший к новой коже и еще плохо играющий свою роль? Что, если он послан только затем, чтобы меня помучить?»
Гоцци отомстил Гратаролю так, как мог отомстить только поэт, писавший всю жизнь для Арлекинов и Коломбин. Он вывел блестящего секретаря сената действующим лицом в какой-то комедии. Вся Венеция сбежалась смотреть на Гратароля на сцене, умирая со смеху от всяческих глупостей, которые заставил его говорить Гоцци. Молодой аристократ принял все это слишком серьезно, он проявил излишнюю горячность и даже задел чем-то венецианские власти, не слишком любившие молодых людей, преданных чужеземным обычаям. Ему пришлось в конце концов навсегда уехать из Венеции и променять карьеру посланника и секретаря на карьеру авантюриста. Теодора Риччи уехала в Париж, и Гоцци остался по-прежнему один с труппой Сакки. Но этому крепкому актерскому содружеству был нанесен решительный удар. Теодора Риччи смутила и запутала всех. В нее был влюблен даже сам старый арлекин Сакки, пытавшийся покорить сердце красивой Теодоры тридцатью аршинами белого атласа. После отъезда Риччи дела комедии пошли плохо. Гоцци потерял охоту писать для театра. Среди актеров начались ссоры; сборы стали падать, касса пустела, и в соседних театрах уже снова торжествовал Гольдони. Времена менялись решительно, и для комедии масок наступали последние дни. И вот настал наконец день, когда старый Сакки пришел проститься с Гоцци. «Старый Труффальдин сжал меня в своих объятиях, он бросил мне последний взгляд, и его старые глаза были полны слезами. Затем он убежал от меня бегом, и я остался один блуждать по Венеции, без моих милых актеров и старше на двадцать семь лет, чем когда они вернулись из Лиссабона. О мое сердце! О родная комедия! Вокруг меня ни души, никого, кто любил бы еще это искусство, такое особенное и такое чисто итальянское. Но я впадаю в трагический тон… Скорее вытрем щеку, которую облобызал Труффальдин, – старик наелся луку. Вы не заметите, что я при этом смахну слезу, которая повисла на реснице, и пойду обедать довольный, что мне удалось сойти за «философа», чтобы не сказать за бесчувственного человека».
Гоцци старел, и все дряхлело, рассыпалось в прах вокруг него. Он рассказывает, как однажды вечером он шел по Венеции и вспомнил Гратароля. Он представлял себе, как посрамленный лжесекретарь вернется в отечество злых духов в виде летучей мыши, и при этой мысли он смеялся сам с собой. Как вдруг незнакомый прохожий приостановился и сказал ему: «Нельзя вечно смеяться». На другой день Гоцци узнал о тяжкой болезни одного из своих друзей, о несчастии, постигшем другого. Смерть окружала его. В это-то время он заперся в своей комнате и писал «Memorie inutile»[12].
Гоцци написал свои мемуары в 1780 году, напечатал он их через семнадцать лет, когда Венеция, уничтоженная Наполеоном, перестала существовать даже как тень. От этого времени сохранилось одно письмо Гоцци, помеченное годом первым итальянской свободы. «Я всегда буду старым ребенком, – писал он. – Я не могу восстать на мое прошлое и не могу идти против моей совести, – хотя бы из упрямства или из самолюбия; поэтому я смотрю, слушаю и молчу. В том, что я мог бы сказать, было бы противоречие между моим рассудком и моим чувством. Я не без ужаса восхищаюсь страшными истинами, которые с ружьем в руках явились из-за Альп. Но мое венецианское сердце обливается кровью и разрывается, когда я вижу, что мое отечество погибло и что исчезло даже его имя. Вы скажете, что я мелочен и что я должен гордиться новым, более обширным и сильным отечеством. Но в мои годы трудно иметь молодую гибкость и изворотливость суждений. На набережной Скьявони есть скамья, где я сижу охотнее, чем где-либо: мне там хорошо. Вы не решитесь сказать, что я обязан любить всю набережную так же, как это излюбленное мною место; отчего же вы хотите, чтобы я раздвинул границы моего патриотизма? Пусть это сделают мои племянники…»
Так, среди все еще пестрой и праздной, все еще венецианской толпы на набережной Скьявони рисуется нам в последний раз одинокая фигура старого Гоцци. Неизвестен даже год его смерти. Случилось так, что о нем можно сказать только: «Он умер вместе с Венецией». Он был последним венецианцем.
Казанова
Венецианец Джакомо Казанова написал одну из самых удивительных книг на свете. С ней сживаешься больше, чем с иными людьми или событиями действительной жизни. Если такова цель всякой автобиографии, то эта автобиография – лучшая из всех написанных. Читатели книги Казановы знают, как ясно глядит с ее страниц лицо венецианского авантюриста и как живо слышен самый голос его рассказов.
Мемуары Казановы сравнивают иногда с «Исповедью» Руссо и автобиографией Ретиф де ла Бретонна. Но есть что-то не внушающее симпатии и в характере Руссо, и в самой его манере рассказывать. Его горести не трогают, его жалобы кажутся мелочными, его друзья – чужими. Вступительные слова Руссо показывают, что его больше всего заботила этическая мера его жизни. Для него было важно, чтобы кто-то не мог сказать перед судом Всевышнего: «Я был лучше, чем Руссо». Книга Ретифа представляет странную смесь сентиментальности, развращенности и рассудочной наблюдательности. Он задумывается над «естественной историей человека» и мечтает о типичности. Он психологичен, он слишком настойчиво вглядывается в себя и плохо видит вокруг себя.
«Теперь, в 1798 году, когда мне исполнилось семьдесять два года и когда я уже могу сказать vixi[13], хотя еще живу, мне трудно доставить себе более приятное развлечение, чем рассказывать о своей жизни… Вы не встретите в моих рассказах покаянного тона и не найдете в них смущения, которое испытывает тот, кто, краснея, признается в своих поступках. Все это безумства молодости; вы увидите, что я смеюсь над ними, и если вы добры, вы посмеетесь над ними вместе со мной… Я надеюсь понравиться вам, но если я ошибусь в этом, то, признаюсь, буду огорчен не настолько, чтобы раскаяться, ибо ничто не может помешать мне немного развлечься!»
Так обращается к читателю в своем предисловии Казанова. Его тема не нравственная мера вещей, не естественная история человека. Его тема – жизнь, дела людей, места, дороги, встречи, смена дней, течение лет, судьба. «Нет ничего и ничего не может быть дороже для разумного существа, чем жизнь… Смерть – это чудовище, которое отрывает зрителя от великой сцены, прежде чем кончится пьеса, которая бесконечно интересует его!» В этой пьесе для Казановы нет ничего мелкого и незначительного.
Его изумительная память бережно хранит все: имена людей, названия гостиниц, меню обеда, цвет камзола, число проигранных монет, слова женщины, занимавшей его два дня. Все это еще раз оживает в его мемуарах удивительно точными, осязаемыми образами. Казанова нисколько не психологичен, потому что не знает необходимой для этого остановки, самонаблюдения. Ему было некогда; единственный день, который он считал потерянным в своей жизни, это когда в Петербурге он проспал тридцать часов кряду. Вся его жизнь есть непрерывное движение от одного города к другому, от одной любви к другой, от удачи к неудаче и затем к новой удаче, и так без конца.
Жизнь XVIII века изображена в мемуарах Казановы с единственной в своем роде яркостью и полнотой. Один немецкий ученый сказал, что если бы исчезли все документы и все книги того времени и осталась только книга Казановы, то этого было бы достаточно, чтобы понять неизбежность революции. При всем том сам Казанова не был типичным человеком XVIII века. Казанова одевался, обедал, шутил и даже писал по-французски, но в глубине души он оставался настоящим итальянцем; он ничем не напоминает души XVIII века, суховатые, положительные французские души.
Немудрено, что при встрече Казанова и Вольтер никак не могли понять друг друга. Что было трогательным или смешным для одного, то казалось только скучным и ребяческим для другого. При всем своем уме Вольтер не мог понять Данте, но великая красота его была открыта даже грешной душе итальянского авантюриста. Любопытен диалог, который привел их к окончательному «разрыву». Вольтер иронически отозвался о венецианской свободе. Он напоминал Казанове о тюрьме и о побеге, думая вызвать его этим на обвинения Республики. «Я только воспользовался моим правом, как они воспользовались своим». – «Странно! Выходит, что никто в Венеции не может назвать себя свободным?» – «Возможно, но согласитесь, что для того, чтобы быть свободным, достаточно считать себя свободным». Этого ни Вольтер, ни другие люди просвещенного века никогда не могли бы понять. В фернейском госте, одетом по французской моде и умевшем держать себя с версальскими манерами, вдруг проглянул человек совсем других времен и других душевных сил, в нем ожил один из портретов итальянского Возрождения. Какая несокрушимая энергия, какой «пятнадцатый век» выражены в его побеге. «Я всегда думал, – говорит Казанова, начиная рассказ об этом подвиге, – что, если человек крепко решит добиться чего-нибудь и если он только и делает, что преследует свою цель, он непременно достигнет ее, несмотря на все препятствия. Такой человек может сделаться великим визирем, папой…»
Таким человеком был и Казанова. Но у него не было честолюбия, цели. «Единственной моей системой жизни, если только у меня имелась система, было следовать течению». И Казанова сделался великим авантюристом.
Книга Казановы заключает неистощимое богатство картин. Каждое место и каждое общество, принимавшие однажды этого неустанного путешественника, «покрытого пылью всех дорог», по выражению Монье, нашли здесь свое верное изображение. Есть города и страны, благоприятные для Казановы, в других, напротив, его преследуют неудачи, и он совершает там ошибку за ошибкой. «Неаполь был всегда мне благоприятен». Англия для него страна несчастья, она старит его преждевременно на десять лет. «В Италии есть немало городов, где можно доставить себе те же удовольствия, что и в Болонье, но нигде они не достаются так дешево, так легко и так удобно». И наряду с этим негостеприимна для него суровая Флоренция: каждое пребывание там Казановы кончалось вынужденным отъездом.
Венеция изображена в той части книги, где Казанова рассказывает свою молодость и жизнь до заключения в «Пьомби». В 1740 году новое лицо появляется в венецианском обществе. Это молодой аббат Джакомо Казанова, «он вернулся из Падуи, где закончил образование». Это сын бездарной, но красивой актрисы Занетты Казанова, которая была с труппой итальянских актеров при дворе русской императрицы Анны Иоанновны. В церкви Сан-Сакраменто Казанова говорит перед избранным обществом: «В кошельке, куда по обычаю кладут вознаграждение проповеднику, я нашел более пятидесяти цехинов и любовные записки». Несмотря на неуспех второй проповеди, Казанова продолжал думать о духовной карьере. Он мечтает быть папой или по крайней мере епископом. Он едет в Рим, в Неаполь и возвращается оттуда офицером несуществующей армии. С посольством Республики он едет в Константинополь, служит на Корфу, и когда снова возвращается в Венецию, то оказывается «свободным проходимцем», без денег, без связей, без всяких надежд на будущее. Чтобы заработать на пропитание, он играет на скрипке в театре Сан-Самуэле.
В апреле 1746 года Казанова присутствовал в качестве наемного музыканта на блестящей свадьбе Корнаро и Соранцо, во дворце Соранцо, у Сан-Поло. На третий день празднеств, уже на рассвете, он спускался, утомленный, по лестнице, когда вдруг заметил, что шедший впереди сенатор в красной мантии вынул платок из кармана и уронил при этом письмо. Казанова поднял письмо и передал его сенатору в ту минуту, как тот садился в свою гондолу. В благодарность старик предложил довезти его домой. В гондоле сенатор внезапно чувствует себя дурно. Казанова поддерживает его, довозит домой, укладывает в постель, приводит доктора. Он хлопочет о здоровье старика, с которым так странно свел его случай, точно дело идет о его собственной жизни. Сенатор Брагадин видит в этом молодом человеке своего спасителя; наклонный к магии, он видит в нем посланца таинственных сил. Его старые неразлучные друзья, венецианские патриции Дандоло и Барбаро, разделяют это мнение. Он становится их оракулом, другом, баловнем, иерофантом. Брагадин делает его своим приемным сыном.
«Твои комнаты готовы, – говорит он, – перевози свои пожитки. У тебя будет слуга, гондола, мой стол и десять золотых в месяц. В твои годы я не получал больше от отца. О будущем не заботься и развлекайся, как тебе хочется». И Казанова развлекается так, как можно было развлекаться только в Венеции XVIII века.
«В начале октября 1746 года я прогуливался в маске, так как театры уже открылись, когда вдруг заметил женскую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном, которая только что прибыла с почтой из Феррары…» Так начинается приключение с контессиной. «Проходя по набережной мимо Сан-Джоббе, я увидел в гондоле с двумя гребцами очень затейливо причесанную крестьянку. Я остановился, чтобы рассмотреть ее; гондольер, вообразивший, что я хочу воспользоваться случаем, чтобы дешево проехать в Местре, уже направил гондолу к набережной. Видя хорошенькое личико девушки, я не задумался ни на минуту, спустился в лодку и пообещал гондольеру заплатить вдвое, если он не возьмет больше никого». Так начинается приключение с Кристиной.
Приключения накопляются, их слишком много, чрезмерно много даже для Венеции тех времен. Казанова вынужден проехаться по Италии. Ему двадцать лет, он «блестящего здоровья, хорошо одет, превосходно обеспечен драгоценностями, без рекомендательных писем, но с туго набитым кошельком». В эту поездку он встретил несравненную Анриетту. Через несколько лет он уехал опять, на этот раз в большой свет, в Европу. В Париже он «учился жить» и успел приобрести верных друзей в семье знаменитой актрисы Сильвии Баллети. Кребильон учил его французскому языку. Он побывал в Версале, видел, как обедает Мария Лещинская, и вступал в диалог с Помпадур. Не кто иной, как он ввел в моду О’Морфи. Он занимался каббалистикой с принцессами крови, смотрел Камарго и дрался на дуэли. На возвратном пути он свиделся с матерью в Дрездене и познакомился в Вене с Метастазио. И вот он снова в Венеции, «испытывая то сладкое чувство, какое испытывает всякая благородная душа при виде места, с которым связаны ее первые впечатления… Войдя в мой кабинет, я с удовольствием нашел полное status quo[14]. Мои бумаги, покрытые пылью на палец толщины, достаточно удостоверяли, что их не трогала ничья чужая рука».
Период жизни Казановы от его возвращения из Парижа и до ареста – самый бурный, самый ослепительный и переполненный самыми острыми эротическими сценами. Сквозь все эти страницы проходит одна сплошная бессонная ночь. Игра в знаменитом Ридотто, свидание с юной С.С. в уединенном саду на Джудекке, театр, ужин четырех масок и снова игра при белом свете бесчисленных свечей, отражающихся в венецианских зеркалах. И наконец, монахиня М.М., подруга французского посла, будущего кардинала Де Берни, становится одновременно возлюбленной Казановы. Эта женщина с голубыми глазами и стальной волей повелевает Казановой. Она сама первая пишет ему письмо и требует свидания «около статуи Бартоломео из Бергамо» или в собственном казино на островке Мурано, недалеко от своего монастыря. В этом казино у нее богатая эротическая библиотека, искусный повар и драгоценные вина. Она приходит туда из монастыря и отдается своему любовнику, не успев еще скинуть монашеского наряда, в то время как другой следит за этой сценой из нарочно устроенного тайника. Чтобы достойно принять такую женщину, «монахиню, вольнодумку, распутницу и охотницу до азартной игры, но необыкновенную во всем, что она делала», Казанова нанимает для себя казино неподалеку от театра Сан-Моизе.
«У меня было пять комнат, обставленных с отличным вкусом, и все было в них предназначено для любви и для роскошных ужинов. Блюда подавались здесь через особое окно, снабженное вертящейся задвижкой, и таким образом хозяева и слуги не могли видеть друг друга. Салон был украшен великолепными зеркалами, люстрами из горного хрусталя, канделябрами из золоченой бронзы и огромным трюмо над мраморным камином, отделанным вставками из китайского фарфора с изображениями влюбленных пар в различных положениях. Рядом находилась другая комната, восьмиугольной формы, и в ней стены, пол и потолок были покрыты дивными венецианскими зеркалами, повторявшими бесчисленные отражения».
На одном из свиданий в этом казино M.M. была в мужском костюме. «Бархатный розовый плащ, вышитый золотом, такой же камзол, черные шелковые панталоны, бриллиантовые серьги, солитер большой цены на мизинце и на другой руке перстень, украшенный только хрусталем, положенным на белый шелк. Ее маска была из черных кружев, поразительных по тонкости работы и по красоте рисунка. Я осмотрел ее карманы. Я нашел в них золотую табакерку, бонбоньерку, оправленную крупным жемчугом, золотой игольник, великолепный лорнет, платки из тончайшего батиста, напитанные драгоценными духами. Я со вниманием разглядывал богатую отделку ее двух часов, ее цепочек и брелоков, сверкавших мелкими бриллиантами. И наконец, я нашел пистолет. Это был английский пистолет чистой стали и мастерской работы».
Накануне своего ареста и, следовательно, накануне своей разлуки с Венецией Казанова провел чисто венецианскую ночь. Это последняя венецианская картина в его книге.
«Я провел всю ночь за картами и проиграл пятьсот золотых в долг. На рассвете, желая немного успокоиться, я пошел на Эрберию – так называется одно место на набережной Большого Канала. Это рынок овощей, фруктов и цветов. Люди из общества приходят сюда гулять рано утром. Они говорят обыкновенно, что делают это ради бесчисленных лодок, нагруженных овощами, плодами и цветами, которые стекаются сюда в этот час с островов. Но все отлично знают, что здесь бывают только молодые люди и женщины, которые провели ночь в наслаждениях Цитеры или за долгим ужином, или, наконец, еще те, которые потеряли всякую надежду в игре, обескуражены неудачей и приходят, чтобы подышать свежим воздухом и успокоиться».
Из других итальянских городов Казановой хорошо изображен Рим той эпохи. Во время своего первого путешествия, когда он еще думал о духовной карьере и был секретарем у кардинала Аквавивы, Казанова успел понять притягательную силу Рима. «Если бы я остался в Неаполе, я мог бы составить себе положение, но, хотя у меня и не было определенного плана, мне казалось, что судьба зовет меня в Рим… Я знал, что Рим – единственный в мире город, где человек, начав с ничего, может сделаться всем». Казанове не пришлось проверить это на деле: благородная помощь несчастной Барбаруччии погубила все его надежды. Но нескольких месяцев было достаточно для него, чтобы нарисовать сжатую и изумительно яркую картину нравов.
Ко второму пребыванию Казановы в Риме в 1761 году относится описание карнавала. «Вот уже несколько веков, как в продолжение восьми дней этого сумасшедшего времени римское Корсо представляет из себя самое странное, занимательное и забавное зрелище в мире… В один из таких дней, в среду на масленой, я отправился на Корсо в богатом костюме Пульчинеллы и верхом на превосходной лошади. Со мной была огромная корзина со сластями, и в двух сумках у меня были леденцы, которые я сыпал дождем на всех встречавшихся красивых женщин…» В те времена еще веселее жилось в Милане под управлением графа Фирмиана. «Карнавал длится в Милане на четыре дня больше, чем в других городах». Перечитывая страницы, где рассказаны великолепные миланские балы с масками, с ложами, укрывающими интриги, с игорными столами, за которыми перед грудами золота сидят бесстрастные банкометы, такие как осыпанный бриллиантами граф Канано, убеждаешься невольно, что Казанове было хорошо только в Италии. Венеция, Рим, Неаполь, Милан, Болонья, Парма – вот что вдохновляет его рассказы так, как не вдохновляют их ни Вена, ни Мадрид, ни «ужасный» Лондон, ни даже Париж.
Казанова всегда в восхищении от Парижа. Но сквозь это восхищение проглядывает иногда деловая забота. «Зачем вы едете в Париж?» – спрашивают его после побега. «Я пущу там в оборот свои таланты». Эта фраза – одна и та же у всякого итальянца, сменившего «Bel paese»[15] на северную страну. В Париже Казанова затевает одно предприятие за другим, он занят «делами», он добывает деньги. В Италии он их тратит и делает свое главное дело, то есть не делает решительно ничего.
В скитаниях Казановы по Европе есть много блестящих страниц. Таково изображение двора, устроенного, в подражание французскому, тщеславным и ничтожным немецким князьком в Штутгарте. Голландия доставляет ему несколько привлекательных картин уютной и красивой жизни. Он гостит в Амстердаме у своего друга-негоцианта и катается по льду на санях с парусом. Под снегом, падающим густыми хлопьями, венецианец берет уроки бега на коньках у красавицы Эсфири. После этого он ужинает в дружеском семейном кругу, ест редчайшую рыбу, пьет драгоценные испанские вина и разговаривает о двадцати миллионах, которые поручило ему достать французское правительство, о кораблях, нагруженных кофе, и об акциях шведско-индийской компании.
Но Голландия не только страна банкиров, семейных кругов и театров, куда молодые девушки ходят без старших. Миллионы привлекают туда не одного Казанову. В те самые дни, когда репутация его вне подозрений, когда знакомства его почтенны и кошелек туго набит, «злой гений» приводит его в гостиницу «Город Лион». «Какое общество! Сколько старых знакомых! Там был шевалье де Саби, носивший форму майора польской службы и уверявший, что знает меня по Дрездену, и некий барон де Видо, называвший себя чехом, который сейчас же привязался ко мне, рассказывая, что его друг граф С. Жермен остановился в «Полярной звезде» и справлялся обо мне. Там был еще рябой дуэлист, представленный мне под именем шевалье де ла Перин, но я сразу узнал в нем того Тальвиса, который сорвал банк у Пресбургского епископа, который ссудил мне когда-то сто луидоров и которого несколько лет спустя я угостил ударом шпаги в Париже. Там был также еще один итальянец по имени Нери, во всем, кроме честности, похожий на лавочника; он заявил, что вспоминает, будто видел меня однажды в каком-то притоне».
Казанова был и в России. Но это было уже после Англии, после того, как Казанова вернулся оттуда стареющим, разбитым и без гроша в кармане. Он искал фортуны в Берлине; фортуна в лице Фридриха Великого предложила ему только место воспитателя в кадетском корпусе. И только тогда он поехал, прельщаемый разными надеждами, в Россию. Он высказывал эти надежды принцу де Линь. «Быть может, меня оставят при дворе Екатерины, я стану ее библиотекарем, ее приближенным, ее секретарем, ее поверенным в делах или воспитателем одного из великих князей. Отчего бы и нет?» Но надежды Казановы не оправдались, он был едва замечен в России и в отместку сам едва заметил Россию.
С русскими он встретился еще один раз в своей жизни, и вот при каких обстоятельствах. Наш флот под командой Алексея Орлова, отправленный в турецкие воды, стоял в Ливорно. Казанова узнал про это в Турине. «Не имея в то время сердечных дел, прискучив игрой из-за вечных проигрышей и не зная, чем заняться, я возымел фантазию предложить свои услуги графу Алексею Орлову… Читателю покажется по меньшей мере странным, что я вообразил тогда, будто был предназначен для взятия Константинополя. В моем тогдашнем возбуждении я убеждал себя, что без меня русскому графу ни за что не удастся им завладеть; действительно, он испытал неудачу, но я менее уверен сейчас, что это оттого, что меня там не было».
Описаний в прямом значении этого слова почти нет в мемуарах Казановы. Они встречаются разве только в последнем томе. Во время путешествия в Испанию Казанова отводит десять строк описанию Валенсии. Но это единственное описание города во всей книге. И это признак старости. В Испании Казанова иногда говорит про себя: «на моем положении наблюдателя», и это значит, что жизнь со своим движением уже проходит мимо, не задевая его.
Все остальное в этой необыкновенной книге представляет собой рассказ, необыкновенно сжатый, ясный, увлекательно-непрерывный и исключительно наглядный. Едва ли найдется другая книга, где на протяжении трех тысяч страниц шло бы одно повествование, без отступлений, без длиннот, без повторений, без малейшей вялости, выдержанное ровно с огромной, прямо нечеловеческой силой. Несмотря на то что рукопись Казановы была «исправлена» рукой заурядного литератора 20-х годов и что, таким образом, в печати нет подлинного текста мемуаров, эта книга может служить примером повествовательной прозы. Она заслуживает этого не по своему стилю, который в теперешнем виде немного приглажен под средний французский стиль. Но всякий писатель должен со вниманием приглядеться к тому, как удержана небледнеющая жизнь на этих страницах. Каждый должен пройти через этот опыт колоссальной повествовательной энергии. Рассказ Казановы производит впечатление широкой быстро текущей реки, которая неудержимо влечет воображение, хоть раз отдавшееся ее волнам. Такие места, как побег, надо читать одним духом. Среди этих быстрых, сжатых, крепко сцепленных одна с другой строк некогда перевести дыхание.
В жизни Казановы, кроме разве только побега, не было никаких необыкновенных приключений. Самая «фабула» его рассказов всегда чрезвычайно проста. Рассказываемые им истории ничем не напоминают хитросплетение авантюрных романов. Рассказы Казановы глубоко правдивы. Когда только что вышли в свет его мемуары, многие усомнились в их достоверности. Иные не верили, что их автором был действительно Казанова. Одно время их приписывали Стендалю, улавливая довольно верно внутреннее родство венецианского авантюриста и Анри Бейля. Если бы Стендаль действительно написал их, он был бы одним из гениев в литературе.
Теперь никто не сомневается в авторстве Казановы; трудами Юзанна и Баше во Франции, Бартольда в Германии, д’Анкона в Италии и Арт. Симондса в Англии установлена его историческая личность, исследована и сличена с его письмами рукопись мемуаров, хранящаяся у Брокгауза в Лейпциге, подтверждена бесчисленными доказательствами правдивость и даже точность его рассказов. «В 1880 году, – пишет Октав Юзанн, – я был в Венеции. Мы только что вместе с несколькими венецианцами, горячими поклонниками Казановы, осмотрели знаменитые Пьомби, откуда в 1755 году столь трагически бежал наш герой. Я задумывался тогда над опубликованием ряда исторических свидетельств, которые могли бы доказать мельчайшие подробности мемуаров и подтвердить их искренность и правдивость, когда случай свел меня в кафе Флориана с одним эрудитом, путешественником, художником, влюбленным в Венецию и, следовательно, большим почитателем Казановы; я говорю об Армане Баше».
Баше объехал Вену, Париж, Брюссель, Амстердам, Флоренцию, Петербург. Он несколько лет рылся в городских полицейских и дипломатических архивах, и его труды увенчались полным успехом. Основная хронология мемуаров оказалась в полном согласии с официальными документами. Еще раньше немецкий ученый Бартольд установил после тщательного анализа правдивость Казановы в отношении исторических лиц и событий. Д’Анкона сделал ряд замечательных открытий в архивах Венеции. Он нашел доносы шпионов о влиянии Казановы на Брагадина, указ об его аресте и, наконец, документ, подтверждающий мельчайшие подробности рассказа о побеге. То был счет ремесленников за исправление повреждений, сделанных Казановой на пути его бегства, тех самых повреждений, о которых он рассказывает в своих мемуарах. Но последние сомнения должны исчезнуть после того, как Арт. Симондс лично побывал в архивах замка Дукс в Богемии, где Казанова кончил свои дни библиотекарем графа Вальдштейна. В нескольких связках бумаг, озаглавленных «Nachlass Casanova»[16], он нашел тысячи незаменимых свидетельств. Там были не только паспорта, подорожные, счета, не только письма множества лиц, упоминаемых в книге. Там были письма, подтверждающие интимную часть мемуаров, – письма женщин. Симондс видел и читал письма Манон Балетти и таинственной Анриетты, несравненной Анриетты, с которой связаны лучшие страницы мемуаров и счастливейшие дни Казановы. Оставаясь верным действительности, Казанова был одарен в то же время необыкновенным воображением. Никакая память, даже его память, не в силах удержать с такой ясностью неисчислимые подробности. Изображая их с такой зрительной правдой и такой живой осязательностью, он, несомненно, испытывал прилив подлинного вдохновения. И это вдохновение – чисто писательское творчество. Стоит оценить эту огромную работу воссоздания людей, обществ, происшествий, мыслей, чувств, разговоров, чтобы признать Казанову замечательным писателем. Необыкновенный человек в нем не должен заслонить собой превосходного писателя. Разумеется, Казанова жил не для того, чтобы написать свои мемуары. Верно и то, что он писал только, чтобы еще раз пережить в воображении свою чудесную жизнь. Но ее стоило прожить хотя бы затем, чтобы написать эту чудесную книгу.
Казанова любил поэзию, литературу, общество образованных людей. Он мог бы достигнуть некоторых ступеней в духовной карьере, если бы пожелал соединить свою судьбу с судьбой епископа, который получил кафедру в Калабрии «милостью Божьей, святого престола и моей матери». Но «без хорошей библиотеки, без избранного общества, без благородного соревнования, без литературной переписки разве мог я, имея восемнадцать лет, остаться в такой стране». Когда в Константинополе мудрый и богатый Юсуф Али, умевший рассуждать так, что «это напоминало Платона», предложил Казанове выдать за него свою дочь, если он перейдет в магометанство, Казанова ответил отказом. «Меня влекло желание сделаться известным среди цивилизованных народов в каком-нибудь из искусств или в литературе». Не случайно он кончил свои дни библиотекарем; вкус к библиотекам уживался у этого необыкновенного человека вместе со вкусом к «макаронам, приготовленным хорошим неаполитанским поваром», и к «Олла Подрида, которую едят испанцы». Когда в Цюрихе ему пришла в голову странная фантазия вступить в бенедиктинский монастырь, то случилось это не только потому, что у эйнзидельнского аббата была отличная кухня, но также и потому, что у него была превосходная библиотека. «Мне казалось, что для того, чтобы быть счастливым, довольно хорошей библиотеки». В самый критический момент своей жизни, сейчас же после бегства из Англии, Казанова проводит несколько дней в знаменитой Вольфенбютельской библиотеке. «Я вспоминаю, – говорит он, – эти восемь дней с наслаждением; я провел их, погрузившись в книги и рукописи». Казанова высоко ценит людей, преданных науке или искусствам. И такие люди часто испытывают к нему дружбу и даже уважение. В Риме его постоянное общество составляют известный тогдашний художник Рафаэль Менгс и «отец истории искусства», знаменитый Винкельман. Упражнение ума – его потребность, это его привычка, которая играет роль даже в его любовных приключениях. Женщины, которых он больше всего любил, были умны и обладали литературными вкусами. Анриетта заставляла его «проводить целые часы, слушая ее очаровательные философствования о чувстве». Ее рассуждения были лучше, чем рассуждения Цицерона в Тускуланах. Дюбуа хорошо знала английскую литературу. «Я вижу, что вы много читали!» – «Это мое главное занятие, без чтения жизнь показалась бы мне несносной». И дальше про нее: «Она любила Локка». Сердце Клементины из Сант-Анджело Казанова покорил тем, что подарил ей целую библиотеку.
Сам Казанова читал чрезвычайно много и чрезвычайно много знал. «Это какой-то кладезь познания», – говорит о нем де Линь. В другом месте он говорит еще: «Казанова – это несравненный ум, каждое его слово – образ и каждая его мысль – целая книга». Казанова читает все, но больше всего он читает своего обожаемого Ариосто. «С шестнадцати лет у меня не было ни одного года, когда я не перечитывал бы Ариосто два или три раза». За это Ариосто вывел его из тюрьмы. Когда Казанова решил бежать и все было готово, оставалось назначить только день, он решил гадать по книге. Он взял тогда, конечно, «Orlando Furioso»[17]. Ему вышла девятая песня, седьмая страница и первый стих: Tra il fin d’ottobre e il capo di novembre[18].
«Что странного в этом обстоятельстве, – пишет Казанова, – это то, что между концом октября и началом ноября есть только минута полночи и как раз, когда било полночь 31 октября, я вышел из моей тюрьмы…» Казанова почитал и других старых итальянских поэтов: о Данте он всегда говорит с уважением, о Петрарке – с большой нежностью. Проезжая Воклюз, он стремится увидеть источник Лауры, и эти воды, «chiare fresche e dolci acque»[19] вызывают на его глазах слезы умиления.
Когда «мессерэ гранде» явился, чтобы арестовать Казанову, он описал все его бумаги и книги. В числе этих книг были Ариосто, Петрарка, Гораций, Аретин, разные эротические трактаты и, кроме всего этого, большое число сочинений по магии. «Знавшие, что у меня есть эти книги, считали меня великим магом, и мне это не было неприятно». Магом и каббалистом Казанова слыл всю свою жизнь. Бывали минуты, когда он сам был готов поверить в действительность произносимых им заклинаний. В Чезене гроза застала его в магическом кругу, и он не смел выйти из него в суеверном убеждении, что молния поразит его, как только он переступит линию, проведенную им же самим ради забавы.
Каббалистика была для Казановы самым важным источником существования. Если он сам готов был немного поверить в нее, то удивительно ли, что нашлись люди – Брагадин в Венеции, маркиза д’Юрфе в Париже, негоциант в Голландии, – которые без рассуждений верили в магические знания Казановы. Рассказы венецианского авантюриста о его влиянии на Брагадина и на д’Юрфе могли бы показаться неправдоподобными, но их подтверждают исторические документы. Сохранились доносы, которые писал некий Мануцци, шпион венецианской государственной инквизиции. «Половина Венеции знает, что его (т. е. Казанову) содержит Брагадин, так как думает, что через него явится ангел света… Удивительно, что такое высокое лицо, как Брагадин, допустил себя обмануть такому мошеннику». Об отношениях Казановы и старой маркизы д’Юрфе свидетельствуют мемуары де Креки. «Она попала в конце концов в руки итальянского шарлатана, который был настолько тонок, что не требовал с нее денег, но только драгоценные камни для составления из них фигур созвездий. Он сумел внушить этой ученой женщине, что она станет беременной в возрасте шестидесяти трех лет от влияния звезд и каббалистического гения и что затем она умрет, прежде чем родит, но потом воскреснет в виде взрослой девушки, ровно через шестьдесят четыре дня, ни больше ни меньше…» В этой выдержке есть лишь малое расхождение с рассказом самого Казановы.
Казанова рассказывает свои обманы с таким удовольствием, что, думается, им руководила здесь не одна только выгода. Его занимала театральная обстановка магических операций, их комическая важность, их безудержная фантастичность. «Театр был для меня потребностью», – говорит Казанова. Но какие сценические вымыслы, будь они даже вымыслами Карло Гоцци, могли бы превзойти в своей забавности чудеса лаборатории маркизы д’Юрфе и нелепый церемониал магических сеансов? Мемуары де Креки подтверждают, что Казанова никогда не брал у старой д’Юрфе деньги, а только драгоценные камни и богатые подарки. Это не уменьшает его вины, но не об его провинностях перед уголовным судом здесь идет речь. В этой черте есть действительно «тонкость», тот «высший полет» обмана, который доставляет, помимо выгоды, еще некоторое эстетическое удовольствие. И не доставляет ли такой обман некоторого удовольствия самой «жертве»? Маркиза д’Юрфе была женщиной умной, может быть, ей не так уж трудно было бы разгадать Казанову, но, может быть, ей вовсе не хотелось его разгадывать. С верой в каббалистику были соединены последние радости ее жизни, а кто откажется от последних радостей, достающихся даже ценой обмана?
«Тонкость» Казановы видна и в другом его способе наживы. Казанова любил азартную игру; один раз он провел за картами, не вставая с места, сорок два часа. Он много выигрывал, много проигрывал, но больше все-таки выигрывал. Он хорошо знал игру, он знал также искусство помогать слепой фортуне, хотя и не любил прибегать к нему. Только крайность заставляла его играть нечестно. В большинстве случаев он играл на счастье и увлекался только такой игрой. Когда же карты были нужны ему как средство для поправления ресурсов, он бросал игру и входил скрепя сердце в сделку с заведомыми и опытными шулерами. Он участвовал в банке известной долей и получал верную прибыль. Нет людей, по его мнению, более аккуратных в денежных расчетах, чем шулера.
«Он был слишком порядочен, чтобы плутовать, – говорит про него де Линь, – но он был не прочь от союза с одним замечательным плутом, которого я видел в Дуксе шесть лет тому назад, когда он приехал навестить Казанову. Их разговоры и рассказы о том, что с ними случилось за это время, были курьезнейшей вещью в мире. Его звали Лакруа или, по-итальянски, Кроче»… Это тот самый Кроче, который, несмотря на свое искусство, проигрался до нитки в Аахене и принужден был бежать, оставив на руках Казановы несчастную Шарлотту. «Он обнял меня со слезами на глазах и ушел. Он ушел без белья, без верхней одежды, в шелковых чулках и с тростью в руке, точно на прогулку, а он собирался направиться в Варшаву. Таким был мой Кроче!»
Казанова много писал. Кроме мемуаров, он писал памфлеты, исторические сочинения, энциклопедию сыров, работу об удвоении куба. Писал он только тогда, когда был свободен от других занятий. Мемуары написаны им в старости, защита Венеции от нападок одного французского писателя была начата, когда он сидел в барселонской тюрьме. Ни литература, ни каббалистика, ни игра не были главным делом его жизни. Уже под старость, находясь в Лондоне, он сказал одной даме: «Я распутник по профессии, вы приобрели сегодня дурное знакомство». В предисловии он говорит: «Главнейшим делом моей жизни были чувственные наслаждения, более важного дела я не знал никогда».
Другими авантюристами руководила жажда наживы, их привлекала слава. Для Казановы и деньги и известность были лишь средством. Целью его была любовь. Женщины наполняли его жизнь, и женщины составляют предмет всех его рассказов. В 1759 году Казанова находится в Голландии. Он богат, уважаем, перед ним легкий путь к спокойному и прочному благосостоянию. Но ничто не может его удержать. Встречи, новые встречи волнуют его воображение. Он ищет этих встреч всюду: на придворном балу, на улице, в гостинице, в театре, в притоне. Он колесит из города в город без всякого расчета и плана. Его маршрут решается парой красивых глаз, остановившихся на нем на секунду больше, чем это нужно. И ради пары красивых глаз он способен переодеться гостиничным слугой, давать пиры, играть «Шотландку» Вольтера и поселиться надолго в крохотном швейцарском городке. В короткое время он успевает любить аристократку из высшего общества, дочерей трактирщика, монахиню из захолустного монастыря, ученую девицу, искусную в теологических диспутах, прислужниц в бернских купальнях, прелестную и серьезную Дюбуа, какую-то отчаянно безобразную актрису и, наконец, даже ее горбатую подругу. Он соблазняет всех, и иногда кажется, сам не видит кого. У него только одно правило: двух женщин гораздо легче соблазнить вместе, чем порознь; только этого правила он и держится во всех своих приключениях.
«Любовь – это только любопытство» – вот фраза, которая часто встречается в мемуарах Казановы. Неутомимое любопытство было настоящей страстью этого человека Возрождения, заблудившегося среди нелюбопытного, скептического и рассудительного XVIII века. Казанова не был банальным любимцем женщин, как какой-нибудь Кроче. Он мог бы смело сказать, что все его любовные авантюры – дело его собственных рук. В любви он не был счастливым баловнем, случайным дилетантом. К сближению с женщинами он относился так, как серьезный и прилежный художник относится к своему искусству. Мудрено ли, что ему удавалось достигнуть иногда высокого совершенства.
Ибо не всегда Казанова был погружен в торопливый и неразборчивый разврат. Такие периоды случались у него лишь тогда, когда ему хотелось заглушить воспоминания только что прошедшей большой любви и вечную жажду новой. Среди бесчисленных женщин, упоминаемых этим «распутником по профессии», есть несколько, оставивших глубокий след в его душе. Их память для него священна. Им посвящены лучшие страницы мемуаров. Рассказывая о них, Казанова удерживается от своих обычных непозволительно непристойных подробностей. Их образы становятся для читателей этой книги так же близки и живы, как образ самого венецианского авантюриста.
Первая любовь Казановы была в духе мирной венецианской новеллы. Ему было шестнадцать лет, и он любил Нанетту и Мартон, двух племянниц доброй синьоры Орио. «Эта любовь, которая была моей первой, не научила меня ничему в школе жизни, так как она была совершенно счастливой, и никакие расчеты или заботы не нарушали ее. Часто мы все трое чувствовали потребность обратить наши души к божественному провидению, чтобы поблагодарить его за явное покровительство, с каким оно удаляло от нас все случайности, которые могли нарушить наши мирные радости…»
Легкий оттенок элегии появляется в его второй любви. Быть может, это оттого, что она протекает в Риме и что смутное раздумье заключено в вечной зелени садов Людовизи и Альдобрандини, где Казанова любил Лукрецию. «О, какие нежные воспоминания соединены для меня с этими местами!..» – «Посмотри, посмотри, – сказала мне Лукреция, – разве не говорила я тебе, что наши добрые гении оберегают нас. Ах, как она на нас глядит! Ее взгляд хочет нас успокоить. Посмотри, какой маленький дьявол, это самое таинственное, что есть в природе. Полюбуйся же на нее, наверное, это твой или мой добрый гений». – «Я подумал, что она бредит». «О чем ты говоришь, я тебя не понимаю, на что надо мне посмотреть?» – «Разве ты не видишь красивую змейку с блестящей кожей, которая подняла голову и точно поклоняется нам?» – «Я взглянул туда, куда она показывала, и увидел змею переливающихся цветов, длиною в локоть, которая действительно нас рассматривала!»
На пути из Рима, в Анконе, Казанова встретился с певицей Терезой, переодетой кастратом. В этой странной девушке было благородство, был ясный ум, было нечто, внушавшее уважение. Она заставила Казанову испытать момент чистоты и желание никогда больше с ней не расставаться. Никогда Казанова не думал так серьезно о женитьбе, как в эту ночь в маленькой гостинице в Синигальи. Непредвиденная разлука не изменила его решения. Понадобился весь жизненный опыт Терезы, чтобы убедить его в невозможности этого для них обоих. «Это было первый раз в моей жизни, что мне пришлось задуматься, прежде чем решиться на что-либо». Они расстались и встретились через семнадцать лет во Флоренции. Вместе с Терезой был молодой человек, Чезарино, как две капли воды похожий на портрет Казановы в молодости. Пораженный этой встречей Гуго фон Гофмансталь написал пьесу «Авантюрист и певица».
Во время пребывания на Корфу Казанова испытал любовь, напоминающую своей сложностью и мучительностью темы современных романов. Долгая история этой любви драматична, ей принадлежат одни из самых сильных страниц во всей книге. Много лет спустя воспоминание о патрицианке заставляет Казанову воскликнуть: «Что такое любовь? Это род безумия, над которым разум не имеет никакой власти. Это болезнь, которой человек подвержен во всяком возрасте и которая неизлечима, когда она поражает старика. О любовь, существо и чувство неопределимое! Бог природы, твоя горечь сладостна, твоя горечь жестока…»
Никакая другая женщина не вызывает в душе Казановы таких нежных воспоминаний, как Анриетта, таинственная Анриетта, которую он встретил в обществе венгерского офицера в Чезене. Три месяца, которые он прожил с ней в Парме, были счастливейшим временем его жизни. «Кто думает, что женщина не может наполнить все часы и мгновения дня, тот думает так оттого, что не знал никогда Анриетты… Мы любили друг друга со всей силой, на какую были только способны, мы совершенно довольствовались друг другом, мы целиком жили в нашей любви». Казанова обожал эту женщину, у которой на лице «была легкая тень какой-то печали». Он восхищается в ней всем – ее умом, ее воспитанием, ее умением одеваться. При одном случае она показала, что умеет превосходно играть на виолончели. Казанова был растроган, потрясен этим новым талантом своей Анриетты. «Я убежал в сад и там плакал, ибо никто не мог меня видеть. Но кто же эта несравненная Анриетта, повторял я с умиленной душой, откуда это сокровище, которым я теперь владею?..»
Пришла разлука. Казанова провожал Анриетту до Женевы, где остался один. «Я мог выехать из Женевы только на другой день и провел в той же гостинице один из самых печальных дней моей жизни. На одном из стекол я увидал слова, которые она писала подаренным мною бриллиантом: «Ты забудешь также и Анриетту». Это пророчество не могло меня утешить, но какой смысл придавала она слову забыть?.. Нет, я не забыл ее, ибо теперь, с головой, покрытой седыми волосами, я вспоминаю ее, и это воспоминание служит чистой отрадой для моего сердца. Когда я думаю, что в старости моей я счастлив только воспоминаниями, я нахожу, что все-таки моя жизнь была скорее счастлива, чем несчастна. Я благодарю Бога, первую причину всего, и радуюсь сознанию, что жизнь есть благо».
20 августа 1760 года Казанова был снова в Женеве, проездом, и остановился в той же самой гостинице «Весы». «Я подошел случайно к окну и вдруг заметил на четырехугольнике стекла слова, написанные алмазом: «Ты забудешь также и Анриетту». Вспомнив в одно мгновение, что Анриетта написала эти слова тринадцать лет тому назад, я почувствовал, как волосы шевелятся у меня на голове. В этой комнате мы жили, когда она рассталась со мной, чтобы вернуться во Францию. Подавленный, я бросился в кресло и стал думать. Благородная и нежная Анриетта, которую я так когда-то любил, где она теперь? Я ничего о ней не знал и ничего не пытался узнать. Сравнивая себя с собой прежним, я был принужден признать себя менее достойным ее, чем когда-то. Я еще мог любить, но у меня не было прежней нежности, ни чувств, которые оправдывают грех, ни сдержанности в образе жизни, ни известной честности, наконец, которая бывает иногда в самых наших слабостях. Но что было страшнее всего, это то, что во мне не было прежних сил».
Случай, заставивший Казанову вспомнить про Анриетту и про дни молодости, произошел с ним как раз после разлуки с Дюбуа, которая была одной из его последних больших привязанностей. После этого случая он начал чувствовать свое одиночество. Его душевное состояние видно из размышлений по поводу Розалии, которую он подобрал в одном из марсельских притонов. «Я старался привязать к себе эту молодую особу, надеясь, что она останется со мной до конца дней и что, живя с ней в согласии, я не почувствую больше необходимости скитаться от одной любви к другой». Но, конечно, и Розалия покинула его, и его скитания начались снова.
Вместо преданной любовницы Казанова встретил Ла Кортичелли. Эта маленькая танцовщица заставила его испытать ревность и горечь обмана. Она была из Болоньи и «только и делала, что смеялась». Она причинила Казанове много бед всякого рода. Она смеялась над ним, интриговала против него и изменяла ему при каждом удобном случае. Но напрасно Казанова старается снять с себя подозрение, что, несмотря на все это, он продолжал быть влюбленным в Ла Кортичелли. Самый тон его рассказов выдает, что никогда, даже в минуту их окончательного разрыва, эта «сумасбродка» не была безразличной для сердца начинавшего стареть авантюриста.
Последний расцвет Казановы был в Милане. Он был тогда все еще великолепен. «Моя роскошь была ослепительна. Мои кольца, мои табакерки, мои часы и цепи, осыпанные бриллиантами, мой орденский крест из алмазов и рубинов, который я носил на шее на широкой пунцовой ленте, – все это придавало мне вид вельможи». Около Милана Казанова встретил Клементину, «достойную глубокого уважения и самой чистой любви». Вспоминая дни, проведенные с ней, он говорит: «Я любил, я был любим и был здоров, и у меня были деньги, которые я бросал для удовольствия их тратить, я был счастлив. Я любил повторять себе это и смеялся над глупыми моралистами, которые уверяют, что на земле нет настоящего счастья. И как раз эти слова, «на земле», возбуждали мою веселость, как будто оно может быть где-нибудь еще!.. Да, мрачные и недальновидные моралисты, на земле есть счастье, много счастья, и у каждого оно свое. Оно не вечно, нет, оно проходит, приходит и снова проходит… и, быть может, сумма страданий, как последствие нашей духовной и физической слабости, превосходит сумму счастья для всякого из нас. Может быть, так, но это не значит, что нет счастья, большого счастья. Если бы счастья не было на земле, творение было бы чудовищно и был бы прав Вольтер, назвавший нашу планету клоакой вселенной, – плохой каламбур, который выражает нелепость или не выражает ничего, кроме прилива писательской желчи. Есть счастье, есть много счастья, так повторяю я еще и теперь, когда знаю его лишь по воспоминаниям».
При разлуке Клементина рыдала и была в беспамятстве. Чувствовал ли тогда Казанова, что, прощаясь с ней, он прощается со своим последним счастьем. Тревога растет в нем, он не встречает больше ни новой Терезы, ни новой Анриетты, ни новой Дюбуа. При расставании с венецианской Марколиной, взятой им мимоходом почти что с улицы, он испытывает небывалые переживания. «Я не могу и отказываюсь передать страдание, которое причинил мне ее отъезд. Еще накануне я был рад этой разлуке по многим причинам. В минуту отъезда я почувствовал, что мое желание освободиться от Марколины слабеет. Но когда я остался один – какая пустота, какое отчаяние!.. Поверхностный читатель, пожалуй, не поверит, когда я скажу, что остался стоять без движения, охваченный тоской и в таком забвении всего, что не знал, как найти дорогу. Я вскочил на лошадь и, шпоря ее изо всех сил, предался дороге с отчаянным решением загнать лошадь или сломать себе шею. Таким образом я сделал восемнадцать лье в пять часов». И затем Лондон. «Какое одиночество, какая затерянность… Лондон – это самое последнее место на земле, где можно жить, когда невесело на душе». За все свое пребывание там Казанова не встретил любимой женщины-друга. Вместо того он встретил одну из самых опаснейших хищниц, которые только были в Лондоне, богатом в то время такими «роковыми» женщинами. Француженке из Безансона, носившей фамилию Шарпильон, суждено было сделаться злейшим врагом Казановы. «Итак, в Лондоне, nel mezzo del cammin di nostra vita[20], как сказал старый Данте, любовь самым наглым образом насмеялась надо мной». Какая необыкновенная и дикая была эта любовь! Эту женщину, «в чьем лице, возвещавшем одну искренность, одну чистоту, природа налгала самым бесстыдным образом», Казанова полюбил с первого взгляда. Она состояла из хитрости, каприза, холодного расчета и легкомыслия, смешанных самым удивительным образом. Она разорила его до нитки и довела до тюрьмы. Однажды она чуть не задушила его, другой раз Казанова нанес ей тяжкие побои. В Ричмонде, в парке, он бросился на нее с кинжалом. В промежутках между этим они друзья и враги, всё вместе. Но вот последнее унижение: Казанова застает ее на свидании с молодым парикмахером. В совершенном исступлении он крушит все, что попадается ему под руку. Шарпильон едва успевает спастись. Потом она больна. Казанове сообщают, что она при смерти. «Тогда я был охвачен ужасным желанием покончить с собой. Я пришел к себе и сделал завещание в пользу Брагадина. Затем я взял пистолет и направился к Темзе с твердым намерением раздробить себе череп на парапете моста». Встреча с неким Эдгаром спасла ему жизнь. Как всегда повинуясь судьбе, Казанова пошел за ним, и эта ночь кончилась оргией. А на другой день он встретил Шарпильон на балу среди танцующих. «Волосы зашевелились у меня на голове, и я почувствовал ужасную боль в ногах. Эдгар рассказывал мне потом, что при виде моей бледности он подумал, что я сейчас упаду в эпилептическом припадке. Во мгновение ока я растолкал зрителей и направился прямо к ней. Я стал ей что-то говорить, что – я не помню. Она убежала в страхе». Это было последним свиданием Казановы с Ла Шарпильон.
Таковы были любви авантюриста и распутника Казановы. Но кто осмелится сказать, что во всех его отношениях с женщинами не было ничего, кроме развращенности? «Я распутник по профессии», – так сказал он в бытность свою в Лондоне, после трагической любовной неудачи. Как невеликодушно с нашей стороны было бы принять за окончательную истину это горькое признание! В начале 1769 года Казанова, измученный тюрьмой и опасностями всякого рода, возвращался из Испании. На юге Франции, в Эксе, он слег и несколько дней был тяжко болен. Его выходила своими заботами неведомо откуда взявшаяся сиделка. Уже когда он уехал из Экса, он узнал, что эту женщину послала к нему Анриетта, его несравненная Анриетта, ныне владелица соседнего с городом поместья. Она писала ему: «Как я счастлива, когда думаю, что могла помочь вашему выздоровлению, поместив около вас преданную мне сиделку… Мы сильно постарели за эти двадцать пять лет, но поверите ли вы, что, несмотря на это и, может быть, именно от этого, я все-таки люблю вас…»
Но не вымысел ли это письмо и вся эта романтическая, трогательная встреча? Нет, Казанова и на этот раз писал правду. Самым замечательным из открытий, сделанных Симонсом в архивах замка Дукс, были письма Анриетты. «Я нашел, – пишет он, – большое число их, некоторые подписанные полным именем Анриетта де Шнетцман, и я склонен думать, что она пережила Казанову, ибо одно письмо помечено: Байрейт 1798 год, год смерти Казановы». К этому Симонс прибавляет: «Казанове было двадцать три года, когда он встретил Анриетту, и вот ей семьдесят три года, и она пишет ему так, будто протекшие пятьдесят лет стерлись с ее верной памяти».
Такую глубокую привязанность и любовь без конца умел внушать этот человек, смутивший своими мемуарами столько лицемерных моралистов. Анриетта была верна ему, но не был ли и он верен памяти всех женщин, которых любил, не с полной ли искренностью написал он следующие строки: «Расставаясь с женщинами, которых я более других любил, я часто испытывал, как сжимается сердце, и меня тяготило чувство тайной печали, мысль о том, что такое драгоценное благо уходит от меня. Я не решусь сказать, что какая-нибудь из них могла бы навсегда удержать меня, но я всем сердцем уверен, что готов был навсегда сохранить многих из них. Быть может, я представляю феномен человека, глубоко постоянного среди бесчисленных измен и равно готового удержать ту, которая ему принадлежит, и преследовать ту, которая его манит».
Женщины, которые любили Казанову, соединяли свою любовь к нему с какой-то всепрощающей и чудесно-легкой дружбой. Мы знаем это не только по его рассказам: читая мемуары, мы сами начинаем испытывать к нему то же чувство. При жизни у Казановы было немало друзей. Почтенная синьора Манцони, в Венеции, верно хранила его «архив» и ласковым смехом отзывалась на все авантюры его молодости. Семья Сильвии Балетти нашла в нем благородного и преданного друга, почти родного. Итальянские актеры, все это живописное племя Арлекинов, Скарамушей и Коломбин, рассеянное по городам Европы, – всегда свои и близкие люди для Казановы. Они оказывают ему тысячи услуг в Штутгарте, в Варшаве, в Мадриде, и, когда приходит случай, он щедро отплачивает им, как было в Аугсбурге. Но не одни только актеры; скитаясь по Европе, Казанова всюду находил людей, умевших понять и оценить его. В несколько дней он создавал отношения, которые тянулись потом через всю жизнь и оставили связки дружеской переписки. И все-таки, наверно, у Казановы при жизни не было столько друзей, сколько доставили ему мемуары, напечатанные через двадцать пять лет после его смерти.
При чтении их нельзя не чувствовать симпатии к этому человеку. Иногда он восхищает, иногда глубоко интересует, иногда как-то бесконечно развлекает, иногда трогает, но никогда его рассказы не оставляют за собой равнодушия. Для того, кто ждет от авантюриста каких-либо необыкновенных авантюр, его рассказы не будут занимательны. Ибо, в конце концов, главное «приключение» Казановы – это его положение в жизни, его особенный поворот, его, если можно так выразиться, жизненная походка.
Чего только нельзя простить этому человеку! Смущают его способы наживы? Но вот что говорит он сам: «Я считал бы себя виновным, если бы теперь был богат. У меня же нет ничего, и это меня утешает. То были деньги, предназначенные для удовольствий, и я не изменил их предназначения тем, что обратил их на мои удовольствия». Он продал за тысячу золотых какому-то чудаку кусочек старой кожи, убедив его, что это ножны от того самого меча, которым Петр отсек ухо Малху. Но ведь этот курьезный коллекционер и до конца своих дней ценил его больше, чем самый чистый бриллиант. «Умерев с этой уверенностью, он умер богатым, я же умру нищим. Пускай читатель рассудит, кто из нас совершил более выгодную сделку».
Всякий, кто захочет строго судить Казанову, непременно попадет в положение аугсбургского бургомистра. Этот бургомистр прислал ему приказание явиться в присутственное место. Там произошел следующий диалог: «Вы называетесь Казанова и вовсе не де Сейнгальт; на каком основании вы присвоили себе это второе имя?» – «Я принимаю это имя или, вернее, я принял его потому, что оно мое. Оно принадлежит мне так законно, что, если бы кто-нибудь осмелился его носить, я стал бы протестовать всеми путями и средствами». – «Каким же образом это имя принадлежит вам?» – «Таким, что я его автор, что не мешает мне быть также и Казановой». – «Милостивый государь, или то или другое. У вас не может быть двух имен». – «У испанцев и португальцев их часто бывает полдюжины». – «Но вы не испанец и не португалец, вы – итальянец. И потом, как это можно быть автором имени?» – «Нет ничего на свете проще и легче». – «Объясните». – «Альфавит есть общая собственность, это неоспоримо. Я беру десять букв и располагаю их так, что получается слово «Сейнгальт». Это слово мне нравится, и я беру его для своего имени с твердым убеждением, что так как никто его не носил до меня, то никто и не имеет права его у меня оспаривать или носить без моего согласия». Бургомистру оставалось только улыбнуться и пригласить Казанову де Сейнгальт к себе обедать.
Мемуары Казановы обрываются на 1774 году, и о последнем времени его жизни известно только из его писем и из воспоминаний принца де Линь. «Мой племянник, граф Вальдштейн, – рассказывает де Линь, – заинтересовался им у венецианского посланника в Париже, где они вместе обедали. Так как он делал вид, что верит в магию и имеет с ней дело, то он завел разговор о клавикуле Соломона и проч. и проч.». – «Нашли кому рассказывать это, – отвечает Казанова. – Che bella cosa, cospetto![21] Я все это давно знаю». – «В таком случае, – говорит Вальдштейн, – едем со мной в Богемию, я уезжаю завтра». У Казановы на исходе все: деньги, путешествие, авантюры, он согласен, и вот он библиотекарем у одного из потомков великого Валленштейна. В этом звании он проводит четырнадцать последних лет своей жизни в замке Дукс в Богемии…
Эти годы Казанова писал свои мемуары и, только когда писал, не чувствовал себя несчастным. Сколько огорчений и старческих беспомощных обид! «Не было дня, – рассказывает де Линь, – чтобы он не затевал ссоры из-за кофе, из-за молока, из-за блюда макарон. Повар не дал ему поленты, кучер, возивший его ко мне, оказался плохим, собаки лаяли всю ночь, наехали гости, и ему пришлось обедать за маленьким столом, охотничий рог оглушил его резкими и фальшивыми звуками, священник надоел ему своими обращениями на путь истинный, граф не поздоровался с ним первый, ему нарочно подали слишком горячий суп, лакей заставил его ждать, подавая ему пить, его не представили важному лицу, которое приехало посмотреть на копье, пронзившее великого Валленштейна…» Кроме того, над ним смеялись. «Он говорит по-немецки – никто не понимает, и все смеются. Он показывает свои французские стихи, – над ним смеются. Он жестикулирует, декламируя по-итальянски, – опять все смеются. Он делает, входя в комнату, реверанс, которому его научил шестьдесят лет тому назад знаменитый тогда Марсель, – все смеются. Он исполняет свое па в менуэте – все смеются. Он надевает белое перо, он одевается в раззолоченный шелк и черный бархат, он носит подвязки со стразовыми пряжками и шелковые чулки, и снова все смеются над ним. «Cospetto![22] – кричит он, – мерзавцы, вы все якобинцы, вы не уважаете графа, и граф, позволяя вам смеяться, не уважает меня».
Доходит до того, что Казанова решается бежать. Он запасается рекомендательными письмами и тайком уезжает в Веймар. Герцог принимает его ласково, но, увы, место занято. Все милости Веймарского двора обращены на некоего Гете, и для Казановы де Сейнгальт не остается ничего. Разочарованный Казанова возвращается в Дукс. «Еще пять лет он проводит здесь, волнуясь, обижаясь и оплакивая завоевание Бонапартом своей неблагодарной родины. Он рассказывает нам о Камбрейской лиге, о славе своей древней и великолепной Венеции, которая боролась одна против Европы и Азии. Аппетит его уменьшается с каждым днем, и он довольно мало привязан к жизни. Он кончает ее благородно перед Богом и перед людьми». Он кончил свою жизнь, прибавим, по слову Петрарки, стоящему в начале мемуаров: Con le ginocchie della mente inchine[23].
Для нас его книга драгоценна, ибо пробуждает в нас то «сочувствие», которое является целью всякого художественного произведения. Эту жизнь и судьбу мы переживаем со всем цветом и всей звучностью, вложенными в рассказ старого авантюриста. Во всех его приключениях нет ничего необыкновенного, кроме необыкновенности питавшего его внутреннего жара. По существу же все просто и человечно у Казановы, все лежит в кругу наших мыслей и чувств. И в истории его жизни мы часто узнаем страницы своей истории, вечной истории человеческой жизни.
Путь к Флоренции
Церковь на арене
В старинном и хмуром городе Падуе есть два величайших памятника светлой поры итальянского искусства. Это фрески Мантеньи в церкви Эремитани и фрески Джотто в небольшой церковке, расположенной на месте арены древнего амфитеатра. Каждый, кто едет в Италию и, следовательно, любит искусство (кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии), обязан видеть эти фрески, особенно фрески Джотто. Итальянская живопись родилась от Джотто. Но представление о Джотто остается неполным при знакомстве с немногочисленными его произведениями, хранящимися в различных галереях. Мало помогают и его фрески в церкви Санта-Кроче во Флоренции, почти сплошь перерисованные слишком усердными реставраторами. И даже храм Св. Франциска в Ассизи не вполне раскрывает для нас художественную личность отца итальянской живописи. Этот храм, переполненный живописью в духе Джотто, незаменим для понимания общего духа искусства того времени. Но художественный облик Джотто ускользает там и теряется среди подражавших ему мастеров. Ученые недаром до сих пор не могут прийти к соглашению, что именно из тех фресок надлежит считать работой самого Джотто и что – работой его учеников. Лишь роспись падуанской церкви на Арене, или, как ее называют по имени основателя, капеллы дельи Скровеньи, не возбуждает никаких сомнений. Она является чистым и совершенным созданием Джотто, плодом зрелости, достигнутой гениальным художником в первом десятилетии XIV века. Она дошла до нас в хорошем состоянии, ее почти вовсе не коснулась опасная заботливость реставраторов. Ничто не умаляет важности и драгоценности этого источника жизни всего итальянского искусства.
Входящий в церковь на Арене бывает прежде всего поражен стройностью и цельностью общего впечатления. Художник, который здесь работал, умел подчинить все частности своей главной задаче. Роспись церковных стен строго выдержана им в светлых и легких тонах, выдвинутых проходящим сквозь все изображения ковровым синим фоном. Отношение между цветом этого фона и красками выделяющихся на нем фигур придает всем сценам удачную силуэтность: они скользят вдоль стены и не тяжелят ее. Джотто выказал в этом свой глубокий архитектурный инстинкт. И еще более удивительно сказалось его чувство меры в размещении фресок. Они расположены на продольных стенах в три горизонтальных ряда, и каждый ряд разделен вертикальными линиями на несколько сцен. Казалось бы, при таком делении должно получиться утомительное впечатление клеток. Но этого нет. Джотто удалось найти необыкновенно счастливую пропорцию между высотой стен и величиной нарисованных фигур. Посетитель церкви никогда не видит нескольких «клеток». Перед ним или общая поверхность стены, в которой мягко сливается все деление, или только та сцена, на которой остановилось его внимание. И когда он рассматривает одну из этих фресковых картин, он едва ли отдает себе отчет в действительных размерах изображенных на них фигур. В его представлении, благодаря искусству Джотто, каждая такая сцена вырастает до монументального впечатления целой стены.