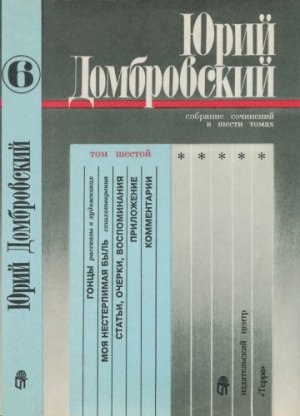
Гонцы. Рассказы о художниках
Самое начало
Эти рассказы возникли, можно сказать, сами по себе. Они отпочковались от совсем другой работы, до которой у меня так и не дошли руки. А между тем, думал я о ней давно, материал собирал для нее прилежно, хотя и исподволь, и он оседал в моих блокнотах, тетрадках, скоросшивателях. Вероятно, он и до сегодняшнего дня так бы и остался материалом, т. е. записями и вырезками, если бы я вдруг не наткнулся на две книги.
Одна из них — чудесный многокрасочный альбом — принадлежала крупному казахскому художнику Нагим-Беку Нурмухаммедову и называлась «Искусство Казахстана» (Москва, «Искусство», 1970 г.); другую же, изданную не так роскошно, но с отличным четким текстом, написали два искусствоведа — Л. Плахотная и И. Кучис: «Казахская художественная галерея им. Шевченко» (Москва, «Советский художник», 1967 г.).
Однажды я, уже в какой раз, принялся листать их и — очевидно, настроение было такое — меня вдруг окружили люди, с которыми я встречался и которых любил, камни и скалы, которые я видел и к которым приходил не однажды, наконец, вещи, которые прошли через мои руки.
О некоторых из этих людей я уже писал (Н. Хлудов, А. Зенков, С. Калмыков), о других мне захотелось рассказать впервые, потому что они стоят этого, а времени и так потеряно предостаточно. Но прежде чем приступить к рассказу о них, живых и мертвых, мне хочется немного подумать и поговорить о самых дальних истоках их, таких дальних, что они уже не люди, а предметы, т. е. археология.
Начну со старой истины. Искусство Казахстана одно из самых древних. Его бронза и золото при самых заниженных расчетах относятся еще к тому времени, когда на месте Рима стояла бедная деревушка кампанийских пастухов и рыболовов, Италию же населяли эти «загадочные этруски», т. е. к 5–7 веку до нашей эры.
А наскальные изображения, те вообще могли бы помнить хитроумного Одиссея!
Еще и великая Троя не лежала в развалинах, а по диким скалам Буга Таса и Тамгалы уже скакали глубоко врезанные или врубленные в камень олени, лошади, горные козлы, куланы, стояла необычайная лошадь в маске быка, солнцеликий человек тянул руки к своей лучистой голове.
И дальше путешествуя по тысячелетиям, мы будем встречать тех же самых горных козлов, оленей, маралов, джейранов, только сделанных из меди и бронзы.
Конечно, скульптуры эти еще очень грубы и примитивны, голова тут просто обрубок, глаза — щелки или дырочки, ноздри тоже. Понятно, если у мастера нет подходящего инструмента, то металл становится очень неподатливым материалом, но именно эта ограниченность и сделала эти маленькие скульптуры настоящими шедеврами.
«Искусство живет несвободой», — сказал как-то об этом А. Камю[1]. У древнего мастера Семиречья было до смешного мало возможностей, но избирательностью и точностью глаза он обладал в высшей мере. Он умел разглядеть в любом изображаемом объекте самое принципиальное и отбросить все лишнее. Особенно ясно я это понял, когда в музей, где я в тот год работал, попала таинственная и знаменитая карагалинская находка. Сейчас о ней уже существует целая литература. Она рассмотрена со всех сторон археологически, этнографически, искусствоведчески и все-таки ясности в отношении ее нет до сих пор. Наоборот, чем больше ее изучают, тем больше вопросов она ставит перед исследователем. Когда-то я писал о ней так:
«...где-то там, верст за двадцать от города, в глухом урочище, на берегу грязной речонки, под огромными голубыми валунами спала уже второе тысячелетие та, которая когда-то была первой красавицей, принцессой, невестой, а может быть, еще и колдуньей.
Все вокруг нее было овеяно темнотой и тайной. Она не была похоронена и оплакана, над ней не возвели погребальной насыпи, не поставили надгробного камня. В день свадьбы она вдруг пропала из глаз людей. При жизни она была высокая, с тонкими пальцами, продолговатым лицом, и все ее считали, конечно, красавицей. Сыплет дождик, летят мокрые листья, идут низенькие тучи, грязь прямо хлещет с гор жирными потоками. Но она надежно укрыта валуном, и две тысячи лет, прошедшие над ней, ничего тут не изменили. Еще только две-три бляшки из свадебного убора попали нам в руки, все остальное цело. Ее еще не нашли и не ограбили. Придет время, и все триста ее золотых украшений — кольца и серьги — полностью переселятся в витрины музея. А сейчас она все еще невеста. И я только стою и гадаю, кто же она?..» («Новый мир», 1964, № 8).
Нужно повторить, что ответа на этот вопрос я так и не имею. Переходя уже на трезвую прозу, привожу здесь свою запись, которую я сделал 16 лет тому назад («Дружба народов», 1957, № 5):
«Находка включает в себя более трехсот золотых предметов, в том числе кольца, серьги, броши и обломки золотой диадемы.
Набрели на все это совершенно случайно.
Дело было так. Бродили четыре охотника по берегу горной речки Карагалинки, неподалеку от Алма-Аты, и попали под ливень. Спрятаться было некуда, они бросились бежать вверх по реке, к большим каменным глыбинам метрах в тридцати от берега. Для четверых яма была тесна, и когда охотники стали ворочаться в ней, под руку одного попала какая-то блестящая золотая пластинка. Стали разрывать землю, и сразу же наткнулись на груду золотых безделушек: пуговиц, каких-то круглых нашивок, серег, колец... Порыли еще немного и обнаружили сначала человеческий череп, а потом и полуистлевшие кости. Кости охотники оставили под камнем, а золото собрали и отнесли в музей.
В этой находке все, что ни возьми, загадка. Не ясно даже основное — кто был тут похоронен. Проф. А. Бернштам — кажется, первый ученый, обследовавший эту находку, — написал: «Молодая женщина лет 25... видимо, шаманка»[2]. Но вот первая же несообразность: кольца этой древней грации спадают даже с толстых пальцев землекопа — настолько они велики[3]. Как же могла носить их молодая женщина, хотя бы за три века до нашей эры. А ведь она носила не только кольца, на ее голову была надета тяжелая, видимо, брачная диадема из кованого золота. Ее одежда была, словно панцирем, обшита тяжелыми золотыми бляшками. Трудно даже представить себе, как выглядел этакий чудовищный золотой идол.
Дальше, пожалуй, самое непонятное: как эта невеста очутилась под камнем? Никто никогда не хоронил эту женщину — останки лежали просто на земле. Но если никто не хоронил ее, так как же она погибла и почему ее труп попал сюда? Обо всем этом можно только гадать. И вот ученые гадают. Один говорит: на эту женщину напал горный барс, задавил ее и затащил под камень, там она и осталась. Но ведь диадема, бляшки, кольца, серьги, эта тяжелая парадная одежда, вообще весь убор невесты вовсе не для прогулок. Так неужели барс украл невесту, скажем, с пира или с жертвоприношения? Другие говорят: та, что лежит под камнем, никогда не носила на себе ни диадемы, ни этих колец, она просто похитила их у какой-то другой женщины, возможно, у своей госпожи и бежала — вот тут-то на нее и напал барс... А профессор А. Н. Бернштам говорит: эта женщина — шаманка, и то, на что наткнулись охотники, шаманское погребение. Так до сих пор кое-где народы севера хоронят колдунов — уносят тело в дикое место и заваливают глыбиной.
Так ли это или нет, но авторы до сих пор не могут прийти к единогласию. Но если не ясны обстоятельства смерти невесты в подвенечном уборе, то еще более густой туман окутывает происхождение и назначение трехсот золотых предметов, найденных подле погибшей. Здесь все оспаривается, все недостоверно. Даже время, когда была погребена, убита или задрана зверем эта женщина, точно не установлено. То ли это случилось за двести лет до нашей эры, то ли на четыреста лет позже. И тем не менее «карагалинская находка» сразу стала в ряду лучших образцов мировой культуры. Ее значение огромно и выходит далеко за пределы истории древнего Семиречья».
Так кончается моя первая статья, посвященная находке.
С тех пор было многое установлено, но утратилось еще больше. Так, например, потерян череп из погребения. И если раньше писали о шаманке, то сейчас Hyp Мухаммедов без всякого, по-моему, основания пишет уже о погребении шамана.
И вот теперь самое время вернуться к тому, о чем я говорил вначале.
Все эти триста предметов мог создать только мастер, живущий в Семиречье, и никто другой. Посмотрите на золотые кольца, на фигурки отдыхающих верблюдов. Они сделаны с такой простотой и в то же время с такой точностью и ясностью, что оказалось возможным определить даже вид верблюда.
«Несмотря на фантастичность, ряд изображений животных сделан с глубоким знанием черт и повадок зверей, а особенно выделяется фигура марала, мягкая кошачья поступь тигра, стремительный бег козерога», — пишет Бернштам.
А еще мне очень нравится рогатый дракон с этой диадемы. Такого дракона нигде больше не увидишь. Драконья порода этого чудища вне всякого сомнения, у него и туловище кольчатое, гибкое, изогнутое, и пасть крокодилья (каждый зуб проработан отдельно), и ряд других, чисто драконьих черт. И все-таки это совсем особый дракон. Он рожден не под небом Индии или южного Китая, а где-то около теперешней Алма-Аты. У индийских и китайских драконов стать гадючья, змеиная, это же — кошка, тигр, и хвост у него тоже тигриный, пушистый, вздрагивающий. Такие тигры еще в тридцатых годах рыскали в балхашских тростниках.
Впрочем, это, может, и не тигр вовсе, а снежный барс — большая свирепая ленивая кошка, которая до сих пор изредка спускается с горных перевалов и появляется подчас под самой столицей.
А рог у этого дракона совсем как у архара. Дракон несется, очевидно, летит (планы здесь смещены и небесное трудно отличить от земного, но над драконом изображена в полете какая-то крупная птица, скорее всего фазан, и они, кажется, помещены в одной плоскости). Молодая женщина оседлала это чудище, ветер взметнул ее волосы, и они сделались похожи на шлем. В самом изгибе тела всадницы чувствуется стремительность полета, то, как она, жужжа, рассекает воздух.
Другая женщина скачет уже на барсе. Рядом же, как будто на капители колонны, стоит ладный крылатый конек, только совсем не Пегас, а опять-таки нечто совершенно местное — суховатая небольшая лошадь Пржевальского («Фигурка коня — подобранный круп, маленькая головка, коротенькое туловище напоминают собой тип центральной азиатской лошади». А. Бернштам).
На другом конце диадемы (она была разломана на три части, и центральная часть утеряна) стоит марал, на нем тоже всадница.
Кто они, эти три фигуры, три женщины? Эта — оседлавшая дракона? Эта — укротившая барса? Эта — остановившая архара?
Кто они? Амазонки? Шаманки? Царицы? Прародительницы племени?
Этого нам знать не дано.
Несмотря на все аналогии, проводимые (в общем-то, как мне кажется, не очень доказательные) с Ираном (крылатый конь), с Китаем (дракон), со Скифией (звериный стиль), — это все равно работа усуньского мастера, подлинного предка казахских умельцев, и она так и останется совершенно уникальной и ни на что не похожей. Во всем проступает его манера, его гениальные пальцы, привыкшие мять, резать и чеканить.
В книге Нурмухаммедова сто двадцать таблиц-репродукций и примерно 80 из них посвящены предметам древнего искусства. Почти все эти вещи так или иначе, в виде ли снимков или сами по себе, проходили через мои руки. Ведь тогда почти вся археология концентрировалась около музея. Сейчас я рассматриваю их великолепные красочные воспроизведения со смешанным чувством радости (свидание со старыми знакомыми) и легкой печали. Конечно же, это печаль не о них, подлинно бессмертных, а о себе самом. Ведь первые встречи с ними проходили в дни моей молодости, а теперь она ушла, и мне ее жалко.
Вот этих летучих золотых всадников с развевающимися плащами II–III веков до нашей эры я тогда держал в руках и фотографировал. Музейные карточки с описаниями их до сих пор, верно, лежат в каких-нибудь архивах.
А вот с «каменной бабой» связано еще одно мое воспоминание, и оно мне особенно дорого. Правда, это совсем не та «баба», которая опубликована в монографии Нурмухаммедова — у него там идолы, мужчины, воины, а моя «каменная баба» именно — баба, т. е. она — женщина, даже точнее — она девушка, о ней несколько лет спустя исследователь напишет так: «Лицо женское монголовидное, руки изогнуты и держат перед животом сосуд усеченно-конической формы. Двумя рельефными кружками показана женская грудь. Место находки неизвестно. Республиканский краеведческий музей» (А. Я. Шер. «Каменные изваяния Семиречья», 1966 г.).
Эта баба (у Шера она значится под номером 127) только под конец попала на свое постоянное место — около входа в музей, неподалеку от китайских колоколов и пугачевской бомбарды, — а до этого она несколько лет блуждала по всему городу. Я помню ее, например, около дома радиокомитета. Там она стояла под окнами, и кто-то для большей выразительности обвел ее груди и лицо охрой.
Мне очень нравится эта каменная женщина. В ней есть какая-то неподдающаяся точному определению элегичность, покорная и тихая печаль — веки опущены, губы полураскрыты, пальцы не держат «усеченно-конический сосуд», а только как бы слегка подведены к нему. У «бабы» удлиненно миндалевидное лицо, женственное и детское в одно и то же время. Она не то спит, не то просто закаменела в какой-то невеселой думе. Кто она такая? Она и сотни других ее подруг, разбросанные по деревням, степям, городам и весям нашей страны? Никто этого не знает точно.
«Едва ли в области русской археологии существует какой-нибудь вопрос, более запутанный и темный, чем вопрос о каменных бабах», — написал в 1915 году известный русский востоковед И. И. Веселовский. А современный исследователь, изложив на этот счет ряд очень обоснованных соображений, кончил их так: «Все эти выводы ни в коей мере не претендуют на окончательное решение проблемы» (Шер).
Насчет семиреченских изваяний твердо известно по крайней мере только одно — они не женщины, они девушки. Грудь у них девичья, упругая.
Проходя мимо этой статуи, я всегда хоть на секунду останавливался перед ней. Меня трогало в ней все: грубость материала, примитивность техники (серый гранит, голова не выделена из глыбины) и удивительная нежность, женственность, ранимость этой души, закованной в полуотесанную глыбу.
И вот однажды я увидел около нее странного человека — белый роскошный бант на груди, длинные волосы. Он стоял, нагнувшись над статуей и осторожно, как слепой, проводил пальцами по ее глазам, губам, маленьким ушам, а потом согнувшись еще ниже — по самому овалу лица. Когда он выпрямился, я узнал его. Это был Иткинд — знаменитый скульптор, ученик Пастухова, автора памятника «Первопечатнику», друг Коненкова, создатель ряда скульптур необычайной остроты и сложности.
Тогда, в 1962 году, он переживал расцвет своей славы. К нему было настоящее паломничество. Кажется, не существовало ни одного более или менее заметного столичного гостя или иностранного туриста, который не побывал в его мастерской.
Сейчас он стоял и смотрел на статую. Я подошел поближе, он меня не заметил. Теперь мне стало видно все его лицо. Оно было мягким, задумчивым, сосредоточенным. На людях Иткинд таким не был. На людях он был страшно живым, взвинченным, экспансивным; он всегда кипел, острил, смеялся и других приглашал смеяться тоже. Ему было уже за восемьдесят, но все равно он казался неиссякаемым. А сейчас он что-то рассматривал, прикидывал, соображал, думал.
И тут я вдруг от удивления даже воскликнул про себя — как же я не понял, что вот это и есть его излюбленная тема: косная материя и живая душа! И я вспомнил одну его скульптуру. Не скульптуру даже, пожалуй, а просто деревянный обрубок, может, даже слегка зачищенное полено с абрисом лица, выполненным той же «точечной техникой», как и каменная «баба».
Полено это стояло в углу мастерской, и я никак не мог понять, что же это такое, — то ли просто испорченный скульптором кусок дерева, то ли еще что-то.
«Душа тополя, — сказал Иткинд, подходя. — Вот рос, рос тополь и вдруг в нем зародилось такое что-то... такое...» И он даже как будто слегка прищелкнул пальцами.
Да, это было дерево, в котором забрезжило сознание, — вот-вот оно должно вырваться из деревянного плена и выйти из душной опилочной тьмы. Оно уже пробилось через тугую сердцевину, прошло через все кольца и круги, через кору и неподатливые волокна — тонкая, смутная тополиная душа, — но она еще не собрала себя в одну точку, еще несколько мгновений, еще одно усилие, рывок, и она, может быть, прорвет шершавые кольца и откроет глаза.
Здесь, в этой «бабе», было, конечно, другое. Похожее, но не это. Камень спал, и спала душа его. Ей было тяжело, и она не думала вырваться из каменного ига. Отсюда и шло все — бессильно повисшие пальцы, опущенные веки, полураскрытые губы.
Теперь Иткинд стоял и просто смотрел. Я кашлянул. Он увидел меня, и лицо его приняло обычное выражение внимания, благожелательности и легкого юмора.
— А-а, — сказал он, — здравствуйте, здравствуйте! Вы что, гуляете? (Музей находился в парке.) Я вот тоже прошелся по холодку. Жду своих учеников. Бегают, бегают ко мне ребята! А эти двое очень способные! Один казах, другой русский. А я вот на эту каменную бабу смотрю. Любопытно! Правда? — Я кивнул головой. — Вы не знаете, кстати, что она такое? Я спрашивал, так никто не знает. Ужас!
Мне, конечно, осталось только пожать плечами и процитировать Веселовского. Больше я тоже ничего не знал. Тут подошли и остановились сзади нас ученики — русский и казах. Я попрощался и ушел.
Русского я не запомнил, а с казахским встретился уже после смерти его учителя, т. е. совсем недавно. Художником он не стал, но сделался археологом и продолжал рисовать и лепить. У меня долго хранилась его акварель: каменная баба, номер 127, но не в современном своем виде, а так, как она должна была выглядеть в степи, в том VII или VIII веке, когда ее только что вытесали из гранита и водрузили на вершине кургана. На обороте автор написал: «На память об учителе». Несколько лет тому назад я подарил ее одному татарскому художнику. Он приехал в Алма-Ату на декаду искусства и увидел эту акварель и, как говорит, потерял покой. Несколько дней ходил за мной и все просил: — Ведь это такое лицо, такое лицо! — говорил он. Лицо на акварели действительно получилось необыкновенное. Татарский художник тоже рисовал для себя эту бабу с натуры, но у него получилось не то.
Все это я вспомнил, листая альбом «Искусство Казахстана». Почти каждая страница для меня была такой встречей с прошлым.
Вот, например, это прекрасное поливное блюдо из раскопок города Тараза нам в музей привез профессор А. Н. Бернштам, и помню, с каким удивлением мы его рассматривали. Оно было, как говорится, фрагментировано, т. е. склеено из нескольких кусков и кое-где с него слезла полива, но все равно оно поражало своим блеском, новизной и казалось только что вышедшим из рук мастера.
А как удивила нас его роспись — эти широкие, узорные, свободно распахнувшиеся острые черные листья, похожие и на кувшинку, и на водяную лилию, и на лотос! Они были с таким мастерством вписаны в круг, что казалось невозможным вынуть их оттуда.
Помню, мы рассматривали это блюдо, а Бернштам стоял над нами, высокий, молодой, рыжий (почему-то он мне представляется с трубкой в руках) и тоже весь сиял и лучился, так ему нравилось наше удивление.
— Посмотрите, — сказал он, — ведь это уже совершенно сложившийся казахский орнамент, ну чем не узор на кошме или кожаной сумке или на мужском поясе (куми белдик), разве поймешь, что II век? Ведь он отлично может быть и XIX, и XX.
Действительно, понять, какой это век, было трудно. До того все это не соответствовало нашему понятию об архаике, так все было композиционно слажено, рассчитано, разрешено в пространстве, попросту — современно.
А через день или два Бернштам зашел ко мне в комнату и попросил показать все, что у нас имеется по части узоров на коже и металле. Экспонатов было много. Профессор вертел их в руках, думал, иногда помечал что-то в записной книжке. Я спросил: может быть, нужны какие-нибудь отдельные снимки? Он покачал головой.
— Я как-нибудь приду за этим к вам специально, — сказал он, — это интересное дело, через несколько лет напишу об этом специальную книжку.
И, увидев, что я не вполне понял, объяснил:
— Ну, об истоках казахского орнамента. Это ведь не только непрерывная, но и изумительно прямая линия. От гомеровских времен до нас с вами. Я ее прослежу просто графически. Вот так!
И он рубанул ладонью воздух от головы до ног.
А потом он умер, все еще молодым, сильным, красивым, жадным до работы и знания, так и не успев сделать многого из того, что собирался.
Впоследствии нечто подобное — большое собрание казахского орнамента всех времен и разных мест Казахстана — я увидел в руках другого художника Теляковского. Они были ему нужны, в то время он работал над созданием своего замечательного цикла картин на тему древнего казахского эпоса и пристально интересовался всем, относящимся к предыстории Казахстана.
«Вы знаете древнюю притчу о гонцах? — спросил он меня. — Ну, о людях, передающих огонь из рук в руки? Нет? Ну, бежит человек с факелом, бежит и когда уже рушится от усталости, то его факел на лету подхватывает другой и снова бежит, бежит и так дальше, дальше. Так вот, эти орнаменты — тоже факелы. Даже и не поймешь, с какого времени они добежали до нас».
Мы только что отошли от бронзовых котлов с головками джейранов и стояли перед ковром, который только год назад как вышел из мастерской. По углам ковра были джейраньи рога, а в середине покоились лопасти большого распустившегося болотного растения — то ли листья лотоса, то ли водяная лилия.
Я рассказал ему о чаше Бернштама из Тараза.
— Вот видите, — просиял Теляковский, — вот видите же! То же ведь самое! Бегут люди с огнем! Бегут!
Это было, кажется, весной 1960 года.
Гонцы
Получилось так, что лет восемь тому назад я разыскивал следы одного жителя города Верного. Его к тому времени уже лет 30 как не было в живых. А видел я его только один раз, примерно за год до его смерти.
Это был, как мне вспоминается, хрупкий, худощавый старичок, в белом летнем картузе. Увидел я его случайно: шел мимо Центрального музея Казахстана, наткнулся на плакат, что сегодня там открыта чья-то персональная выставка, да и зашел.
Выставка еще не была открыта, и старичок просто стоял перед стендом и смотрел на несколько небольших холстов, вплотную повешенных друг к другу. Под ними был прибит кусок ватмана с надписью: «Быт старого аула».
Старичок смотрел на этот «быт», сомкнув губы, нахмурившись и о чем-то, видимо, размышлял. Несколько раз он беспокойно оглянулся по сторонам, как бы ожидая или разыскивая глазами кого-то. В это время к нему подошел кто-то из сотрудников музея; поздоровался, поклонился и что-то ему тихо сказал. Старичок сурово взглянул на него и отчеканил: «Как же вы их повесили! Им тут дышать нечем! Я говорил, как надо! Вот!» — он расправил ладонь и приложил ее два раза к стене. «И подпись не та! «Быт!» Тут не быт, а...»
После я узнал: в этом месяце старичку исполнилось 84 года, и музей устроил выставку его работ.
А лет через пять, когда я заинтересовался им вплотную, оказалось, что в сущности о нем никто ничего не знает. И о том, при каких условиях создавались его работы, тоже ничего не знают. А ведь поначалу все казалось таким ясным и простым!
Пожилой человек прожил лет пятьдесят в одном и том же месте, имел свой дом, был знаком с доброй половиной города. И вот ничего! Ничего достоверного! Одни анекдоты и сплетни. И непонятно с чего начинать.
Тогда какая-то добрая и мудрая душа посоветовала мне просмотреть комплекты газеты «Семиреченские областные ведомости» — авось там я да набреду на что-нибудь подходящее. И так как это, по-видимому, было самым разумным, я этим советом воспользовался.
Просматривать пришлось комплекты лет за десять. Газетенка оказалась бестолковой, серой, хотя и заполошной (любила сплетни и «события»), и читать ее было скучновато. Но жизнь города и области она все-таки охватывала с достаточной полнотой. И если бы я занимался историей города Верного, то ей, конечно, и цены не было бы. Но ведь меня интересовал только один человек! Один-единственный! И вот как назло о нем-то ничего и не было!
Очень многое, что занимало обывателя того времени, — то, что в казенном саду играет новый военный оркестр, то, что на Пасху будет ярмарка и гуляние, а на ярмарке поставят какие-то особые, американские карусели; что в электротеатре будет показана картина «Молчи, грусть, молчи» с Верой Холодной; что в город приехал погостить к родственникам и прочтет лекцию о свойствах радия такой-то доцент такого-то Императорского университета.
Были отчеты о зрелищах, были фельетоны о драках на ярмарках и даже туземный отдел — он набирался арабским шрифтом. Печатались сообщения о выставках — о торгово-промышленной и ремесленной, была крупная хлесткая реклама о музее восковых персон. (Судя по всему, это был тот «паноптикум печальный» с фигурами, «изготовленными по специальному заказу в артистических заведениях Парижа и Вены».) Одним словом, город работал, торговал, пел, пил, ел, танцевал, воспитывал детей, сочинял стихи и прозу, ходил в паноптикум и в электротеатр, в нем жила уйма мастеровых, торговцев, чиновников, купцов, городовых — и только вот художников в нем не было совсем. Они ни разу не упоминались в этих «Ведомостях», к ним никто не ходил и никто ими не интересовался. А если что и рисовали в этом городе, то только вывески.
Но я-то искал именно художника! Почти сорок лет проработал в этом городе замечательный мастер Н. Г. Хлудов. И изображал он не что-нибудь далекое и отвлеченное, а именно этот край — горы, степи, озера, юрты, уличных продавцов, ребятишек.
Он написал очень много картин, и все десять лет, пока выходила газета, в ней о нем не появилось ни единой строки. И не потому, что им пренебрегали, да ни в коем случае! Какое там пренебрежение! Вероятно, он был даже весьма уважаемым гражданином! Как-никак, а столько лет беспорочной службы в одном городе! И местного уездного патриотизма у редактора было тоже хоть отбавляй. Собор — так «один из величайших храмов нашего отечества», землетрясение — так «одно из величайших, известных науке», яблоки — так «таких нет не только у нас, но и за границей». Но просто не требовался городу художник — вот и все.
А то, что в мужской гимназии преподает черчение и рисование некий землемер Н. Г. Хлудов — это, конечно, никого не интересовало. Оно, вообще-то, и понятно: искусство на семиреченской почве не прорастало, и ни казенными учреждениями, и ни даже общественным мнением просто не предусматривалось. Оно, как и все другие «деликатные» товары, поступало только из столицы. А если и путешествовало, то либо от Всемирного почтового союза, либо от редакции иллюстрированных журналов.
Именно отсюда, от этих быстрых коммивояжеров цивилизации и появились в витринах Торгово-промышленной выставки, а потом и в музее — пачки серых, любительских фотографий (или, наоборот, фотографий высокоофициальных, казенных, цвета сепии, на которых все люди вытягивались по швам и выстраивались как на парад или для экзекуции). В книгах же начали печататься иллюстрации, жесткие и сухие, как провяленные караси. Из «Жизни киргизской степи».
Художники-то, конечно, не виноваты, они ездили с переводчиками и сопровождающими и видели только то, что им показывали. Вот горы они рисовали — все; беркутов на охоте, караван верблюдов — это обязательно; на свадебный той их приведут — что ж? Они и этот той зарисуют. Но для того, чтобы написать казахских ребятишек, просящих подаяние, — вот этакие грязные худые ладошки, протянутые зрителю, — для этого надо было быть Тарасом Шевченко и пережить его судьбу.
Вот почему так мертвы их политипажи и так смеются и брызжут жизнью чудесные акварели и холсты Хлудова и Кастеева.
Они никогда не выезжали в степь на этюды, никогда не ходили специально с альбомами, выискивая «природу и этнографию»: они жили в ней и все. И ученики их, талантливые, даровитые, и просто способные, казахи и неказахи, тоже жили на этой земле, и ее красота для них была не экзотикой, а жизненным ощущением, восприятием действительности. Но в их работах проявилось еще и другое, для художника, может быть, даже более важное — ведь далеко не сразу и далеко не всякая красота доходит до человека. Ее надо научиться видеть.
Я знаю очень культурного, умного и тонкого человека искусства, который совершенно равнодушен к древнерусской живописи и по-настоящему глух к былинам. Просто не доходит до него их мощное органное звучание, трубный глас красок и слов. Это для него все слишком громко и оглушительно. И ничего тут не поделаешь.
В искусстве ведь так: если не полюбишь, то и не разберешься по-настоящему. Но зато, если полюбишь, то и зрителя обратишь в свою веру. Вот почему сухи рисунки Каразина и Ткаченко и так выразительны не только Хлудов и Кастеев, но и все молодые художники Казахстана. А ведь пути у них разные, и на своих предшественников они никак не похожи.
Так, в 1917 году во всем Семиречье существовал только один известный нам художник (я подчеркиваю, нам, а не современникам) — учитель Верненской гимназии Николай Гаврилович Хлудов.
В 1920 году художников было уже несколько, потому что этот же Хлудов открыл первую в крае художественную студию. А раз была студия, значит были и ученики — в 1928 году работала уже целая группа художников, среди учеников Хлудова были такие мастера, как Бортников, Чуйков, Кастеев (это же удивительно, сколько может сделать всего один человек!).
Исследователь пишет:
«В 1928 году в Семипалатинске была организована первая передвижная выставка художников Казахстана. Местами из-за удаленности некоторых населенных пунктов от железной дороги выставка передвигалась на верблюдах. Экспозиция разворачивалась прямо в аулах, между юртами» (Н. Нурмухаммедов, «Искусство Казахстана»).
По тому же источнику в конце 30-х годов уже сформировался Союз художников Казахстана. Правда, в нем состояло всего 17 человек, но это была уже организация — искусство Казахстана.
А в справочнике на 1968 год художников числится больше ста и принадлежат они более чем к 14 национальностям!
Я часами могу простаивать в Центральной художественной галерее Казахстана, например, перед пылающим предгорьем, этим спокойным морем тихого рыжего огня — с картины Лизогуб («Вечер над Талгаром») или натюрмортом Галимбаевой, где все играет и светится, — и голубая скатерть, и глиняная миска, круглые хлебцы, и кошка с красными узорами, и груды плодов — все создает неповторимый всплеск цвета, полыхание тонов — голубых, зеленых, желтых — и не ярких, раздражающих, а тихих, умиротворенных, и поэтому очень чистых, ясных, спокойных. Это мирный стол, и застлан он для мирных людей. В годины войны и кровавых потрясений так столы не накрываются.
О работах Антощенко-Оленева надо бы говорить отдельно. Его грандиозные листы линогравюр, его черные и белые цвета, которые каким-то волшебством, что ли, содержат столько переливов и оттенков, — явление совершенно особое.
Среди работ современных графиков (и не только советских) я не знаю ничего подобного по мощи его «Полярной ночи», «Боритесь за мир», «Тоска», «Пикассо».
Совершенно великолепна ковыльная степь Кенбаева, вся живая, шелестящая каждым стебельком, каждой травинкой, и среди нее два всадника («Беседа»).
Но разве перечислишь всех, кто появился за эти 50 лет?
Сейчас мне хочется рассказать только о пяти моих старших современниках, которых я знаю лучше, чем остальных.
Путь этих мастеров уже закончен. Можно подводить первые итоги. Но и они будут только предварительными. Разве путь настоящего художника кончается какой-нибудь датой, даже датой смерти?!
Ничего окончательного, разрешенного в искусстве нет и не может быть. Творчество настоящего художника вечно развивающееся и молодеющее явление. Поэтому о нем так интересно говорить.
Художник Иткинд
Это случилось уже в последнюю нашу встречу, значит года за три до его смерти.
В тот мой приезд в Алма-Ату кто-то из наших общих знакомых вдруг сказал мне: «Вас хочет видеть Иткинд. Зайдите к нему».
Надо признаться, приглашение было совершенно неожиданным, мы ведь не виделись с Иткиндом очень давно: расставание было внезапным, разлука долгой, а потом я в Алма-Ате бывал только наездами. Да и вообще, как так ни с того, ни с сего тревожить очень занятого человека, которого лет десять как потерял из вида? Я слышал, что у Иткинда новая мастерская, и он проводит в ней все время, с утра до вечера. Некоторые из новых работ Иткинда, фотографии с них я видел, и они меня совершенно ошеломили. Тогда-то я и понял, что Иткинда-скульптора я по существу не знаю совсем.
В то далекое утро лета 1946 года, когда он вошел ко мне в номер послевоенной и уже почти вовсе упраздненной гостиницы, у него и за ним не было ни фотографий, ни набросков, ничего, кроме небольшого, четырехугольного чемоданчика, а в нем общей тетради, наполовину уже выдранной и на четверть исписанной его совершенно невероятным почерком. Кто видел эти каракули, тот их верно не забудет. Правда, потом на моих глазах и отчасти даже в моем номере Иткинд слепил два портретных бюста, но, по чести сказать, какое я мог иметь по ним понятие о Иткинде-мастере? Но об этом потом.
Итак, приглашение меня порадовало. Я пришел в назначенное время и застал уже изрядную компанию. Был журналист, был заезжий искусствовед, были соседи. Все сидели за столом, пили чай и слушали хозяина. А он пышно раскидывал одну из своих обычных историй.
Теперь я пропущу все относящееся к нашей встрече и этому рассказу и перехожу к самому концу.
Когда гости уже собирались уходить и все поднялись из-за стола, Иткинд вдруг сделал мне короткий приглашающий знак рукой. Я наклонился к нему.
— Пройдемте в мастерскую, — сказал он негромко.
— Да ведь мы только что из нее, — удивился я.
— Еще раз. Я кое-что вам еще покажу, вот Соня откроет нам.
Мастерская была тут же, только с крыльца спуститься. Жена Иткинда оказалась впереди нас, а гости, которые вдруг о чем-то заспорили, обступили какую-то скульптуру и даже не заметили нашего ухода. Втроем мы зашли в мастерскую. Иткинд зажег свет. Все это мы видели час назад, но Иткинд хитро поглядел на меня, прищурился и спросил (кто с ним говорил хоть пять минут, тот никогда не забудет этот резкий, ясный, насмешливый и постоянно как бы подпрыгивающий голос. Таким голосом хорошо рассказывать одесские анекдоты).
— Вот я вам рассказывал, как проюркну в рай, а меня поймают и потащут в ад. Вы все помните?
Ну еще бы я не помнил этот, пожалуй, самый любимый из иткиндских рассказов! Я не раз слышал его уже в те сороковые годы. Это была история с диалогами, приключениями, недоразумениями и переодеваниями и с массой очень смешных подробностей. Ведь Иткинд в рай пробрался «фуксом», но небесные стражи его выявили, выловили, притащили в небесное управление. Иткинд вертелся, юлил, представлялся дурачком, говорил, что в рай он прошел по законному пропуску, не понимал, что от него хотят и совсем сбил было с толку простодушных чертей. Но ангелов так не собьешь. Ангелы-то, они проницательные и злые. И среди них попался настоящий следователь по потусторонним делам, и вот Иткинда уже раскололи и с гиком, визгом, шутками-прибаутками потащили в ад. Сиди и не рыпайся!
Суть рассказа заключалась в том, что Иткинд «ахер», т. е. отверженный: когда-то его учили на раввина, но он недоучился и сбежал, подался в художники. А как известно, на том свете художников не терпят. Черти-то, положим, сами отступники, и срок их службы в аду не столь значительный, как у ангелов, так что им, пожалуй, и наплевать, но вот ангелы-то, непорочные ангелы!..
Итак, бедный Иткинд опять в аду, и выхода ему оттуда уже нету.
Пересказать этот рассказ, конечно, невозможно. Не пересказал бы его и сам Иткинд, ибо ничего сложившегося у него никогда и не было. Была тема для импровизаций — «Иткинд на том свете», и каждый раз она излагалась по-новому.
Только несколько наиболее хлестких ударных вопросов-ответов переходили из рассказа в рассказ, а все остальное формировалось тут же за столом, за поллитром вина, в зависимости от настроения рассказчика. А оно ведь тоже было разным: лирическим, ироническим, задумчивым, даже иногда чуть скорбным, но это именно только чуть и изредка. Долго скорбеть этот замечательный человек был просто не в состоянии.
Зависел, конечно, рассказ и от аудитории: если аудитория попадалась простецкая, веселая, задорная, подбрасывающая реплики, то и Иткинд рассказывал хлестко, весело, зло; если же аудитория была литературной, дамы, искусствоведы, ценители, — то и рассказ он вел сдержанно, корректно, напирая только на основную мысль, — его, Иткинда, в рай никогда не пустят, ибо не тот он художник, а вот в ад, пожалуйста, это к его услугам всегда.
И было, очевидно, в этих рассказах что-то, наверно, очень серьезное, может быть, оставшееся еще с тех раввинских времен, потому что этот же рассказ запечатлелся в двух замечательных скульптурных группах. Ныне они находятся в художественной галерее Казахстана. Главная часть их — это портреты самого художника — подчеркиваю, не бюсты, не скульптуры, а именно портреты. Пожалуй, даже меньше, чем портреты, — одно лицо. И даже того меньше — одно выражение этого лица: странное, отрешенное, блаженное. Маска, с которой, как сказал Гамлет, «уже покров земного чувства снят». Так они и висят без всякого покрова, совершенно обнаженные. Как бы лишенный плоти облик. Ведь смерть в этом отношении, как и «тот свет», тоже нечто совершенно не материальное.
Но все-таки зачем художник завел меня снова в свою мастерскую, я не понимал и спросил его об этом.
Он улыбнулся, сделал какой-то знак рукой, — постойте, мол; прошел в угол и поднял с пола серую мешковину. Под ней лежали две маски из папье-маше. Это был опять-таки Иткинд, два лица его, но странно помолодевшие, преображенные, напоминающие чем-то Бетховена, его знаменитую посмертную маску.
Глаза у этого Иткинда были закрыты, вернее, один глаз закрыт, а на месте другого зияла глубокая тупая впадина. Это был одноглазый Иткинд, и выражение лица было другое, не страдающее, не блаженное, а просто отсутствующее. Это была маска мертвеца, в два раза увеличенная, с огромным круглым лбом Иткинда, с его мощными волосами, откинутыми назад, с его почти античной лепкой щек, губ, подбородка, с ртом, плотно смертно сжатым.
Но самое странное и непонятное было другое: сверху и снизу на щеках и под подбородком мостились утробные телята, и поза их была самая утробная, скрюченная, со сведенными копытцами, с голым брюшком, трогательными мирно спящими мордочками.
— Они еще не проснулись, — сказал Иткинд. — Вот, дарю. Не думайте, это не копии, формы я сломал — они единственные.
— Спасибо, — сказал я более удивленный, чем тронутый, уж слишком неожидан был этот подарок. — Но что это обозначает? Ну, там Иткинд на том свете, а это где он?
— А здесь он уже вышел оттуда. Ведь тот свет, это тоже временное. А здесь уже вневременность, здесь Иткинд в бесконечности.
— А телята зачем?
Он улыбнулся.
— Ну хоть теленок из меня выйдет, — сказал он добродушно и тронул меня за руку. — Берите и идемте, а то уже расходятся.
Когда мы с масками (Соня их завернула в бумагу, так что в руках у меня был просто большой сверток и все) вернулись в дом, гости опять уже стояли около стен и о чем-то спорили.
Странная была эта комната. В ней как бы пребывали две души и обе эти души никак не совмещались друг с другом — с одной стороны, тут стояли скульптуры, дерево, гипс и глина — огромный таинственный бюст знаменитого американского артиста (непонятная улыбка, откровенно наглый ломящий глаз мертвенно белый гипс). Затем работы из глины — темные, мрачные, тяжелые создания его гения — недобрые думы его («Освенцим», «Убитый ребенок», «Умершая») — ведь глина материал мертвый, она — минерал, дерево рядом с ним выглядело живым.
Был, помню, тут и просто-напросто деревянный обрубок. Но в нем зародилось сознание, она, «Душа дерева», — вот-вот должна была вырваться из древесной тьмы, она уже оторвалась от тупой сердцевины, прошла через все круги его — прекрасная, тонкая душа дерева, — уже сонно и рассеянно улыбалась. Но она еще не собрала себя в одну точку, мир от нее был отделен еще несколькими кольцами дерева, но уже вот-вот, еще пара минут, одно усилие, один рывок — и она откроет глаза.
А дальше, в глуби комнаты, вершилась совсем иная жизнь. На черном железном крюке висела метровая фотография — хоровод нимф и спящая красавица. Нимфы окружали хрустальный гроб с откинутой крышкой и сыпали из рогов изобилия цветы. Были они толстые, краснорожие, заполошные, одежды на них были из марли, венки из похоронных бюро, а сами они из треста ресторанов.
Это фото я знал хорошо, такие в то время бойко шли на алма-атинском Зеленом базаре. Какой-то предприимчивый дядька продавал их на метры и сантиметры (раскрашенные дороже).
А на раме картины висело еще одно чудо — голубые розы с проволочными тычинками.
Под картиной стоял комод, накрытый скатертью с мережкой, а на нем стеклянный шар с плавающими восковыми лебедями.
Еще одни цветы, из той же салфеточной бумаги, только длинные, большие, что-то вроде лилий или гладиолусов, торчали из глиняной вазы.
Я посмотрел на Иткинда, он улыбнулся и слегка пожал одним плечом.
— Можно я возьму один? — попросил я.
Тут он засмеялся и, кажется, даже руки потер, так ему это понравилось.
— Да, конечно, конечно. Сонечка, заверни самый большой на проволоке, это будет в память нашей первой встречи. Помните?
Ну еще бы я не помнил! Я и цветок этот помню — длинный, розовый стебель, гладиолус, кажется, который долго у меня стоял в комнате и все удивлялись, почему у меня цветы и кто их принес.
А дело было так.
Однажды утром, летом сорок пятого, в номер гостиницы, который я занимал, постучал странный человек.
О гостинице этой стоит сказать особо. Она еще сохранилась и доживает последние дни, этакий двухэтажный каменный барак, избушка на курьих ножках, около огромного, целиком стеклянного отеля, — но в то время она была самой большой в городе и слова: «Я живу в гостинице “Ала-тау”» — звучали шикарно.
Во время войны эта гостиница превратилась просто в жилуправление номер такой-то. И ютились в ней артисты, киношники, торговые работники, работники науки и искусства, даже прокуроры и следователи, ну, словом, все те счастливцы, которым удавалось либо вырвать ордер, либо как-то просто сговориться с директором. На последнем основании жил в этой гостинице и я.
Это была не единственная гостиница, превращенная в жилкомбинат. В другой такой же жил мой приятель, народный артист республики, руководитель Красноармейского ансамбля песни и пляски Борис Александрович Орлов. Был он человек необъятной доброты и широты душевной, и в том, что странный посетитель, вручивший мне гладиолус и записку, пришел ко мне от Бориса Александровича, ничего удивительного не было. Удивил меня он сам, его наружность, таких тут и в это время я еще не встречал. Слово «артистизм» к этому человеку, пожалуй, совсем не подходило. Но то, что он именно артист, в этом я не сомневался. Не знаю, что было этому причиной. И волосы тогда он носил не длинные (не сравнить, например, с сердитым композитором, который жил надо мной, — у того была целая львиная грива), и бабочки у него не было, и художником он себя не называл.
«Дорогой такой-то, — писал добрейший Борис Александрович, — посылаю тебе замечательного человека — Исаака Яковлевича Иткинда, у него есть интересные замыслы по линии драматургии. Он тебе их расскажет. Может, его пьеса подойдет для ТЮЗа, ее и покажи Наталье Ильиничне Сац. Будь здрав и бодр. Твой...»
Я бросил записку на стол. Этот человек принес мне и пьесу для ТЮЗа, к которому я ровно никакого отношения не имею, и хочет, чтобы я его свел с руководительницей театра, с которой я не знаком. Положение получилось преглупое, но все это было совершенно в духе добрейшего Бориса Александровича.
— Садитесь, пожалуйста, — сказал я посетителю. — Пьеса-то у вас с собой?
Он сел и заговорил. Заговорил быстро, энергично, весело, на том невероятном щебечущем, почти птичьем наречии, которое известно каждому, кто хотя бы пять минут проговорил с Исааком Яковлевичем. И все в нем заходило, заговорило тоже: руки, глаза, лицо.
Он открыл чемоданчик, вытащил оттуда тетрадку, раскрыл ее, сунул было мне в руки, потом вырвал ее у меня, быстро пролистал, нашел что-то, заложил это пальцем и стал объяснять.
Он сказал, что пьеса готова, что вот она вся тут, только не в тетрадке, а в голове, голове! Вот он сейчас поговорит со мной, выслушает мои советы, а потом придет домой, и в течение одной ночи переложит все на бумагу. Это очень поучительная пьеса, она для юношества и школьников старших классов. О том, как надо бороться за свободу. Это героическая трагедия из римских времен. Она о восстании Бар-Кохбы против римского ига. Но надо бы, — сказал ему Борис Александрович, — надо бы раньше подать... как это называется? Ну, вот то, что подают в театр, чтобы заключить договор? Заявку? Ах, творческую заявку? Ну так вот, надо сочинить эту творческую заявку, заключить договор, и тогда он будет спокойно работать над этой героической драмой для школьников. С этой целью он специально и приехал из Талды-Кургана.
— Как? Вы только что из Талды-Кургана? — спросил я.
— Да, да, — ответил он с энтузиазмом, — только что из Талды-Кургана, я прожил там два года и вот встретил Бориса Александровича. Он мне велел ехать в Алма-Ату с пьесой и прийти к вам!
Ах, вот оно что! Война только что кончилась, и Алма-Ата была полна эвакуированными, ранеными, командировочными, пропавшими без вести, разыскивающими семьи, прибывшими из мест не столь отдаленных. Биографии этих людей были столь легендарны, и сами они столь скользки, неопределенны, что уж никто никого не спрашивал, а просто, если могли, то помогали, да и кто мог бы разобраться в этом человеческом половодье?
— Так что, в этой тетрадке ваши наброски? — спросил я. — Либретто?
— Нет, нет! — воскликнул он с тем же энтузиазмом, — здесь у меня другие записи.
— Какие же?
— Ну, адреса, телефоны, вот ваш адрес тут, письмо в Ленинград. Вот еще не отправил.
— Так вы ленинградец?
— Да, я ленинградец, я и в Москве жил. Я сначала в Москве жил, а потом в Ленинград переехал.
— Вы писатель, член Союза писателей? (Иткинд, Иткинд, что-то такое вертелось в моей памяти, только я никак не мог уловить, что же именно.)
— Нет, нет, — сказал он быстро, — я пишу короткие рассказы. Они печатались в «Звезде», а кроме того, вот, пожалуйста.
Он полез в карман и вынул оттуда книжечку — не то пропуск, не то постоянный билет куда-то — и сунул мне. Я развернул ее. Это была газетная вырезка, наклеенная на корку какого-то переплета, перегнутая вдвое. Печатный текст был так затерт, что еле проглядывал. Бумага была почти шоколадного цвета.
— Что это такое? — спросил я.
— Статья Луначарского обо мне, — ответил он, сияя.
— О ваших работах? — это было совершенно не понятно.
Он замялся:
— Да нет... Я ведь не только пишу, я ведь еще... Да вы читайте, читайте.
Я попытался что-то разобрать, но сразу же понял, что это совершенно безнадежно — ясно читалась только фамилия «Иткинд», да какие-то восторги насчет его выставки, но все равно текст был большой, на две или три колонки — значит, строк этак на восемьдесят. А вот подпись наркома сохранилась отлично. Как называлась эта статья и из какой газеты она была вырезана, я совершенно не помню.
Забегая вперед, скажу, что обнаружить ее так и не удалось — видели ее тогда многие, но так же, как и я, ничего, кроме фамилии скульптора и наркома, прочесть не сумели. А потом вырезка вообще куда-то пропала, и Иткинд никогда об ней больше и не вспоминал. Сейчас я, конечно, горько жалею, что не приложил больших усилий, чтобы все-таки что-то прочесть — ведь, наверно, тут и лупой можно было воспользоваться. А такому знатоку, как Луначарский, Иткинд должен был понравиться, и он, конечно, нашел настоящие слова, когда говорил о тех творениях мастера, которые мы, очевидно, так никогда и не увидим. Ведь почти ничего из работ тех лет до нас не дошло. Каталог посмертной выставки Иткинда (за одним, впрочем, исключением) начинается прямо с работ 1956 года — ну а куда же делись первые 40–45 лет? Но тогда, 30 лет тому назад, мы все были непростительно молоды и легкомысленны. Я повертел, повертел в руках эту газетную вырезку да, так ничего и не разобрав, вернул ее Иткинду.
— Теперь, конечно, уж другой нарком, — сказал он, складывая ее и засовывая в карман. — А тогда это что-то из себя представляло!
Конечно же, представляло. Теперь и я начал кое-что припоминать. Так я припомнил, что действительно эту фамилию я слышал еще мальчишкой, значит в самом начале 20-х годов. Тогда в искусство пришли такие совершенно непонятные и неожиданные люди, как конструктивисты, урбанисты, кубисты, беспредметники, какие-то «ничевоки». Они бушевали, устраивали странные выставки, издавали на оберточной бумаге журналы, оклеивали плакатами улицы, расписывали дома, а потом явился ВХУТЕМАС, рявкнул: «А я вас всех давишь!» и накрыл их всех. Вот тогда я услышал имя Иткинда. Он тоже был из тех накрытых. Однако все это было, да сплыло, еще раньше сплыло, чем появилась статья Луначарского, а сейчас он попросту нуждался, и нужда у него, видимо, была самая насущная: в хлебе и крыше — иначе он не стал бы ко мне соваться с этой пьесой о свержении римского ига. Все это я понимал совершенно ясно. Я понимал и другое: ни хлеба, ни крыши у меня нет, т. е. хлеб-то я как-нибудь устрою, а вот из этой гостиницы его прогонят через два дня как излишнего и непрописанного. И, желая по возможности отдалить этот неизбежный и неприятный разговор, я предложил: «Ну, давайте прежде всего выпьем чаю. А там...»
И тут он вскочил с такой стремительностью, что я даже испугался.
— Нет, нет! — крикнул он, как бы отбрасывая не только это мое приглашение, но и то еще невысказанное, что стояло за ним. — У меня все есть, я отлично устроен, у меня карточки. Борис Александрович замечательный человек! Вы не беспокойтесь, пожалуйста!
Он весь как бы звенел от напряжения. Он даже покраснел от неудобства — ведь я и в самом деле чего доброго думаю, что он навязывается ко мне на шею. Нет, ТЮЗ! Только ТЮЗ! Больше ему ничего не надо!
Чай мы все-таки, конечно, попили, а пока закипал чайник (а так как все готовилось на плитках, дожидаться приходилось минут сорок — сорок пять) он рассказал мне историю своих последних злоключений, рассказал очень весело, с подмигиваниями, с шуточками-прибауточками.
И опять в нем все жило, ходило, излучалось. Глаза, руки, лицо, он сам.
Это был чудесный рассказ, сказка о заколдованном художнике, которого нечистая сила все время заносит в какие-то непонятности и истории, который талантлив, но невезуч, которого все признают и любят, но от которого во имя какого-то непостижимого рока должны отказаться. И улыбаясь, — «что ж тут попишешь», — он разводил руками с худыми тонкими пальцами хирурга или скульптора. Я слушал, не перебивая. Мне все это было по-настоящему интересно. У другого человека это было бы хвастовством, ложью, просто черт знаем чем. Ведь посмотреть со стороны: явился неведомый человек, показал рекомендательную записку и начал нести о себе неведомо что. Но у Иткинда все это звучало совершенно иначе: шутливо, весело, балагурно, именно как сюжет для ТЮЗа — сказка о заколдованном художнике.
Он кончил рассказ ровно минута в минуту, когда закипел чайник и мы сели за стол. Таких рассказов — волшебных сказов — я потом от Иткинда услышал много. Если они в самом деле кого-нибудь обманули и даже стали выдаваться за биографии художника, то вина лежит не на нем, а на его неумелых неумных биографах. Ведь все они воинствующе наивны. Они чудесны, именно как сказка. И никакого смысла, кроме самого фантастического, в них нет! И что ни делай, как их ни осерьезничай, ни заземляй — понял я, — а с той жизнью, что хлопает дверьми, снует по коридорам, стоит в очереди за отовариванием и, наконец, в самую минуту этого рассказа кипятит чайник, режет пайковый хлеб и готовится сесть пить чай, их никак не совместишь.
Иткинд кончил, и я ни о чем его на спросил, мне и так все было ясно. Ему тоже. Он посмотрел на меня и засмеялся. Удивительный человек он был все-таки! Он всегда только смеялся! Никто никогда не видел его ни печальным, ни сердитым, ни расстроенным, хотя жизнь у него была, прямо сказать, — не пряник. Никто и никогда!
С этого дня и начались наши встречи. Мы встречались почти каждый день, но о пьесе для ТЮЗа больше речи не заходило. Я не поминал, а он не начинал. Притом и нужда в ней отпала, дела Иткинда в Союзе художников начали как-то очень быстро и как бы сами собой устраиваться (чувствовалась рука народного), и через неделю мы уже уговорились встретиться с ним в павильоне. Так назывался распределитель, где отоваривались «литеры» работников культуры. А литера — продуктовая карточка работников культуры — в нашей жизни была почти всем. Устроились и квартирные дела Иткинда. И устроились очень просто.
Как-то раз он пошел в кино и просидел с утра до вечера все сеансы, а через несколько дней объявил, что женится на билетерше и переходит к ней. Я от души поздравил его, а заодно и себя: все-таки моя совесть была не вполне спокойна. У меня оставаться он отказывался и ночевал где-то на окраине, причем приходить туда он мог только к ночи. Правда, он был тогда совсем еще не стар (в 45 году ему был 61 год), выглядел отлично, всегда казался веселым и бодрым, и все-таки эти ночевки неведомо где и как, может быть, на грязном полу — нас, его друзей, серьезно беспокоили. И вот все вдруг устроилось.
У него, повторяю, как-то все очень быстро устраивалось, словно само собой, без всяких хождений, просьб. Во всяком случае эта сторона жизни, кажется, никогда его серьезно не затрагивала. Правда, иногда среди совсем другого разговора — о квартире, о литерах, о том, где лучше отовариться, он вдруг словно выбывал из разговора, улыбался как-то иначе, чем всегда, грустнее, задумчивей, затаеннее: не слушал, что говорят, и вдруг каким-то особым, отсутствующим голосом произносил: «Ведь я в этом ничего не понимаю, ничего. Со мной надо, как с маленьким», — а разговор шел о другом и совсем даже не о нем. Бог его знает, какой смысл он вкладывал в эти слова. То ли он о своих материальных трудностях говорил, то ли о чем другом.
Жизнь в то время была, с одной стороны, настолько беззаботна насчет своего настоящего и будущего, а с другой стороны, настолько напряжена и насыщена, что мы почти вовсе забывали о таких вещах, как настроение, переживания, внутренняя разлаженность.
Шло первое послевоенное лето, и все мы работали, и работали запоем, лихорадочно, с утра до вечера, на двух и на трех работах. Все тогда куда-то почему-то спешили, все не успевали, к чему-то у всех нас была куча дел, гора планов, заявок, задумок, помышлений. Мы все были просто переполнены неведомым. Вот-вот, казалось, произнесутся какие-то новые слова, и мы увидим новый свет в окошке: мы жили в ожидании этого нового света и жадно раскрывали уши каждому слушку, каждому сообщению ТАССа. Оно и понятно. Ведь эта небывалая, невероятная и, конечно, самая последняя война — в это верили мы все — кончилась, должно же наступить что-то тоже совершенно небывалое. Всем известно, чем это кончилось реально. Речь Черчилля в Фултоне и ответ на нее сразу все поставили на свои места. Да, все в мире изменилось, но разделенность этого мира, его противостояния — «мы и они» — это вот осталось прежним.
Иткинд газет не читал, радио не слушал, но это дошло до него так же быстро, как и до всех нас. В тот день он пришел ко мне против обычного рано утром и сказал:
— Так вы думаете, что будет война? Ничего такого больше не будет. Это тишина на сто лет. Но мир погибнет от этой тишины. Не сейчас — лет через сто.
Моя комната представляла в то время довольно странное зрелище. На пространстве восьми метров собралось, стул к стулу, трое человек одной непрерывной линией — Сабит Муканов, я и наша машинистка Эмилия Ивановна. Все трое мы занимались одним и тем же. Переводили роман Муканова «Сыр-Дарья». Работа шла конвейером. Муканов прямо с листа рукописи диктовал подстрочник, машинистка тут же печатала, а вечером я тоже с листа диктовал ей первый вариант перевода. А потом ночью сидел, марал, правил и ранним утром передиктовывал снова. Затем еще раз, а когда что-то заедало, то и третий, и четвертый раз.
Работали мы бешено, и бедная Эмилия Ивановна уходила к себе, шатаясь. «Я и во сне все печатаю, — жаловалась она, — все бегут строчки и строчки, пока не закричу и не проснусь, ведь это же с ума сойти, по пяти раз печатать одно и то же». Все это так, конечно, но сбавить темп мы просто не могли: как и всем в это время, автору нужно было во что бы то ни стало поспеть к каким-то там срокам.
И вот в это поистине сумасшедшее время, четвертым в эту крошечную каморку, почти бокс, вселился Иткинд, да не один, а с высокой тумбой, ведром и столиком. Словом, со всеми приспособлениями скульптора.
Он вдруг задумал лепить Муканова. Просто однажды утром, когда меня не было, зашел ко мне, посидел в уголке на кровати, посмотрел, как диктует Муканов, как печатает машинистка, и неожиданно сказал: «Слушайте, я вас хочу сделать». Муканов с любопытством посмотрел на него, кто такой Иткинд, он не знал.
— Как же вы меня сделаете? — спросил он.
— А из глины, — ответил Иткинд.
— Значит, как Аллах Адама, — усмехнулся Муканов. — Ну валяйте, только вы же не Аллах, где же вы тут поместитесь?
— А вот тут в уголке, мне ведь только тумбочку поставить.
— Ну что ж, тогда лепите, — засмеялся Муканов, — если только тумбочку поставить, тогда лепите.
Повторяю: все это произошло без меня, и когда через пару часов я возвратился к себе — втроем мы все-таки никак не умещались, и когда приходил Муканов, я скрывался, — Эмилия Ивановна бросилась ко мне чуть не со слезами: «Где ж мы тут все поместимся? — говорила она в ужасе. — Ведь и так дышать нечем». Я и сам все это не особенно понимал, но на другой день Иткинд пришел с глиной и тумбочкой, приткнул ее очень ловко в самый угол, и работа началась.
Все трое работали настолько впритык друг к другу, что упади один из них — и повалились бы все.
Муканов диктовал, Эмилия Ивановна, героическая машинистка, стучала на машинке, а Иткинд лепил и лепил, и примерно на десятый сеанс он сказал: «Готов».
Это была первая работа Иткинда, которую мне довелось увидеть, — большой парадный бюст из глины. Он и до сих пор стоит у меня перед глазами.
Какой мерой измерять его художественные достоинства? Каким судом судить художника? Что главное и что второстепенное в таких работах? Мастерство художника, передача внутреннего мира, натуры? Дух эпохи? Одним словом каким критериям, черт возьми, должны отвечать такие вот работы? Я не знаю этого, и могу сказать только одно — от писателя Сабита Муканова в этом бюсте было много, а от художника Иткинда очень мало, почти ничего. А вообще это был очень хороший, правильный бюст крупнейшего национального писателя, мастерская лепка головы, точная проработка деталей, большое внешнее сходство, — как жаль, что и эта работа, как и все произведения мастера той поры, девались неизвестно куда и почему, — для будущего литературного музея Казахстана это невосполнимая потеря.
Итак, Иткинд имел свой кусок хлеба и крышу над головой, но работы для него так и не находилось. Шли дни, и выяснялось, что устроить его куда-нибудь на твердое место дело совершенно безнадежное. Не те художники требовались в то время. Не хватало декораторов для спектаклей и столичных витрин, станкистов для ресторанов, столовых и детских площадок, графиков для газет и книг, прикладных для художественных артелей и фабрик. Портретисты — те требовались всем, но кому же был нужен скульптор Иткинд? Он и через двадцать лет при полном своем признании, кажется, не получил заказ ни на одну статую для домов отдыха, ни на один бюст для аллей ударников или парка культуры и отдыха. Так о чем же можно было говорить тогда?
Мы думали, думали и вот однажды придумали: Иткинд вылепил Myканова очень хорошо! Так пусть же он сделает бюст Шекспира для театра драмы.
Я поговорил об этом с художественным руководителем русского театра Яковом Соломоновичем Штейном, и тот сразу согласился.
Когда Иткинд пришел ко мне, я разложил все нужные ему материалы, их собралось столько, что не хватило ни стола, ни кровати, пришлось переползти на пол. В то время я преподавал в Театральной школе, а там была своя приличная библиотека, кое-что я нашел в Публичной библиотеке им. Пушкина.
Я показывал Иткинду памятники Шекспира, его бюсты, его предполагаемые портреты, картины из его жизни. Великолепное издание Брокгауза и Эфрона, одно из лучших в мире, дает все это в предостаточном количестве.
С какой жадностью накинулся Иткинд на все это! Как бережно он брал в руки книгу, гравюру, эстамп, нахмурившись, долго держал в руках снимок с какого-нибудь памятника, смотрел, думал, соображал и тихо откладывал в сторону. И остановился на самой непритязательной, самой неэффектной из всех гравюр — на гравированном портрете из так называемого «Ин фолио» 1623 г.
Надо сказать, что других совершенно достоверных изображений Шекспира у нас нет вообще. Силой документа обладает только эта посредственная примитивная гравюра, появившаяся через семь лет после смерти великого трагика. Но не то смертельная болезнь, не то равнодушные чужие руки сумели вытравить с этого лица всякое подобие мысли. Пустые глаза, неживые длинные волосы, плоское восковое лицо манекена с нестираемой печатью ординарности, чахлые, как будто нарочно присаженные кустики бороды и усов — вот что такое это изображение. Недаром же скептики в течение долгого времени называли его маской.
И все-таки Иткинд остановился именно на этом бедном и простом человеке, а не на тех бронзовых и мраморных мыслителях и красавцах, которых я разложил перед ним. На них он даже и глядеть долго не стал — так, взял в руки, повернул так и этак, да и положил обратно. А вот эту плохую гравюру он рассматривал кропотливо, внимательно, с каким-то непонятным мне сочувствием и пониманием. Потом решительно отложил ее и сказал: «Вот эту. Остальные возьмите, не надо». Тут я сказал ему, что не стоило бы так, сходу отвергать и те — они созданы крупными мастерами и уже стали как бы портретной нормой — короче, это тот самый тип Шекспира, к которому мы давно пригляделись — благополучный выхоленный мужчина с великолепной бородкой, в пышном стоячем кружевном воротнике — так вот стоит ли зрителю преподносить другого Шекспира, там ведь искусства-то очень мало? Этак ведь можно дойти и до этого толстощекого, румяного, лысеющего бюргера с надгробия. У него тоже высокая степень достоверности, он, очевидно, сделан сразу же после смерти.
— А я этот бюст уже отложил, — сказал Иткинд, — я их оба возьму.
Я живо представил себе, какой Шекспир появится в фойе драматического театра, но больше ничего не сказал. В глубине души я как-то разом согласился с Иткиндом, меня только поразило, каким же образом, каким предвидением, глазом и чудесным чутьем художника он из кипы этого материала, где были самые разные Шекспиры: молодые, и пожилые, задумчивые и веселые, похожие на Гамлета и похожие на Фауста, поэты и философы, графы и мушкетеры, любовники и браконьеры — как из этой огромной разномастной толпы с разными характерами и судьбами он выбрал только одного — настоящего. Какое великое чувство достоверности руководило им? Да, но этот-то настоящий был толстым, старым, самодовольным, глубоко равнодушным ко всему бюргером, могло ли так быть? Я спросил об этом Иткинда. Он уже закрыл альбом и собрался уходить.
— Да нет, это он, он самый, — сказал Иткинд спокойно, — только вот болен очень, у него вот эта самая... — он приложил руку к груди, закашлялся и несколько раз хрипло вдохнул и выдохнул воздух. — Одышка у него, ему дышать тяжело, и сердце, сердце... Нет, я сделаю, вы увидите, это должно хорошо выйти.
Эта история с бюстом Шекспира имеет почти комический конец.
Бюст Иткинд сделал, и ему его оплатили. Выставить, однако, Штейн его не решился, уж слишком это был непривычный, иткиндский Шекспир, как я теперь соображаю, чем-то похожий на его знаменитого пенсионера — тоже широкое мощное лицо, круглый крупный лоб и улыбка, обращенная не к людям, а к пространству, не к жизни, а к небытию, а глаза большие, широко открытые.
— Да нас за этого Шекспира потом все литературоведы со света сживут, — сказал Штейн, — нет, вы уж возьмите к себе в студию, пусть там он у вас стоит.
(Я в то время в этой студии преподавал историю театра.)
У меня он не стоял. Ведь он был казенным имуществом и находился на балансе театра. Это значит, что его инвентаризировали, заносили в какие-то книги, проводили по какой-то статье и графе, одним словом, он застрял где-то там, в кабинетах дирекции, и потом я его так и не увидел. А через несколько дней и случилось это комическое. Это был уже не 45-й, а 46-й год, и мы сидели со Штейном, рассматривали эскизы декораций и костюмов к драме А. Н. Толстого «Орел и орлица». Мне и самому трудно понять, почему она нам тогда нравилась. Вдруг в дверь постучали и вошел, вернее влетел Лев Игнатьевич Варшавский, один из редакторов фабрики Казахфильма. Он был в каком-то совершенно необычайном состоянии, мало сказать, что он хохотал, он буквально давился от смеха, он хотел нам что-то сказать, но только взглянул на нас, на наши ошалелые лица, и снова закатился. Он так искренне и весело смеялся, что вслед за ним засмеялись и мы.
— Да в чем же, наконец, дело, объясните, — сказал Штейн.
Варшавский, наконец, передохнул от хохота, вскочил и широко распахнул дверь.
— Входите, — сказал он, — входите, мы им сейчас покажем.
Около стены в коридоре стоял насупленный Иткинд и укоризненно смотрел на меня, тут уж я ничего не понял.
— Что такое? — спросил я, — почему вы не заходите?
— Ну скажите же им, бандитам, мошенникам, скажите, — снова залился Варшавский.
— Вот, — сказал Иткинд от стены, — что ж вы меня заставили такое сделать, я леплю вам Шекспира, а мне говорят, его и на свете не было.
Тут уж мы захохотали все втроем.
— Вот ведь еврейское счастье, — выдохнул наконец из себя Лев Игнатьевич, вытирая слезы, — один раз повезло, удалось, получил госзаказ, вылепил Шекспира, и того, оказывается, на свете не было, а эти-то мошенники, смотри, как смеются, надули и рады!
И тут уж засмеялся и сам Иткинд.
Я боюсь, я очень боюсь, что скоро начнут появляться воспоминания про Иткинда, про то, что он говорил об искусстве, о мастерстве художника, о его роли в общественной жизни.
Исаак Яковлевич точно был многословен; он очень любил заводить знакомства, разговаривать с людьми, гулять с ними, обедать с ними, рассказывать о себе, пересказывать свои рассказы, но вот об искусстве он никогда ни с кем не говорил. Он, вероятно, оказался бы в серьезном затруднении, если бы его спросили, что такое, по его мнению, искусство, или заставили рассказать о его творческом методе. Он просто работал и все, и работал споро, самоотверженно, и всегда с удовольствием, весело. Еще раз повторяю: вряд ли кто из воспоминателей видел печального Иткинда. Его жизнь, как и жизнь у всего этого поколения, была тяжелая, путаная, часто бестолковая, полная лишений и печалей. Но вряд ли кто так легко и весело переносил их, как скульптор Иткинд!
Когда-то в одной из своих статей Горький написал о том, что создана уйма рассказов о том, как человек всю жизнь страдал и печалился, но не написано ни одной книги о человеке, который бы всю жизнь радовался. Если когда-нибудь выйдет монография о творчестве Иткинда, если появятся развернутые мемуары о нем, если когда-нибудь будет написана биографическая повесть об этом неповторимом мастере, истинном очарованном страннике нашего времени, это и будет, очевидно, та самая отсутствующая в мировой литературе книга, о которой говорил Горький. Это будет книга о человеке, который всю жизнь радовался!
10.1.70 г.
Всеволод Владимирович Теляковский — театральный художник
Комната у Льва Игнатьевича Варшавского была полуподвальная, темная, и поэтому картину на стене я увидел не сразу. Она терялась среди книжных полок — небольшое квадратное тихое полотно: предгорье, холм, на холме дерево и на фоне его несколько человеческих фигур. Одна сидит на самом холме, другие находятся несколько поодаль, внизу. Больше я тогда ничего не разобрал.
— Что это такое? — спросил я.
— А, — улыбнулся Варшавский, — ведь вы в самом деле этого еще не видели (я только что вернулся из Москвы). Посмотрите, посмотрите! Интересно, как оно вам покажется? Подарок автора.
Он повернул выключатель. То, что я увидел, было повторением вещи, которая впоследствии в каталогах галереи именовалась так: «Акын. Холст, масло, из цикла «Казахский эпос», 1947 г. 1 × 0,75».
Акын сидел на холме, он пел и слегка раскачивался в такт своей песне. И с этого неосознанного, но широкого движения начиналась вся ритмическая линия картины, изгибы травянистых холмов, поворот могучей шеи верблюда, линия голов слушателей. Песня как бы лепила формы, создавала видимость. И все на этой картине было оркестровано в ее ключе. Даже овцы — волнистые спины их были тоже ее частью. Под стать ей была и палитра художника — зеленоватый тонкий свет луны, прозрачная чернота неба, темная листва дерева с синевой и прозеленью, неяркое свечение меха и малинового бархата на опушках и верхах казахских шапок.
— Ну как? — спросил Варшавский.
Я поневоле несколько замедлил с ответом. Эта вещь была совсем не так проста, как казалось вначале.
Я знал несколько картин, изображающих песню, певца. Ну, прежде всего гениальные портреты Шаляпина — Олаферн, Годунов, Мефистофель; затем Марсельеза, ведущая на бой революционные полки; потом создатель этой Марсельезы — Руже де Лилль, исполняющий ее перед первыми слушателями; наконец, известная старинная английская гравюра — Оссиан, воспевающий героев.
Все эти песни и гимны призывали на подвиг, требовали человека целиком и не куда-нибудь, не вообще, а вот сейчас, сию минуту, пока не остыл пыл и не прошло вдохновение!
Слава творцам этих полотен, большим и великим художникам! Вечная слава им, увидевшим и запечатлевшим динамическую или даже демоническую силу искусства. Оно, верно, и стены рушит, и полками движет! Но вот это-то полотно было совсем о другом. Оно просто о том, как искусство умеет преображать душу и делает это тихо и незаметно, — так тихо и незаметно, что человек и сам не заметил, что с ним что-то произошло.
«Искусство — это чувственное и непосредственное познание истины», написал раз Белинский, и этой мысли в картине посвящено все.
Вот два пастуха, их лиц мы не видим, но по чуть заметному наклону головы и спины чувствуется, как им хочется полететь вслед за песней, схватить ее в руки, как однажды Иванушка схватил жар-птицу.
Неподвижная фигура подпаска на первом плане. Он стоит, тяжело опираясь на посох, — поза неудобная, но он не замечает ее. Просто как пошел на песню, так и застыл, приблизившись на тот предел, дальше которого пойти уже не решился.
Верблюд — он повернул голову к певцу, да так и замер, — тяжелое, бурое, мохнатое чудище каменного века.
И сама природа, предгорье, деревья, травы — все они составляют одно целое, потому что, вероятно, это и есть песнь Акына.
Трудовой день кончен, жара свалила, воздух тих и неподвижен, туманная луна плывет в разрыве облаков, и цвета вверху и внизу умиротворенные, ясные, но неяркие. Голубая листва, пепельно-рыжие, как крылья ночниц, тучки.
— Кто это? — спросил я. И тут впервые услышал это имя: «Всеволод Владимирович Теляковский».
— Оно вам ничего не говорит? — спросил Варшавский.
Я признался, что не слишком много. Правда, когда-то, еще в студенческие годы, мне пришлось штудировать воспоминания некоего Теляковского — последнего директора Императорских театров. Книга была толстая, с многочисленными дотошными примечаниями. Я сказал об этом Льву Игнатьевичу.
— Так вот это сын его, — пояснил мне Варшавский. — Художник. Работает в ТЮЗе. Если вы там были, то, наверное, видели его декорации.
В ТЮЗе я не был и декораций не видел. Но эта картина мне нравилась все больше и больше. На сереньких заношенных обоях в темной комнате она казалась окошком в иной мир. И мне захотелось иметь у себя что-то такое же. Я ведь так же, как и Варшавский, жил в гостинице, в комнате с зелеными, тускло поблескивающими стенами и глухим серым потолком. (Война только что окончилась, и мы жили в бывших гостиничных номерах. Впрочем, я уж об этом написал.) Я спросил Льва Игнатьевича, нет ли у художника повторения этой картины или чего-либо, ей подобного.
— Да есть, наверное, — отвечал Варшавский. — А нет, так он вам сделает, он ведь работяга редкий. Нет, вам в самом деле понравилось?
— Очень, — сказал я. И, подумав немного, я объяснил, что, по-моему, вот так рисовали «мирискусники», художники, удивительно хорошо усвоившие сказочность мира. Все, что б они ни изображали, теряло плоть и превращалось в видения. («Поэзия начинается с галлюцинации», написал впоследствии о таком искусстве Ю. Олеша). Но вот тщательность отделки, плавность линий, яркость горячих цветов — все это как будто от иранской миниатюры.
— Ну, ну, — засмеялся Варшавский, — об иранской миниатюре не знаю, но насчет «мира искусства» это вы очень точно — учителями у Всеволода Владимировича были Головин и Коровин. Вот вы говорите «иранская миниатюра», а когда Эйзенштейн увидел у меня эту картину, так он сказал: «Это же Палех».
— Палех?
Я пожал плечами. Сходство, по-моему, конечно, было, но чисто внешнее: цветастость, уравновешенность композиции, ну и, конечно, опять-таки гармоничность линий, она и поразила меня с самого начала. Но разве это свойство одних палешан? Ведь недаром же я вспомнил и об иранских мастерах.
На этом разговор о Теляковском у нас тогда и кончился.
Пришел он ко мне недели через две. И не только пришел, но и принес с собой пару полотен. Так с тех пор и повелось — приходя, он приносил то одно, то два полотна — так что под конец у меня собралась почти вся его «казахская сюита». В каком порядке она ко мне поступала, я забыл совершенно, да это и вряд ли существенно. Но с этого дня мы стали видеться довольно часто. Тут надо сразу же оговориться. Знал я Всеволода Владимировича долго, лет 20, но близок с ним никогда не был. Значительных бесед об искусстве, о жизни, о прошлом у меня с ним тоже как-то не получалось, так что мои воспоминания о нем во многом явно недостаточны, а в чем-то даже и однобоки. Но общее, так сказать, генеральное впечатление о Всеволоде Владимировиче у меня составилось сразу же, с первых слов нашего разговора, и с тех пор я ни разу не имел повода его менять.
Не так давно, в сборнике, посвященном Н. Я. Головину, мне довелось прочитать рассказ Всеволода Владимировича о его учителе, и я вспомнил вот что: у Всеволода Владимировича хранилось несколько неизданных вещей Головина, главным образом портреты — сейчас они все в художественной галерее Казахстана. И вот, показывая мне какое-то полотно, он сказал:
— Скромный человек был! Наискромнейший.
Помню, я тогда слегка удивился. Из всех качеств своего учителя, крупнейшего мастера, родоначальника неоромантической декорации, Всеволод Владимирович вдруг выделил только эту узкую, чисто человеческую сторону. И только сейчас, прочтя его воспоминания, я понял: он включал сюда целый моральный комплекс. По его представлению, наискромнейший в искусстве — это значило и наикрепчайший; и неподкупнейший; и наиболее преданный делу своей жизни; и способный оставаться самим собой при всех обстоятельствах, т. е. это человек, обладающий подлинным мужеством художника. Теляковский и сам обладал этим мужеством в высшей степени.
Так вот что он писал о Головине:
«Я видел его в разные периоды жизни — человеком средних лет, пожилым и в последние годы его жизни, он всегда следил за своей внешностью, неизменно гладко выбритый, сдержанный, всегда вежливый со всеми от мала до велика. Он никогда не терял самообладания, даже когда был расстроен. Он был всегда необычайно скромен, часто люди преувеличивают свое значение, думают, что без них все остановится, и вдруг все оказывается наоборот. У него была та скромность, про которую Анатоль Франс пишет, говоря об одном крупном ученом: «Он говорил со скромностью, часто свойственной гениям и, к сожалению, так редко встречающейся у посредственностей».
Гением Всеволод Владимирович ни себя, конечно, ни даже, пожалуй, своего учителя, не считал, но так же, как и учитель, он существовал не как остров, а как материк. Сам по себе и сам в себе. А вот колкое наблюдение о незаменимых — это уж, конечно, из железных уроков скромности, преподанных в свое время Всеволоду Владимировичу самой жизнью. Их Всеволод Владимирович усвоил накрепко и кажется, вспоминал с немалым удовольствием.
Итак, я знал Теляковского что-то около двадцати лет. Но для меня что в 50, что в 70 он оставался человеком одного и того же возраста — худощавым, невысоким, с тонкими чертами лица, с ясным взглядом светлых глаз, одетый с какой-то почти стерильной скромностью и опрятностью. Он ничем не блистал и вообще не был из тех, кто запоминается с первой встречи. Об искусстве же, художниках, своих художественных принципах, повторяю, он говорить не любил, хотя, если спрашивали, отвечал и пояснял. Ведь вот даже в воспоминаниях о Головине, единственном известном мне литературном труде Всеволода Владимировича, о чисто творческих моментах он не говорит почти ничего. Я сразу почувствовал эту особенность Всеволода Владимировича и ни о чем его не расспрашивал, а только присматривался и присматривался к картинам, висевшим у меня в комнате. Сначала их было две, а под конец десять или двенадцать. Так у меня образовалась, как сказал кто-то шутя, целая Теляковская галерея.
Я назвал очерк «Теляковский — театральный художник». Но теперь эти слова приходится заключить в кавычки, потому что они не мои. Так начинается единственная известная мне статья о Всеволоде Владимировиче — восемь крошечных страничек с шестью фотографиями и одним портретом. О собственно же живописных работах Всеволода Владимировича сказано в ней только вот что:
«Последние годы творчества Теляковский, кроме театральных постановок, плодотворно работает над декоративными панно, посвященными темам казахского эпоса, как, например, “Жалбыр”, “Ер-Таргын”, “Кыз-Жибек”».
Вот и все. «Кроме театральных постановок работает...» Так как все это писалось и выпускалось при жизни художника и, очевидно, с его ведома[4], то нужно думать, он и сам на свое творчество смотрел именно так. Ведь к живописи в собственном смысле этого слова Всеволод Владимирович пришел поздно, уже на склоне жизни. Биографически это вполне объяснимо. Вот какие еще сведения сообщает этот же листок:
«...родился в 1894 году в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую 12 гимназию в 1912 году. Уже в эти годы Теляковский занимался живописью под руководством К. Коровина и А. Я. Головина. После окончания гимназии он уехал в Париж, где поступил в Академию Художеств. Занимался станковой живописью у Мориса Дени и Валлотона. В 1916 году был призван в армию. После демобилизации с 1918 по 1924 год работал помощником А. Я. Головина в театре оперы и балета в Ленинграде. Теляковский преподавал рисунок и декоративную живопись в Государственном архитектурном институте и художественном училище в Ленинграде (1925–1927 гг.). В Казахстане он живет с 1935 года. Более чем за двадцать лет Теляковский оформил значительное число спектаклей в разных театрах республики. За большие заслуги в области театрального искусства художник не раз награждался почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР, а в августе 1956 года ему было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР».
Итак, вся жизнь Всеволода Владимировича прошла на сцене. Сначала в театральных мастерских, а потом и просто на сценической площадке. Я знаю алма-атинские театры того времени. Квалифицированных исполнителей там никогда не хватало, а во время войны их совсем не было. И Всеволод Владимирович сам строгал, лепил, клеил, сколачивал, прописывал холсты, все сам, сам! Он так управлялся с рубанком и лобзиком, что его мастерству позавидовали бы настоящие столяры.
О сценическом пространстве он знал все. Он мог его сжать, уничтожить или раздвинуть до бесконечности. Мог создать в узкой сценической коробке снежную пустыню, завертеть метель, расстелить настоящее половецкое поле, такое, чтобы небо смыкалось со степью. Он мог создать и реку, и заречную даль, и избушки на этой стороне реки и огоньки на той. Но, вероятно, хуже или лучше это умели делать и другие алма-атинские театральные художники. Но что его, безусловно, выделяло, ставило выше всех этих декораторов, хотел он этого или нет, знал об этом или не знал, — это безусловное и безукоризненное чувство стиля. И даже не чувство, а чутье. Один случай показал мне это особенно ясно.
В 1947 г. у Казгослитиздата возникла одна очень странная идея — захотели переиздать мой роман «Державин», да еще не один, а вместе с повестью «Смуглая леди». Идея потому странная, что роман вышел в 1939 г. и прошел совершенно незамеченным: его даже не ругали, его просто не прочли. Переиздавать такую книгу, конечно, никакого смысла не имело. И уж совсем неразумно было присоединять к роману еще повесть о Шекспире, в то время вообще не опубликованную[5]. Как бы там, однако, ни было, издательство предложило мне подобрать художника. И не для романа о Державине, его до этого иллюстрировали Антощенко-Оленев и Заковряшин, а именно для повести о Шекспире. Но кто в Алма-Ате, в 47 году, что знал о шекспировском Лондоне? Я подумал, поколебался, да и пошел к Теляковскому.
Он жил в одноэтажном домике где-то в районе Большой станицы, занимал там две небольшие комнаты с отдельным выходом. В одной комнате спал, в другой — длинной и узкой, с окнами во двор — работал. Ведь для листа ватмана не требуется многого, и его, видимо, вполне устраивал длинный, от стены к стене, строганый разделочный стол. Такие белые некрашеные столы, которые почему-то обязательно пахнут рыбой, часто стоят в ведомственных столовых или больших коммунальных кухнях.
У порога меня встретила высокая прямая старуха в платке. Она сказала, что хозяин дома, и спросила, как доложить. Я назвался. Она оставила меня в сенях, а сама пошла докладывать. Появился хозяин. Он был в домашней курточке и холщовых брюках, такой же аккуратный, подтянутый, как и всегда. Мы прошли в комнату с окнами во двор и уселись за разделочный стол, я объяснил, что мне надо. «А сама вещь?» — спросил он. Я подал ему рукопись. Он слегка полистал ее, заглянул в начало, в конец, чему-то усмехнулся и спросил, что ж мне конкретно требуется. Я объяснил ему: речь идет о трех или четырех страничных рисунках. Но только вот беда-то, никаких иллюстративных материалов у меня нет, и как выглядит, скажем, трактир в елизаветинской Англии и тем более комната для гостей на его чердаке, я объяснить ему не смогу. Он поднял голову и посмотрел на меня. И мне подумалось, что вот он меня сейчас спросит: «А как же тогда пишете?» И что я смогу ответить? Ведь у художника совсем иное понимание достоверности. Оно у него не психологическое, а зримое, трехмерное. Перо и кисть в этом отношении очень различны, и не могу же я художнику с обостренным чувством формы, цвета и меры предложить для иллюстрации что-то вроде драмы в сукнах. В общем, я смутился, но Теляковский, оказывается, справлялся только о сроке. Я ответил, что никакого срока конкретного нету, но тут уж, как говорится, «куй железо, пока горячо». Он помолчал, что-то прикинул и сказал: «Да, времени-то сейчас у меня в обрез. Хорошо! Давайте увидимся дня через три. Я прочту и тогда скажу».
Когда мы выходили, высокая стройная старуха стояла почти на том же самом месте и разговаривала с пацанами. Их было трое: двое завороженно смотрели на старуху, а третий что-то увлеченно строчил в блокноте. Теляковский посмотрел на них и улыбнулся. Он как-то хорошо, очень ласково улыбнулся, так, что словно и сам сделался моложе.
— Это из нашей школы, — сказал он. — Они и вчера приходили. Спрашивают: «Вы в Петербурге, бабушка, родились?» — «В Петербурге, деточки». — «В самом-самом Санкт-Петербурге?» — «В самом-самом, деточки». — «А Петра Первого помните?» — Он засмеялся: — Ребята ведь страшные максималисты. Ну спросили бы Пушкина, Лермонтова, а то вот — Петра Первого.
— А кто она? — спросил я.
— Моя няня, — меня вынянчила.
Он сказал это очень обыденно, даже суховато, сказал и сразу перешел на что-то другое. Но я, конечно, понял, что для него значили эти слова: «няня... вынянчила...»
«Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя», — писал Пушкин. И еще даже более напряженно и откровенно: «добрая подружка бедной юности моей».
— У меня няня такая была, — сказал мне однажды Всеволод Владимирович в связи с чем-то другим. — Моя мать скажет ей: «Няня, какая же вы добрая. Сколько всяких бродяжек кормите». Та сразу в обиду: «Ну что вы, барыня! Какая еще там добрая! Разве что я уж совсем без ума, не понимаю, в каком доме живу? Разве это возможно?»
Да, «дом» у директора императорских театров был богат и знатен. Один из самых аристократических салонов столицы. Мне как-то пришлось видеть у Всеволода Владимировича среди семейных фотографий несколько снимков этого дома: кабинет генерала, личные комнаты, гостиная — все в гобеленах, картинах и коврах, в бронзе и старинной мебели. Так что в какой мир попала эта няня, я представлял. Понимаю и то, каково ей было быть доброй к убогоньким, живя именно в этом доме. Представлял я и жизненный путь самого Всеволода Владимировича — длинный, извилистый, торжественный. И вот уже ничего от прежнего мира у него не осталось — ни Парижа, где они жили оба, он и няня, он учился, а она сидела дома и ждала его, — ни дома его, ни отца, ни матери, ни друзей, ни учителей. А они по-прежнему вместе — няня и ее выкормыш, дитя, ребенок ее — высокий худой старик со светлыми чистыми глазами.
Ровно через три дня после этого разговора Всеволод Владимирович пришел ко мне и положил на стол папку с рисунками. И помню, как я обрадовался, увидев первый же из них.
Ведь чего я боялся больше всего? Я боялся доброй старой Англии из подарочных изданий Вольфа, А. Ф. Маркса и Девриена. Таких книг — тяжелых, толстых томов, залитых серебром и золотом, в мое время было выпущено немало: «Детство великих людей», «Принц и нищий», «Шекспир для детей старшего возраста», «Айвенго» — иллюстрации В. Спасского, картинки Н. Богданова и Н. Казарина — да что тут перечислять!
Все художники этого круга изображали прошлое как оперный спектакль на большой императорской сцене. У них не только лохмотья были театральными, но грязь делалась из лучших сортов шоколада фирмы «Эйнем» (тогда очень любили сепию). Поэтому я и к Всеволоду Владимировичу обратился не сразу. Ведь он-то и есть самый настоящий театральный художник-иллюстратор.
Конечно, все эти художники были все равно немалыми мастерами. И потом опять-таки: «Поэзия начинается с галлюцинаций!» — но я-то представлял себе совсем иную Англию и иной Лондон. Не старый и не добрый, а сырой и промозглый город моего дореволюционного детства.
В этом Лондоне были тупики, заваленные мусором, улицы, похожие в сумерках на крысиные норы. Чавкающая грязь у забегаловок, оборванцы и большие мокрые собаки. В общем юродивая воронья слободка 14–15 года. И все это пронизывает, сечет мелкий бурый дождичек — идет, идет и, кажется, никогда не кончится; ноет, нудит, сбегает по носу, лицу, ест глаза, свербит, как больной зуб.
Есть в моем рассказе такой эпизод: Шекспир назначил своей возлюбленной свидание и поджидает ее. Свидание происходит на чердаке извозчичьего двора, — там существуют несколько каморок для этих надобностей. Кто ж она? У шекспироведов, чтоб ответить на этот вопрос, создана некая гипотетическая особа — «Смуглая леди сонетов», но кем была эта леди, да и была ли она вообще — этого никто не знает. Могло быть и так: Шекспир ее просто взял да и выдумал. Однако, как я сказал, гипотезы о ней существуют, и их даже много. Я выбрал одну из них, наиболее, как мне кажется, аргументированную, воспользовался еще одной современной записью о любовных похождениях мастера и, исходя из всего этого, представил их свидание в чердачном закутке. А закут этот, конечно, был страшным местом. Логово, притон, в нем могло делаться что угодно — бей, убивай, никто не услышит! В таком месте и примерно в это же время прирезали гениального Марлоу. Какая могла быть обстановка в этом месте? Стол, два стула и, конечно, кровать. Кровати в шекспировское время были чудовищными. Одиночных лож не было. Спали по двое и по трое. Но на супружеских кроватях обязательно полагался еще и полог. А так как все кровати в таких «малинах» были только супружескими, то полог висел и тут. В замках пологи вытыкали золотом, в домах попроще их шили просто из льняного полотна, можно же себе представить, что болталось в этом дупле!
И вот на эскизе Всеволода Владимировича я увидел все это — острый угол с наискось срезанной крышей, стол с ревматическими ножками, деревянные табуреты — все криво, все падает, — а посредине — вот это страшилище помост, прикрытый пологом. Все на нем аккуратно подшито, прибрано, но все страшно, как в смертный час. Чадит черный каганец, тени худы и остры, потолок желт, и целые полосы, квадраты тьмы бросаются к потолку. А за окном фонарь, и в его луче дождь, а сзади мокрые завитки вывески. Все это было написано ясно, четко и зло. Меня даже испугала эта жестокость и нищенская резкость. Признаюсь, с такой обнаженностью я эту сцену все-таки не представлял. Тут, видимо, опять сказалась разница между пером и кистью, мыслью и выражением.
Я сказал художнику что-то невразумительное, вроде того, что я совершенно растерян, я даже не думал, что так выйдет. Он посмотрел на меня, увидел, что понравилось, улыбнулся, захлопнул свою папку и сказал:
— Ну, это еще только эскизы, я их еще проработаю, подсушу, а вот это на обложку.
И он вынул эскиз обложки — страницы распахнутой рукописной книги (видны края тяжелого кожаного переплета и узорные золотые уголки), посредине ее тонкая женская рука в перчатке. Она закрыла весь текст, и видны только заглавные буквы, да латинский номер вверху «66». Вот и все. Это знаменитый 66 сонет. Первый набросок гамлетовского «быть или не быть»:
Книга не вышла, иллюстрации остались у меня, я долго их возил с собой, и под конец они пропали. Потом эту повесть иллюстрировали другие художники, иллюстрировали неплохо, и все-таки мало что мне так жаль из утерянного, как эти наброски. Но вот пять картин Теляковского и та, о которой Эйзенштейн сказал «Палех», у меня сохранились.
Эйзенштейн сам был большим художником, и поэтому то, что он сказал, в какой-то степени правильно. Я уже упоминал об этом.
Так же как и палешане, Теляковский предпочитал чистые, яркие цвета, не слишком доверял оттенкам, любил серебро и золото, лазурь и багрянец. На земле или на небе эти краски главенствуют почти во всех картинах его казахского цикла. Люди, животные на картинах этого цикла пластичны, можно сказать, не только изысканны, а и распластанны, их изогнутость и гармоничность действительно напоминают о Палехе. Но в то же время нет у него того, что Чехов называл «красивой теснотой», наоборот, в картинах этих много воздуха, света и простора, а верхняя половина картины принадлежит обязательно небу. Художник любит его. Когда оно спокойно, в его чистой голубизне есть что-то от изумительной туркменской лазури — от голубых мечетей и поливных блюд. Больше всего это относится к картине «Пастух». Ей повезло. Она неоднократно воспроизводилась. Даже есть открытка, выпущенная издательством «Искусство».
Сюжет картины так прост, что даже, собственно говоря, в ней и нет никакого сюжета; просто всадник пригнал овец к горному перевалу, остановился и ждет, чтобы овцы сбегали вниз. Он сидит спиной к нам. Крепкий, плечистый, сильный джигит, на нем малиновый бешмет, тяжелый кожаный пояс с серебряным набором, круглая шапка (малахай), отороченная лисьим мехом. Конь неподвижен, всадник неподвижен, овцы, постукивая копытцами, медленно и спокойно текут по каменной дороге — ни ветерка, ни птицы: голубой туман да белый урюк над краем пропасти. Это кривое дерево — центр картины. Всеми своими корнями оно как кистями рук ухватилось за голые камни и почти висит над обрывом. Ствол его мучительно изогнут, вывернут, перекручен по ветру. И есть в нем что-то живучее, ползучее, почти змеиное. А вот цветы-то на грубых уродливых рогатых ветках нежные и легкие — тронь их, и они разлетятся как бабочки.
Конь стоит, овцы сбегают по камням, легкие белые облачка плывут по небу, и над всем этим два огромных серебристо-серых каменных крыла. Такой увидел раннюю весну в горах Теляковский. Он создал голубое полотно, полное тонкого воздуха, льдинок, все в холодном переливе и перезвоне чистых прозрачных тонов. Здесь небесная голубизна сталкивается с тяжелой свинцовостью гор, а цветы урюка вплетаются в облака. Облака и цветы сходятся на одном уровне, и в небе путаются их пути. А на траве блестит острый утренний иней — он четко и твердо вычеканил камни, ствол дерева, шерсть овец, фигуру всадника.
Кажется, это единственное полотно художника, где изображены рассвет, утренняя прохлада.
В других картинах Теляковского всегда тепло или жарко. Либо всходит полная луна, либо горит солнце.
Солнце горит на добром десятке полотен Теляковского.
Вот несется бешеный всадник. Он вскинул тяжелое копье и летит прямо на засаду. В тот каменистый лог, где его поджидают шесть врагов. Но он на них не смотрит, а несется прямо в пекло, в ад, к шайтану на рога на всем скаку, на всем лету. В нем уже ни гнева, ни страха, он ослеп и оглох от ветра, осталось одно ощущение полета. Вся жизнь ушла в занесенное копье. Это то самозабвение, которому не полагается продолжаться больше считанных секунд, иначе просто кровь закипит, и сердце разлетится. И кто бы он ни был — он герой! А ждут его убийцы. Потому что у них полная трезвость и расчет: смерть, которую несет тот один на конце копья, поделена между ними шестерыми. Они хладнокровны как роботы, вылитые из чешуйчатой стали. В исходе сомневаться не приходится — смерть! И все-таки за всадника ни капельки не страшно — он не может погибнуть. В той стране, где земля нежно-розовая, а небо как вуаль, наброшенная на лампу Аладдина, смерти просто нет: она, как и все тут, только сказка, театр.
Театр! Вот я и написал-таки это слово, потому что от него никуда не денешься. Ведь и в самом деле, В. В. Теляковский — театральный художник! Послушайте-ка искусствоведа:
«Четырехугольник холста трактуется как сценическая площадка. Авансцена так и остается свободной. Справа, слева симметрично расположены кулисы, в глубине задник. Даже тогда, когда фигуры отсутствуют и дается чистый пейзаж, построение пространства сохраняет характер подготовленной сцены».
Это пишется о живописи «мирискусников» — учителей Теляковского. Из этого «прелестного», но жестокого канона Всеволод Владимирович сумел вырваться. Вероятно, помогло и то, что он рисовал степь, а где же в степи «боковые кулисы», передний и задний план? Она сама по себе простор, свобода на тысячу километров вперед и назад. Поэтому полотна Теляковского крупнофигурны, хотя и невелики.
Но вот то, что все эти картины писал не какой-нибудь, а именно театральный художник, отлично знакомый с построением сцены, и то, что зрелищный момент был для него самым главным, об этом, по-моему, спорить не приходится. Ведь художнику в театре принадлежит совершенно особое место. Как только поднимется занавес, зритель сразу же встречается с художником. И музыка еще не играет, и актеры не появились, а художник — вот он — уже весь. Он выставлен и высвечен, как картина в галерее. Пройдет минута, дирижер взмахнет палочкой, заиграет музыка, запоют или заиграют актеры, для зрителя останутся только актер и оркестр. Но самая, самая первая минута — все равно принадлежит художнику. И существует художник в театре не как акварель, а как фреска на стене — весомо, грубо, зримо. Все у него должно быть четким, крупным, выразительным. Неблагодарное ремесло театрального художника (мало кто тогда их считал мастерами) дало Теляковскому очень много. Прежде всего цвет — он у Теляковского сам по себе картина. Его кроваво-красные скалы, багрово-синие дымки в небе, ощеренные бурные камни — вся эта гамма полыхающих цветов могла бы существовать отдельно. Но зато как спокойно сине-черное небо в картине «Айман-Шолпан». Тишина, покой, полная луна встала над горным перевалом, около нее сплылись похожие на стекла или ракушки перламутровые облачка, серебрится жесткая, черная, словно вычеканенная трава, медлительно вышагивают неторопливые и важные верблюды. Две черноволосые девушки спят в одном седле, прижавшись друг к другу. Теляковский любит красивых людей — и летят ли они на взмыленных конях, гонят ли овец, слушают ли песню, они все равно красивы.
А рисовальщик Теляковский строгий и точный. У него нет ни расплывчатых тонов, ни даже отблесков и игры света. Только две стихии — нижняя и верхняя: тяжелая многоцветная, как звериная шкура, земля и изменчивое чуткое небо. Оно принимает в себя все оттенки происходящего. Оно за все в ответе. Если движется разукрашенный свадебный караван, пируют гости, сражаются воины — все это отразится обязательно и на небе. Потому что оно не только чистый цвет, но и настроение, пульс, а может быть, и художественный смысл картины. Так оно, очевидно, и должно было быть. Ведь именно через цвет Теляковский и пришел к живописи.
Художник вспоминает:
«У меня сохранились рисунки восьми-десятилетнего возраста, где появилась уже тогда склонность к сильному и сочному колориту». — (Так это передает со слов художника историк искусства Казахстана Нурмухаммедов.) — «Один из таких рисунков попал в руки А. Е. Головина, который сказал: «Странно, при таком разнообразии красок ни одной колористической ошибки». Этот случай как бы решил судьбу будущего художника».
Вероятно, так оно действительно и было.
Отец Всеволода Владимировича был первым директором Императорских театров, решившимся обратиться не к декораторам, как полагалось, а к художникам. Так появились гениальные постановки Коровина, Головина и Бенуа, и открылась новая глава в истории театральной живописи. (Хотя, кажется, генерал не понял, не принял и, может быть, даже оттолкнул от театра Рериха.)
Мать Всеволода Владимировича сама была художница и даже помогала в чем-то Головину (впоследствии, уже при советской власти, он выдал ей об этом даже соответствующую справку).
В этом мире искусств и рос ребенок, не Всеволод, а Сюля, Сюленька. Художники и артисты с Сюленькой дружили. Коровин ему писал откровенные письма и делился планами. Шаляпин набросал его портрет и написал «это Сюлькин». Рано он стал посещать и спектакли. Там он видел, что зрители хлопали Головину и Бенуа не меньше, чем Шаляпину или Павловой. А он уже в то время знал, что все эти чудеса — дворцы, лазурные бухты, священные рощи, вершины гор — зарождались сначала на куске ватмана, в записных книжках или на обороте конверта. И вот это-то превращение, сама чудесная простота его и поразила мальчика больше всего. Вот как он мне рассказал про это однажды.
В тот день сидели у генерала большие художники и разговаривали с генералом о будущей постановке (фамилии у меня на языке, но боюсь спутать и поэтому не называю их). И, разговаривая, один из них чертил на обороте казенного пакета какие-то кружочки и завитушки, а все трое смотрели на них, кивали головами и отлично понимали друг друга. А речь шла о каком-то богатом обстановочном спектакле, чуть ли не о волшебных садах Черномора. Поговорили, почертили и поднялись, чтобы идти в столовую, и тут мальчик тихонечко спросил художника: «Ну а где же у вас все это? — «Что все?» — «Ну, замок, пальмы и озеро, мост через озеро, все, что вы говорили?» — «Да вот они, — сказал художник и разгладил конверт. — Вот тебе замок (треугольник), вот тебе озеро (кружок), вот тебе роща (прямоугольник), вот дорога к замку (линия), вот клумбы (завитушки). Понимаешь?» — «И так все и выйдет, как вы говорили?» — «А как же? Вот придешь, увидишь». И он действительно увидел, что все вышло, как они говорили, и сразу решил: буду только театральным художником. Так и получилось.
— И вы ни разу не пожалели? — спросил я. Он засмеялся.
— Ну почему же не пожалел, тут всякое было: и колебался я, и отрекался, и отходил. Но, очевидно, начало было положено крепкое. Нет, если с этой точки смотреть, то путь мой на редкость прямой. Правда, было такое время, когда я хотел уйти в живопись. Не все меня в театре удовлетворяло, но это было просто так, слабость.
Больше он мне ничего не стал объяснять, а я не спрашивал, хотя и не очень понял, что же его все-таки не удовлетворяло. Но тут, пожалуй, кое-что объясняет письмо Коровина отцу художника:
«Сегодня Всеволод принес из школы рисунки, которые стал делать по вечерам. И они очень хороши, так что совесть моя совершенно покойна перед вами в таком серьезном шаге жизни, на который был введен Всеволод. Я очень, признаюсь, побаивался его мирихлюндии и думал, что в деле, где ему придется работать без любимой фантазии, он поймет эту серьезнейшую сторону (рисунок) как только ненужное принуждение). И слава Богу! Именно вчера я увидел, что он увлекся рисунком и теперь можно считать, что его дело пойдет отлично».
Итак, работа в театре с самого начала требовала от Всеволода Владимировича определенного самоограничения, отказа от «любимой фантазии». А так как дальше в письме говорится о работе над рисунком, то, кажется, ясно, что любимая фантазия — это цвет. Художник не принес его в жертву, но смирил, притушил, ввел в рамки житейской необходимости. Зато как ослепительно вспыхнули эти праздничные голубые, красные и зеленые тона в его последних прощальных полотнах — там, где они вырывались на волю.
В театре же у Всеволода Владимировича в самом деле все сложилось вполне удовлетворительно, хотя видно, что какие-то запинки и шероховатости там все-таки были. Вот как описывает молодого Теляковского художник В. Милашевский. Время — 1921 год. Место — Мариинский театр. Премьера оперы Серова «Вражья сила». В главной роли Шаляпин. Билеты только по приглашению. В зрительном зале Головин, все семейство Бенуа, литераторы — Горький, Михаил Кузмин, Евреинов, Георгий Адамович, Чуковские.
«Ко мне приближается Всеволод Теляковский, у него такие же наблюдательные глаза, как и у отца, но присутствует некий «Хи-Хек». Шаляпин изобразил Всеволода удивительно талантливо. Вероятно, Всеволод хочет сообщить мне некоторые «хихикающие» подробности касательно спектакля. Он все знает! Но успевает сообщить только о себе.
— Эскузович[6] меня, кажется, увольняет за неаккуратное посещение декоративных мастерских!
Это Теляковский-сын, декоратор-исполнитель.
— Нет! Каково? Как может художник работать каждый день? Тулуз-Лотрек, например, никогда не работал в весенние солнечные дни, он просто гулял, наблюдал жизнь»[7].
Таким, конечно, я уже Всеволода Владимировича не застал. От «хихикающих» подробностей, как и вообще от всего смешного, он в то время был бесконечно далек. И не гулял, как Тулуз-Лотрек, а сидел и работал. И в солнечные, и в пасмурные дни. И поэтому между другими делами он сумел создать свою изумительную казахскую сюиту. Эти двадцать маленьких шедевров все еще ждут своего издания. А это трудно, потому что издавать их нужно только в цвете. При однотонном воспроизведении Теляковский испытывает огромные потери, пожалуй, много больше, чем любые другие художники. Без цвета любая картина Всеволода Владимировича пуста и безжизненна.
Он ведь так и не расстался со своей любимой фантазией до самого конца, как его ни уговаривали и ни пугали.
В конце сороковых годов я покинул Алма-Ату и не был в ней очень долго, лет десять, наверное. О Теляковском ничего не знал и не слышал, а за это время в личной жизни художника произошли большие и злые перемены. Рухнули самые основы ее. «Нельзя дважды войти в одну реку», — сказал Гераклит Эфесский. Гераклитова река унесла у Теляковского очень много, почти все: сначала умерла няня, потом жена.
Он вышел на пенсию, переехал в Ленинград и поселился у какой-то дальней родственницы. В последний раз я встретил его за два года до его смерти и опять у Варшавского. Но это был уже совсем иной человек, страшное молчание и тихость лежали на его лице. Даже голос и то стал глухим и тихим. Он только слегка улыбнулся, увидев меня, автоматически сунул руку, автоматически справлялся о моем здоровье. Мы посидели, кое-что вспомнили, поговорили о том о сем — все это вяло, без всякого оживления встречей — и тут Всеволод Владимирович кивнул вдруг на стены. По одной стене шли книжные полки, на другой были картины.
— Эти картины?.. — сказал Всеволод Владимирович.
— Да, да, — ответил я, — это те самые картины, что были у меня, весь ваш казахский цикл, но 10 лет они висят тут, а десятилетнее безраздельное владение даже и по закону...
— Я отказывался, — тихо сказал Лев Игнатьевич Теляковскому. — Я очень долго отказывался, Всеволод Владимирович, но...
— Нет, нет, они ваши, полностью и безраздельно, — заверил я. — Но я их люблю по-прежнему. Они мне доставили столько радости за те пять лет, что висели у меня!
— Нет, правда? — спросил Теляковский, робко и недоверчиво.
Я только слегка пожал плечами.
— Ну, спасибо, — сказал он растроганно, каким-то совершенно иным, почти живым тоном и слегка дотронулся до моей руки. — Большое-большое вам спасибо.
А потом они опять заговорили о другом, об издании альбома русского исторического костюма, над которым Всеволод Владимирович работал много лет. Я послушал немного, попрощался и ушел. Срок моего пребывания в Алма-Ате подходил к концу, а дел было еще уйма. Так я видел Всеволода Владимировича в последний раз.
Могла бы быть и еще одна встреча, да я ее пропустил. Это было уже в Москве. В тот день я пришел домой поздно, сразу же лег спать, а утром мне сказали, что был у меня один человек, ждал и, не дождавшись, ушел, сказав, что больше зайти не сможет — уезжает.
— И записки даже не оставил? — спросил я.
— А вы спросите у Сергеевны, он к ней заходил.
Сергеевне этой не так давно исполнилось девяносто лет, и из них шестьдесят она прожила в этой самой комнате. Квартира, в которой я снимал комнату, была коммунальная, жильцы между собой часто ссорились, но Сергеевну любили все; да ее и нельзя было не любить — тихая, опрятная, деликатная старушка; ни во что никогда не лезет, газом не пользуется — есть своя электроплитка, а попроси, всегда приглядит, поможет, передаст, что надо. Я пошел к ней, постучал, отворил дверь и обмер — вдоль стены стояли мои полотна: «Пастух», «Айман-Шолпан», «Акын», «Кобланды», «Отец Ерсаин». Все застекленные, в рамках из золоченой фанеры. Я ахнул, это было похоже на настоящее чудо. Сергеевна стояла, смотрела на меня и улыбалась. Она любила смотреть, как люди радуются.
— Откуда? — спросил я почти бессмысленно.
— Знакомый ваш принес, — ответила Сергеевна. — Спрашиваю, что передать, кто был? Говорит: «Ничего. Он увидит, сразу поймет». Сначала они в коридоре стояли, а он в вашей комнате сидел, потом кто-то проходил, одну зацепил, свалил, чуть стекло не побил, ну, тут я как раз пришла со двора, он стоит над картиной, убивается, я и говорю ему: «Несите ко мне, пусть у меня постоят». Он и внес.
— И больше ничего не сказал?
— Да нет, поговорили немного — я спрашиваю: «Не иконы?», потому что знаю, вы иконами интересуетесь. «Нет, — говорит, — картины. Они у него уже раз были», говорит. Хороший такой человек, скромный, уважительный, тихий. Вот у меня, говорит, тоже была няня, очень я по ней горюю, она же меня выходила. Два года как умерла».
— У него и жена умерла, — сказал я.
— Про жену он ничего не говорил; няня, говорит, умерла. Меня вынянчила. — Ну что ж, говорю, куда ж ей столько жить! Столько жить, это, говорю, чужой век заедать. Поговорили так-то, я кофейку ему предложила. Он выкушал, а потом усмехается: «А вот жилец ваш — ну, это вы, значит — он все водочкой норовит меня угостить, а я ведь не пью, а он всякий раз забывает и дивится, — как же, говорит, не пьете». Вот как он про вас-то, — Сергеевна засмеялась. — Ну, я говорю, его дело иное, ему, может, и в пользу. Я ведь сама только как пять лет от нее отказываюсь, а то пила. На свадьбу, на праздник пила. А я, — говорит, — ее лет тридцать в рот не брал, а как няня умерла, выпил, и на сороковой день тоже выпил. И даже усмехнулся. Очень деликатный человек.
— А про жену так и ничего-ничего? — удивился я.
— Нет, про жену ничего. Ну, я подошла, посмотрела картины, спрашиваю: — Это не из священного писания? — потому что вижу, люди не наши, старинные, с копьями, в железе, как на распятии. — «Нет, — говорит, — это другое! Это все сказочное, ле-ген-дарное». Ну, посидели мы так с полчаса, тут часы стали у меня бить. Он говорит: «Пойду, похоже, наверное, поздно он придет». Я спрашиваю, может, записку оставите, тетрадку ему дала. Он было взял ее в руки, а потом подумал и говорит: — Я ему лучше напишу из Ленинграда. Скажите, что очень жалею, что не дождался, но вот поезд отходит. А так, скажите, жив-здоров, чувствую себя хорошо, жду в гости.
Он не чувствовал себя хорошо и не был здоров. Его уж давно грызла та болезнь почек, которая очень скоро, кажется, уже на следующий месяц уложила его сначала в кровать, а потом в могилу.
Помню, я ждал обещанного письма, не дождался, написал первый. Ответа долго не было, а потом он пришел, но не от Всеволода Владимировича, а от родственницы, у которой он жил. Она слышала про меня от Всеволода Владимировича, знала, что он повез мне свои картины, поэтому и писала. Одна фраза этого письма застряла у меня в памяти: «Последнее время он словно оглох и ослеп».
Картины висят у меня на стене, и все, кто приходит, всегда останавливаются перед ними и спрашивают, кто художник. Когда я называю его фамилию, некоторые вспоминают его отца (недавно вышло переиздание мемуаров), кое-кто читал воспоминания Всеволода Владимировича о Коровине, но про него самого из московских друзей не слышал никто.
Вот, собственно говоря, и все о Всеволоде Владимировиче. За пределами моего рассказа осталось немногое — история о том, как мы с Всеволодом Владимировичем изобрели и делали одну потешную графическую игрушку; история его последней работы, о которой я уже упоминал. («Атлас русского исторического костюма»). Материалы для нее Всеволод Владимирович собирал всю жизнь, чуть ли не с двенадцати лет, а саму книгу делал лет десять и довел-таки работу до конца. Но издать ее тогда так и не удалось, рисунки были многокрасочные, их было сотни, требовалась мощная полиграфическая база, а где бы ее можно взять в Алма-Ате в те первые послевоенные годы?
И все-таки он был счастливым человеком, потому что обладал поистине железной волей. И притом такой естественной и простой, что ее никто и не замечал. И он, конечно, тоже не считал себя силачом, просто жил и все. А ведь он действительно был сильным и мужественным человеком, одним из самых сильных и мужественных людей, которых я только знал. И это была творческая сила и творческая скромность. Потому что он был настоящим художником, и все, что его интересовало, жгло, будоражило, все это далеко выходило за пределы времени и бедного скудного пространства, отпущенного ему жизнью.
И это, пожалуй, самое лучшее, что можно и сегодня и во веки веков сказать о художнике!
Художник Калмыков
Впервые я увидел Калмыкова в 1937 году на Зеленом базаре.
Зеленый базар!
Только с первого взгляда он казался толчеей. Когда присмотришься, то поймешь — это целостный, здраво продуманный и четко сформированный организм. В нем все на своих местах. Бахчевники, например, постоянно занимают одну сторону базара. На этой стороне лошади, верблюды, ослы, телеги, грузовики. Очень много грузовиков. В грузовиках арбузы. Они лежат навалом: белые, сизые, черные, полосатые. Над ними изгибаются молодцы в майках и ковбойках — хватают один, другой, легко подбрасывают, шутя ловят, наклоняются через борт к покупателю и суют ему в ухо: «Слышишь, как трещит? Эх! Смотри, борода, денег не возьму!» — с размаху всаживает нож в черно-зеленый полосатый бок, раздается хруст, и вот над толпой на конце длинного ножа трепещет красный треугольник — алая, истекающая соком живая ткань, вся в розовых жилках, клетках, крупинках и кристаллах.
— Да голова ты садовая, сейчас ты белого и за тыщу не найдешь! На! Даром даю! Бери! — кричит продавец и швыряет арбуз покупателю.
То же самое орут с телег, с арбакешек, с подмостков, просто с земли. Здесь же снуют юркие казахские девчонки с сорока косичками. Они таскают ведра и огромные медные чайники и поют — это же почти стихи:
— А вот свежая холодная вода!
— Кому свежей холодной воды?
— Вода! Вода! Две копейки кружка, подходи, Ванюшка!
Рядом мелкая розница — лоток под кисеей, под ней уже мертвые ломти — вялые, липкие, запекшиеся бурой арбузной сладостью; над ними ревет стая больших металлических лиловых мух (здесь их зовут «шимпанскими»). Тронешь ломоть — и сразу отдернешь руку — среди черных и желтых лакированных семечек замерли три или четыре хищницы с четко подрагивающими тигриными туловищами.
— А вот воды, воды! Кому свежей холодной воды! — заливаются чистые девчоночьи голоса, и только иногда среди них прорвется спокойный гекзаметр:
— А вот ароматные сладкие дыни! Кто купит?
— Ароматную сладкую дыню задаром! Кто купит?
У ароматных сладких дынь свой ряд. Они товар нежный. Их не ссыпают навалом, их раскладывают в ряд на циновках. Есть дыни круглые, четко оформившиеся, с мягкими, обтекаемыми гранями — их зовут здесь «кубышками». Но больше всего они похожи на какой-то внутренний орган неведомого чудовища — почку или сердце. Мясо у них оранжево-желтое или насыщенно зеленое, как шартрез. А есть еще дыни длинные, конические, как мины или межпланетные снаряды (так в то время их рисовали в журнале «Вокруг света»). Есть дыни золотистые, как осень, как листопад, как закат в спокойной воде пруда. Есть дыни, похожие на головы огромных тропических гадов, они в пятнах, подтеках, пересветах, в хищных змеиных узорах. От дынь исходит еле уловимый аромат и каждый, кто проходит по этим рядам, дышит им. И продавцы в этом ряду тоже иные, и покупатели тут не те, что табунятся вокруг арбузных пятитонок. Продавцы в этом ряду старые солидные люди, узбеки или казахи — аксакалы с истовыми бородами, с бурыми иконописными лицами в черно-белых тканых тюбетейках. Они не волнуются, не бегают, не кричат, они только поют: «А вот ароматные сладкие дыни!» Подходи, смотри, плати деньги и уноси. Пробовать дыни дают не всякому. Это целый ритуал. Сначала ее секут напополам, потом снимают тончайший прозрачный срез и к лицу покупателя на острие длинного и тонкого, как жало, ножа возносится прозрачный розовый лепесток, бери в рот, соси и оценивай. И покупатель здесь свой. Около арбузов мальчики, тетки, сезонники, шоферы, любители выпить. Арбуз, если нет ножа, просто колют о колено, а надколов, разрывают руками. Едят тут же, чавкая, истекая сладостью, урча, уходя в корку с носом, с глазами, чуть не до волос. Повсюду на земле валяются горбушки и шкурки. Дыню под мышкой уносят домой. И когда там ее положат на белое фаянсовое блюдо и поставят среди стола, то стол тоже сразу вспыхнет, и станет праздничным. Такая она нежно цветистая, такая она светящаяся, изнизанная загаром и золотом и в общем очень похожая на дорогую майоликовую вазу.
А дальше помидоры и лук. Лук — это пучки длинных сизо-зеленых стрел, но лук — это и клубни, выложенные в ряд. Под солнцем они горят сусальным золотом. Но обдерите золотую фольгу, и на свет выкатится сочная, тугая капля невероятной чистоты и блеска, беловато-зеленая или фиолетовая. По Перельману, вода в космосе примет именно такую форму. Но фиолетовые они или зеленые, их все равно грызут тут же на месте, с горячим мякишем, с серой верблюжьей солью. Они хрустят, их необыкновенная горечь и сладость захватывают дыхание, ударяют в нос, но все равно их гложут, хрупают, хрустают. «Сердитый лук», — говорят, улыбаясь и плача. — «Сладкий лук», «нигде нет такого лука!» Но и помидоров таких нигде нет, кроме как на Зеленом базаре: они лежат в ящиках, в лотках, на прилавках — огромные, мягкие, до краев наполненные тягучей кровью, туго лоснящиеся тропические плоды. В них все оттенки от красных и желтых тонов, от янтарного, кораллово-розового, смутного и прозрачного, как лунный камень, до базарно-красных грубых матрешек. Их покупают и уносят домой целыми лотками — круглые тугие мячики, багровые буденовки, желтые голыши. Все равно больше рубля здесь не оставишь. Около лотков с помидорами, луком и разноцветной картошкой (желтой, белой, черной, розовой, почти коралловой!) — товарный лоток разделяется надвое. С одной стороны остаются ряды, а другая сторона упирается в стену. Это почтовая контора. Отсюда во все концы страны летит знаменитый алма-атинский апорт. Тут же продают ящики, свежую стружку, холстину для обшивки. В конторе зашивают, надписывают, взвешивают. То и дело мелькают быстрые, оперативные личности с молотками, гвоздодерами и химическими карандашами за ухом. На все разная такса. Одна на то, чтобы уложить и заколотить, другая на то, чтобы красиво надписать, третья на то, чтобы уложить, заколотить, красиво надписать, взвесить, выстоять и отправить. Здесь же печально бродит между ларьками некая туманная личность. Завсегдатаи знают, что это актер и поэт-новеллист. У него страшное иссиня-белое запойное лицо. Из театра его сократили, и вот он теперь ходит по рынку и гадает. Под мышкой у него толстый фолиант «Как закалялась сталь» — издание для слепых. Он кладет его на колени, распахивает и гадает. Рядом старушка продает морских жителей. Место здесь бойкое. Стоит пивная бочка, и над ней взлетают руки с кружками и поллитровками.
Крик, смех. Пьют здесь так: полкружки пива, полкружки водки. Морские жители под эту смесь идут очень ходко. Больше всего я любил именно эти ряды. Но в тот день я дошел до них и остановился. У резных ворот с надписью «За колхозное изобилие» толпились люди. Курили, чадили, лузгали семечки. И тут я увидел художника над мольбертом. Об этом чудаке я уже слышал. Месяц тому назад он подал объяснение в милицию (жаловались соседи) и подписался так: Гений I ранга Земли и Галактики, декоратор, художник-исполнитель театра оперы и балета им. Абая Сергей Иванович Калмыков.
Когда Калмыков появлялся на улице, вокруг него происходило легкое замешательство. Движение затормаживалось. Люди останавливались и смотрели. Мимо них проплывало что-то совершенно необычайное: что-то красное, желтое, зеленое, синее — все в лампасах, махрах и лентах. Калмыков сам конструировал свои одеяния и следил, чтобы они были совершенно ни на что не похожи. У него на этот счет была своя теория.
«Вот представьте-ка себе, — объяснял он, — из глубины вселенной смотрит миллион глаз, и что они видят? Ползет и ползет по земле какая-то скучная одноцветная серая масса — и вдруг как выстрел — яркое красочное пятно! Это я вышел на улицу».
И сейчас он был одет тоже не для людей, а для Галактики. На голове его лежал плоский и какой-то стремительный берет, а на худых плечах висел голубой плащ с финтифлюшками, а из-под него сверкало что-то невероятно яркое и отчаянное — красное-желтое-сиреневое. Художник работал. Он бросал на полотно один мазок, другой, третий — все это небрежно, походя, играя, затем отходил в сторону, резко опускал долу кисть — толпа шарахалась, художник примеривался, приглядывался и вдруг выбрасывал руку — раз! — и на полотно падал черный жирный мазок. Он прилипал где-то внизу, косо, коряво, будто совсем не у места, но потом были еще мазки, и еще несколько ударов и касаний кисти — то есть пятен — желтых, зеленых, синих — и вот уже на полотне из цветного тумана начинало что-то прорезываться, сгущаться, показываться. И появлялся кусок базара: пыль, зной, песок, накаленный до белого звучания, и телега, нагруженная арбузами. Солнце размыло очертания, обесцветило краски и стесало формы. Телега струится, дрожит, расплывается в этом раскаленном воздухе. Художник творит, а люди смотрят и оценивают. Они толкаются, смеются, подначивают друг друга, лезут вперед. Каждому хочется рассмотреть получше. Пьяные, дети, женщины. Людей серьезных почти нет. Людям серьезным эта петрушка ни к чему! Они если и заглянут, то пройдут мимо; «“мазило”, — говорят о Калмыкове серьезные люди, — и рожа дурацкая, и одет под вид попки! Раньше таких из безумного дома только по большим праздникам к родным отпускали». Вот именно один такой разговор и произошел при мне. Подошел, протолкался и встал впереди всех, хотя, видно, и слегка подвыпивший, но очень культурный дядечка — этакий Чапаев в усах, сапогах и френче. Постоял, посмотрел, прогладил усы, хмыкнул и спросил очень вежливо:
— Вы, извините, из Союза художников?
— Угу, — ответил Калмыков.
Дядька деловито прищурился, еще постоял и подумал.
— А что же это вы, извините, рисуете? — спросил он ласково.
Калмыков рассеянно кивнул на площадь:
— А вон те возы с арбузами.
— Так где же они у вас? — изумился дядечка. Он весь был беспощадно вежливый, ироничный и всепонимающий.
Калмыков отошел на секунду от полотна, прищурился, вдруг что-то выхватил из воздуха, поймал на кисть и бросил на полотно.
— Смотрите лучше! — крикнул он весело.
Но дядька больше ничего смотреть не стал. Он покачал головой и сказал:
— Да, при нас так не малевали. При нас, если и рисовали, то хотелось его взять, съисть, что яблоко, что арбуз, что окорок, а это что? Это вот я, когда день в курятнике не приберусь, у меня там пол такой же!
Калмыков весело покосился на него и вдруг наклонился над полотном. Кисть так и замелькала. Вдохновили ли его слова дядьки, или, может быть, как раз в эту минуту он ухватил самое нужное? В общем, он заработал и обо всем забыл. Культурный дядька еще постоял, посмотрел, покачал головой и вдруг грубо спросил:
— А что это вы оделись-то как? Для смеха, что ли? Людей удивлять? Художник! Раньше такого бы художника сразу бы за милую душу за шиворот да в участок, а теперь, конечно, валяй, малай!
И ушел, сердито и достойно унося под мышкой черную тугую трубку — лебединое озеро на клеенке.
А Калмыков продолжал ожесточенно писать. Никто его ни о чем больше не спрашивал. Как-то очень хорошо, легко и с большим достоинством он провел этот разговор, и я тогда же подумал: «Ну, Бог его знает, что он за художник, но цену он себе знает».
Я повернулся и вышел из толпы.
И вспомнил об этой встрече через много лет, когда мне попала в руки записная книжка Калмыкова. Это было уже после смерти художника. Книжка эта валялась на полу в комнате покойного, кто-то поднял ее, а от него она перешла ко мне. Все записи шли в строго алфавитном порядке (и книжка-то называлась алфавитной). Покойный записывал все, что ему вспоминалось или приходило в голову: старые стихи, строчки из газет, расходы. Так вот под буквой «Н» стояло:
«Никто больше меня не любит рисовать на улице. В этом моя сила! Кругом смотрят, зевают, глазеют, кто во что горазд. Младенцы видят первый раз! Другие завидуют, скучают, задирают. Я ораторствую, огрызаюсь, острю, словом, чувствую себя в своей тарелке, в своей сфере! Здесь нет мне равного! Казалось бы, меня надо было на руках носить за все это, я же всю жизнь делаю это задаром! За десятерых! А всем все равно, и дуракам наплевать, но я задам всем жару!»
И еще (уже на букву «К»):
«Когда много говоришь о самом главном, — а все бегут, всем некогда слушать длинные разговоры о серьезных вещах, — то при постоянном ежедневном говорении то с одним, то с другим на улицах вырабатывается вечная манера говорить о всем очень смачно и эффектно, и после этого приходят в голову самые удачные формулировки! Вот! Вернулся с улицы, и в голове есть находка! Я молча шел и говорил про себя...»
Да, он был именно таким — очень уверенный в себе, недосягаемый для насмешек, недоступный для критики, скрытый от мира гений, которому и не требуется никакого признания. Положительно только к нему одному из всех мне известных художников, поэтов, философов, больших и малых, удачливых и нет, я мог бы с таким полным правом отнести пушкинское: «ты царь — живи один». Калмыков так и жил, так и чувствовал свое первородство. И смущала этого царя только какая-нибудь мелочь. Ну, что-нибудь вроде этого: «Есть восковка за 1 р. 54 копейки, событие! А у меня только 80». Да и это его огорчало тоже не очень, не очень. Он умел себя как-то очень хорошо и быстро успокаивать. Из алфавитной книги это совершенно ясно. Видно, нет так нет, и нечего думать об этом. Очень хорошо и твердо он понимал это железное слово «нет».
Прошло много лет. Калмыков умер, и первая статья о нем кончается так:
«По улицам Алма-Аты ходил странный человек — лохматая голова в странном берете, широкие брюки из мешковины, сшитой цветными нитками большими стежками, с огромной расписной сумкой на боку. В последние годы им сделана в дневнике такая запись: “Что мне какой-то там театр? Или цирк? Для меня весь мир — театр”».
Нет, даже не мир, а целая Галактика. Однако все это было совершенно неясно в том, 1937, году.
Известно мне было как раз другое. Именно в это время журнал «Литературный Казахстан» поместил статью о юбилейной выставке Союза художников. Там о Калмыкове говорилось так: «Однако есть на выставке один уголок, вызывающий досадное недоумение. Это уголок работ Калмыкова Сергея. Бездушный схематизм его совершенно не вызывает никаких эмоций и по содержанию представляет из себя невероятную путаницу. В его «Трибуне-памятнике» с одной стороны весьма неудачно стремление создать до наивности величавый памятник трибуну, с другой — полнейшая профанация замысла художника, какие-то нелепые фигуры, одна из которых по развязности похожа на коммивояжера, нелепо размахивающего огромными пустыми чемоданами. Вершина заключена в сеть каких-то реек. Что эти рейки должны изображать — и самому художнику, вероятно, невдомек. Голый, бездушный формалистический схематизм — суть этой картины»[8].
Вот и все! «Формалистический схематизм», «досадное недоумение». А ведь именно в это же время художником были исполнены те великолепные серии рисунков, которые он называл странно и непонятно: «Кавалер Мот», «Лунный джаз». Об этих листах писать невозможно — надо видеть очарование этих тончайших линий, этих переливов человеческого тела. У Калмыкова в его бесчисленных листах много женщин, и все они красавицы — я думаю даже, что он как художник был вообще не в силах изобразить уродливое женское лицо. Его женщины похожи на пальмы, на южные удлиненные плоды, у них тонкая рука и миндалевидные глаза (я здесь не боюсь этих слов). Они очень высоки и стройны. Они выше всех. Стоя или лежа они заполняют целый лист. У некоторых из них крылышки — и поэтому они, очевидно, феи. Другие просто женщины — и все. Вот, например (подбираю специально опубликованные рисунки), красавица в длинном тяжелом мягком халате. Он не надет, а наброшен так, что видна грудь, нога, талия. Красавица несет восточный высокогорный сосуд. На столике горят канделябры. Они похожи на распустившуюся ветку с четырьмя цветками. Рядом раскрытая книга и закладка в ней. Тишина, ночь, никого нет. Куда идет эта одинокая красавица? За ней бежит какое-то странное существо, не то кошка, не то собачка — не поймешь точно что. И больше ничего нет.
На этом листе музыкально все. Все оркестровано в одном тоне — и четыре цветка на канделябре, и скатерть, сливающаяся с мягко льющимся халатом, и тело женщины, и это странное существо с собачьими ушами и кошачьей статью. Ритм достигается крайней простотой, лаконичностью и гибкостью линий.
И другой лист. Он называется «Лунный джаз». На нем официантка с мотыльковыми крылышками. Это такая же высокая, нежная и холодная красавица (Калмыков, видно, признавал только один тип женской красоты). Она несет поднос. На подносе узкогорлая бутылка и ваза с веткой. На красавице же легкие одежды, так, что видно все тело. Или иначе — все ее тело — это единая переливающаяся линия, заключенная в овал одежды. Ночь. Лестница, открытая эстрада. По ступенькам спускается слуга в диковинной шляпе и плаще. Вот и опять почти все. И опять — никак не опишешь и не передашь словами очарование этого рисунка.
И таких рисунков-сюит, джазов, набросков после Калмыкова осталось великое множество, может, 200 или 300 листов. Они исполнены в разной технике. Пунктир[9] и линия, пустые и закрашенные контуры — карандаш и акварель. Так, например, между других работ я помню лист «Кавалер Мот». Внешне кавалер очень напоминает Калмыкова. Такой же сумасшедший плащ, такой же берет, такая же мантилья сумасшедшего цвета. И ордена, ордена, ордена! Ордена всех несуществующих государств мира. Идет, смеется и весело смотрит на вас. Но вот этого у Калмыкова не было совершенно — он всегда оставался серьезным. Спрашивали — охотно отвечал на все вопросы, но никогда не заговаривал первым. А вот: «никто больше меня не любит рисовать на улице» — это точно. Но в тот мир, где играли лунные джазы, парили крылатые красавицы и расхаживали бравые кавалеры Мот, он не допускал никого. Там он был всегда один!
Всего этого я не знал, да и не мог знать, а если говорить с полной откровенностью, то и не захотел бы тогда знать. Не очень это время подходило для лунных джазов и кавалеров Мот. Но всего этого я опять-таки попросту не знал. И в тот день на Зеленом базаре, глядя на художника, я тоже ничего не понял и ничего не вспомнил. Статья о пустых чемоданах (которую я, кстати, сам редактировал и правил) просто не пришла в голову. Я только подумал: вот чудак-то! И как хорошо, что на одного чудака в Алма-Ате стало больше; но через неделю после этого мне пришлось опять встретиться с Калмыковым, и вот по какому поводу: однажды, недели за две до этого, директор сказал мне: «Ты в этот выходной что делаешь? Никуда не собираешься? Ну и отлично! Так вот в выходной я к тебе заеду и поедем на Алма-Атинку. Хорошо?» — «Хорошо», ответил я, хотя немного и удивился. Мне даже подумалось, не хочет ли директор пригласить меня в шашлычную. В это время лета они вырастают на каждом камешке. Но директор тут же пояснил:
— Мы там филиал около парка Горького строим «Наука и религия». Там у меня дед Середа уже со вчерашнего утра с артелью плотников орудует. Так вот сходим посмотреть, как и что.
Я пожал плечами:
— А что я в этом понимаю?
— В плотничьем деле? — удивился директор. — Да ровно ничего. Ты, я смотрю, и гвоздя как следует забить не можешь. Вон тот тигр у тебя как-нибудь рухнет со стены и расшибется к чертовой матери.
На стене висело «Нападение тигра на роту солдат вблизи города Верного» — картина старинная, темная, сухая, плохая и в музее очень ценимая. С нее даже в вестибюле снимки продавали. Еще бы! Такой сюжет!
— Ее как раз дед-то Середа и вешал, — сказал я.
— Да? Ах, старый черт! Смотри, прямо в кирпич гвоздь ведь вогнал и погнул. Ну, скажу я ему при случае. Видишь, там художник у нас один работает. Калмыков, не слышал? Да знаешь ты его, знаешь. Он по улицам в берете и голубых штанах этаким принцем-нищим ходит! Что, неужели не видел?
— Ну, ну, — сказал я и засмеялся.
Засмеялся и директор:
— Ну, вспомнил! Так вот, художник-то он все-таки отличный. И что надо, то он нам сделает. Да и работает он вроде по тому же самому делу. Пишет декорации в оперном. Я ему сказал: «Ты мне такую декорацию напиши, чтоб каждый, как шел, так и замирал на месте, и чтоб у него родимчик делался». Он говорит: «Сделаю». Завтра обещал прийти и эскизы принести. Так вот, поедем, посмотрим, что он там сочинил.
На Алма-Атинку мы пришли рано утром и сразу увидели, что дело кипит.
На большой синей глыбине стоял дед Середа и художник Калмыков. Дед держал в руках развернутый лист ватмана, а Калмыков что-то тихо и убедительно объяснял деду. Дед слушал и молчал.
— А вот дед, между прочим, его не одобряет, — сказал директор. — Вот все его финтифлюшки он никак не одобряет, — дед любит строгость. Он, будь его власть, сейчас бы его обрил наголо и в холщевые штаны засунул. А ну пойдем!
Подошли. Калмыков приветствовал нас строго и достойно. Слегка поклонился, сохраняя полную одеревенелую неподвижность туловища, и дотронулся пальцем до берета. Поклонился и директор. Все трое вдруг стали серьезными и сухими, как на приеме.
— А ну, покажи эскиз, — сказал директор.
На большом листе ватмана было изображено золотое небо астрологов. По кругу знаки зодиака — затем созвездие Девы, Андромеда, Медведица Большая и Малая, еще что-то подобное же, а внизу два черных сфинкса и огромная триумфальная арка с Дворцовой площади. В арку въезжает трактор — наш обыкновенный ЧТЗ, и едет он прямо-таки в небо, в его золотые созвездия. Все это было нарисовано твердо, четко, с ясностью, красочностью и наглядностью учебных пособий. Но кроме этой ясности было в ватмане и кое-что иное, уже относящееся к искусству. Только художник мог изобразить такое глубокое таинственное небо. До того синее, что оно казалось черным, и до того глубокое, что звезды в нем действительно сверкали как бы из бесконечности, из разных точек ее. А ведь краски-то Калмыков употреблял самые обычные, простые, школьные, и все-таки получилось все: и бескрайность полотна, и огромность неба и сама вечность, выраженная в этих таинственных, слегка отливающих черным светом сфинксах. В дворцовую арку, альбомную, плакатную, запетую и затертую миллионными тиражами, въезжал рядовой трактор ЧТЗ, и за его рулем сидел парень в рабочей куртке. Все это разнородное, разномастное — небесное и слишком земное, тот мир и этот были сведены в простую и ясную композицию. В ее четкости, нерасторжимости и естественности и выражалась, видимо, мысль художника.
— Это что же будет? — спросил директор. — Вход?
— Нет, — ответил художник, — для входа я сделал другой эскиз. А это стенная роспись.
— Так, — сказал директор. — Та-ак. Ну, хранитель, твое мнение?
Я пожал плечами.
— Все это, конечно, производит впечатление. Но уж очень необычайна сама композиция.
— Чем же? — ласково спросил художник.
— Так ведь это павильон «Наука и религия»? — сказал я. — Значит, откуда тут взялось звездное небо, понятно. Понятны, пожалуй, и сфинксы. Но вот трактор и эта арка...
— А через эту арку красногвардейцы шли на приступ Зимнего, — напомнил директор.
— И трактор как живой, — похвалил дед Середа. — На таком у меня внучок ездит. Только вот флажка нет.
Опять мы стояли, молчали и думали. Я понимал: эскиз директору явно нравится, но он чувствовал его необычность и боялся, не пострадает ли от этого доходчивость. Все ли поймут замысел художника.
— Ну, ну, высказывайся, — повернулся он ко мне. — Давай обсуждать.
— И пространство у вас какое-то странное, — сказал я. — Как бы не полностью разрешенное. Это не плоскость и не сфера. Вещи лишены перспективы, все они одновременны.
Калмыков вдруг остро взглянул на меня.
— Вот именно, — сказал он, — вот именно. Вы это очень хорошо подметили. Время тут я уничтожил, и... — он сделал паузу и выговорил ясно и точно. — Я нарушил тут равновесие углов и линий, а стоит их нарушить, как они станут удлиненными до бесконечности. Вы представляете себе, что такое точка?
Я представлял себе, что такое точка, но на всякий случай отрицательно покачал головой.
— Вот, — сказал он с глубоким удовлетворением, — один вы из всех известных мне людей сознались, что не знаете. Точка — есть нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов, из которых одни под одним знаком распространяются вокруг круга, а другие под противоположным знаком распространяются от нулевого круга наружу. Точка может быть и с космос.
Он сказал, вернее, выпалил это одним духом и победно посмотрел на всех.
Но директор недовольно поморщился. Сейчас он понял: нет, до масс это не дойдет. Сложно.
— У нас это не пойдет, — сказал он коротко. — Трактор и арку уберите, а небо можете оставить. Но еще что-нибудь надо, на другие стены. Ну, суд над Галилеем. Битва динозавров. Не Бог сотворил человека, а человек Бога по образцу и подобию своему. Завтра зайдете ко мне, посмотрим вместе, подберем.
— Понятно. Будет сделано, — сказал художник и молча отошел к берегу Алма-Атинки. Там у него стоял мольберт, и уже собирались зеваки и ребята. А кто-то длинный и пьяный важно объяснял, что этого художника он хорошо знает, и он постоянно ходит в зеленых штанах, потому что у него такая вера.
Мы подошли к мольберту.
— Можно взглянуть? — спросил я.
Калмыков пожал плечами.
— Пожалуйста, — сказал он равнодушно, — только что смотреть? Ничего еще не закончено... Вот если бы вы зашли ко мне домой, я бы показал вам кое-что. — И вдруг обернулся ко мне. — Так может зайдете?
— Спасибо, — сказал я, — обязательно зайду. Дайте только адрес, сегодня же и зайду.
Через много лет я написал:
«Попал к нему я, однако, только через четверть века. Потому что в тот день как-то у меня не оказалось времени, а потом он уже и не звал к себе. А затем мы разъехались в разные стороны, и я совсем забыл о художнике Калмыкове. Знал только, что из театра он ушел на пенсию, получил однокомнатную квартиру где-то в микрорайоне (а раньше жил в самом здании оперы) и теперь живет один, питается молоком и кашей (он заядлый вегетарианец). Его часто видят на улицах. В прошлые мои приезды я тоже видел его раза три, но он на меня, как и на всех окружающих, никакого внимания не обращал, и поэтому я молча прошел мимо. Я заметил, что он похудел, пожелтел, что у него заострилось и старчески усохло лицо. И еще глубже прорезались у носа прямые глубокие морщины. «Лицо измятое, как бумажный рубль», — написал где-то Грин о таких лицах. А было на нем что-то уж совершенно невообразимое — балахон, шаровары с золотистыми лампасами, и на боку что-то вроде огромного бубна с вышитыми на нем языками разноцветного пламени. Ярко-красные, желтые, фиолетовые, багровые шелковые нитки. Он стоял около газетного киоска и покупал газеты. Великое множество газет, все газеты, какие только были у киоскера. Я вспомнил об этом, когда на третий день после смерти художника вошел в его комнату. Газет тут было великое множество. Из всех видов мебели он знал только пуфы, сделанные из связок газет. Больше ничего не было. Стол. На столе чайник, пара стаканов и все. Да и что ему надо было больше?
Из газетных вязок он составлял диваны, кресла, стулья для гостей, а на столе писал. И много писал!
На полу, рядом с газетами, лежали другие кипы — его бесконечные романы. Все под самыми хлесткими названиями — «Фабрика бумов» — 93 тетради; «Роман нашей эпохи» — 163 тетради; «Приятная усталость» — 103 тетради и еще множество, множество листов и тетрадей — «Тайна отеля Сюлли», «Тысяча композиций с атомонистическими отражателями», «Проблема Джинов» и тьма тьмущая всякой иной всячины (реестр, из которого я все это выписываю, называется «Приложение 3-е к акту по определению художественного и литературного наследства художника С. И. Калмыкова»).
Все стеллажи были прямо-таки набиты гравюрами, акварелями, карандашными рисунками, фантастическими композициями, которые в течение полувека с 1916 по 1966 годы создал этот необычайный художник. Человек, всецело погруженный в мир своих сказок и всегда довольный своей судьбой.
Так писал он о себе.
И предрекал:
«Я загоню в пузырек все Академии наук земного шара. Да, да, как ни странно, а это так и будет».
На этих пуфах ему снились раскрашенные сны, и тогда, встав, он записывал в алфавитную книгу:
«Э». «Энное количество медведей, белых арктических, северных понесли меня в черных лакированных носилках! Бакстовские негры возглавляли шествие! Маленькие обезьяны-капуцины следовали за ними!»
«Я».
«Я видел анфилады зал, сверкающих разноцветными изразцами!»
«Я проходил по палатам, испещренным всякими знаками».
Да, в очень красивом и необычайном мире жил бывший художник-исполнитель Оперного театра имени Абая — Сергей Иванович Калмыков.
И вот тут, среди действительно блистающих изразцов лунных джазов, фей и кавалеров, я увидел на куске картона нечто совершенно иное — что-то мутное, перекрученное, вспененное, почти страшное. Посмотрел на дату, что-то вспомнил, что-то с чем-то связал и вдруг понял — у меня в руках именно то, что Калмыков писал четверть века назад в тот день нашего единственного с ним разговора. Крупными мазками белил, охры и берлинской лазури (так что ли называют эти краски художники?) Калмыков изобразил то место, где по мановению директора на берегу Алма-Атинки должен был возникнуть волшебный павильон «Наука и религия».
Глыбы, глыбины, мелкая цветастая галька, острый щебень, изрытый пологий берег, бурное пенистое течение с водоворотами и воронками — брызги и гул, а на самых больших глыбинах разлеглись люди в трусиках и жарятся под солнцем. Вот в солнце и заключалось все — его прямой луч все пронизывал, и все преображал, он подчеркивал объемы, лепил формы. И все предметы под его накалом излучали свое собственное сияние — жесткий, пронизывающий свет.
От этого солнца речонка, например, напоминала напрягшуюся руку с содранной кожей. Ясно видны пучки мускулов, белые и желтые бугры, застывшие в судорогах, перекрученные фасции. Картина так дисгармонична, что от нее рябит в глазах. Она утомляет своей напряженностью. Ведь такой вид не повесишь у себя в комнате. Но вот если его выставить в галерее, то сколько бы полотен ни висело там еще, вы обязательно остановитесь именно перед ним, перед этим напряженным и мало на что похожим наброском. Конечно, постоите, посмотрите, да и пройдете мимо, может быть, еще и плечами пожмете: ну и нарисовал! Это что же, Алма-Атинка, что ли, наша такая?
Но вот что обязательно случится потом: на улице или за вечерним чаем, а то уже лежа в кровати, без всякого на то повода вас вдруг словно толкнет: «А та речка-то? Мысль-то, мысль-то какая заложена во всем этом!» И примерно через неделю именно это и произошло со мной, я вдруг понял, что же здесь изображено. Калмыков написал Землю вообще. Такую, какой она ему представилась в то далекое утро. Чуждую, еще не обжитую планету. Вместилище диких неуравновешенных сил. Ничего, что тут ребята, ничего, что они купаются и загорают — до них речке никакого дела нету: у нее свой космический смысл, своя цель, и она выполняет его с настойчивостью всякой косной материи. Поэтому она и походит на обнаженную связку мускулов, поэтому все в ней напряжено, все на пределе. И глыбы ей тоже под стать — потому что и не глыбы они вовсе, а осколки планеты, куски горного хребта, и цвета у них дикие, приглушенные — такие, какие никогда не используют в своей работе люди. И совсем тут неважно, что речонка паршивенькая, а глыбы — не глыбы даже, а попросту большие обкатанные валуны. Все равно это сама природа — «Natura Naturata», природа природствующая, как говорили древние. И здесь, на крохотном кусочке картона на протяжении десятка метров городской речонки бушует такой же космос, как и там, наверху, в звездах, Галактиках, метагалактиках, еще Бог знает где. А ребята пусть у ног ее играют в камушки, пусть загорают, пусть себе, пусть! Ей до этого никакого дела нет. Вот отсюда и жесткость красок, и резкость света, и подчеркнутость объемов — это все родовые черты неживой материи, свидетельство о тех грозных силах, которыми они созданы. Да и они сами, эти камни, просто-напросто разлетевшиеся и застывшие сгустки ее мощи. Так изобразил художник Алма-Атинку в тот день, когда он развертывал перед нами свой первый лист ватмана с древним астрологическим небом и трактором, въезжающим через дворцовую арку на самый Млечный путь. Это Алма-Атинка, увиденная из туманности Андромеды.
А сейчас эта картина висит у меня над книжным шкафом, и я каждый день смотрю на нее. Оказывается, от этого можно даже получить удовольствие — до того здорово это сделано. Другие же картины художника Калмыкова находятся в художественной галерее Казахстана, очень советую, пойдите, посмотрите — многое вам покажется, может быть, непонятным, а то и чудовищным, но не осуждайте, не осуждайте сразу же сходу художника. Вспомните Шекспира — «во всем этом безумьи есть своя система». Так, зазря, не обдумав, художник Калмыков вообще ничего не творил, и что поделать, если существуют на свете такие странные, ничем не управляемые вещи — как мечта, фантазия и просто иное видение мира.
Абылхан Кастеев — первый художник-казах
Это случилось почти в незапамятные времена, то есть в середине тридцатых годов. В ту пору всю Алма-Ату можно было свободно пройти из конца в конец за полчаса. А через несколько кварталов от центра, сразу же за Головным арыком (или попросту, за Головнухой) начиналась степь. Сейчас, когда я проезжаю здесь по широким проспектам современного большого города или пересекаю залитую голубым и белым светом площадь с памятником Абая — меня иногда берет сомнение: да полно, было ли все это? Уж не напутал ли я что-нибудь? Действительно тут ли существовала эта страшная Нахаловка, этот подземный город Порт-Артур? Пещеры, норы, дома из ящиков и заборов, лачужки, в которых, как в старой русской загадке, «нет ни окон, ни дверей, полна горница людей». Кем же они были? Какой ветер тридцатых годов занес их сюда? В тот край, куда и письма даже не пошлешь, — потому что улиц нет и почтальоны не ходят? Тогда мы как-то никогда не задавались такими вопросами. Говорили «Нахаловка», говорили «Там, за Головнухой», и этим уже было сказано все.
Так вот, однажды через эту самую «Нахаловку», а потом дальше — через Головной Арык, первые городские кварталы к деревянным турксибовским постройкам мы шагали — два случайных попутчика, два молодых парня, попавшие в этот конец света не помню уж по каким, но безусловно случайным и чрезвычайным обстоятельствам. Был поздний вечер, может быть, ночь, и никто не попадался нам навстречу.
Мой попутчик, крепко сбитый коренастый казах в военной куртке и сапогах, жил где-то недалеко от этих краев. Не в самой Нахаловке, конечно, а где-то рядом, но уже в черте города. В ту пору, — как я сообразил много позже, — у него уже была жена, а может быть и дети, но все равно он казался страшно молодым, ну а я был моложе его еще лет на пять, и у меня никого не было. Очень примечательно, конечно, что все это об нем я узнал через много лет и не от него, а из книг, примечательно, потому что ведь мы тогда болтали обо всем на свете.
Так, он сказал, что только недавно из Москвы, учился на художника, потом там что-то не склеилось, и вот пришлось вернуться. Что очень трудно было учиться в одном месте, а ночевать в другом. А вот где он ночевал, я запомнил сразу же, — в общежитии ГИТИСа[10], у земляков. Да! Вот почему, наверное, я не спросил его ни о каких других подробностях: я ведь сам учился в ГИТИСе и страшно обрадовался, когда услышал это слово. В этом самом общежитии я бывал много раз и поэтому разговор естественно переключился на ГИТИС. А ты такого не знаешь? А ты на лекции такого-то случайно не ходил? Кто там сейчас преподает историю русского театра? Не знаешь? Не был? Что же ты так? Неужели даже у Дживилегова не был? Эх, какой же ты дал промах!
Вот на что у нас перешел разговор и конечно о всем прочем мы просто забыли.
Нет, он не знал никого из преподавателей, и на лекции их тоже не ходил. Он ведь не готовился в декораторы, он просто хотел стать художником и все, поэтому жил он у земляков (в то время в ГИТИСе было казахское отделение), а заниматься ходил в какую-то рабочую студию. Какую и кто ею руководил, я сейчас не помню, впрочем, наверно, он мне и не сказал. Вообще же он только недавно вернулся из Москвы и был еще полон ею: говорил о ней, ругал, хвалил, восхищался.
А между тем летняя Алма-Ата, по которой мы шли, была непередаваемо прекрасна, мало было еще фонарей, на улицах стояли лужи — асфальтировали только центр, современных построек, кроме турксибовских времянок, было раз, два и обчелся, а самым высоким зданием считался Дом Наркоматов с гастрономом внизу. Около него постоянно горел свет, стоял фонарь и находился милицейский пост. Здесь на углу мы и расстались. На прощание мой попутчик назвал мне свою фамилию — так впервые в мою память вошел художник Абылхан Кастеев.
А собственно говоря, я мог бы знать о нем и раньше. В биографии народного художника республики Абылхана Кастеева, как она сейчас излагается в статьях и книгах о нем, есть такие строки: «В 1934 году он принимает участие в конкурсе на создание портрета казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева и иллюстраций к его произведениям. Иллюстрируя одну из поэм Абая, Кастеев изобразил поэта сидящим около юрты, позади расстилается зеленая степь, вьется извилистая речка». (Е. Вандровская, «Абылхан Кастеев». М., 1955.) На этой выставке я был, она помещалась в Центральном Музее Казахстана, помню, какое смутное и неприятное впечатление она во мне оставила. Чтобы не быть голословным, я процитирую свою статью, написанную более 15 лет назад: «Четверть века тому назад в Алма-Ате мне довелось попасть на одну очень любопытную выставку. В краевом музее экспонировались портреты классика казахской литературы Абая Кунанбаева. Это был последний тур конкурса на лучшее изображение поэта. Портретов было очень много. Помнится, ими были увешаны сплошь три или четыре зала краевого музея. Но ушел я с этой выставки разочарованным. Впечатление у меня осталось такое, будто я побывал в большом столичном фотоателье. Со всех полотен на меня смотрело одно и то же лицо, с одним и тем же выражением. И ни одной сюжетной картины — портреты, портреты, портреты! Менялся фон, слегка варьировались костюмы на человеке, а человек оставался все таким же — пожилым казахом с задумчивым лицом и усталыми глазами.
А потом я прочел стихи Абая, и мне стало по-настоящему неприятно. Стихи были великолепные и очень разные: то страстные и негодующие — в них так и чувствовалось гневное лермонтовское дыхание, — то тихие и задумчивые, то насмешливые, поддразнивающие, с упругими четкими рифмами. Так неужели, — думал я, листая книгу, — вот этого страстного, бушующего даже и после смерти человека я и видел на выставке? И почему он везде у них старик? Ведь Абай творил больше четверти века, и в пору своего расцвета был молодым и сильным и красивым. У него тогда не было ни этой одутловатости лица, ни скорбных глаз, ни усталой улыбки.
Позже мне объяснили: художники не так уж и виноваты. Сохранилась единственная, сделанная за несколько лет до смерти поэта семейная фотография. Из биографии Абая известно только то немногое и высокоофициальное, что счел возможным сообщить через пять лет после смерти приемный сын покойного, в первый раз издавая сочинения своего отца»[11].
Но при таком условии что же действительно можно потребовать от художника? И в особенности от самоучки Кастеева, который перед зрителями и появился-то едва ли не в первый раз? Тут он, конечно, ни в чем не виноват.
Вероятно, существует какая-то закономерность в том, что не ближайшие, а отдаленные потомки обретают настоящий образ великого человека. Ближайшим мешает многое: еще живые современники, еще не погасшие страсти, отзвуки прошлых ссор и споров, зависть, недоброжелательство, пренебрежение... Словом, чем дальше, тем светлее и виднее. Теперь главное не поддаться времени, суметь сделать великого человека своим современником. Вдруг понять — э, вот на кого он похож больше всего! А это, конечно, безумно трудно. Посмотрите, как изображали, например, Пушкина в конце прошлого века. Это был либо медный командор знаменитого опекушинского памятника, либо байронический красавец в развевающемся плаще, либо мыслитель с печатью пророка на лбу и скрещенными на груди руками. До суровой и простой правды ульяновского портрета или шухаевских акварелей должны были пройти еще десятилетия. И вот через 12 лет после этой конкурсной выставки Кастеев снова создает своего Абая. Этот Абай к той единственной предсмертной фотографии тяжелобольного старика, которая положена в основу всех остальных портретов, никакого отношения не имеет. Абай Кастеева прежде всего юн, ему не больше семнадцати лет. Он еще ученик, а не учитель. Но у него уже высокий чистый лоб мыслителя, ясный пытливый взгляд, устремленный куда-то вовне. Так смотрят люди, захваченные какой-то неожиданной мыслью. Пальцы одной руки сжаты — в другой книга. Видимо, он только что прочел в ней что-то такое, что заставило его встать и пойти — все равно куда, только чтоб остаться одному. В этом чистом юношеском лице, твердой линии бровей, взгляде, устремленном в себя самого, — есть что-то от великих мыслителей Востока — Ибн-Сины, Рудаки, Омара Хайяма. Портрет сделан твердой и уверенной рукой мастера. Здесь уже никаких погрешностей в рисунке не найдешь. Все: лепка лица, моделировка одежды, композиция — в полном порядке. Очень хорош фон — сумерки большого затененного помещения. Юноша стоит перед нами как в проеме открытой двери. Но какая же историческая достоверность этого портрета! Ведь как ни хитри, как ни открещивайся, а от той страшной предсмертной фотографии никуда не денешься — она единственный документ. Сумел ли художник стряхнуть с этого одутловатого старческого лица бремя годов и болезни? Сохранить только человеческое и отбросить все наносное? Слово, конечно, за специалистами. Наука идентификации точна, мудра и обладает своими методами и приемами, но сейчас мне до нее никакого дела нет. В этого Абая я поверил. Иным я уже себе его не представляю. А ведь в этом, очевидно, и заключается задача художника — заставить зрителя поверить в свою правду. И если это достигнуто, то уж все достигнуто, — художник победил. А ведь, как известно, победителей не судят.
Возвращаюсь к нашей ночной встрече. Если бы мы расстались с Кастеевым иначе, просто подольше бы поговорили, побольше заинтересовались бы друг другом, он, вероятно, пригласил бы меня к себе и показал бы свои работы, и тогда я бы увидел те акварели, которыми сейчас начинаются все монографии о его творчестве. Это портреты его друзей: портрет Сагынбека Кусыкбаева (1930 г.), портрет дяди (1931 г.), портрет сестры (1932 г.) и наконец групповой портрет «В школу». Очень любопытно вот что: искусствоведы говорят, что в первых работах художника бросается в глаза «слабость рисунка, неумение передать пространственную глубину и движение». Да, но включаются-то они в собрание работ художника во всех экспозициях и альбомах наряду с его зрелыми работами, и самое главное, никак не проигрывают в сравнении с ними. Та ничем не покупаемая и неповторимая свежесть кисти, точность глаза, тонкость восприятия, чувство цвета, любовное отношение к детали, к малости — то есть всего, что нас покоряет в работах Кастеева-мастера, тут не меньше, чем во всем его дальнейшем творчестве. Мне, например, трудно представить себе что-либо среди его позднейших работ более психологически убедительное и художественно цельное, чем уже упомянутый мной портрет Сагынбека Кусыкбаева. Это лицо сильного, много видевшего и пережившего человека. Ему уже не так мало лет. Он задумчив, собран, сдержан, очевидно, непривычен ни к порывам, ни к быстрым решениям, в волосах седина, на лбу морщины, кожа тонкая, сухая и желтая, как у всякого жителя степей. Но самое главное на портрете — это взгляд, внутренний мир этого пожилого казаха. Он передан чем-то неуловимым, начисто ускальзывающем от анализа, чем-то таким малым и незаметным, что его даже и не определишь: то ли краешком зрачка, то ли усталыми умудренными полуопущенными веками, — на них заметна легкая рябь годов, они как следы волн на песке; но кажется, и этого малого вполне достаточно. Черты его лица гармоничны и спокойны, таков характер этого человека, такова прожитая им жизнь. Она вся как бы подытожена на этом портрете. Здесь лаконичное мастерство художника достигает предельной кристаллической четкости, ясности и простоты. В портрете нет ничего случайного, мелкого, проходящего. Под стать спокойные неяркие краски, насыщенный синий фон, цвет восточных эмалей. Все это образует спокойную и ясную цветовую гамму, служит единому замыслу донести до зрителя цельность этой незаурядной натуры, ее монолитность, устойчивую доброту, внутреннюю силу. Помните знаменитое моление Языкова?
Новая жизнь в то время уж подступала к степи со всех сторон. Кастеев еще работал кузнецом в колхозе, но уж строился Турксиб, и он скоро должен был уйти туда.
В это же примерно время, только не в ауле, а в Москве Кастеев написал и свой автопортрет. Скуластый, широколицый парень глядит на нас из овальной рамки. Губы у него крепко сомкнуты, глаза широко открыты, взгляд прямой и пристальный. Чем-то, может быть, лаконичностью, может быть, манерой он похож на портрет Кусыкбаева. Но если там показана житейская умудренность, то в этом автопортрете главное — молодость художника, его упорство, вера в себя, непреклонность, стойкость. Здесь все надежно и крепко. Туго замотан шарф, пальто застегнуто доверху, шапка свободно и плотно сидит на голове, тщательно проработан каждый виток каракуля, все добротно и прочно. А больше всего прочен сам человек, глядящий с сероватого листа бумаги. Здесь Кастеев очень похож на того, которого я встретил через три года после этого рисунка около Головного арыка.
В Алма-Ате уже и тогда художников было предостаточно. Вовсю блистал, например, непревзойденный Риттих. Кто из жителей Алма-Аты не застывал на улицах при виде этой величественной фигуры, бледного лица интеллектуала, взгляда светлых лучистых глаз и таинственной художественной бороды? А какие огромные блестящие холсты он писал! Амангельды перед повстанцами на белом наполеоновском коне; стол, залитый солнцем, а на нем огромные цветастые яблоки, отборный алма-атинский апорт. Два пионера, один высвечен солнцем, и на нем сверкает все: белая блузка, красный галстук, люстриновые штанишки. Другой в тени, они что-то мастерят — «Планеристы»; гроб, обитый красным и черным, а рядом на стуле фигура в кожанке с сжатым мускулистым кулаком: «Жертва революции». Да, да, кто из художников или так называемой художественной интеллигенции не помнит Риттиха, ученика великих мастеров, Франца Штука и Беклина? «Маг светотени» — так его называл, захлебываясь, «Литературный Казахстан». Он мог работать по двадцать часов в день, не снижая ни качества, ни продуктивности, мог за несколько дней расписать огромный павильон Сельскохозяйственной выставки, мог создавать огромные полотна на любую тему, в любой срок, любой величины! Он сверкал, искрился, переливался, изображал гнев, любовь, мужество, вздымал к небу сотни загорелых кулаков и это называлось «Восстание». Рисовал пеструю толпу в праздничных национальных уборах, красавиц, красавцев, стариков, заливал все ослепительным солнечным светом, расстилал белоснежные скатерти, разбрасывал блюда с фруктами, дыни и арбузы, караваи с серебряными солонками вверху, украинские рушники, казахские кошмы, — и все это называлось «Колхозный праздник». Да разве мог кто-нибудь сравниться с великим Риттихом? Все остальные художники просто меркли перед ним. А ведь это тоже были мастера — Крутильников, Бортников, Оленев-Антощенко (тогда он не был еще Антощенко-Оленев и не резал свои великолепные гравюры на линолеуме), вечно растерянный пьяненький Заковряшин, похожий на вымокшего и растрепанного чибиса с хохолком, автор тончайших акварелей, простых и драматичных, по тонкому благородству рисунка и музыкальности линий близкий не то Кардовскому, не то Лансере, не то молодому Добужинскому. Помню, мы как-то делали с ним одну книгу (я ее писал, а он ее иллюстрировал), и я до сих пор не могу забыть его дворцы, полосатые верстовые столбы в степи, ночной костер где-то около Дона, потешных и свирепых екатерининских генералов, поручика с пудреной косой, жгущего картины (книга была о XVIII веке), о нем следовало бы написать отдельно, но художественное наследие его невелико, не собрано, не приведено в известность. Он погиб в Берлине как-то странно и при неизвестных обстоятельствах. Впрочем, он мне так и говорил: «Я страшный неудачник. Раз в студенческие годы меня избили в драке, когда она уже кончилась. Если будет война, меня обязательно убьют в первый же день». Тут он ошибся — его убили в последний день, кажется, уже после капитуляции. Это были все талантливые, добрые ребята, работящие и деловые и даже дикий гений Сергей Калмыков совсем не был таким, как его запомнила Алма-Ата по 50–60 годам. Не существовали еще ни его великолепные лиловые, красные и желтые плащи, ни его флорентийские береты, ни расшитые цветным шелком сумки на боку. Художественная галерея уже существовала, но еще не открывала своих дверей для посетителей и по ее пустынным залам носился странный человек Мыльников, который числился научным работником, все знал, во все вникал и ничего не умел делать. И висели тогда в галерее парадные портреты XVIII века, несколько итальянцев и французов, десяток передвижников да большие полотна с такими названиями — «Пифагорийцы приветствуют восход солнца», «Милосердный самаритянин», «Вид окрестностей Рима». Местных художников почти не покупали, и весь Хлудов, учитель Кастеева, висел в музее, считался этнографическим материалом, и никто его тогда знать не хотел, да и действительно не знал, а об ученике его Кастееве даже и разговор не заходил. Если я не ошибаюсь, первый более или менее обширный отзыв о нем напечатал тот же «Литературный Казахстан». Так как те сведения, которые в нем даются, значительно отличаются от его позднейших биографий, мне хочется процитировать эти строчки почти целиком.
(Сначала говорится о Риттихе.) «Второе место на выставке по праву принадлежит Кастееву. Очень интересна биография этого художника. Всего пять лет тому назад в юго-восточной части степей за гуртом баранов ходил пастух Кастеев, на плоской каменной плитке, на куске простой бумаги он писал свои первые картины. Вечером, возвращаясь в родной аул, слушал попреки седых аксакалов, возмущенных нарушением Корана, запрещающего изображать людей и животных. Слушал и стоял на своем. Его примитивные по средствам, но талантливые по содержанию зарисовки увидел один из командиров пограничной охраны. Пораженный талантом художника-самоучки, этот командир принял участие в судьбе Кастеева. Он помог ему устроиться в Джаркенте, а затем, будучи в Алма-Ате, зашел в Союз художников Казахстана и сообщил об открытом таланте. Из Алма-Аты Кастеев попал в Москву, в художественное училище. Такова его биография. Кастеев выставил восемь картин... Лучшая его картина «Проводы».
На фоне лирически грустного пейзажа раскинулся аул. На переднем плане, возле новой, видимо, только что поставленной юрты несколько молодых казашек. Одна из них, опершись о плечо подруги, грустно смотрит вслед удаляющейся группе казахов, в центре которой отец и мать. Они только что получили калым и, оставив дочь-невесту среди ее новых подруг, уезжают в свой родной аул. Она провожает их взглядом, полным грусти и тоски. Лирической грусти девушки подчинен весь пейзаж, вся группа ее подруг. Пейзаж Кастеева, быт, любовно выписанный им, поражает точностью и тщательностью. Вторая большая картина Кастеева «Колхозный той». Тема безусловно большая и сложная, и художник сумел ее разрешить только тематически, взяв самые характерные типические моменты. Дальше сказалась техническая неопытность молодого художника, который не сумел связать в один композиционный узел так удачно отобранные им моменты. Картина имеет целый ряд разрозненных центров и это мешает восприятию картины в целом. Два законченных этюда, написанных Кастеевым в горах возле Алма-Аты, и вид Медео, и Дом отдыха СНК показывают характерную особенность художника: его любовь к детальному изображению пейзажа. Детализация его пейзажей не вызывает чувства высушенности и скуки. С каким-то своеобразным наслаждением взгляд зрителя гуляет по любовно выписанным дорожкам и тропам горного пейзажа...»
Но прежде чем приступить к его пейзажной живописи, хочется сказать еще об одной его картине. В позднейшей биографии художника есть такие строки:
«В 1931 году занятия у Хлудова прекратились в связи с болезнью учителя. Кастеев еще некоторое время прожил в Алма-Ате, работая в Центральном музее Казахстана, а затем в 1932 году решил ехать в свой родной колхоз».
Итак, Кастеев работал в музее. Не больно много что ему было тогда там делать, но одну его работу тех лет я все-таки застал и запомнил. Это было историческое полотно (конечно, полотно только условно, скорей всего это был лист ватмана). Царица Анна Иоанновна принимает посольство Большой Орды, так, мне помнится, объясняли картину экскурсоводы. Висела она в отделе истории Казахстана, а под ней стояли две юрты: юрта бая и юрта бедняка и стенд со шлемом и луком. Картина скорее всего пропала. Во всяком случае ни в один список произведений народного художника она сейчас не входит, но я-то ее помню хорошо.
Основное в ней было — сказочность. Сказочность события и обстановки; сказочна была зала дворца, высокие церковные свечи, трон, вылитый из золота; сказочными были придворные: напомаженные, осыпанные звездами и орлами, с пышными буклями и шпагами, а самым центром сказки была царица-великанша с толстыми руками и ногами, с чудовищным бюстом, не человек, а людоедка, символ империи, сама империя, превратившаяся в необъятную, ненасытную и все-таки полусонную бабу. А вот посланцы были просто молодые джигиты. Какой-то ветер занес их из родных степей в это капище, к подножию золотого идола, и они обалдело смотрят на него. И в этом есть тоже что-то от сказки; так, вероятно, Садко смотрел на морского царя, на его подводное царство и диковинных придворных. Мне очень нравилась эта картина, я часто вспоминал ее потом, может, она и сейчас хранится где-нибудь в запасниках музея — наглядное пособие к теме — феодальный период истории Казахстана. Но разве, по совести, там ей место? Как же хорошо было бы найти ее, вытащить и вновь показать людям!
Есть у Кастеева, молодого и зрелого, одна особенность или тема, за которую я особенно его люблю. Одной фразой ее никак не выразишь. Это, если угодно, — пафос пространства, упоение широтой и высотой, необъятность человеческого окоема; он как бы одним взглядом очерчивает, вмещает в себя целую часть земного круга. Можно десятки километров идти в глубь его картин. Художник смотрит на землю с высоты журавлиного полета, под ним расстилаются степи, поднимаются снеговые вершины, взбираются по склонам гор голубые леса, распахиваются альпийские пастбища. Он хочет вместить в себя всю степь, от гор до гор, всех людей, которые здесь живут и работают, все их юрты, кочевья, стада, дома, ссыпные пункты, сады, токи, элеваторы, кузницы, дороги. Жителю равнин никогда не придет в голову ничего подобного, ему прежде всего некуда забраться, чтоб увидеть все это. Есть что-то почти брейгелевское в тяготении Кастеева к необъятным пространствам, в его жгучем интересе ко всем видам человеческой деятельности. Любую такую картину можно смотреть с десятка точек, потому что в ней десятки сюжетов и центров. Взгляните хотя бы на «Высокогорный каток в Медео». Кастеев к нему возвращается несколько раз. На всех его акварелях множество людей, и все они разные: люди ходят, болтают, смеются, делятся впечатлениями, просто ходят и смотрят на это невиданное. Есть просто зеваки, есть болельщики, те стоят у самого зеркала катка, этот длинный извилистый частокол спин, голов, шапок. По ледяной дорожке, руки за спину, летит конькобежец, на него смотрят внимательно и спокойно, потому что это еще не самое зрелище, а подготовка к нему. Неподвижная напряженность этих более чем полсотни фигур переданы лаконично и просто. Передний план отдан просто зрителям, они стоят кучками, вольно, нестройно, не особенно вдаваясь в то, что видят. Очень хороша одна женщина в центре картины, в ней выражается все настроение акварели: легкое, беззаботное. Женщина, не торопясь, спускается со склона холма, улыбается, что-то говорит на ходу. Видно, что она случайная зрительница, одна из отдыхающих, ведь урочище Медео — давняя зона санаториев и пансионатов. Да и все эти люди пришли сюда, очевидно, в день отдыха. Тона тут неяркие, сдержанные, серебристо-серые; сизый лед, белый снег, бурая зелень сосен и огромные распахнутые над всеми крылья ледников. Рисунок точный, четкий, ясный. Каждая из сотен елей на снежных склонах именно ель и ни с каким другим деревом ее не спутаешь. Настроение бодрости и зимнего холодка, даже легкой изморози разлиты по всей этой картине. Очевидно, перед ней хорошо останавливаться в томительное алма-атинское лето, когда воздух густ, неподвижен и трудно дышится. Такая же точность, ясность, оптическая резкость, разреженность разлита и в других пейзажах Кастеева этого периода. Это та хлудовская манера видеть мир, о которой я в свое время писал так: «Все, что он видел, он видел с точностью и ясностью призматического бинокля, а ведь в такой бинокль не уловишь ни тонов, ни переходов, одни цвета, да четкий жесткий контур, дерево, холм, человек на холме. Ему были недоступны ни полутона, ни переливы, он не признавал ненастья и серого неба, все, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. Но тут ему уже не было соперников. Ведь он рисовал не только степи и горы, но ту степь изумления и восторга, которую ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот край. Именно поэтому каждое его полотно ликует и смеется от радости».
С какими-то оговорками это можно отнести и к раннему Кастееву. Конечно, он строже и суше. Далеко не все его пейзажи этого периода залиты солнцем, и не все они смеются от радости. У него есть и раздумье, и печаль, и замутненность. Он ведь не пришелец, а свой. Он все знает, все видит. Но все равно удивительная ясность, тишина и слаженность царят в его пейзажах с конца 30-х до середины 50-х годов. «Вид на Медео», «Вид на Алма-Атинку», «В горах Казахстана», «Цветущие яблони», «Дорога» — все ясно, четко, все находится в состоянии устойчивого равновесия. Это лирические, а не драматические пейзажи. Даже горная речка Алма-Атинка, и та кипит и бушует у него не слишком. Разве можно ее сравнить с той же Алма-Атинкой Сергея Калмыкова? Там же ад кромешный, там на протяжении каких-то 50-ти метров водные вихри и воронки, водопады и фонтаны, там все движется и грохочет как железнодорожный переезд, там внизу лед, а вверху солнечные радуги, там вспененная бешеная вода всех оттенков: белая, рыжая, черная, бурая, и ни куста, ни травинки — раскаленные камни да голые люди на них! Действительно, пекло! У Кастеева же тишина и покой, ровные песчаные отмели. Плоские камни, пышные болотные травы, вдалеке горы, и на них ели, вблизи же легкий ажурный мостик, а через него снова травянистые прилавки и прибрежные кусты. День ясный, тихий, прохладный, солнце светит, речка течет, вода в речке чистая, прозрачная — приходи, купайся, загорай, никто не помешает, ты тут один!
Таково было ощущение природы Кастеева до половины 50-х годов. А со второй половины начинается перелом.
Вот картина «Соленое озеро». Раскрыть эту тему, как ее увидел Кастеев, с его прежней живописной техникой, было бы невозможно. Она требовала иных красок и иной манеры. И вот вместо основных частых тонов пришли полутона, дымки, оттенки, световые подтексты. На картине жесткая, просоленная насквозь земля, колкие сухие травы, тяжелый иссушающий зной. Воздух над камнями струится, как вода. Да и вообще все на картине курится, плывет, дрожит. Только серая ровная вода, тяжелая от соли, неподвижно стоит в низких каменистых берегах. К озеру из степи бежит тропинка, непонятно, кто ее проложил и непонятно зачем. Ведь на многие-многие километры нет ни человека, ни жилья. Озеро длинное, извилистое, его мертвые изгибы теряются где-то в горах. Горы замыкают наглухо, как замок, эту мертвую долину. И ни одного яркого красочного пятна, ни одного проблеска, вспышки цвета. Только серая туманная даль, желтоватая выжженная земля, мертвые травы да горы свинцового цвета. Мертвое озеро — «К нему ни птица не летит, ни зверь нейдет...»
И совсем другая картина, сделанная в тот же самый год, — «Зимовка». На ней околица аула. Самый край его: дальше уже идти некуда — горы, мазанки с плоскими крышами, большой огороженный стог сена, несколько карагачей — вот и все. На улице только два человека, всадник и подпасок с коровой. Наверное, недавно тут прошла метель. И коню, и мальчику трудно пробираться через завалы. Горы тоже занесло, и они похожи на один огромный сугроб. Уже вечереет, но огня нигде нет. Чистые тени лежат на снегу, стог кажется совсем сиреневым, крыши сизыми — и такая глубокая тишина разлита вокруг, что, кажется, слышно, как кровь ухает в висках. И везде снег, снег, снег. Он и есть самое главное на этой картине. Он укутал всю землю, и она стала мягкой, пушистой, нежной. В нем масса цветов и оттенков, и все они такие же легкие и неверные, как он сам. Ветер стер грани, сгладил очертания, и все вокруг сделалось воздушным, колеблющимся, туманным. И лошадь, и всадник, и подпасок с коровой — все это как бы курится, расплывается в тонком и хрустком, как утренний ледок, воздухе. И хочется очень долго стоять перед этой акварелью, дышать ее воздухом, и проникаться ее тишиной. Мне кажется, что надо быть очень тонким художником, чтоб создать такую нежную, снежную, тонкую тишину.
Вот на этом месте мне и хочется проститься с Кастеевым, просто пожать ему руку и как тогда, почти сорок лет тому назад, сказать:
— Ну что ж, мы, конечно, еще не раз встретимся, ты же художник, добрый тебе путь, дорогой!
Человек с планеты Земля
Село, в каком родился Алексей Степанов, называется Чемодановка (то ли потому, что оттуда во время пугачевщины вынесли в чемодане помещика, то ли оттого, что через полтораста лет точно так же спасли революционера — никто этого сейчас не знает: Чемодановка — и все). Стоит это село за 18 верст от Пензы, а от ближайшей мордовской деревни Селесны за пять верст. В селе Чемодановка сеяли хлеб и катали валенки. Кто из старшего поколения еще помнит эти черные и серые с быстрой лиловой искрой ласковые наощупь шелковистые пензенские валенки — тот знает, что это такое. Я вот, например, помню, как их продавали на московских рынках, какая толпа стояла вокруг, как торговались, кричали, и как наконец, купив, торжественно несли товар носками вперед домой. Это была, конечно, покупка года.
Помнит это и заслуженный деятель искусств Казахстана Алексей Матвеевич Степанов, но только с какой-то иной стороны.
— Я вот в годы моего студенчества, — говорит он, — часто думал: ну вот пимы — по нашим местам необходимый в те годы товар. С ним все просто. Мастер свалял, осмотрел со всех сторон, сказал — пойдет! — и повез в город. А там рынок цену скажет. Были, конечно, колебания в рубле, полтиннике, не больше. А наше ремесло? Ну, положим, я задумал написать полотно — выезжал на этюды, искал место, приноравливался, — пятнадцать дней по нескольку часов сидел, не разгибая спины. Наконец кончил. А сколько оно стоит — не знаю. Вот ты можешь сказать, поглядев на какую-нибудь картину, сразу сказать, во сколько ее оценит комиссия или покупатель?
— Нет, — ответил я.
— Ну вот и я не могу, — то ли десятку она стоит, то ли сотню, а то ли и всю тысячу потянет. Наш труд расценки не имеет. Он — бесценный. Я, когда надо, бывало, картину за семнадцать рублей отдавал, и не куда-нибудь, а в галерею. Так уж выходило, помочь надо было кому-нибудь из коллег.
Но это, так сказать, прелюдия, лирическое вступление к рассказу Степанова.
А самый рассказ — вот он.
Значит, за пять верст от Чемодановки стояла деревня Селесна. И над ней небо сходилось с землей. Маленький Лешка глядел на это чудо каждый день и никак не мог понять, что ж там происходит. Помог старший брат Васька.
— Это край земли, — объяснил он, — там мордовки белье стирают, а валки прямо на небо кидают. Видишь, там деревья выше неба выросли? Ну вот и все! А не веришь — проверь! Не больно далеко-то идти.
И четырехлетний Лешка (значит, дело было в 27-м году) пошел проверять. Собрался он солидно, по-мужицки, по-пензенски: хлеба взял с собой изрядный кус, соль в тряпочку завязал, оловянную кружку в карман засунул — ну и пошел. Это был, конечно, настоящий подвиг, потому что он шел не в обычную страну, а в сказочную. А в сказочной стране и все должно было быть по-сказочному. Несмотря на свой возраст, или, вернее, благодаря ему, логику и законы сказки Лешка чувствовал очень хорошо.
И еще:
Это Пушкин, и значит так обстояло дело в пушкинской сказочной стране, но ведь были и другие сказки, куда пострашнее — о мертвой голове, о мече-кладенце, о людоедах и рыскучих серых волках, о бабе-Яге и ее избушке, где кипят котлы чугунные, блестят ножи булатные. Этой бабы-Яги Лешка боялся больше всего, и сказочной стране доверял не больно.
Вот у них, в Чемодановке, все ясно и понятно, хлеб сеют, на ярмарку отвозят, оттуда везут железо на кровлю, стекло оконное. И поэтому в их Чемодановке стоят избы крепкие, железом покрытые, стеклом застекленные, век простоят и не шелохнутся. А в сказочной стране стоит приказать избушке: «Избушка, избушка, стань ко мне передом, а к лесу задом», и она сразу перевернется на своих курьих ножках. В сказочной стране Иванушка-дурачок оказывается умнее всех, а мишка косолапый, Михаил Иванович — самым мудрым и умным зверем на свете. И все это правильно, потому что это не была бы сказка. Вот это Леша помнил и понимал. И поэтому, когда перед ним блеснуло первое сказочное чудо — меч-кладенец на зеленой траве-мураве, он не удивился и не испугался, просто подошел, деловито поднял меч с земли да и зашагал с ним дальше. Был этот меч из чистой ясной стали, и когда его поворачивали, на солнце сверкал ослепительно. Но, ясное дело, взрослые, которые ничего не смыслят в этих делах, увидев Лешину находку, сказали, что это не меч, а просто финка. Ну, пусть так! Была эта финка мастерски выкована с красивой наборной рукоятью и обоюдоострым клинком, а по клинку этому шли еще две бороздки. Чтоб кровь стекала, так решил Лешка.
— В общем, это была самая лучшая финка, которую я когда-либо имел. Я с ней и в армию ушел.
Пошел Лешка дальше и увидел над поднятыми парами в воздухе русалок. И как они играли! Как тешились, легкие, воздушные!
Я и сейчас не мог добиться с полной ясностью, что же такое тогда увидел Лешка. Очень точный в рассказах, тут художник сбивался и путался.
— Ровно туман какой-то поднимался с пашни. Клоки какие-то непонятные плыли, клубились, обнимались, падали, летели куда-то и там таяли.
— Так, может, там была низина, болото, — спрашивал я, — болото, а над ним туман?
— Да нет, чистая пахотная земля, — пожимал плечами он. — Я долго смотрел. Лиловатая земля, а над ней вот эти самые белые призраки. Когда я пошел, они как будто за мной поплыли. Ну я побежал, и они отстали.
Он побежал, и из-под его ног вдруг выскочил заяц. Ну а где заяц, там и волки рыскают, и избушка на курьих ножках стоит, и баба-Яга в ступе едет, помелом след заметает...
И Леша повернул обратно. Что ж? Он дошел до самой границы волшебной страны, а там сама сказка предостерегла его — не ходи дальше, малец! Худо будет!
— Вот таково было мое первое соприкосновение с необычайным, то есть с искусством, — кончает Степанов. — Это я почему-то почувствовал сразу. И так я первый раз ходил на небо.
— И не дошел!
— Тогда — нет!
А село стоит и до сих пор, как стояло, и хозяйки там и по сию пору белье стирают, а валки на небо забрасывают — благо до него там рукой подать.
— И еще одним мне памятен этот четвертый год моей жизни, — говорит Степанов. — Отец мне привез с ярмарки акварельные краски. Приметил, значит, мое увлечение, — ну знаешь, картонная палитра, а на ней восемь или девять твердых разноцветных кружков: аквамарин, кармин, охра... И стал я тогда мазать направо и налево. И однажды такое сотворил, что отец меня чуть не выпорол. Висел у нас отрывной календарь, а стенка у него была такая серая, бесцветная...
Тут требуется некоторое объяснение. Стенка — это квадратный кусок картона с наклеенной на него олеографией. Он такой весь сверкающий, цветастый, лаковый, голубой, зеленый, пурпурный, что от него невозможно оторваться. Его хочется не просто посмотреть, а обязательно взять в руки, повертеть и ласково погладить. Издательство Сытина с начала века и заваливало рынки, ярмарки, газетные будки этими бесценными грошовыми сокровищами. На тусклых желтых обоях, на серой ноздреватой штукатурке какой-нибудь «меблирашки» или просто на бревнах такая «стенка» сверкала как чудесный оазис в пустыне, как кусочек теплого моря, как окошко, распахнутое во что-то неведомое; в пальмовые рощи, во дворец, где все из золота и бирюзы. Они были как южные бабочки или тропическая птица с распростертыми крыльями. И какой ребячий рев всегда стоял у палаток, где продавались эти чудесные окошечки! «Мама, мама, дай! Мама, купи!» И мамы покупали, конечно! А что их было не купить, когда они и стоили две-три копейки!
— Да, но у нас висела совсем иная «стенка», — сказал Степанов, выслушав меня, — серая и одноцветная, посреди памятник Пушкину (ведь шел 1927, юбилейный, год), а по бокам в кружках все головы, головы — Гоголь, Лермонтов, Крылов, Жуковский — и все серьезные, печальные, одноцветные. Вот я и взялся за них! Глаза сделал им синие или зеленые, бороды — бурые или рыжие, щеки навел круглые, красные. Всех их наградил, никого не забыл! Отец пришел, увидел мои художества, ахнул да ка-ак даст мне подзатыльник!
— Это же все казенные люди, писатели. Разве можно их так уродовать? Этак с тобой и в острог загремишь!
Однако краски не отнял.
Обе эти истории Степанов рассказал мне в ответ на довольно неожиданный вопрос: откуда у него возникло тяготение к космической теме?
— Сначала от этого путешествия, от дороги, ведущей прямехонько в небо, где все сказочно и невероятно, а потом от этого маленького чуда, крошечных дешевых детских красок на круглом куске картона. Я потом ими рисовал только одно — синий-синий цвет — небо! Круглое красное солнце, а внизу большая зеленая полоса — от нее дорога! Пустая. Я ведь так и не дошел тогда до неба. Землю же и людей я больше не трогал. Мне за них уже досталось от отца.
— Ну а потом?
— Потом была школа, учеба в художественной студии, армия, снова учеба, уже в Ленинграде.
Об этих годах Степанов говорит мало и неохотно. Может быть, он и прав: тут он уже стал художником, а мы знаем, «не подлежит огласке душа художника. Она была собой» (П. Антокольский).
А согласно писаной биографии случилось вот что: «еще будучи студентом Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, Степанов не раз приезжал в Казахстан для сбора материалов к дипломной работе «В гостях у акына». Он полюбил этот обширный и своеобразный край и по окончании института (1952 г.), не раздумывая, переехал в Алма-Ату».
Что ж, удовольствуемся пока этими строками. Они скудны, но точны. А большего нам и не требуется.
И вот его работа за 20 лет в Казахстане. Перебрасываю буклет. «А. Степанов. Москва. 1977». Вот полотно, помеченное 1954 годом. Огромное, сероватое, белесое озеро. Безлюдье, тишина. Не то стоячие, не то медленно текущие неведомо куда сонные воды. Ни ветерок не дунет, ни рыба не плеснется, ни птица не пролетит. Тона холодные, светлые; далеко-далеко, на другой стороне, как сквозь стекло, видится изгиб крутого лесистого берега. А тут песчаный косогор, робкая, молодая, еще неокрепшая травка и две сосенки, тонкие, лохматые, похожие на худых растрепанных медвежат. Несколько поодаль, почти на самом откосе, притулилось еще деревце, тоже низкорослое и нелепое в своей неуклюжей молодости — не то ветла, не то липка, не то березка, хорошо не поймешь даже что. И совсем, совсем на краю полотна, лицом к зрителю выросла жизнерадостная стройная складная елочка. Такими любят украшать новогодние и рождественские столы. Вот и все, что есть на полотне: песчаный откос, широкая водная гладь, а над ней — небо. Пусто, безлюдно, неприветливо, но вот ведь странность: глядя на эту картину, ощущаешь не тоску, не чувство бесприютности, а тонкую элегическую грусть. Художник знал, что делал, когда назвал свое полотно «Раздумьем». Это кажется сначала неожиданным, неоправданным, ведь раздумывать может только человек. Растение — растет, животное — живет. Раздумье же — это осознание себя самого, поиск ответа на какие-то очень важные и заветные вопросы бытия, короче — это наше исконное человеческое достояние, именно оно и превратило «мыслящий тростник» в разумное существо. Степанов же само озеро, деревья и небо назвал так, и, пожалуй, точнее названия не придумаешь. Это я, зритель, встал лицом к лицу с вечностью, ощутил ту разрешенность, великий покой и бесстрастие, которые и превратили этот кусок дикой природы не в просто пейзаж, а в элегию. Ибо элегия — это «выражение преимущественно философских размышлений и горестных раздумий». (Словарь литературных терминов.) Элегией может быть все: стихотворение, рассказ моего знакомого, музыка, картина, скульптура, мое размышление насчет всего этого. Была бы только в ней та притягательная и неведомая сила, которая непонятно как и почему влечет меня не куда-то, а вот именно к этим грустным берегам.
Музыкальность этого полотна для меня несомненна, так же, как невозможность ее исчерпать любым описанием.
Вторая картина этого докосмического периода называется «На смену дня». Так и хочется назвать ее тоже «Раздумьем». На этом полотне тоже нет людей, их заменяют два черных продолговатых пятна — в глубине картины всадник и лошадь. Полотно голубое, сиреневое, т. е. цвета вечернего неба и снега. Ярко выдаются поблекшие горы. На самую окраину села спустились сумерки, все краски притихли и смирились перед тихой, но властной наступающей синевой неба. Стали красновато-бурыми тополя, а в розовом трехоконном строении, скорее всего электростанции, зажглись красные и алые огни. Горят они и в других немногих строениях и избах на окраине села, т. е. наступил тот немного таинственный час, который Пушкин называл «час между волком и собакой». Свобода, отдых, покой, редкие огоньки в окнах, черные тени на лиловом снегу, и над всем этим распахнутые горы — мощные отроги Тянь-Шаньского хребта. Они не особенно высоки, на них нет снежных шапок, это просто огромные глыбины дикого камня — голые, холодные, без лесов и кустарников. На них ни лесов, ни человеческих нор. Просто обнаженный льдистый камень. Айсберг. Он как становая жила земли — широк и несокрушимо груб. Людей, повторяю, нет, зато упрямое человеческое существование пульсирует здесь в каждом окошечке, каждом лучике света, но скоро погаснут и они. Отдыхайте, труженики!
И еще одна картина этого периода. И в ней самое главное — человек. Девушка «Рауза». Она еще очень молода. По существу, это полуребенок. Вот сидит она в легком национальном платье, обхватив крепкие загорелые колени, а кругом расстилается безграничная казахстанская степь, нежная, жесткая, поросшая стойкой полупустынной травой. Девушка невесела. Над ней довлеет что-то свое, сокровенное, а может, даже нераспознанное ею до самого конца. За спиной ее, над желто-зеленым простором далекие стога сена и замыкающая цепь гор. До них идти и не дойти, ехать и не доехать, хотя горы и кажутся совсем близкими. Девушка то ли ушла от людей, со своей невеселой думой, то ли ожидает кого-то. А он или запоздал, или вообще уже не придет. А может быть и то, что пришла она на условное место слишком рано, чтоб побыть одна, и вот сидит, грустит, думает. Что ж, без, этого, видно, уж и не прожить никому. Написал же молодой Вяземский об этих летах: «Счастливая пора, пора тоски сердечной!» И еще: «...сердце молодое / И жить торопится, и чувствовать спешит». Так как же назвать и эту картину Степанова иначе, чем «Элегия» или «Раздумье»? Как отсюда не перейти к космосу?
Он пришел к нему и пришел очень скоро. Вот пригласительный билет. Лето 1972 года. «Союз художников Казахстана приглашает Вас на выставку произведений заслуженного деятеля искусств Каз. ССР А. Степанова, посвященную 20-летию космической эры». Перечислены и экспонированные полотна. Их всего 25.
№ 2. «Перед стартом».
№ 3. «К старту готов».
№ 17. «Последние минуты перед стартом».
№ 7. «Старт».
№ 14. «В космосе».
№ 22. «В степях Казахстана».
Почему сюда, на выставку, посвященную космосу, попал этот 22 номер, я попытаюсь объяснить потом.
А вот первое по времени полотно, посвященное космической теме, на выставку почему-то не попало, но начинать надо именно с него.
Над полоской лесистых гор и такой же узкой полоской степи опустился гигантский желто-белесый треугольник. Как нож гильотины, он отрубил землю от неба. Он грандиозен, необычен и в то же время прозрачен. Через его янтарность явственно просвечивает тонкий серп луны. Все остальное тонет в стремительном потоке света — ведь он есть поток лучей. Несмотря на точность и четкость его очертаний, он никак не пирамидален. Его вершина загнута рогом. Именно в эту точку и несется с земли неведомый межпланетный снаряд. Холст, темпера, 50 × 59, 1960–1961 г. Название «К другим планетам». Таково мое восприятие этого полотна. Искусствовед подметит и другое:
«Полукружие, символизирующее Землю, резкий силуэт треугольника, разрезающий свет и темноту, легкий желтоватый свет отлетевшего снаряда — вот и все, что изображено. Но в том-то и дело, что картина дает толчок воображению, заставляет задумываться, она рождает ассоциации. Не случайно один из посетителей выставки, оказавшийся летчиком-испытателем, удивительно точно высказал свое ощущение: «...заставляет лететь — так вспорол пространство цветом» (Журнал «Искусство», № 2, 1966 г.).
Но интереснее всего, что художник изобразил только то, чему сам был свидетель в одну из ясных степных ночей осенью 1960 года. Вот его рассказ:
«Ехали ночью степью. Под светом фар возникали песчаные холмы, переходящие в длинные барханы, и все тут же снова пропадало в темноте. Ярко горели звезды. Через все небо белел Млечный Путь. Вспыхивала Полярная звезда. Сверкал Пояс Ориона. Степь спала, и вдруг произошло что-то невероятное. Испуганный шофер резко остановил свою машину. Степь осветилась фантастическим голубоватым светом, как бы прорезавшим все пространство земли и неба. Свет мерцал, вздрагивал, двигался, покачивался и вместе с ним покачивались земля, небо и мы с ними. Все странно меняло свои очертания. Это продолжалось не очень долго, и только красный огненный хвост еще жил в вечернем небе, застилая звезды» (Алексей Матвеевич Степанов. Каталог выставки «Советский художник». Г. Анисимов. Москва, 1974 г.). Рассказ этот кончается так: «Наутро о запуске спутника сообщили газеты».
Но мне кажется, что это облегченный конец — на самом деле художник так точно и не узнал, что же такое он увидел осенью 1960 года. Может, это была действительно первая космическая ракета, может, там, за горами, происходило атомное испытание, а вполне возможно, что это было ни то и ни другое, а нечто еще более необычайное, чему начало заложено было именно в эту осеннюю ночь.
«Космические рейсы стали нашими буднями. Кажется, что Байконур, с которого поднимаются ракеты, совсем недалеко от Алма-Аты, отделенный от нее только желтой задумчивой степью. Было что-то знаменательное в том, что древняя земля кочевников стала стартовой площадкой наших разведчиков Вселенной» (оттуда же).
Вот откуда возникла тема этого полотна. «В казахской степи» — т. е. в Байконуре.
Степь и небо!
Теснейшее, я бы даже сказал страдательное, соприкосновение этих стихий в Казахстане чувствуешь почти физически. Заберись подальше от людей, ляг на спину, и над тобой раскроется вся Вселенная. Нигде чувство космического так не близко, как в степи. А если так лежать очень долго и смотреть, не отрываясь, в небо, наступит такой момент, когда ты ощутишь легкое головокружение, а потом и ощущение полета. Земля вдруг плавно качнется под тобой, сдвинется с места и вы понесетесь в глубь Вселенной во все миллиардолетия светил, созвездий, туманностей. А ведь у каждой звезды есть свой свет и свой голос. Очевидно, нигде Вселенная не входит так глубоко в самую плоть и кровь человека, как в степи и океане. Поэтому первый посланник в космос оторвался от земли именно в степи, точнее, от Байконурского космодрома.
В 1921 году тогда еще начинающий поэт Н. С. Тихонов написал:
Строчки эти стали классическими, но я убежден, что сегодня Николай Семенович их не повторил бы или повторил бы, да не так. Ведь и тогда, в первые послереволюционные годы, разговор шел, конечно, не о самом небе, а о тех заоблачных высях, куда в начале новой эры скрылись от «исторически справедливого» гнева народа перепуганные ангелы, архангелы, херувимы и серафимы. Недаром же мы, пионеры, даже много позже, выходя из клубов, горланили:
«Небо небогато»! Как бы не так! Нет, мыслящему человеку поздней античности или раннего средневековья небо всегда представлялось не храмом, а мастерской. О богах он и не думал. Но шла вместе с астрономией наблюдательной и так называемая строжайшая «Небесная механика». Есть старинная гравюра. В годы моего детства ее любили все школьные курсы космографии. Человек в богатой одежде состоятельного горожанина или ученого дошел до какого-то последнего круга земли, опустился на четвереньки и, просунув голову через земную сферу, заглянул в открывшийся перед ним космос и увидел не ангелов и не пророков, а шестеренки, вороты, зубчатые колеса, огромный машинный парк Вселенной, полигон, заставленный чудовищными агрегатами и механизмами. Дальше воображение средневекового художника и стоящего над ним астронома или астролога не шло. Он ведь и за пределы Вселенной, в космос, мог перенести только то, что увидел где-нибудь в часовых мастерских Нюрнберга или шерстобитных мануфактурах Италии. Скрип пружин, вращение колес, свист приводных ремней — работа, работа, работа. Художники же знали и чувствовали другое: мы живем в последней оболочке Солнца и связаны с ним глубокой кровной связью. Отсюда и радуги зарниц, и игра лунного света, рассветы и сумерки, тот чудесный «пленэр», который был открыт импрессионистами в первой половине прошлого века. Кто из нас не помнит голубую или розовую солнечную пену с полотен Ван Гога, Марке или Ренуара? А в 60-е годы перед наземными наблюдателями открылась такая феерия мироздания, такие всплески цветов и оттенков, что перед ними померкли все дворцовые фейерверки и площадные гуляния куртуазных веков. «Мы увидели звездные моря, красные Галактики, голубые и оранжевые облака и орхидею золотисто-желтого и лилово-красного цвета — «Туманность Ориона». При изображении фантастического художнику и писателю предстоит решить следующую проблему: как при помощи существующих средств, форм и цветов он должен «изобразить» несуществующее, невероятное сделать вероятным. («Научная фантастика», 18 сб., стр. 196.) (Петер Куцка. «Не с марсиан началось. Фантастика в живописи».) Слово «изобразить» здесь взято в кавычки. С этими кавычками художник Степанов никак не согласился. Да и на небо он не полез. Небесная пиротехника его не привлекла. Он изображает не космос, а его завоевателей, не марсиан, а наших современников, которые пойдут на приступ Марса, поэтому цвета на его палитре самые обычные — холодные или теплые, красные или желтые, зеленые или синие, фиолетовые и голубые. Подчас они очень интенсивны, подчас нет. Иногда они светятся, бывают прозрачными и даже призрачными (вот как в картине «К другим планетам»), чаще же всего они просто честно выполняют свое назначение: донести до нас не только настроение, но и мысль художника. Вот поэтому я и люблю картины Степанова: они прежде всего честны со мной. Мастеру и не приходит в голову изображать орхидеи золотисто-желтого и лиловато-красного цвета, на созвездие Ориона он смотрит, как и я, с Земли. Художник Степанов работает в самых разнообразных жанрах. О его пейзажах я уже писал, его портреты стоят особого разговора. А посмотрите на его «Жеребят» и вы увидите, каким точным и острым взглядом, какой любовью ко всему живому, растущему обладает художник. Глубокая нежность к этим только что появившимся тварям, неизведавшим ничего, кроме бездумной радости жить, сквозит в каждом мазке его кисти. Да и все полотно живет, бьется, дышит в игре солнечных зайчиков, в светлом полуденном мареве. Любое определение можно приложить к художнику, кроме одного, сейчас достаточно модного, — фантаст. То есть вполне возможно, что для себя Алексей Матвеевич допускает существование инопланетян и посещение в прошлом пришельцами из другого мира и культур куда более совершенных, чем наша, все может быть, надо думать и искать. Но важнее, что все творчество Степанова направлено не от космоса к земле, а от земли к космосу. Он уверен, что для того, чтобы покорить небо, надо быть очень земным человеком. Вот поэтому его полотно, изображающее космонавта, и названо «Человек с планеты Земля». Это современник художника, молодой парень, один из тех, кого мы ежедневно, даже порой не замечая, встречаем на улицах, в автобусах, в вагонах метро.
Сквозь выгнутый плексиглас скафандра на нас глядит простецкое, слегка улыбающееся лицо. И все-таки это лицо рыцаря, и облачен он в рыцарские доспехи. Конечно, это не та металлическая броня, не то, нечто бряцающее и тяжелое, не железная одежда Амадиса Галльского, сошедшая с наковальни средневекового мастера, — это всего-навсего гибко схваченная облегающая тело эластичная ткань, она надежна и крепка, ей не страшны никакие силы космоса. Белый скафандр, белый шлем, перчатки, сапоги. Он стоит, спокойно опустив руки, на палубе какого-то межпланетного корабля, на той самой крайней точке мироздания, где уже не существует переходов, ни света, ни теней, а есть только острые, как нож, грани тьмы и света, дня и ночи, восхода и заката. Поэтому и вся Вселенная как бы разделилась четко на этой человеческой фигуре: одна половина находится уже в голубой зоне дня, другая почиет в лиловой черноте космической ночи. Подумать только — ангелы Птоломея две тысячи лет вращали хрустальные сферы, и сферы гудели, не останавливаясь ни на секунду. Все звучало, пело, грохотало и работало на тяжелом машинном ходу. И это было непререкаемо, как вечность. Да это и была вечность, неприступная и непреодолимая, но человек никак не хотел мириться ни с этой вечностью, ни с этой неприступностью. Недаром же на голых скалах Казахстана и Грузии еще жители неолитических пещер камнем выбивали карту созвездий. А мы ведь знаем, что наскальные изображения эти были не просто рисунком, а магией: нарисовать зверя на стене грота значило завладеть им — вот человек и захотел завладеть небом. И не случайно в ущелье Тангалы Казахстана до сих пор стоит солнцеликий человек с рукой, простертой ввысь.
Именно с этой древней казахской степи оторвался от Земли первый межпланетный снаряд, а в нем первый человек, переступивший порог земного тяготения.
Посмотрите на этого первого из первых на картине Степанова «Юрий Гагарин». Ясная полуулыбка, спокойный, пристальный взгляд и вообще молодость, ясность и простота — это первое, что приходит в голову при взгляде на его лицо. Таково, очевидно, и было лицо Алеши Поповича при выезде на богатырскую заставу. Вокруг Гагарина мерцание цветов, свечение каких-то цветовых туманов, неясные растекающиеся в этом мареве фигуры, то ли это воспоминания космонавта, то ли мысли художника, и только вверху, в продолговатом иллюминаторе небесного корабля четыре ясных точных цветораздела. Вверх — черная полоса дикого космоса, за ним голубая полоса атмосферы, и по ней пролегает снежно-белый след полета, а внизу скромная маленькая полоска зелени — наша родная Земля. Первый космонавт вернулся на Землю. Потому что, только любя Землю, можно идти на приступ неба. И рисовать Космос можно только с одной точки — с позиции Земли...
Вот так четырехлетний мальчуган шел в сказочную страну да наконец и дошел до неба.
Именно поэтому мне и хочется закончить очерки о казахстанских мастерах, которых я знал и любил, рассказом об этом мальчике — первом художнике-космисте Алексее Матвеевиче Степанове.
Заключение
Я написал об алма-атинских художниках. Пять художников — пять разных судеб. Ничего схожего в этих судьбах нет. И писали они по-разному, и думали, вероятно, несхоже, и, наверное, друг другу бы как художники не понравились. Я не знаю, как отзывался Теляковский об Иткинде или Кастеев о Теляковском. Вряд ли здесь было полное понимание. Уж слишком различные люди они были. Все это так, и от этого никуда не уйдешь. И все-таки каждый очерк, как я ни стремился избежать этого, мне приходилось заключать одними и теми же словами: это были все счастливые люди. Прошу поверить, что никакой натяжки тут нет. Это действительно было так. Они писали картины и радовались. Показывали картины друзьям и радовались. Экспонировали их на выставки и все время ходили взбудораженные, беспокойные, даже раздражительные, мало что понимали, когда к ним обращались, но все равно и это была радость. Радость признания, радость общения со зрителем, радость удачи: нарисовал, выставился! Жизнь всех троих моих современников не больно баловала и радовала — они ведь принадлежали к людям того поколения, которое на своих плечах выносило все тяготы истории и поэтому удачниками, в расхожем смысле этого слова, их никак не назовешь. Но разве быть талантливым само по себе не величайшая удача? Разве вообще может ли что-нибудь заменить художнику радость общения с сотнями и тысячами своих зрителей? Самое главное для художника — это почувствовать, что он не один или, хотя бы, что уж ему недолго быть одному, он дорвется, докажет свое, его увидят, поймут и примут.
Таким был дикий непризнанный гений С. Калмыков — он сидел в своей однокомнатной квартире и никого не впускал, а сам, когда работал, выбегал только на угол, чтобы купить хлеба и молока, — под старость он сделался вдруг вегетарианцем. Пил молоко и писал. День и ночь писал, и все не для современников, а для будущих поколений. Двадцать первый век ему был уже ни к чему, он работал для двадцать второго. Для этих отдаленнейших потомков и были написаны его грандиознейшие циклы, сотни листов и холстов — каждый «Лунный джаз», «Восстание», «Фабрика бумов». Он ничего никому не показал, может быть, просто не успел, но народ толпами стоял перед его картинами на его посмертной выставке в Национальной галерее Казахстана, и мне не хочется повторяться. Я упомянул его здесь только для того, чтобы сказать о великом бескорыстии художника. Все для других. Для себя только то, что требуется для денного пропитания. Таковы и те художники, которых я знал лично. Но эти работали для современников. Они знали, что такое признание. Они ценили похвалы превыше всего, потому что знали, что они ими заслужены. И еще одно — они верили в свое назначение, верили в себя и именно поэтому даже в самые горькие минуты были счастливцами, а не неудачниками.
Старая поговорка говорила, что в каждом городе обязательно есть свой гений и свой пророк. Город Верный был маленький, захолустный, незаметный городишко, такой, к которому даже железную дорогу не проводили, приходилось ездить на лошадях (прочтите «Мятеж» Фурманова), и все-таки в нем был великий архитектор Зенков, архитектор невероятных деревянных построек, который, может быть, впервые сумел в истории «одолеть разрушительные силы землетрясения». Он противопоставил стихии свой собственный инженерный расчет, плавную легкость конструкций, прочность и гибкость дерева, невиданные до сих пор воздушные зазоры в фундаменте. И здания стоят до сих пор. А рядом с ним жил другой замечательный человек — гимназический учитель рисования Хлудов. Без всяких изобразительных пособий, классов, средств он создавал в этом городе Верном художественную студию, и из нее вышли такие мастера, как художник Кастеев и художник Чуйков.
В каждом городе есть по крайней мере один гений, есть он, конечно, сейчас и в Алма-Ате, только мы не знаем его еще ни в лицо, ни по фамилии, и произведений своих он нам тоже еще не представил. Мы знаем даровитых, талантливых, способных, одаренных, но кто про кого из живущих посмеет произнести это страшное слово «гений»? Но гений-то, конечно, есть. Я даже думаю, что тем и хорошо жить на свете, что талантливых, способных и даже гениальных становится все больше и больше. Поэтому и жить с каждым годом становится все интереснее. Несмотря ни на что. Ни на что.
Вот этим бы мне и хотелось закончить свой рассказ о художниках.
Моя нестерпимая быль. Стихотворения
Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская никого взять меня на поруки, — моя жизнь будет находиться в этих стихах. Они навсегда останутся при тебе, как мое поминание. Вот когда ты на них взглянешь, ты снова и снова увидишь то самое главное, что было посвящено тебе. Земля может забрать себе лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой — он у тебя. А это моя лучшая часть. Поэтому ты утратишь лишь подонки жизни, добычу червей. Мой труп, подлую жертву разбойничьего ножа, слишком низкую, чтобы ее еще вспоминать. Единственно драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно с тобой.
74 сонет В. Шекспира (подстрочный перевод Ю. Домбровского)
- Не потому, что с нею мне светло,
- А потому, что с ней не надо света.
«Ласточка» — смирительная рубаха
Ф. Вийон
- Где ты, где ты, о прошлогодний снег?
Статьи, очерки, воспоминания
Книжные богатства Казахстана (в Государственной публичной библиотеке им. Пушкина)
Среди крупнейших книгохранилищ Союза Казахстанская публичная библиотека им. Пушкина в Алма-Ате занимает одно из первых мест. По далеко не полным сведениям, книжные фонды ее содержат свыше 612000 томов на 35 языках мира.
Но значение нашей библиотеки определяется не только количеством книг. Библиотека располагает редчайшими уникальными изданиями, иногда не имеющими себе равных в Союзе. В ее огромных хранилищах можно найти восточные рукописи восьмисотлетней давности. Ценнейшие фолианты XVI в., зарубежные издания русской вольной типографии в Лондоне, редчайшие прижизненные издания средневековых гуманистов, книги и брошюры, выпущенные Конвентом в период Великой французской революции, полные экземпляры старопечатных и современных книг.
К сожалению, научная обработка и использование этого огромного культурного богатства не находится на должной высоте. Лучше и плодотворнее всего работает отдел казахстаники. Он проделал большую работу по сбору, классификации и описанию материалов, относящихся к истории Средней Азии. Два документальных сборника по истории Казахстана, ряд экспедиций в отдаленные пункты республики, широко развернутые планы дальнейших научных и издательских трудов — показатель большой и упорной работы этого отдела.
А вот не менее богатый и не менее интересный иностранный отдел находится в полной заброшенности. Редчайшие книги XVI–XVII–XVIII веков покрываются пылью, бесплодно ожидая читателя. Ученая часть библиотеки в ряде случаев сама не знает, какими сокровищами она владеет. 40000 томов на 25 европейских языках обслуживаются одним человеком. Конечно, ни о какой научной работе при таких условиях разговаривать не приходится. А какими ценностями обладает этот забытый отдел, показывает даже самое поверхностное знакомство с его обширными книгохранилищами.
На одной из полок стоит экземпляр полного издания знаменитой французской энциклопедии, с пожелтевшего листа которой смотрит чуть полное улыбающееся лицо Дидро. Это — редактор и один из деятельнейших авторов энциклопедии. Ему и Д’Аламберу удалось привлечь к участию в издании все лучшие умы мира. Наряду с Руссо, авторами статей были Вольтер, Бюффон, Монтескье, Гельвеций. Молодая буржуазная Франция открыла со страниц энциклопедии бешеный огонь по самым непоколебимым устоям католической церкви и феодального государства. Ни церковь, ни государство не осталось в долгу. Закон ответил всевозможными ограничениями, конфискациями, преследованиями. Церковь авторитетно пообещала, в случае продолжения издания, сжечь на одном из костров вместе с энциклопедией и ее авторов. Причем это обещание и в то время не звучало праздной угрозой. Репрессии против энциклопедии усиливались с выходом каждого нового тома. Редакторам приходилось скрывать место издания очередных томов. Кончилось тем, что Д’Аламбер снял с себя обязанности редактора, издание готово было прекратиться, едва дойдя до половины. Однако Дидро был непоколебим. Пусть подкупленные наборщики отказываются набирать наиболее острые места, пусть перетрусившие издатели потихоньку от редактора переиначивали целые страницы — единственный редактор упорно работал над текстом последних томов. Через 29 лет после выхода первого тома издание было закончено. Всего с 1751 по 1780 — вышло 35 томов.
На столе лежит небольшая стопка книг, принесенных из особого книгохранилища. Открываю одну из них. С желтой страницы глядят наивные двуглавые чудовища, жирные амуры лезут вверх по книжной рамке, деревянные ангелы трубят, далеко отбросив назад пухлые лица. Это издание, датированное 1535 годом, — один из величайших памятников раннего гуманизма — «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Автор ее — лингвист, философ, блестящий знаток древних языков, писатель, достигший неподражаемой чистоты латинского языка. Первое издание «Похвалы глупости» вышло в Париже в 1509 году. Успех книги был настолько велик, что за промежуток в 27 лет она была переиздана еще сорок раз. Объект ее нападения — невежество и алчность католического духовенства. Это и сделало книгу популярной среди самых разных читателей. В этом отношении очень интересна внешность казахстанского экземпляра. Он весь исписан разными почерками. На первой странице неуклюжие знаки какой-то тайнописи, в середине на полях скоропись XVI века, на последней — четкие еврейские письмена. Сколько же различных людей по-разному читало и штудировало эту книгу!
Следующая книга написана по-латыни. Вот ее далеко не полное заглавие: «Книга автора Галилео Галилея, лиценциата Пизанской академии, экстраординарного математика, в которой содержится 7 диалогов о двух мирах Птоломея и Коперника с прибавлением об описании и движении земли».
На форзаце — гравюра: три астронома наблюдают восходящее солнце. Возле дряхлого Аристотеля и кряжистого Птоломея, похожего на кулачного бойца, гибкая и молодая фигура Коперника. Это знаменитая книга. Ей, положившей начало современной астрономии, посвящены толстейшие монографии на всех языках мира. Ее происхождение детально обследовано целыми поколениями историков. Книга Галилея вышла во Флоренции в феврале 1612 года, а в 1633 69-летний автор на коленях и в рубище отрекался в подвалах инквизиции от истин, изложенных в семи диалогах.
В библиотеке хранится экземпляр издания, выпущенный знаменитой голландской фирмой «Эльзевир» через два года после осуждения ее автора. Чтоб не погубить Галилея, издатель старательно оговаривается, что книга выпущена без ведома автора. Инквизиции пришлось сделать вид, что она верит в эту наивную оговорку.
С внешней стороны издание сделано с тем замечательным тактом, изяществом и простотой, которые делают имя Эльзевиров нарицательным. Глядя на чистый четкий шрифт книги, невольно веришь странной легенде о том, что типографский набор Эльзевиров был отлит из чистого серебра.
Следующая книга — одно из первых изданий «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. Этот экземпляр венецианского издания некогда принадлежал графу Строганову (если верить надписи на внутренней стороне переплета). Итальянский поэт Торквато Тассо — одна из самых гениальных и трагических фигур истории. Поэты всего мира, начиная с Гете, запечатлели его скорбную фигуру в ряде своих лучших произведений. Доведенный до сумасшествия двором Феррарского герцога, великий поэт был брошен в сумасшедший дом и провел там семь лет. Популярная народная легенда связывала историю его заключения с безнадежной любовью поэта к сестре герцога — прекрасной Элеоноре. Отношение Тассо к своей поэме очень похоже на отношение Гоголя к «Мертвым душам». Поэт долго держал под спудом рукопись, неоднократно пытаясь ее переделать в сторону католицизма. Он сушил, коверкал и черкал свое великое произведение, пока оно не было выпущено без его ведома, и вся Италия вдруг заговорила о Тассо как о великом поэте. Тогда, спеша и стыдясь своей славы, Тассо выпустил второе издание, искаженное до неузнаваемости, но на этот раз отвечающее всем правилам. Первое «пиратское» издание растащили по всей стране, разменяли на поговорки и пословицы, пронесли от моря до моря в виде законной и радостной песни, второе авторское издание стало только привеском к полному собранию сочинений великого поэта — материалом для комментариев и исследований.
Последняя книга, которой ограничилась наша беглая разведка, не отнесена администрацией к числу редких. Она скромно стоит на нижней полке, не привлекая внимания. Однако даже самый беглый поверхностный осмотр оказался достаточным, чтобы определить ее колоссальную, не поддающуюся пока учету, ценность. Это огромный фолиант по истории инквизиции, датированный 1635 годом. С редкой обстоятельностью, год за годом, рассказывает эта жуткая книга о пытках, казнях и религиозных гонениях. Неизвестный художник ее щедро иллюстрировал. Дыбы, костер, четвертование, виселица — вот тема этих мрачных, прекрасных гравюр.
Что это за книга, как она попала в Казахстан? Имеется ли где-нибудь хоть один экземпляр? На эти вопросы заведующий иностранным отделом т. Попятна никакого ответа дать не может. А между тем, есть основание думать, что книга является уникальной. О ней не упоминает даже такой обстоятельный исследователь инквизиции, как Льоренте, не упоминает в своей трехтомной истории инквизиции Генрих Ли, ничего не знает советский исследователь инквизиции профессор Лозанский. Имя Бритта, стоящее на титульном листе, ничего не говорит современному читателю. Книга еще ждет своего исследователя.
Книжные богатства нашей библиотеки велики. Без преувеличения можно сказать, что и в других отделах (рукописей, русских старопечатных изданий и др.) можно найти не менее ценные, интересные и редчайшие экземпляры.
К сожалению, Государственная публичная библиотека Казахстана, являющаяся одной из богатейших библиотек Союза, располагая книгами мировой ценности, — свое богатство знает плохо.
Книжные богатства библиотеки надо выявить и описать в ближайшие же месяцы. Надо привлечь к этой серьезной работе профессуру вузов, работников филиала Академии наук, аспирантуру и учащуюся массу пединститута, университета и других высших учебных заведений. По образцу крупнейших библиотек Союза надо устроить специальные читательские залы, списаться с библиотеками имени Ленина в Москве, имени Салтыкова в Ленинграде, и послать туда для определения снимки с тех экземпляров, истинная ценность которых не может быть определена на месте.
Библиотека Казахстана должна стать в ряды передовых библиотек Союза.
Кто же вы, Жозеф Кастанье?
Помнится, летом 1936 года работники Алма-Атинской публичной библиотеки показали мне одну интересную книгу. Она не была еще заинвентаризирована и внесена в каталог, а мне ее просто принесли и положили на стол. Я сам некоторое время работал в этой библиотеке и знал, откуда появляются такие книги.
В подвале много лет стояли огромные наглухо забитые ящики. Когда приходило время, их приносили наверх и вскрывали прямо топором, иначе не откроешь, — и вот на свет появлялись брошюрки, связки старых газет, кожаные фолианты, фотоальбомы выставок, просто альбомы для стихов с корабликом и скалами на обложке. А на этот раз мне показали по формату что-то подобное нашему «Алфавиту». Но это была «Мнемозина» — альманах, выпущенный В. Кюхельбекером в 1824 году. На первой странице стояло: «Из книг Кондратия Федоровича Рылеева». Надпись, безусловно, была подлинной, такие рыжие чернила из дубового орешка подделать невозможно. Да и кто бы стал подделывать — ведь десять лет эта книга провалялась на дне ящика. Все книги оттуда вынули, а вот ее как-то под досками не заметили. Притом эти книги дар...
— Да ну же, вы знаете его, на «ха», на «ха», географ какой-то. Ай, Боже мой, как же вы не помните: вы еще его сборник нам посылали, стойте, посмотрю. Ну да — Кастанье Иосиф Антонович — не знаете?
Нет, знаю, конечно, это имя мне приходилось встречать частенько. Писал Иосиф Антонович много, и хоть не скажешь, что уж больно хорошо, но ясно, просто, вразумительно. Был он археологом. Сам всюду ездил, перерисовывал, литографировал, и все это появлялось в толстенных томах «Трудов Оренбургского археологического общества». Совался он всюду, и приключения при этом с ним случались всяческие. Так, однажды в древнем подземелье под мечетью он наткнулся на тринадцать мумий. Они лежали одна подле другой под грудой истлевшего тряпья, а Кастанье и старик сторож стояли, согнувшись, чуть не на четвереньках и смотрели на них. У одного в руках была свеча, у другого кассеты (Кастанье и заполз сюда, чтобы проявить снимки).
Так вот, эта книга — третий том альманаха «Мнемозина» — сама видела и Кюхельбекера, и Рылеева. И еще одно: в книгу эту очень давно, может быть, в декабрьские дни, была спрятана какая-то бумага — вернее всего письмо или стихи. Сунули эту бумагу второпях, внезапно, даже не посыпав песком. На двух страницах ясно видны отпечатки слов и букв. Те же старинные рыжие чернила.
Я листал и вертел эту «Мнемозину», и передо мной вставало все, о чем здесь пишу, — Кюхельбекер, Рылеев и письмо — вероятно, это все-таки письмо, — засунутое второпях в первую попавшуюся под руки книгу, в тот миг, когда в дверь застучали. Не произошло ли это утром 26 декабря 1825 года, в день ареста? Тогда это письмо так и не дошло до своего адресата.
Таково было мое первое крупное столкновение с Кастанье. Через год я встретился с ним снова: проходил пушкинский юбилей, и в одной из витрин библиотеки (в эти дни она и получила наименование Пушкинской) появилось старинное издание книги Фенелона «Путешествие Телемака». Над ней ватман: «Книга из библиотеки А. С. Пушкина, забытая им в Уральске».
Уральск Пушкин проезжал во время поездок по пугачевским местам. Тогда он и мог забыть этот толстый крошечный томик. Книга, забытая Пушкиным в Уральске, — дар Кастанье. Один дар Кастанье — тот альманах — кажется, давно пропал, так цел ли хоть «Телемак»?
А потом, в 1938 году, я стал работать в Центральном музее Казахстана и столкнулся с Кастанье очень плотно, пожалуй, много плотнее, чем хотелось. Этот период моей жизни довольно полно и точно описан в моем романе «Хранитель древностей». О Кастанье там есть такие строчки: «Мне просто некуда было от него деваться, столько он набросал мне камней, и там Кастанье, и тут Кастанье, и везде один и тот же Иосиф Антонович Кастанье, «ученый секретарь Оренбургской архивной комиссии» (так он подписывался под своими статьями), «преподаватель французского языка в Оренбургской гимназии» (так в одной строке сообщил о нем Венгеров). Так я и не знаю, когда он родился, когда умер и даже какая цена всем его ученым трудам. Знаю только, что был он подвижен необычайно. Семиречью предан фанатично... Все идеи и образы мировой истории, осевшие золотом, мрамором и бронзой, этот человек хотел привлечь для того, чтоб они объяснили ему, что же такое каменные бабы его родных степей, — ничего из этого, конечно, не могло бы выйти... Но, как теперь сказали бы, краеведом Кастанье был первоклассным — внимательным, неутомимым, знающим, рьяным. Он был из тех, для кого история — действительно муза». Вот и все, что я знал тогда о Кастанье.
Прошло еще пять лет. Я ушел из музея. Наступила война. Зимой 1943 года в больнице я написал роман «Обезьяна приходит за своим черепом». Рукопись пролежала 16 лет и была издана только в 1959 году. Не знаю, каковы литературные достоинства этого произведения, но тогда это была весьма своевременная книга. Она как бы вся овеяна морозным дыханием той трудной военной зимы. Главная ее тема — человеческое первородство и борьба за гуманизм. Лежа на больничной койке, оторванный болезнью от всех событий века, я изнывал тогда от собственного бессилия, и еще и еще раз с полной ясностью понимал, сколько же зла в мир принесла проповедь беспартийности, нейтральности науки и идеологии. Ведь именно они — проповедники надклассового гуманизма, люди, «стоящие над схваткой», и открыли зеленую улицу фашизму. Вот все это я и пытался втолковать главному герою своего романа — человеку, мне глубоко симпатичному. Это эдакий безукоризненно честный буржуазный ученый — глава школы первобытной археологии и антропологии Леон Мезонье. Нарисовал я его довольно традиционно, но с любовью. В моем изображении это здорово растерявшийся, как будто бы даже слабый и способный к компромиссам человек, но ведь «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». И я показываю Мезонье именно булатом. К познаванию истины, тем не менее, он приходит очень поздно, перед самым своим героическим самоубийством, почти в ту минуту, когда в его двери стучатся гитлеровцы. Но так тогда я рисовал себе образ и судьбу Кастанье. Его смешная, трогательная, но, сознаюсь, почти полностью выдуманная мною фигура и была тем единственным материалом, который пошел на создание образа старого профессора.
А загадка дальнейшей судьбы Кастанье продолжала меня занимать все эти годы. Я знал о нем только то, что в 1912 году он переменил гимназию в Оренбурге на гимназию в Ташкенте и свои ученые труды печатал уже в этом городе. Опять пошли описания, заметки, путешествия, литографии. Последние его «Работы» и «Сообщения» относятся к концу 1917 года, ну а дальше? Книги молчали, словари молчали и абсолютное молчание хранили архивы.
В третий раз я вспомнил о Кастанье в 1961 году, когда начал работать над большим произведением о современности. Первая часть его под названием «Хранитель древности» опубликована в седьмом-восьмом номерах «Нового мира» за 1964 год. Но и тогда, в 1961–1963 годах, ничего нового о Кастанье мне узнать так и не удалось. В Ленинской библиотеке хранились все его работы — все это «Труды» и «Записки» на шершавой бумаге и в пестрых афишных обложках, но не было и одного слова о нем. Что было делать? Я отчаялся и написал процитированное выше вот это самое: «Я не знаю...» Это не особенно достойно, но по крайней мере хоть добросовестно. Роман вышел, разошелся, появился за рубежом, и вот тогда в редакцию поступило читательское письмо, которое требовало немедленного ответа. А с виду это было очень вежливое письмо. Автор вежливо сообщал редакции, что писатель Юрий Домбровский валяет дурака, что он делает вид, будто не знает, какими эпитетами честит этого Кастанье Бруно Ясенский в своем романе «Человек меняет кожу». Вот такими: «Агент «Интеллидженс Сервис», активный участник контрреволюционной военной организации, автор книги «Басмачи», вышедшей за рубежом. «Правда, продолжал автор письма, и сам Бруно Ясенский был потом репрессирован как агент этого самого «Интеллидженс Сервиса», но коль скоро он реабилитирован, то значит...»
Я ничего не мог поделать с этой логикой — и прежде всего потому, что и в самом деле был в чем-то виноват: я же искал сведения о Кастанье во всей научной, политической, библиографической литературе века, но вот в беллетристику тридцатых годов заглянуть просто не догадался. И все-таки я не сомневался, что Ясенский что-то напутал. Отыскиваю его роман, нахожу соответствующую страницу. Да, все правильно. Помещена даже довольно обширная выписка из книги «Басмачи». Читаю ее и вижу, что произошла какая-то невероятная ошибка, что-то просто сместилось в сознании Бруно Ясенского. Кастанье с исключительной ясностью разоблачает замыслы английских колонизаторов, показывает, как они хотели не только задушить революционный Восток руками уголовников, феодалов и реакционеров, но и превратить его в свою колонию. С прямотой и точностью ученого-историка он все ставит на свое место. Не остается ни тени романтической дымки. Все ясно и четко. Все куплено и обусловлено. За все платят кровью и золотом. Судите сами:
«Переговоры, в которых приняло участие английское правительство, происходили в сентябре 1918 года. Они были основаны на следующих обстоятельствах:
1. Басмаческие отряды поступают на службу антибольшевистских организаций.
2. Организации обязаны снабжать басмачество провиантом.
3. Представители английского правительства обязаны снабжать антибольшевистские организации деньгами, оружием и провиантом.
Союз был заключен, связь была налажена, как с басмачеством, так и с мистером Эрестоном, английским консулом в Кашгаре.
Такого рода связи были налажены через посыльных агентов и с белогвардейскими армиями в Сибири и Оренбурге».
Вот и все! Кто платит, тот и заказывает музыку! В трех этих железных параграфах четко и ясно определена антинародная сущность басмачества и связь его с английским империализмом.
Тут надо вспомнить и другое: именно в это время и начался диалог между Советской Россией и Антантой. Антанта требовала с советского народа царские долги. А мы подробно, в цифрах и наименованиях, исчисляли ее долги: интервенция на Дальнем Востоке, десант на Севере, разбойничество в горах и пустынях Средней Азии — сожженные города, убитые люди, кровь, столько-то миллионов гектаров пожара и разрухи, столько-то золота. Можно же себе представить, как кололи глаза антантовской клике параграфы Кастанье.
Но все это, конечно, только общие соображения и рассуждения. Пока передо мной не ляжет на стол книга Кастанье, я ничего не имею права утверждать. И вот начинаются поиски. Историю их описывать не буду, скажу только, что крови она мне перепортила изрядно. Ни в одном из столичных книгохранилищ книги Кастанье не оказалось. Пришлось обратиться к зарубежным друзьям. И вот она лежит передо мной. Крошечная белая книжка, формата «Библиотечки “Огонька”». Париж, 1925 год. Книга написана очень обстоятельно: первая глава — история Средней Азии, вторая — история мусульманства, затем хроника революционных событий в этом крае и цитаты, цитаты. Цитаты из советских газет, из «Известий» и «Правды», цитаты из журнала «Новый Восток». На тридцати страницах я насчитал 12 цитат из «Правды», 8 — из «Известий», 6 — из «Нового Востока» и перестал считать дальше. И еще одна глава — большое письмо Нариманова. И вот конец. Слушайте:
«Таково собрание фактов, характеризующих политическую и социальную историю басмачества с октября 1917 года по октябрь 1924 года. Ныне в Центральной Азии на месте Туркестанского края, Бухары, Хорезма возникли новые советские государства: Узбекская республика, Туркменская республика; автономные республики — Таджикская, Киргизская, Кара-Калпакская. Центральная Азия, истерзанная войнами, междоусобицами и прочими несчастьями, наконец, обрела свободу, покой и счастье». И далее идут строки о суверенных правах молодых республик, об объявлении национальных языков государственными, о развитии культуры и свободы под водительством Советской власти.
Ну что ж, вы меня не обманули, дорогой Иосиф Антонович — Жозеф Кастанье, как вы подписали эту книгу. Вы остались верны своей второй родине. Да простит судьба и история тех, кто по какому-то злому навету и наслышке окрестили вас предателем.
Я жму вам руку, дорогой коллега, и надеюсь, что мне еще предстоит много, много о вас услышать.
Больше чем двадцать лет тому назад вы поселились в моем воображении как профессор Леон Мезонье — лицо выдуманное и, наверное, не особенно правдоподобное — продолжайте же теперь жить под своим настоящим именем как секретарь Ташкентского и Оренбургского общества любителей археологии, и пусть ничто плохое, случайное, наносное, невежественное не коснется вашей памяти.
Потому что, говоря откровенно, надеяться на такое великое чудо, что вы еще живы, я никак не могу.
Цыганы шумною толпой...
В конце и начале два личных воспоминания. Вот первое. Мне пять лет. Мы под вечер с отцом стоим на пригорке, под нами широкая каменистая дорога — шлях, как его называют тут. Он идет по степи, и вокруг него сухие бурые травы, безлюдье, зной и на много верст пустое выгорелое небо. Так было всегда. Но сегодня по шляху этому движется и гремит что-то до крайности невероятное — такое, чего я никогда не видел: плывут узкие крытые фургоны с верхом из непробиваемого дождем, как жесть, серого брезента; телеги с ситцевыми навесами, и на блекло-розовых ситцах этих цветут невероятные мануфактурные розы — по полпуда в каждом кочане; затем телеги без навесов, но и с них стекают те же розы, венки, ленты, целые связки, ливни их. Потом показывается крытая бричка совсем барского вида, с лаковыми крыльями, фонарями, рессорами. Но лак уж растрескался, фонари побиты, окно в бричке поднято и видна покачивающаяся сизая молчаливая борода да тусклая металлическая серьга сбоку. По сторонам всего этого ступают люди — сначала высокие, черные, загорелые мужчины в картузах, блестящих сапогах и красных рубахах под пояс. В руках кнуты. За мужчинами идут, раскачиваясь, покуривая, сплевывая и переговариваясь, женщины. Платья у них не простые, а тоже невероятные: широкие, вольные, облегающие бедра, собранные в бесчисленные складки, каскады цветастой, то нежно-розовой, то просто багровой материи. Заключают все это девушки — верткие, быстрые, глазастые, как молодые козочки. Они весело идут, размахивая руками, за ушами у них по цветку, на голых плечах косынки, а на шеях мониста, стеклярус, бусы, монеты, — и все это светится, звенит, горит, перемаргивается. Ребятишек что-то нету, наверное, им запретили высовываться из повозок, чтоб не смущать народ. Я ведь знаю сказку, как такие ребятишки Змея Горыныча напугали до смерти.
— Ишь ты, — говорит отец задумчиво, — как они в этот год рано собрались. Это они на Барбашину поляну, пожалуй, едут. Вот тебе императорский указ.
И тут сзади появляется гимназист в очках. Я часто его вижу у нас, он прикатывает к отцу на велосипеде за брошюрами и книжками «Русского богатства». Это серьезный, стриженный под ежик мужчина лет четырнадцати. Он почти никогда не улыбается, только чуть склабится, когда склоняется над рукой матери или бабушки. Со мной он почти не разговаривает, а когда все-таки говорит, то называет меня с суровой вежливостью «вы» и, прощаясь, сует жесткую и прямую, как дощечка, руку. Вообще всеми нами, кроме отца, он пренебрегает почтительно, но непреклонно. За это его у нас уважают и говорят, что из него выйдет толк. В общем-то, конечно, это мне не чета и не пара. Он всегда знает, что сказать. Вот и сейчас он говорит:
— Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют.
— Да, — отвечает отец озабоченно. — Да-а! А тут как раз черносотенец поселился!
Это не была, конечно, Бессарабия, это было среднее течение Волги, и слово-то это — Бессарабия — я слышу, кажется, впервые. Но именно оно своей непонятностью и объяснило мне все. Я вдруг понял, что это цыгане, что они кочуют, что завтра только и будет разговоров о том, что около нас появился табор.
А повозки все едут, едут, палит вечереющее солнце, на холме около нас уже собралось порядком людей. И вдруг все вскрикнули: это вознеслось и загорелось над степью, и шляхом, и табором большое, светлое солнце. Оно появилось, повернулось, собрало жгучий пучок белых лучей, ослепило всех и сразу погасло. Потом я понял: это была фирменная вывеска табора — «лудить котлы, кастрюли, тазы медные». Люди на холмах засмеялись и заговорили. «Ну, бабы, держитесь», — сказал кто-то.
Больше такого табора во всей его классической законченности и красе мне видеть уже не пришлось. Но вспоминать его приходилось по разным поводам частенько.
Не так давно мне пришлось, например, видеть такую скульптуру: лошади, женщины, фургоны, мужчины в сапогах и с кнутами; крашеная глина, называется: «Первые поселенцы в степях Техаса». Потом как-то случайно я забрел в кино, а там показывали что-то дикое, многолюдное и многолошадное: пели, кричали, носились на конях по степи. Называлось: Дикий Запад.
Затем, совсем недавно, мне пришлось осматривать большую, в натуральную величину, экспозицию в одном из наших этнографических музеев. И там были те же крытые повозки с огромными колесами, люди в сапогах и с кнутами, лошади и степь.
И глядя на все это — скульптуру, панораму, кино, — я всегда вспоминал тот вечер: пустынный каменистый шлях и лето какого-то фантастически далекого, недосягаемого года — не то 13-го, не то 14-го. Война тогда еще не была объявлена.
Однако самое главное в этом воспоминании все-таки не повозки. Главное вот что. На другой день отец позвал меня в кабинет. Я очень хорошо помню, что дело было опять под вечер. Мать уехала в город к портнихе, бабушка не то спала, не то ушла к соседям, отсутствовал и тот строгий молодой человек в очках, — в общем, хозяевами в доме были мы с отцом. Я влетел в кабинет шумно, радостно и вдруг осекся: на отцовском кресле за письменным столом сидел тот самый старик с сизой бородой и серьгой в ухе. Перед ним стоял стакан чая, но он что-то не трогал его, а, положив руки на подлокотники, в упор смотрел на меня. Я до сих пор помню этот взгляд — серьезный и ласковый, кудри и желтое неподвижное лицо. Это очень большая редкость у цыган — неподвижное лицо. Но и это я понял много-много спустя. А сейчас я, просто ошалев, стоял и смотрел. Таких гостей у нас еще никогда не водилось.
— Ну вот, — сказал отец, — вот и мой наследник.
Лицо старого цыгана (я знал хорошо такие лики, мать занималась рисованием, и у нее всегда висело на стене что-нибудь подобное) как будто никак и не изменилось. Только что-то с глазами произошло, они стали еще ближе и ласковее. Но это была суровая, степная ласка, совсем не то, что изливалось из глаз моей матери или бабушки, когда я был хорошим мальчиком и все меня за это любили. Цыган посмотрел и медленно сказал:
— Наша кровь, наша, сразу видно: курчавый, черный, быстрый, — он слегка повернулся к отцу, — тоже, наверное, адвокатом будет.
Так впервые я услышал о своем происхождении. То есть то, что я цыган, правнук цыгана, сосланного в 1863 году вместе с польскими повстанцами куда-то в места не столь отдаленные, что прадед был ремонтером, то есть поставлял лошадей польским повстанцам, что за это его судили и, лишив всех прав состояния, сослали под Иркутск и приписали к польской колонии. Отсюда и та пышная фамилия, которой я сейчас владею. Все это я узнал позже. То не детские истины, — сказали мне взрослые, когда я стал приставать, — вырастешь — узнаешь. Я вырос, вот уже и состарился, но узнал едва ли намного больше, чем рассказываю тут. В ту пору людям стало уже не до истории. Пришла сначала империалистическая война, потом гражданская, затем разруха, голод, — и людям, верно, стало не до истории. Тогда же слова старика прошли мимо ушей, никаким краешком не затронув мое сознание. Я вспомнил об этом разговоре только года через два, когда пошел в школу и мои товарищи вдруг, ни с того ни с сего, что-то узнав, стали носиться за мной по двору с криками: «Цыган, цыган, позолоти ручку». И еще: «Цыган-мыган, кошку дрыгал, шкуру драл, в погреб клал...» И я почему-то должен был обижаться за это. Я и действительно обижался, но только не за цыган-мыган, конечно, а за кошку, — как это шкуру драл? Ведь кошек-то мы обожали больше всего.
Но и это не главное в моем рассказе. Главное вот что. Отец сказал: «Вот смотри — этот дедушка (Волохов, Болышев, Волошин, не помню сейчас точно) видел Пушкина». И так как я ничего не понял и даже не догадался сразу ойкнуть, очень строго добавил:
— Пушкин говорил с ним, как с тобой. Подойди сюда; встань. Вот как ты стоишь, стоял и Пушкин, понял?
Пришлось кивнуть головой, хотя я ровно ничего не понял. Пушкин для меня не был живым лицом. Пушкин для меня был: «Птичка божия не знает ни заботы ни труда». Пушкиным для меня были еще раскрашенные картинки Васнецова к «Песни о вещем Олеге». Тот бронзовый курчавый божок, что стоял у отца на столе, и, наконец, то мертвое, страшное лицо с закрытыми глазами, которое я видел у одной маминой знакомой, тоже художницы. Все это был Пушкин. Так как же этот дед с серьгой в ухе мог видеть Пушкина? Что же он такое тогда видел?
Все мы трое молчали. Цыган думал о чем-то своем. Видно было, что говорить ему не хочется, но отец смотрел на него, и он сказал:
— Хороший был господин, добрый, в простых сапогах ходил, песни пел, музыку любил. Никогда никого не обидел. — Он помолчал, подумал и вдруг добавил как-то уж по-другому: — Смеялся!
— Вы расскажите, расскажите ему, — забеспокоился отец. — Он всю жизнь помнить будет. Вы говорили, Пушкин Стешу хотел выкупить, большие деньги сулил, да?
Отец почти молил старого цыгана. Но тот ничего не стал вспоминать. Он сразу как-то устал и поник.
— Стешу хотел выкупить, — повторил он утомленно и как бы машинально, — песни любил. Всякие: русские, цыганские, молдаванские — все любил. Смеялся много.
Он потухал с каждым словом, уходил в себя, и больше я от него ничего так и не услышал.
Рассказал ли он что-нибудь отцу о Пушкине сверх этого, я так и не знаю, вернее, не помню. Возможно, что и рассказал. Отец был адвокат, и ему удалось вырвать из тюрьмы двух молодых цыган, обвинявшихся в каком-то пьяном убийстве. Тогда они и познакомились. Не знаю даже и то — говорил ли цыган правду и точно ли он видел Пушкина. По расчетам, пожалуй, что и нет. Старику не могло быть больше 80 лет, значит, Пушкина он мог встретить году в 1834, а Пушкин был в то время уже по горло во врагах и долгах, был женат, так на что ему была Стеша? Да и кто такая эта Стеша? Пушкинисты ее не знают.
Рассказ Татьяны Дмитриевны — старой знаменитой таборной цыганки, у ног которой побывала почти вся пушкинская плеяда, — свидетельствует об этом очень ясно.
Но вот что я помню до сих пор. Имя Пушкина и вот это «смеялся» прозвучало в устах старого человека совсем по-особому — близко-близко. Значит, какие-то рассказы о подобных встречах он безусловно слышал и помнил, ибо — и этим и кончается мое вступление — с именем Пушкина в русской литературе и начинается цыганская тема — совершенно новая, нигде в мире не виданная и ни на что больше не похожая.
В 35-м году был опубликован толстый том неизданных бумаг Пушкина — пачка выписок, пословиц, цитат, грамматических упражнений. Всего около тысячи бумажных лоскутков на 18 языках мира. Среди этой груды оказалось два отрывка по нескольку строчек. Специалисты установили, что это начало перевода из новеллы Сервантеса «Цыганочка» (с испанского на французский). Что ж, подобных переводов у Пушкина множество. Но, вдумываясь много лет назад в эти несколько строчек, я вдруг понял, что это не просто еще один из переводческих экзерсисов великого поэта, не рядовое лингвистическое упражнение, а след — может быть, последний — пристального внимания к теме, которую очень приблизительно можно, пожалуй, изложить так: если человек, отрезав себя от общества, обрел тем самым неограниченную внутреннюю и моральную свободу, то какие же нравственные нормы все-таки остаются для него обязательными? И что это значит — нет человека свободнее цыгана? Свободен ли он также от велений совести? Ну, одним словом, живут ли «мучительные сны» «и под издранными шатрами»? Пушкину обязательно нужно было решить этот вопрос для себя, ибо жить ему становилось все труднее и труднее. До этого (да и после) цыганская тема в русской поэзии рассматривалась как тема самоосвобождения от общества, от его тягот и забот, от раздумий о завтрашнем дне, — словом, как свобода чувствовать, петь, творить, веселиться и не верить в ад. Но и тогда в его количество почти неограниченных цыганских свобод, в разгул этот никогда не входила свобода от морали и от обязательного знания добра и зла. Это уже знал молодой Языков, поэт буйный, вакхический, клокочущий через край, тот самый, чей первый сборник стихов молодой Пушкин предлагал назвать «Хмель». Так вот этот Языков любил цыган отнюдь не только за хмель.
Это обращение к цыганке, к той самой знаменитой Татьяне Дмитриевне, о которой я уже мельком упомянул.
Моя желанная, моя дорогая, мой лучший сон, поэзия моего житья — ни в одной литературе никто так еще не писал о цыганах. А ведь Языков — теперь мы это знаем достоверно — дальше ручки этой цыганки допущен не был. Она и любила его куда меньше, чем Пушкина.
Но это стихи, в них все, конечно, возможно; а вот отрывок из письма к тому же Языкову:
«Недели две тому назад я, наконец, в первый раз слышал... тот хор цыган, в котором примадонствует Татьяна Дмитриевна, и признаюсь, что мало слыхал подобного! Едва ли... есть русский, который бы мог равнодушно их слышать. Есть что-то такое в их пении, что иностранцу должно быть непонятно и потому не понравится: но, может быть, тем оно лучше» (10 января 1833 года).
Это писал видный деятель пушкинского времени П. Киреевский. Пока я хочу отметить только это.
Мы говорили о начатом Пушкиным переводе «Цыганочки». Пушкин знал и почитал Сервантеса. Знал он его и в то время, когда задумывал, вынашивал и писал своих «Цыган». И может быть, два этих шедевра литературы даже равновелики по своим художественным достоинствам, и с этим, в конце концов, можно согласиться.
Но вот с чего начинается «Цыганочка» Сервантеса.
«Похоже на то, что цыгане и цыганки родились на свет только для того, чтобы быть ворами: от воров они родятся, среди воров вырастают, воровскому ремеслу обучаются и под конец выходят опытными, на все ноги подкованными ворами, так что влечение к воровству и самые кражи суть как бы неотделимые от них признаки, исчезающие разве только со смертью».
А вот из проекта предисловия Пушкина к «Цыганам».
«В Молдавии цыгане составляют большую часть народонаселения... Они отличаются перед прочими большей нравственной чистотой. Они не промышляют ни кражей, ни обманом... Они так же дики, так же любят музыку и занимаются теми же грубыми ремеслами».
Такова исходная мораль, а следствия из нее такие.
Сервантес:
«Старый цыган... произнес...
— Мы не ходим в суд просить о наказании — сами мы судьи и палачи жен и любовниц наших; мы с такой же легкостью убиваем их и хороним в горах и пустынях, как если бы то были дикие звери».
Пушкин:
То есть человек должен быть добр, если же он зол — то и смелость в нем порок, а не достоинство.
У той же Татьяны Дмитриевны сохранился и такой рассказ о Пушкине.
Пушкин и его друг Нащокин навестили Таню. Это было накануне самой женитьбы Пушкина.
— «Спой мне, — говорит, — Таня, что-нибудь на счастье; слышала, может быть, я женюсь?»
— «Как не слыхать, — говорю, — дай вам Бог, Александр Сергеевич!»
— «Ну, спой мне, спой!..»
Запела я Пушкину песню, она хоть и подблюдною считается (то есть свадебной. — Ю. Д.), а только не годится было мне ее теперича петь, потому она будто, сказывают, не к добру:
Пою я эту песню, а самой-то грустнехонько... Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за голову схватился, как ребеночек плачет... Кинулся к нему Павел Воинович (Нащокин. — Ю. Д.): «Что с тобой, что с тобой, Пушкин?» — «Ах, — говорит, — эта ее песня все мне внутрь перевернула».
«Месяц, а может и больше, после его свадьбы, пошла я как-то утром к Иверской (одна из самых высокочтимых икон на Руси. — Ю. Д.)... Гляжу, богатейшая карета, новенькая четвернею едет мне навстречу. Я было свернула в сторону, только слышу, громко кто-то мне из кареты кричит: «Радость моя, Таня, здорово!» Обернулась я, а это Пушкин, окно спустил, высунулся в него сам и оттуда мне ручкой поцелуй посылает. А подле него красавица писаная жена сидит... Глядит на меня, улыбается».
Пушкину не повезло в судьбе, не повезло в службах, не повезло в личной жизни, не больно везло ему и в любви (если только слово это понимать не слишком просто и распространительно). Но вот в друзьях ему везло всегда: были друзья, проведшие с ним рядом всю его недолгую и горькую жизнь, а потом стоявшие у его гроба. Были и такие, которые вдруг возникали, озаряли его мгновенным светом или лучиком тепла, а потом исчезали, и уже навсегда. И даже не друзья были, вероятно, эти добрые люди, как бы широко ни толковать это слово, а так — впечатления, встречи, рукопожатия. Но жизнь без таких встреч и впечатлений бывает настолько неполна, так окрашена только в свои основные цвета, что вдруг, обернувшись назад, на свою вполне удавшуюся жизнь, старый человек удивленно говорит жене: «А знаешь, я ведь по существу в жизни видел очень мало радостей».
Так вот: в чем, в чем, а в этом Пушкин был счастлив. Эти радости у него были. И одна из них, конечно, и есть Татьяна Дмитриевна, воспетая Языковым (он посвятил ей целый цикл). А другая — та неведомая нам Мариула, с которой Пушкин шатался по молдавским степям и без которой — кто знает? — может быть, и не было бы у нас «Цыган».
А если не было бы «Цыган», то, безусловно, не было бы и «Кармен», а может быть, и ряда других крупнейших шедевров мировой литературы произведений Толстого, Куприна, Лескова и Горького.
Тема эта — «цыгане в русской литературе» — огромная, неразрешимая в небольшой статье. Это тема о внутренней свободе и морали. Посмотреть на нее мы можем только мельком, сбоку. У Лескова эта тема воплотилась в образе Грушеньки («Очарованный странник»), у Толстого в Машеньке («Живой труп»), у Куприна в замечательной полесской цыганочке Олесе (повесть того же названия).
Я не знаю, насколько в странах английского языка, в США в частности, известна гениальная поэма Лескова. Я пишу — поэма потому, что, право, не знаю, как иначе определить жанр этой великолепной вещи. Повестью, во всяком случае, ее никак не назовешь. Для меня это одно из самых совершенных и оригинальных произведений мировой литературы. Оно удивительно прежде всего своим психологическим решением и рисунком. В необычайности, почти фантасмагоричности этой пьесы нет ничего потустороннего, неправдоподобного, во всяком случае, лежащего вне сознания того необычайного человека, который рассказывает про свою жизнь. Правда, мир, в котором он движется, не совсем тот, в котором пребывает его случайный собеседник, условный автор повести (а значит, и мы, читатели). Сознание странника (ведь он же очарованный!) переконструировало реальность и создало из нее свой мир — неповторимый, насыщенный чувствами, запахами, звуками, предчувствиями и вещими снами. Но, в общем-то, и этот вновь созданный мир находится где-то рядом, возле локтя, и отличается он от нашего только большей красочностью, одухотворенностью, чуткостью, теми голосами, которые его пронизывают. Но ведь и это случается! И Жанна д’Арк слышала голоса, и Макбет видел ведьм, и о чуде в Фатиме существует целая литература. Так вот центром этого очарованного мира является цыганка Грушенька. Ее красота, пластичность, напевность не имеют ничего плотского, физиологически заземленного. Это не реальная женщина, это царевна Лебедь из сказки Пушкина. Но ведь иной она и не могла казаться человеку, которого автор назвал «очарованным». Но это история Грушеньки, ее любовь, разлука с любимым, его измена, ее жгучая ревность, страдания неразделенной любви — все это изложено не только совершенно реально, но так, что видишь: это говорит, любит, горит, страдает цыганка. И вот конец этого страдания. Связав страшной клятвой своего названого брата («спасением души»), Грушенька требует от него: «...Стань поскорее душе моей за спасителя; моих... больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его и ее порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат; ударь меня раз ножом против сердца.
Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает... Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...
«Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».
Я весь задрожал, и велел ей молиться...»
...Душа лесковской героини вселяется в тело цыганки Машеньки из посмертной пьесы Толстого «Живой труп». Это тоже бесконечно любящее, преданное женское существо. Каждая сцена, где она появляется, как бы наполнена излучением ее личности, эманацией ее доброты, простоты, самоотверженности и постоянства (к слову, все цыганки в русской литературе замечательно, я бы сказал смертельно, постоянны и верны). Но на Грушеньку она все-таки не похожа. Не надо забывать, что она ангел-хранитель уже не «очарованного странника», а «живого трупа» — пьяного, развинченного, вконец запутавшегося человека. Поэтому и пахнет от нее не степью, а номерами.
Здесь у Толстого нет ни грана вымысла, все жестко, четко, необходимо, безысходно... Обречен Федя Протасов, человек необычайного обаяния и доброты, обречена влюбленная в него Машенька. (Вот про кого Протасов с полным правом мог бы сказать: «Она меня за муки полюбила». В таком виде эти слова Отелло существуют только в старинном переводе поэта-шестидесятника П. Вейнберга, и шекспировскую мысль передают не очень точно, но на русском языке вот уже почти сто лет они повторяются как пословица.) Обречена — учительским словом автора — судебная машина, которая их перемалывает, а заодно и тот строй, который мог придумать эдакое. Выход один: выстрел в сердце между судебными заседаниями. Но над всем этим ужасом судебных канцелярий, над пьяным чадом рублевых номеров, над подпольными шантажистами и модными адвокатами, над ложью общества, суда, права церковного и морального на недосягаемой высоте стоит и сияет светлая фигура Машеньки. Это именно тот гений чистой красоты, то самое пробуждение души, о котором когда-то писал и мечтал Пушкин. Она и есть катарсис, необходимый зрителям. Без образа этой чистой любви созерцание кабаков, светских гостиных, судебных коридоров было бы совершенно нестерпимо.
Толстой никогда не боялся нестерпимого: нет ни следа уступки человеку и человечеству в его гениальном «де профундис» — «Смерть Ивана Ильича». Это действительная гибель всего мира. Нет ни смягчения, ни уступки в трагической «Крейцеровой сонате». Это действительно не только осуждение, но это и смерть земной любви. Но в «Живом трупе» Толстой не нашел в себе всех слов осуждения, он как бы в недоумении остановился перед этой цыганкой. И не как перед носительницей любви всечеловеческой и абстрактной, а как перед «прикованной к трактирной стойке» женщиной грешной, и несчастной, и бесконечно прекрасной.
«Он... намеревался проклясть, но бог поэзии запретил ему и велел благословить...» — написал как-то Толстой о Чехове и его рассказе «Душечка». Думал ли он когда-нибудь этими словами о себе самом? Вспоминал ли о той неизвестной праведнице и грешнице, которую не сумел осудить даже в конце своей беспощадной учительской старости? Кто же это знает? Биографы молчат, и Машенька пока для нас остается только Машенькой, а никак не фактом из жизни ее великого творца.
Последнее из великих произведений этого рода — «Олеся» Куприна. Недавно эта вещь стала нам известна по фильму «Колдунья». Участие Марины Влади создало этой картине всемирный успех. А жаль! С Куприным так не шутят. Сценарист и режиссер перетащили действие купринской повести в одну из скандинавских стран. Лес они оставили, но болото придумали сами, ввели кричащих филинов и старую ведьму, а в противовес всему этому создали и вознесли нечто нереальное, воздушное, похожее на царицу Меб из знаменитого монолога Меркуцио. И пропало все! Все как есть! Кроме, может быть, обаятельной актрисы и ее изумляющей прически. Иначе и быть не могло. Полесская цыганка Олеся возможна только в России. Даже больше того, автор повстречал ее в дремучем лесном краю на границе империи, и поэтому ни под Саратовом, ни в Москве увидеть ее не можно. И это не столичная штучка, трактирное диво вроде Татьяны Дмитриевны, а неприкасаемое, как индийский пария, существо. Ее, конечно, боятся (нашлет еще порчу или у коровы молоко отнимет!); но кроме страха она вызывает у некоторых самое настоящее и почти физическое омерзение: она не только ведьма, чертовка, но еще и погань, и ни в одесских лиманах, ни под Саратовом она невозможна. И погань эта трепещет перед самым обыкновенным красноносым приставом, который властен ее и в землю загнать, и с кашей съесть. При всем этом она еще и неграмотна! Так куда же ей до гамсуновских мистических героинь. Да и любовник ее — незадачливый русский барич или чиновник — вовсе не лейтенант Глан!
А между тем Олеся по-настоящему прекрасна. У нее все свое, все неповторимо — и лесное обаяние, и невозмутимость души, и детская ясность и трезвость сознания, и та сила, которая струится на всех, кто с ней встретится. Она умеет заговаривать кровь, передавать свои веления на расстоянии, велит — и вдруг человек поскользнется и упадет на ровном месте; захочет — и за много, много верст он внезапно задрожит от страха и выскочит из пустой комнаты.
Сейчас всеми этими штуками занимается специальный отдел психологии. Но в те годы и в тех местах этот дар, конечно, был окружен такой непроницаемой тайной, так погружен в мир потустороннего, что цыганка, владеющая им, и вправду должна была казаться дружком черту или любовницей «самого его». Так вот: ни на что подобное Куприн не пошел. У него нет ни филинов, ни смертоносных засасывающих топей, ни цыганских чар. Перед настоящей любовью дар Олеси — ничто. Да и бабушка ее тут ничем не может помочь, потому что она совсем не ведьма, а обыкновенная знахарка. Таких и сейчас в этом краю сколько угодно. Ясным лесным духом, холодком и свежестью овеяна полесская повесть Куприна. Как с первых же строк входишь в смолистый густой бор, так и не покидаешь его до последней строчки. Это тот самый бор, куда с ружьем за плечами то по тропкам, то по перелескам и полянкам и пробирался однажды рассказчик. В одной из таких полянок и стояла в ту пору черная покосившаяся избушка. В ней произошла первая встреча рассказчика с Олесей. И вот что интересно: и старая цыганка, повторяю, в повести есть, и котел с травами у нее в печи кипит, и какая-то тайна ее окружает, а никаких мистических потусторонних теней ни над избушкой, ни на ее обитателях нет. И живут в этой чертовой сторожке посередине бора простые бедные люди — живут, зарабатывают на хлеб да на кашу, боятся пристава, обед готовят, гостя встречают. И сама Олеся — чудная, простая, обаятельная, светлая девушка. Ничего ведьмачьего в ней и в помине нет. Впрочем, ведь в русском языке слово «ведьма» происходит от корня «ведать», то есть быть мудрым. Так что если исходить из этого старинного значения слова, то, пожалуй, можно назвать цыганочку Олесю и верно ведьмой. Она знает не только все тропы, все ложбинки родного бора, ей не только знакомы все голоса леса, но и дар познания людей у нее исключителен. Герой и рассказчик оказывается совершенно не в состоянии не то что разделить, а понять ее любовь. И она знает это. Ее чувство задыхается в пустоте, как пламя, догоревшее до конца на голой, убитой земле. И вот как-то она забирает свою старуху и уходит. Домик в лесу снова пуст. Некого больше любить, обольщать, бояться, ненавидеть. Мужики успокоены. Барин уходит печальный и растерянный. Так мы прощаемся с этой изумительной девушкой, настоящей цыганкой.
После Куприна переход к Горькому кажется естественным. Они ведь почти современники. Но в том-то и дело, что, мне кажется, в данном случае это действительно только хронологический переход. В своих цыганских рассказах («Макар Чудра» и «Старуха Изергиль»), то есть в самых первых, с которых и началась литературная деятельность великого пролетарского писателя, Горький ближе всего стоит к пушкинской проблематике и пушкинской философии, ибо оба эти рассказа — раздумья о подвиге, о том, что сейчас у нас принято называть презрением к смерти. Но у Горького это не презрение к смерти, а скорее забвение ее, забвение о конечности своего существования, чувство вневременности подвига героя. А исходит это чувство опять-таки от той внутренней свободы, поиски которой и привели в цыганский табор молодого Пушкина. Мне кажется, что Достоевский и Горький эту главную философскую тему пушкинских «Цыган» поняли совершенно одинаково, хотя Горький в то время вряд ли читал знаменитую предсмертную речь Достоевского. Ситуация в сказе старухи Изергиль (первый ее сказ) у Горького и Пушкина почти одинакова. Некий не ведомый никому пришелец пристал к табору, походил с ним некоторое время, а потом вдруг убил девушку, отказавшую ему в любви. На вопрос мудрейшего, почему он это сделал, убийца у Горького ответил: я ее убил потому, что она оттолкнула меня, а мне нужно было ее.
«Но она не твоя! — сказали ему... За все, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью.
А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.
Долго говорили с ним и, наконец, увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя...
Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но... тот мудрый... заговорил сам:
— Стойте! Наказание есть... Вы не выдумаете такого в тысячу лет. Наказание ему — в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!..
— Так, с той поры, — рассказывает дальше старуха, — остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!» Так заканчивается первый сказ.
А вот как понял и интерпретировал речь старого цыгана из поэмы Пушкина Достоевский.
«Смирись, гордый человек... Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе... И других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить».
Такое счастье и такую правду обрел Данко — молодой герой другого рассказа старухи Изергиль. Он вырвал у себя из груди сердце и озарил им путь своим соплеменникам. Этот подвиг и есть абсолютная свобода, о которой мечтал Пушкин и говорил Достоевский.
Такие подвиги, конечно, совершаются только во имя человечества. Но разве старуха Изергиль, и Макар Чудра, и Данко — это не настоящие цыгане? В том, конечно, понимании, в котором их представила миру великая русская литература: Пушкин, Лесков, Толстой, Достоевский, Куприн, Горький?
Я недаром написал — это настоящие цыгане. Когда возник единственный в мире цыганский театр «Ромэн», ему почти ничего не пришлось брать из мирового репертуара. И не только потому, что таких подлинных, настоящих образов цыганского народа не найдешь нигде, кроме как в русской литературе, но и потому еще, что цыгане-то в произведениях западных классиков (если только они положительные герои) — это, так сказать, квази-цыгане, по несчастью; и Эсмеральда Гюго, и Пресьоса, и Андрес Сервантеса — это дети благородных родителей, украденные цыганами. Они потому и ведут себя так недосягаемо благородно, что они не цыгане, а их жертвы. Недаром рассказ о благородной цыганочке Сервантес начинает с рассуждения о том, что все цыгане по природе воры, — и это действительно ловкий прием. Ведь вот, смотрит удивленный читатель, автор говорит, что его Пресьоса цыганка, а на руку она чиста. Да и возлюбленный ее тоже цыган, а ведь он не шарит глазами по карманам, — так в чем же тут дело?
Но ловкий поворот сюжетного винта — сцена классического узнавания, — и все встает на свое место, добродетель торжествует, любовь вознаграждается. Даже вся эстетическая система подчинена этой же концепции. Цыганская красота и не красота даже, а так, обман. В этом отношении очень характерно одно место в «Соборе Парижской богоматери». Эсмеральда танцует перед толпой. В толпе стоит бездомный мечтатель и поэт — Гренгуар. Он восхищен и потрясен, но вот что происходит дальше: «Была ли эта юная девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар... определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением...
«Право, — думал Гренгуар, — это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!»
В это мгновение одна из кос «саламандры» расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле.
— Э, нет, — сказал он, — это цыганка.
Мираж рассеялся».
Действительно это была просто-напросто цыганка. Велико было разочарование Гренгуара...
Вот этого разочарования, чувства моральной и эстетической относительности никогда не встретишь ни у кого из русских классиков. Для них цыганка всегда хороша именно как цыганка.
Ясно, что только такие произведения и могли сделаться репертуарным гвоздем нового театра. Конечно, ни Гюго, ни Сервантес ни в чем не виноваты. Концепция «цыган — вор — колдун» сложилась не по их воле, она диктовалась всеми условиями жизни этого гонимого народа, всеми силами века. До нас дошло не очень много документов о цыганах, но все они характерны. Самая маленькая кара у них — это плети и изгнание, самое ничтожное обвинение — кража, за нее хоть костер не полагался.
И надо сказать, что Сервантес другого обвинения на цыган не возлагает. Ну а кражи... Конечно, они были, бесчисленные, мелкие, трусливые (до грабежа дело не доходило). Был обман, было гадание по ручке, то есть вся ручная уличная магия, которая и сейчас сохранилась кое-где как реликтное средство существования. Но русские цыгане жили все-таки в иных условиях. Поэтому те ценнейшие национальные качества, которые присущи всякому народу, в том числе и цыганскому, выступали здесь с большей свободой, особенно ярко это вырисовывалось на фоне их социального бесправия и гражданского пренебрежения. И вот на ложь частную и общественную, на маскарад чувств сверху и темноту снизу, уголовную лирику и романтику — словом, на цыганщину — великая русская литература ответила тем, что показала миру настоящую человеческую красоту этого угнетенного и стираемого с лица земли народа, в котором человеческие достоинства даже и не предполагались...
И в заключение второе, совсем маленькое воспоминание. Только теперь совсем уже недавнее. Раз меня познакомили с одним видным иностранным ученым. Он был англичанин-славист русского происхождения. Приехал англичанин на какой-то съезд, и мне довелось как-то раз показать ему город. Это были по-настоящему приятные прогулки, тем более что мой собеседник был любознателен и отлично болтал по-русски.
Однажды после спектакля мы зашли в ресторан клуба театральных работников. Пока происходила смена блюд, мой знакомый, слегка утомленный всем увиденным, молча просматривал список театральных программ за неделю, небольшую книжечку журнального формата. Рассматривал он ее углубленно, так сказать, по-научному, иногда вынимал авторучку и отмечал галочкой какой-нибудь спектакль. И вот он вдруг оторвался от книжечки, удивленно посмотрел на меня и спросил: тут написано — цыганский театр «Ромэн», что ж это такое? Я ответил, что это и есть цыганский театр «Ромэн». Он вдруг улыбнулся, пожал плечами и спросил: а зачем это вам надо? Я смешался и ответил ему что-то не больно внятное, это случается у меня всегда, когда я отвечаю на не совсем понятный вопрос.
— Стойте, стойте, — сказал он, выслушав меня до конца, — я ведь не только историк, я еще и демограф и поэтому хорошо знаю, так сказать, племенной состав бывшей Российской империи. Сколько, по-вашему, в России было цыган при царе?
Я этого, к стыду своему, не знал.
— Так вот, — сказал мой собеседник поучительно, — до революции официальная статистика их считала двадцать тысяч, после революции первая перепись дала что-то много больше, но все же меньше пятидесяти. Это в десять раз меньше, чем в Испании, или в Румынии, или во Франции. Так что России до цыган? Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют... — И он захохотал.
Я переждал его и сказал:
— Вот видите, вы и сами определили, почему первый цыганский театр и должен был возникнуть именно у нас.
— Это как же? — слегка удивился он, — это что? Бессарабия опять ваша? Ну, знаете!..
— Нет, не только поэтому, — сказал я. — А исходя из всей сущности русской литературы.
— Из сущности русской... — Он даже не окончил. Но славист этот был мне по-настоящему симпатичен, и я сказал:
— Но если вы мне дадите полчаса, я расскажу вам все, что я под этим разумею.
И рассказал все, что здесь написано.
Творческий подвиг
Четверть века тому назад в Алма-Ате мне довелось попасть на одну очень любопытную выставку. В краевом музее экспонировались портреты классика казахской литературы Абая Кунанбаева. Это был последний тур конкурса на лучшее изображение поэта. Портретов было очень много. Помнится, ими были сплошь увешаны три или четыре зала краевого музея. Но ушел я с этой выставки разочарованным. Впечатление у меня осталось такое, будто я побывал в большом столичном фотоателье. Со всех полотен на меня смотрело одно и то же лицо, с одним и тем же выражением. И ни одной сюжетной картины, — портреты, портреты, портреты! Менялся фон, слегка варьировались костюмы на человеке, а человек оставался все таким же — пожилым, полным казахом с задумчивым лицом и усталыми глазами.
А потом я прочел стихи Абая, и мне стало по-настоящему неприятно. Стихи были великолепные и очень разные: то страстные и негодующие — в них так и чувствовалось гневное лермонтовское дыхание, — то тихие и задумчивые, то насмешливые, поддразнивающие, с упругими, четкими ритмами. Так неужели, думал я, листая книгу, — вот этого страстного, бушующего даже и после смерти человека я и видел на выставке? И почему он у них везде старик? Ведь Абай больше четверти века и в пору своего расцвета был молодым и сильным, и красивым. У него тогда не было ни этой одутловатости лица, ни этих скорбных глаз, ни усталой улыбки.
Позже мне объяснили: художники не так уж виноваты. Сохранилась единственная, сделанная за несколько лет до смерти поэта семейная фотография, из биографии Абая известно в основном только то немногое и высокоофициальное, что счел возможным сообщить через пять лет после смерти приемный сын покойного, в первый раз издавая сочинения своего отца. Абай, может быть, единственный из великих поэтов, о котором упорно молчали при жизни и газеты, и журналы, и современники. Несколько стихотворений, напечатанных в газете под чужим именем, да пять строк в многотомном географическом сочинении, посвященном описанию России, — вот, собственно, и все. Эти пять строк хочется привести дословно:
«Как представителя нового течения киргизской поэзии следует назвать Кномбая[12] (в Семипалатинском уезде), автора многих изящных по форме и поэтичных по содержанию стихотворений (особенно описаний природы). Этому же автору принадлежат хорошие переводы «Онегина», многих стихов Лермонтова, который оказался наиболее понятным для киргизов. Таким образом, у семипалатинских оленгчи (певцов) можно слышать, например, «Письмо Татьяны», распеваемое, конечно, на свой мотив» («Россия», т. XVIII).
Все это я вспомнил, держа в руках только что вышедшее издание грандиозной эпопеи Ауэзова «Абай»[13]. Теперь художникам было бы над чем работать. Они прямо бы задохнулись от изобилия тем. Два толстых тома, в общей сложности более полутора тысяч страниц, посвящены жизни поэта. В истории мировой литературы немного найдется биографических романов, с такой полнотой и обстоятельностью охватывающих всю сознательную жизнь героя — от отрочества до смертного одра. Но самое удивительное и, если хотите, героическое заключается в другом — в том, о чем Ауэзов писал так: «Мою работу можно сравнить с трудом запоздалого путника, который приходит к месту давно ушедшего каравана, находит последний тлеющий уголек угасшего костра и хочет своим дыханием оживить, раздуть его в яркое пламя. Мне приходилось из потускневшей памяти стариков восстанавливать прошлое Абая. Точно так же, как по лицу шестидесятилетней Айгерим восстанавливать ее пленительную юность, когда-то обворожившую поэта»[14]. И более конкретно: «Собирание материалов об Абае имело свои любопытные особенности, незнакомые большинству авторов исторических романов[15]. Дело в том, что о жизни, работе, внешности Абая нет никаких печатных и письменных данных — ни личного архива, ни дневников, ни писем, ни мемуаров, ни даже просто зафиксированных на бумаге воспоминаний о поэте. Все данные его биографии, все события романа мне пришлось собирать долгое время путем устного опроса знавших Абая людей, путем беседы с ними. Большинство из этих людей, естественно, были уже стариками, в памяти их потускнели и давно минувшие дни, и образы людей, и разговоры, и события... Многое приходилось оживлять своими догадками, расшифровывать путем сопоставления с рассказом другого современника Абая».
К этому надо еще прибавить, что поэт рукописи свои не берег, а, исписав лист бумаги, небрежно оставлял его в куче других бумаг, и они переходили из рук в руки, до сих пор найдено всего-навсего шесть автографов Абая, обнаруженных опять-таки тем же неутомимым Ауэзовым. И в то же время Ауэзов пишет: «Даже сейчас, когда роман о юности и о молодости Абая уже окончен... у меня осталось еще такое количество не вошедшего в эту книгу материала, что на основе его можно было бы написать еще одну такую же книгу об этом же периоде жизни моего героя». Зная все это, нельзя не оценить подвига ученого, исследователя и писателя, сумевшего собрать и построить из пестрых обрывков и крупиц двухтомное здание эпопеи.
Конечно, научная биография Абая еще не написана, и поэтому, вполне возможно, некоторые из собранных Ауэзовым материалов будут отброшены как малодостоверные, но уже и сейчас ясно, что таких мест в романе окажется немного. Этот единственный в своем роде успех исследователя и писателя только отчасти может быть отнесен на счет высокой научной квалификации и добросовестного автора и его любви к своему герою. Не менее важно другое: Ауэзов отлично знает то, о чем пишет. Он сам вырос в казахской степи. Здесь он учился читать и писать, и грамоте его обучал дед Ауэз — кстати, по рукописному экземпляру сочинений Абая. Он слушал рассказы старого Ауэза про будущего героя своей эпопеи и про отца его, беспощадного и жестокого тирана Кунанбая. Уже в детские годы ему довелось пройти родные степи из края в край, пришлось на деле узнать, что такое шариат и что такое адат, и что такое царский чиновник. Недаром академик Сатпаев называл эпопею Ауэзова «подлинной энциклопедией всех многогранных сторон жизни и быта казахского народа второй половины XIX века».
Но все это из области науки. А мне хотелось бы поговорить о труде писателя. Абай-поэт, Абай-государственный деятель, Абай-просветитель — эти все стороны его личности раскрываются в истории Абая-человека. Точнее — в трагедии его жизни. Наиболее полно и четко сущность этой трагедии (ибо личность Абая трагедийна в самом настоящем и высоком смысле этого слова) изложена в главе, которую автор, при первом появлении ее в печати, озаглавил «Как Татьяна запела в степи». Написана она давно (см. ее перевод в «Литературном Казахстане» за 1937 год), и то, что Ауэзов без существенных изменений закончил этой же главой первый том эпопеи, дает право смотреть на нее как на идейный ключ ко всему произведению.
Ее краткое содержание таково.
Абай переводит «письмо Татьяны». Сама жизнь привела его именно к этим строкам «Евгения Онегина». Абай читает Пушкина, и два светлых образа всплывают в его памяти: «Один лик сияющей юности... второй — полный душевной тоски... Обе, подобно самой Татьяне, подавили разумом голос сердца. Обе не смогли поднять голов, окутанных уздою неволи, и все время, пока Абай переводил грустные излияния Татьяны, в его сердце приглушенно звучали их прощальные слова». Это одно. Но дело не только в этом.
Абай искренне считает, что именно пушкинской свободы и независимости чувств как раз не хватает девушкам его народа. Как и всякий гуманист его времени, Абай свято и даже слепо верует (не верит, а именно верует) в облагораживающую силу человеческого слова. И вот, когда «стыдливая тайна Татьяны» начинает уже явственно звучать под его пальцами в напеве домбры, в его юрту входят два врага — вор и обворованный. Дело, приведшее их сюда, не крупное, но очень кляузное и темное. Угон скота — все та же вечно повторяющаяся на протяжении веков история. Вор отрекается, потерпевший обличает, доказательств — никаких. Дело сделано чисто и умело. Как узнать, кто прав, кто виноват? Абай сидит и слушает их спор.
Голос пострадавшего «звучал монотонно, как пест и ступа, сделанные из дерева...
— Вот что думал этот вор, Абай-ага: «Тогда ты так и не дал мне присвоить тот скот. Привел к Абаю и заставил срыгнуть обратно. Так я ж тебе еще насолю!» — вот что он думал. И решил, что если он снова украдет... ничего не случится. Назло украл!.. В тот раз угнал трех коней, а теперь угнал целых пять голов... Ну разве это не дело рук мстительного вора, Абай-ага?»
Абай пытливо смотрит в лицо конокрада.
«Но тот сидел, наклонив голову в длинношерстой рыжей шапке с крепко завязанными наушниками, показывая только кончик толстого носа и часть редкой черной бороды. Исподлобья следя за каждым движением Абая, он сидел, молчаливый и недвижный, словно каменное изваяние».
Вот попробуй и установи что-нибудь!
Душа Татьяны чиста и прозрачна до самого дна, даже в самой своей сокровенности. Но какими средствами и путями ты, судья и поэт, проникнешь в темную душу степного хищника? Его ли, молчаливо затаившегося, настороженного и жестокого, врачевать чудесными пушкинскими стихами? Разве не бессильно любое слово правды и добра пред древними разбойничьими обычаями степи? «Где истина, де ложь?.. Опять нужно копаться в грязи... Где Пушкин и где тончайшая нежность чувств Татьяны? Где ее прозрачная истина, идущая из правдивого сердца? Истец в погоне за своим скотом. Упрямый вор, живущий чужим добром. Бесконечная муть запутанной жизни... Где же твой голос, Татьяна?»
«...Абай резко обратился к Турсуну.
— Скажи правду! Умри, но скажи: взял ты его скот или нет?
Он гневно уставился на урсуна. Тот не смутился.
— Абай-ага, я дал клятву умереть перед тобой с правдой на устах! Пусть я вор, но и у вора есть честь. Вот моя истина: на этот раз я не виновен! — сказал он отчетливо и при этом, заломив верх своей шапки назад, открыл лицо и в упор взглянул на Абая».
И Абай решает:
«Он говорит правду. У него нет твоего скота, Сарсеке. Ищи у другого!»
Ограбленный уходит, опустив голову, а Абай снова берет свою домбру.
И вот заключение:
«Турсун беззвучно засмеялся... Он был очень доволен собой.
В самом деле, ему удалось сделать очень ловкий ход. Осенью, когда он угнал коней... и, поленившись отвести их подальше, заколол у себя, — истцы притащили его к Абаю. Еще в самом начале разбора дела у него возник свой план, и, когда Абай спросил его: «Взял или нет? Скажи только правду!» — он немедля ответил: «Взял, вынеси приговор, я виновен». Никогда Абай не видел раньше вора, сознающегося так откровенно, и объявил истцам:
— Считайте, что он дал мне крупную взятку. Эта взятка — его правда... Пусть вернет вам стоимость угнанных коней — и кончим на этом...
Турсун все это обмозговал и, переждав два месяца, снова угнал у того же Сарсеке пять лошадей и ловко сплавил их в ту же ночь. Никто не заметил налета, была суровая буранная ночь, она замела все следы. На этот раз Сарсеке мог только подозревать — ни улик, ни следов, ни свидетелей не было. Турсун приехал к Абаю с твердым решением: на этот раз отрицать все.
Его расчеты оправдались. Он выиграл не только у Сарсеке, но и у Абая. И теперь... он смеялся над этим».
Да в том-то и беда, что вор имеет полное право смеяться над незадачливым судьей. Два раза отпустить с миром заведомого конокрада! Такого казахская степь не видывала в течение всех веков своей истории.
А какой вывод из этого следует? Да только один — в казахской степи пушкинской мерой ни зло, ни добро мерить нельзя. Светлый пушкинский гуманизм вырос в других условиях, и в юрте волостного с ним делать нечего... В ней он обездолит правого, обелит виновного и в конце концов сыграет только на руку угнетателям. Так зачем тогда степи не только Пушкин, но и вся русская культура вообще? Этот вопрос всегда в той или иной форме стоит перед любым просветителем, где бы он ни появился, и разные люди отвечают на него по-разному. По-одному реакционеры, по-другому — борцы и мыслители типа Абая.
О, он-то отлично понимает, что высокая общечеловеческая правда только тогда и победит старый, заматерелый, волчий быт степи, если в степь эту придет не только Абай, но и Пушкин, и Лермонтов, и Белинский, и Чернышевский — его великие учителя и предшественники! Он верит: чтобы перевернуть и опрокинуть феодальный правопорядок, нужна могучая точка опоры извне. Он находит ее в русской культуре и науке. Но только найти — этого мало. Абай сознает и другое: ни культуру, ни песнь, ни стих нельзя просто взять да и пересадить из одной почвы в другую. Потеряв связь со своей питательной средой, своим народом, она либо выродится и зачахнет, либо — хуже того даст горькие, дикие плоды, станет жалкой и никчемной порослью, от которой отвернется каждый.
Великая победа Абая заключалась именно в том, что не только «Татьяна запела в степи» перед кругом казахских юношей и девушек, но и в том, что эти юноши и девушки заговорили вдруг языком Татьяны. Абай сумел нащупать и выделить в гениальных пушкинских строках то общечеловеческое, что роднило тоскующую русскую барышню с возлюбленной Абая — его Айгерим.
«Айгерим вдохнула новую жизнь в слова Татьяны... это была уже не только Татьянина тайна: страстный шепот молитв и надежд вспыхнул жарким пламенем песни, рвался из груди самой Айгерим.
Молодые друзья, окружавшие Абая, были глубоко взволнованны.
— О Татьяна, — дрогнувшим голосом сказал Кокпай. — В дочери казаха ты нашла себя».
Эту мысль хочется пояснить двумя примерами. Один из них взят из научной монографии нашего современника, доктора филологических наук Е. Исмаилова[16], другой — из рассказа современника Абая, крупнейшего востоковеда Г. Потанина[17].
«Евгений Онегин» стал одним из самых любимых произведений народных акынов, — пишет Исмаилов. — В этих поэмах прозвучало новое отношение ко всему русскому — к русской жизни, культуре и характеру русских людей. Если в религиозных поэмах (Хиссах) и в песнях русский был гяуром и изображался в виде лубочного черта, то... с этих пор акыны начинают понимать, что ничего нет зазорного в том, что они перед казахской молодежью восхваляют достойного, способного, образованного русского человека. С тех пор они считают почетной задачей прославлять великих русских».
А вот что пишет Г. Потанин в 1896 году, после поездки в тот самый конец казахской степи, где жил и творил Абай:
«Можно предвидеть, что скоро народится молодая Киргизия... Для киргизской жизни есть один обильный источник сил и средств — в духовной организации народа».
К этому источнику и обращался Абай в своем творчестве.
писал Фет.
Нет, не только придет, показал Абай, но и приведет за собой и всех других своих великих собратьев. И заслуга Ауэзова в том, что он сумел в лучших местах своего романа в общем очень правильно пояснить нам, каким именно путем произошло это слияние облика милой Татьяны с душой казахской девушки, а через него и с душой всего казахского народа. Вот почему русский поэт Пушкин не только не увел Абая от казахского народа, но, напротив, еще теснее сблизил с ним великого поэта и просветителя.
Но есть и другая сторона вопроса, и в этом, пожалуй, основная причина трагедии всех гуманистов и просветителей: высокая духовная культура — Пушкин, Лермонтов — нужны угнетенным, но совсем не угнетателям. Пушкин не будет принят ни «степным тираном» Кунанбаем, ни жестоким братом Абая Оспаном, ни даже тем безвестным хищником-конокрадом, который дважды взял верх над Абаем. Именно на них кончается сила слова и начинается то темное, стихийное, корыстное, утробное, что преодолевается только ломкой, только революционным словом, мыслью и действием.
Последняя книга эпопеи, только недавно вышедшая на русском языке, больше всего и останавливается именно на этих трагических противоречиях и недоумениях. Именно поэтому в книге звучит порой не только трагизм, но и безысходность. Стоит только сравнить названия ее глав: («Во мраке», «Над бездной», «В кручине», «Во вражде», «В схватке») с главами первой книги («По предгорьям», «В вышине», «На подъеме»), чтоб понять, под какой уклон пошла жизнь Абая.
Я написал «безысходность», но это, конечно, не так. Выход был, но существовал только за пределами жизни Абая — в гордом праве воскликнуть перед смертью: «Нет, весь я не умру!»
Увы, это говорилось не на смертном одре и не в казахской степи! И Гораций, и Пушкин, и Ломоносов были молодыми и сильными, когда писали о посмертной славе, а Абай жил в казахских степях в конце прошлого века и надеяться ему было не на что. Так, право же, можно понять, почему в подобных размышлениях поэта-казаха нет ни той гордой уверенности, ни того светлого, радостного чувства, что звучали в стихах его великих собратьев.
писал Абай и для самого себя ничего не ждал от истории. Иначе не разбрасывал бы он, не раздаривал бы так свои рукописи. Нет, он думал о другом.
«Необъятное, отвечай — пусть я умру, но останется ли жить потомство мое? Взошла ли юная поросль от семян моих, которые ежегодно уносил ветер? Хоть одно из них прорастает ли на дне оврага... И когда придет срок, отдаст ли земле семена свои?» Это спрашивает не Абай, спрашивает поверженное, сухое, оголенное дерево, притчу о котором поэт рассказал перед смертью. Росло это дерево в бездорожной пустыне, зеленело оно с каждой весной, наливалось звонким и буйным соком, плодоносило, но кругом были пески, цветы опадали и невесть куда уносил ветер семена. И так шло много десятилетий, из лета в лето, из года в год. А потом ударила молния, и дерево погибло. Но погибло ли оно одиноко, ничего не оставив после себя, или, может быть, зеленеет уже по окраинам и ложбинам пустыни его молодая поросль — об этом поверженное дерево никогда не узнает. Но в этом-то и заключается великое бескорыстие жизни, что она рассеивает вокруг себя такую же жизнь, не задаваясь вопросом о награде и даже не зная, есть ли за что ее награждать. Абай мог существовать, только творя, только преображая действительность и порождая вокруг себя новое. Это было его назначением, его всеобъемлющей сущностью, и благодарности он не требовал.
Слышите? Он ничем не грозит ни этим неблагодарным детям, ни глухим сверстникам. Здесь нет камня за пазухой, нет ничего, вроде «Ну, подождите, вы еще обо мне услышите!» Нет и знаменитого «Сочтемся славою» — не с кем было с ней считаться. Подвиг совершался без мысли о славе. Здесь было иное: «Пусть я умру, но останется ли жить потомство мое?» Но ведь ответ на такие вопросы дает только история.
Фигуры, подобные Абаю, возникают на стыке двух эпох. Об этом очень хорошо написал в свое время Герцен:
«Последнее время перед вступлением в новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякого мыслящего. Все вопросы становятся скорбными... Безумные надежды идут рука об руку с отчаянием; предчувствие томит, а, по-видимому, ничто не свершается. Это глухая подземная работа... пробивающаяся на свет. Время тягости и страданий, оно похоже на переход по степи безотрадной, изнуряющей — ни тени для отдыха, ни источника для оживления. Плоды, взятые с собой, гнилы, плоды, встречающиеся по дороге, кислы... Счастливы те, которые закроют глаза, видя хоть издали деревья обетованного края. Большая часть умирает или в безумном бреду, или устремляя глаза на давящее небо, лежа на жестком каленом песке».
Но и это еще не все.
У странников, умирающих на каленом песке в пустыне, — об этом Герцен не пишет, — есть свои враги. Это те, которым никуда не надо идти, которые ничего не ждут, ни к чему не стремятся, которым не нужны ни Пушкин, ни Абай, ни песня Татьяны. Единственно, что они хотят от жизни, — чтобы она осталась такой, какая она есть, чтобы оставались их личные феодальные права на жизнь и смерть своих подданных, тысячи голов скота в бескрайней степи, принадлежащие лично им, адат и шариат и русский чиновник, для того чтобы сохранять неприкосновенность и незыблемость всего сущего. Этот косный и жестокий мир по-своему хорошо обжит, и существовать в нем им довольно удобно и просто. А тех, кто куда-то зовет и надеется на что-то новое, они ненавидят деятельной, изобретательной ненавистью. У этих хищников есть своя волчья диалектика и своя теория моральной относительности мира. Вот как излагает ее Абай:
«Если вам выгодно, вы будете называть белое черным, а черное белым и ложь выдавать за правду. Вы любите говорить: «Клятва не устоит перед занесенным мечом», «Нет такого греха, который бы не был прощен Аллахом». Вы идете к русскому чиновнику, падаете на колени и лжете ему, а потом бежите к торговцу войлоком, проводите ладонью по лицу, молитесь и поносите того самого русского чиновника, перед которым только что унижались».
Понятно, какую жизненную устойчивость и гибкость дает врагам Абая такая философия. Но, помимо философии и гибкости, у врагов есть и крепкая звериная хватка. Если угодно — сила. В первой книге «Пути Абая» есть великолепная сцена. Один из степных хищников, Оспан, хитростью захватил другого — волки ведь тоже грызутся, — связал, примчал к себе и бросил в юрту. И вот к пленнику приходит брат его обидчика, который не на шутку перепуган смелостью и бесшабашностью своего брата и всячески хочет от него отгородиться:
«Уразбай лежал в гостиной юрте, отвернувшись к стене... Он отказывался от пищи и даже от воды.
Когда ему приносили что-нибудь, он отталкивал это от себя, крича: «Убери свой яд!» Такежан подсел к нему, повернул к себе его лицо, искаженное злобой, и крикнул своим людям, чтобы принесли кумыс. Почти насильно он заставил его сделать несколько глотков. Лишь теперь Уразбай злобно взглянул на него своими косыми глазами и сказал негромко:
— Сыновья Кунанбая! Либо вы убьете меня здесь и выпьете всю мою кровь, либо я до самого судного дня буду вас трясти обеими руками за шиворот! Самые большие враги мои — Оспан и Абай. Тебя, Такежан, я не стану называть главным врагом, раз сегодня ты пришел мне помочь, но враждовать с тобой все равно буду. Иди, я больше ничего не скажу! То, что вы задумали со мной сделать, делайте скорее, — с этими словами он снова отвернулся к стене и замолчал».
А вот умирает Оспан, и Абай над свежей могилой подводит итог жизни брата.
«Еще в юности о нем говорили: «Схватит — не отпустит, пока когти его не вырвешь. Сцепится — не разомкнешь пасти, пока зубы держат»... О каких деяниях Оспана мог вспомнить с благодарностью народ? Лишь однажды Оспан выступил против злодеев, но и тут он остался подлинным отпрыском Кунанбая — сильным, жестоким, неумолимым врагом своих личных соперников. Не за народ мстил он Уразбаю, а как его личный враг боролся с ним за власть. И точно так же, как задолго до него все степные заправилы оставляли в наследство распри и смуты, так и Оспан оставил после своей смерти злобную, лютую вражду».
Как видите, если даже отдавать все должное этим хищникам — их цепкости, цельности, стойкости, страстности, — все равно придешь к одному и тому же выводу: с жизнью они несовместимы. Встречаться с ними в голой степи можно только с оружием в руках. Зато и просты они, как волки, и так же, как волки, твердо знают, что им нужно.
В противоположность их миру, мир Абая лишен этой древней звериной простоты и устойчивости. Сложность его мира — источник нескончаемых страданий поэта. Но в ней, в этой сложности, и его великая сила.
Такова другая сторона этой трагедии.
У Абая были минуты, когда он мог написать, например, такие стихи:
Конечно, это вырвалось не у борца, это уговаривает себя старик, смертельно уставший от жизни, от борьбы и от того непонимания, которое окружает его со всех сторон. Он хочет хоть последние дни своей жизни провести без ссор и споров. И это в конце концов его право. И, как всегда бывает в таких случаях, он сразу же находит, куда бежать. Это очень древнее убежище, испокон веков принимающее в себя всех усталых, разочарованных и обремененных:
Кое-кто на этом и кончает, но ни сердце, ни башня из слоновой кости, ни белая юрта в степи не спасение для Абая. Он сам отлично понимает это, и тогда, совсем не в лад с этими настроениями, вырываются у него такие строчки:
Он уже и не пытается уверить себя, что может уйти от всего этого в свое «я».
Но бывают и другие столкновения. Они врываются извне, из реальной, волчьей действительности.
В романе есть сцена — враги, собравшись скопом, решают разделаться с поэтом, ночью они приходят в его юрту.
«Размеренным шагом подойдя к молча смотревшему на него Абаю, Самен громко произнес гнусное ругательство и добавил:
— Теперь ты наконец отстанешь от меня, черный пес! — И, высоко занеся нагайку, ударил Абая по голове».
Это послужило сигналом. Поэт был забит до полусмерти и брошен в бессознательном состоянии. Друзья привели его в себя, но за эти несколько минут Абай постарел на десять лет: быть избитым нагайкой, именно нагайкой, а не чем другим, — ведь это значит безвозвратно лишиться чести. Так испокон веков считает вся степь. Но ведь Абай-то понимает: его приходили просто-напросто убить. Знает он и другое: ночная расправа десятерых с одним может опозорить только убийц, а не их жертву. Все это так. Но вот на какое-то, пусть ничтожно короткое, время человек, выросший в степи и впитавший с молоком матери древнее представление о чести свободного человека, свободного именно в том феодальном смысле, в каком понимал эту свободу отец Абая Кунанбай, взял верх над философом, мыслителем и борцом. Повторяю: так и не только могло быть, так неизбежно должно было случиться. Конечно, эта победа феодала над поэтом не могла быть стойкой, и однако же...
«Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал:
— ...Зачем я остаюсь здесь, на этой земле, с этими людьми? Нет меня больше для вас!»
...Он вышел из юрты, сам отвязал коня и сел в седло... «Уйдем с этого места, от этой проклятой жизни!»
Конечно, он никуда не уехал, потому что не было у него ничего дороже этой проклятой жизни, как и не было любви сильнее этой, даже когда он отрекался от нее. Но это была трудная борьба с самим собой, и победа далась ему далеко не сразу.
Но самый большой, самый острый конфликт заключался не в двух сторонах личности и деятельности Абая, а в другом — в страшном и неизбежном разрыве между тем, что Абай хотел достигнуть, и тем, чего он достигает в действительности. Поэтому жизнь и деятельность Абая — это цепь непрерывных размышлений. А самая главная беда в том, что деятельность Абая, такая прямая и ясная, если глядеть на нее глазами постороннего или, например, того бедняка, которому Абай возвращает его добро, отнятое у него противозаконно, — станет страшно запутанной и противоречивой, если Абая судит сам Абай. Он-то ведь понимает, что феодальный строй — зловонный мертвец, и не лечить его нужно, как это делает он, а поскорее столкнуть в яму. Но где могильщики, которые в силах это сделать, и кто они? В романе есть такой эпизод. Один из сильнейших баев, брат Абая Такежан, ограбил бедняков. Сначала скосил их сено, а потом стравил их пастбища. Доводы Абая оказались бессильными, Такежан ответил: что я сделал, то сделал, — и прекратил всякие разговоры. Абаю пришлось замолчать. Ни средств убеждения, ни мер принуждения у него нет. Для него, опытного администратора, отличного знатока шариата и адата, понятно, что помочь беднякам невозможно. Против них разбойничий закон большой дороги, против них феодальные права бая. Но один из молодых друзей Абая, Базаралы, решил восстановить справедливость. Он — горячая голова, каторжник, только недавно бежавший из Сибири. Ему ли дорожить такой малостью, как собственная жизнь? Он решает по-своему: ночью с группой таких же удальцов, как и сам, он уводит байские табуны. И вот все восемьсот угнанных лошадей розданы по рукам с одним непримиримым условием — всех их немедленно пустить под нож. Расчет опять-таки простой: что сделано, то сделано. Базаралы предусмотрел и другое: дело возглавлял он один, значит, он один в ответе, а что можно сделать со сбежавшим каторжником? Только сдать на руки русским властям, как казенную собственность, — вот и все. В степи начинается невиданный переполох. Такого не видели даже старики. Дело передают на разрешение старшин. Виновный сам является на суд. Он сидит среди своих обвинителей, гордый, невозмутимый, а когда приходит его черед, обращается к присутствующим с такой речью:
«Я доказал вам, что сыновья Кунанбая такие же люди, как я сам. Я доказал вам, что их можно схватить за ворот и начисто оторвать его. Больше того, я доказал вам, что если бить их крепко, по-настоящему, то их можно избить до смерти... Больше мне говорить нечего. Я в ваших руках, можете изрубить меня на куски».
И, добавляет автор, «засмеялся весело, зло, торжествующе». Да и как ему не смеяться? Бай действительно посрамлен. Порок наказан.
Но вот встает поверенный Такежана.
«Зачем мне его голова, с которой не срежешь куска мяса? — говорит он. — Отвечать должны все жигитеки своими табунами. Нужно наказать их так, чтобы они не смогли больше встать на ноги. Жалости быть не может, ущерб должен быть взыскан с лихвой. Они уничтожили восемьсот коней Такежана — так пусть за каждого коня Такежана, невзирая на возраст, жигитеки вернут двух полноценных пятилетних коней...
Род жигитек был целиком признан ответчиком».
Такова вторая сторона дела. Смельчак, решительно пошедший путем действия, только того и добился, что разорил вконец тех, за благополучие которых он собирался пожертвовать жизнью, а с его собственной головы не упал даже волос. Оказывается, Абай поступил очень благоразумно, когда отступил перед баем. Кроме горшего разорения, он ничего не мог принести доверившимся ему беднякам. Надо уметь выжидать и хитрить. Надо иметь не только сердце борца, но и ум волостного судьи и увертливость степного дипломата. Это, конечно, все так, но Абай не был бы Абаем, если бы он не видел третью сторону вопроса — ту великую правду, которая не помещается в рамки узко-практического разума, которую видеть могут только очень и очень немногие. Вот как сам Абай говорит об этом:
«Да, эта вспышка народного гнева не дала видимого успеха. Но значит ли это, что она бесполезна? Мало ли знает история прекрасных действий народа, не увенчавшихся немедленным успехом? И разве справедливая историческая мысль осуждалась за это? Неужели действия Базаралы надо расценивать по числу прибавившихся или убавившихся у жигитеков коней?.. Что было бы, если бы на действия Разина и Пугачева русский народ смотрел бы глазами отцов, матерей и сирот, лишившихся своей опоры после восстания?.. Большая историческая правда заставляет смотреть на такие события иначе. Они сотрясают основы старой жизни».
Сознаюсь, мне очень трудно поверить, чтобы Абай говорил именно так. Мне так и слышится голос моего современника. Это он, познавший все прошедшее, говорит мне о большой исторической правде, которая заставляет смотреть на восстания Пугачева и Разина иными глазами, чем смотрели современники. Это он называет пугачевское восстание народной войной и предлагает новую меру измерения страданий народа — считать не его немедленные, сегодняшние потери, а отдаленные, грядущие результаты этих потерь. Мне кажется, что автор здесь не вполне продумал, как бы сам Абай выразил эту мысль. Не сумел в исторически достоверных формах показать не только то, что убивало Абая, гнало его на самый край ночи, но и то, что давало ему возможность жить, творить и даже оставаться волостным. Это была великая вера в будущее, в то, что «заря пленительного счастья» обязательно взойдет. Абай любил эти стихи молодого Пушкина и часто повторял их.
Да, заря-то взойдет, но ведь недаром говорят, что пока заря взойдет, роса глаза выест. Люди, слепо верующие в близость восхода и не знающие, на каком делении стоит стрелка часов мировой истории, всегда склонны ожидать его слишком рано, и когда проходят назначенные ими сроки, они, прокляв все, превращаются в озлобленных отступников. Исторический процесс не химическая реакция, он не идет равномерно. Только огромный политический ум и чутье политического борца, живущего одной жизнью с народом, может предвидеть сроки наступления нового, а великие законы диалектики объясняют ему, что гибель самых лучших, предательство друзей, разгромы революций, усталость и разброд в стане борющихся, торжество усмирителей — все это только кажущееся поражение, на самом-то деле история непрерывно работает только на будущее, порождает новое, хоронит старое и неуклонно идет вперед. Но кто не знает этого, кто верит только в гневную, стихийную силу народа, тот так же под конец жизни устанет ждать и разочаруется во всем, как и тот, кто верит, что только одна светлая сила науки и разума сама по себе, без всяких революцией и войн, без крови и грязи, может переделать мир. Только один разочаруется в народе, другой же проклянет лукавую силу разума, а результат у того и другого будет примерно один и тот же — отчаяние, сознание тупика, в который зашел его народ или все человечество целиком. Когда Абай колеблется, когда его, пусть всего на несколько часов, одолевает сомнение, то истоки этих сомнений имеют именно такой источник.
Но у таких людей, как Абай, отчаяние не только приходит, но и уходит, не только захлестывает с головой, но и отступает. Главное в образе Абая — не столкновение чувств, не борьба тьмы и света, а неутомимая жажда действия, преобразований, вера во все лучшее, в прекрасную природу человека. И если иногда донимают вопросы: «Где плоды перенесенных мук, нашел ли я пути для своего народа?» — то, когда приходит пора не спрашивать, а действовать, Абай говорит о своем народе совершенно иначе:
«Вы видите этих людей? Они готовы умереть, но никогда не покорятся. Попробуйте кинуться на них, и будете опозорены. Так угостит вас разгневанный народ».
И дальше уже лично о себе:
«Даже из гроба поднял бы меня нынче гнев, если бы я услышал, до каких гнусностей вы дошли. Да лучше б мне умереть раньше, чтоб не видеть такого позора. Но раз я жив, не уймусь».
И уж как вывод из всего (вспомните опять-таки Герцена и его караван):
«Если я сумею быть проводником каравана... труд мой не будет напрасен, даже мытарства будут моими успехами. Быть может, по ним другие поймут, что добро отыскать нелегко, что путь к нему — это путь мучений и страданий... Если я сумею положить хоть один кирпичик будущего здания, которое я уже вижу в мыслях, мечта моя будет исполнена... Пусть наши мусульманские проповедники сотни лет твердят, что наступает конец мира... Нет, близок не конец мира, а конец зла».
Это прекрасные слова чистой, мудрой души. Но что закрывать глаза, незаметно, как всегда, подступила старость, личная жизнь уже окончена, именно об этом и говорит последняя, четвертая книжка. Здесь все обострено, все противоречия доведены до крайней степени. Кончается книга смертью близких Абаю людей и картиной страшного народного бедствия — бескормицы, джута.
Есть в этой книге и еще одно. Это та мудрая и печальная успокоенность, которая опустилась на душу Абая. Она, собственно, ничему не мешает, не делает Абая более терпимым к злу. Он просто устал — и все. Жизнь идет к концу, поэту пора подводить итоги, разрубать гордиевы узлы и решать неразрешенные вопросы. Именно это и делает события, происходящие в последней части эпопеи, наиболее драматичными, трагичными и напряженными.
Есть вопрос, на который должен непременно уметь ответить всякий автор многотомного исторического романа или всякий критик, пишущий о таком романе. Почему автор, написав, скажем, три тома, берется за четвертый? Что принципиально нового внесет в уже знакомый нам образ этот новый том? Я подчеркиваю: не просто нового, а именно принципиально нового, ибо биографический роман — такая вместительная форма, что ее можно продолжать до бесконечности. Вспомним хотя бы поистине нескончаемые томики автобиографии Пруста или, еще лучше, — десятки томов монографий о М. Н. Погодине, выпущенные М. Барсуковым. Если бы темой эпопеи Ауэзова была только жизнь и личность Абая, то не так бы легко было объяснить довольно обширные размеры книги. Но в том-то и дело, что тема эпопеи много шире. Это книга не только об Абае, но и о всей казахской степи, породившей его, с ее совершенно незнакомым нам бытом, о страшных, кровавых обрядах и обычаях, о волчьей вражде родов, о ночных набегах, о темных казнях, о похищении женщин и о том, как пробился свет и дрогнула тьма, висящая над этой степью. Четыре части эпопеи, четыре эпохи пробуждения сознания казахского народа от стихийной покорности до мятежа и дальше, до самого преддверия первой революции, когда уже бушует и ищет выхода народный гнев. Таким образом, последняя часть романа и самая революционная. Ведь именно в ней мы находим главы, посвященные сначала стихийному, а потом уже вполне сознательному восстанию бедняков. И в то же время трагедия Абая все нарастает. Оно и понятно. Человек не бессмертен. Есть предел и для его выносливости. Уже нет сил и возможностей идти обходным путем. Все наглеет враг, проигрывающий ставку за ставкой, а у великого гуманиста осталось время только на то, чтобы говорить прямо. Эта бросающаяся в глаза прямолинейность — не формалистическое обнажение приема, а логическое завершение образа человека, который до смерти остался на своих позициях.
В заключение хочется сказать о некоторых недостатках последних книг эпопеи. Ауэзов — великолепный художник, когда он описывает ночную заснеженную степь, дикие табуны коней, в ужасе несущихся неведомо куда, единоборство человека с волком, когда пишет, как пахнет и звенит степь, это чувствуешь, видишь воочию. Но есть страницы, где автор вдруг, словно утомясь, не находя нужных слов, бросает кисть художника и переходит к скороговорке хроникера. Мы уже говорили об одном из самых драматических моментов жизни Абая, когда враги решили убить поэта. Продолжаем прерванную цитату.
«...Грузный Абай не успел подняться, как на него градом посыпались удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абая хотят забить насмерть, ужаснулись и пожалели поэта — они нарочно падали на него, стараясь прикрыть от ударов своим телом. И таких оказалось несколько человек.
...Окруженный коварными врагами, способными на любое злодеяние, Абай ждал от них всякой мерзости и полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его еще миловала, а вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть. Удары, нанесенные поэту по голове, кровавые раны, иссеченное нагайкой лицо — эти следы волчьих зубов были оскорбительны не только для честного сына казахского народа, родившегося раньше времени, но и для чести и совести всех казахов».
Как хотите, здесь все неточно. Картина избиения Абая дана чисто внешне. Кто эти злодеи, которые вдруг своим телом стали прикрывать того, кого они пришли убивать? Почему они это сделали? И что это за ярлык: «честный сын казахского народа, родившийся раньше своего времени»? Нужно ли эту глубоко трагическую сцену воспроизводить с помощью характеристик, взятых из произведений совершенно иного литературного ряда?
Но дальше. Абай оскорблен, растоптан. Он хочет бросить родной аул, седлает коня и мчится неизвестно куда. И вот что происходит:
«Исхак и Шубар, понукая своих коней... с двух сторон подлетели к Абаю.
— Агатай, Аба-ага, куда едешь? — умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.
— Отпусти, отойди! — крикнул Абай, с отвращением глядя на смертельно бледное лицо Шубара.
...Теперь и Исхак взял под уздцы лошадь Абая.
— Успокойся, Абай, — сказал он тихо без всякого притворства, и по голосу можно было почувствовать, как он по-настоящему мучается, — я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя, она просит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь, не попрощавшись с ней? Ведь она тоже твое дитя.
Услышав эти слова, Абай растерялся.
— Вот кто страдает еще больше меня! — воскликнул он. — Бедняжка моя, как я тебя забыл! — И Абай повернул коня».
Писать так — значит не показывать, а декларировать. Слишком поспешен и прост отъезд, поэтому и возвращение дается чрезмерно легко. Но ведь Ауэзов знает, что это не так, что не ради умирающей невестки вернулся Абай, что он не мог не вернуться. Вообще вся эта сцена скорее беллетристична, чем художественна, в ней довольно заметен налет сентиментальности. Она как будто вырвана из какой-то мелодраматической повести и ощущается в романе как совершенно инородная,
Мы приводили рассуждения Абая о движущих силах истории и, каемся, тоже считаем, что здесь автор изменил себе, сделав своего героя непосредственным рупором своих социально-политических представлений. Таких страниц немного, но корень их, по-моему, один и тот же. Большой художник Ауэзов вдруг непонятно почему начинает сомневаться в своих способностях прямо, ненавязчиво и правдиво раскрыть всю сложность трагедии своего героя. Ему кажется, что он что-то недорисовал, что он недостаточно высоко поднял Абая, не растолковал по-настоящему его значение и величие, — и тогда он отклоняется от художественной правды в сторону правды моралистической, дает плоскостное, одностороннее, однокрасочное толкование поступков и чувств своего героя.
Может быть, наиболее важным недостатком всего произведения является то, что Ауэзов так и не создал в эпопее хотя бы один полнокровный и жизненно достоверный образ кого-то из русских друзей Абая. Бледные тени, похожие друг на друга, с одной и той же психологией, речами и поступками, проходят по страницам романа и тихо рассеиваются, не оставляя и следа в памяти читателя. И остается непонятным, что же именно потянуло страстного, умного, свободолюбивого Абая к этим скучнейшим людям с их штампованной речью и вялой мыслью?
«Абай жадно расспрашивал друга... Узнав о том, что убийство царя было следствием широкого общественного движения против самодержавия, он пришел к твердому убеждению, что русское общество, вслед за своими лучшими людьми, неудержимо стремится к революции. Михайлов еще больше вырос в глазах Абая и казался ему теперь особенно близким и дорогим. Абай забрасывал его вопросами, стараясь лучше уяснить себе то, что уже слышал от него, и разрешить новые недоумения».
Прошло несколько дней...
«Абай жадно расспрашивал Михайлова, как и когда зародилась в России революционная мысль. Михайлов рассказывал ему об истоках борьбы против самодержавия, говорил о Пушкине, Белинском, Герцене, о новом подъеме революционного движения, вызванном Чернышевским. О нем он отзывался с особой теплотой и уважением, и Абай решил, что именно Чернышевский был учителем его друга».
Автор пишет, что «разговоры день ото дня становились все интереснее». Как хотите, я в это не могу поверить.
Но это все авторский пересказ. А вот как говорит сам герой, революционер Михайлов:
«Развитие народного сознания, просвещение — это путь к той же великой цели, иначе народное восстание превратится в мятеж, а не в революцию».
Перелистаем почти тысячу страниц, откроем второй том — и опять раздастся тот же самый голос, так же монотонно и дидактически будет поучать Абая.
«Если этот коварный и сильный враг получит оглушительный удар, потерпит военное поражение, он растеряется, будет ослаблен. А силы революции вследствие этого возрастут, получат реальную возможность действовать. Если же царизм выиграет войну, окрепнет, тогда наступит полный разгул реакции. Тогда революции уже не поднять головы, она будет отброшена на много лет».
Только говорит это уж не Михайлов, а Павлов.
А вот вывод:
«Радостная весть, принесенная Павловым, предстала в сердце поэта в образе юной, золотой зари, забрезжившей у края ночи.
С живой признательностью к другу ощутил Абай, как молодо встрепенулось его омраченное сердце. Посланцем будущего пришел к нему Павлов, и Абаю казалось, что он уже слышит шаги идущего к нему навстречу нового человека, хозяина неведомых могучих сил».
Очень красиво и вполне правильно! Но ведь изображать Абая так — это тоже идти по линии наименьшего сопротивления. И не то, что таких разговоров не могло быть, нет! Они, конечно, были — такие, когда оба собеседника, горячась и перебивая друг друга, делятся отнюдь не литературными цитатами, а всем увиденным и пережитым. Но именно это увиденное и отсутствует здесь. А то, что есть, никак не дает основания поверить, что эти самые беседы и сформировали мировоззрение Абая.
Закрывая второй том эпопеи, хочется пожелать большому художнику Ауэзову, чтобы он больше верил своему таланту и не прибегал к пересказу того, что он обязан показать воочию.
Именно тогда исчезнут в его романе бледные страницы, и фигура Абая предстанет перед читателем во всей полноте жизненной и художественной достоверности.
О Грине
В 1930 году после угарного закрытия тех курсов, где я учился (Высшие государственные литературные курсы — сокращенно ВГЛК), нас, оставшихся за бортом, послали в профсоюз печатников. А профсоюзные деятели, в свою очередь, послали нас в издательства, на предмет не то стажировки, не то производственной экспертизы: если, мол, не выгонят — значит годен. Я попал в такое акционерное издательство «Безбожник». Там у кого-то возникла блестящая мысль: надо издать литературный сборник рассказов видных современных писателей на антирелигиозную тему. Выбор участников этого сборника был предоставлен моей инициативе. Так я сначала очутился у В. Кина, а потом у Александра Степановича. Кто-то — уж не помню кто — дал мне его телефон в гостинице. Я позвонил, поговорил с Ниной Николаевной и от нее узнал, что Грин будет сегодня во столько-то в доме Герцена. Столовая располагалась в ту пору — дело летнее — на дворе под брезентовыми тентами. Кормили по карточкам. Там, под этим тентом, я и увидел Александра Степановича. Я знал его по портретам в библиотечке «Огонька» и сборника автобиографий, выпущенных издательством «Современные проблемы». Он оказался очень похожим на эти портреты, но желтизна, худоба и резкая, прямая морщинистость его лица вносила в этот знакомый образ что-то совершенно новое. Выражение «лицо помятое, как бумажный рубль», употребленное где-то Александром Степановичем, очень хорошо схватывает эту черту его внешности. А вообще он мне напомнил не то уездного учителя, не то землемера. Я подошел, назвался. Первый вопрос его был: «У вас нет папирос?» — папирос в то время в Москве не было, их тоже давали по спискам. Папирос не оказалось, мы приступили к разговору. Я сказал ему, что мне нужно от него. Он меня выслушал и сказал, что рассказа у него сейчас такого нет, но вот он пишет «Автобиографическую повесть», ее предложить он может. Я ему стал объяснять, что нужна не повесть, а антирелигиозное произведение, которое бы показывало во всей своей неприглядности... Он опять меня выслушал до конца и сказал, что рассказа у него нет, но вот если издательство пожелает повесть, то он ее может быстренько представить. Я возразил ему, что сборник имеет определенную целевую установку и вот очень было бы хорошо, если бы он дал что-нибудь похожее на рассказы из последнего сборника «Огонь и вода». Он спросил меня, а понравился ли мне этот сборник, — я ответил, что очень — сжатость, четкость, драматичность этих рассказов мне напоминает новеллы Эдгара По или Амбруаза Бирса. Тут он слегка вышел из себя и даже повысил голос. «Господи, — сказал он горестно, — и что это за манера у молодых все со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом вы правы, но Эдгар тут совсем ни при чем». Он очень горячо произнес эти слова, — видно было, что этот Эдгар изрядно перегрыз ему горло. Опять заговорили об антирелигиозном сборнике, и тут ему вдруг это надоело. Он сказал: «Вот что, молодой человек, — я верю в Бога». Я страшно замешался, зашелся и стал извиняться. «Ну вот, — сказал Грин очень добродушно, — это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет».
Подошла Нина Николаевна, и Грин сказал так же добродушно и насмешливо: «Вот посмотри юного безбожника». И Нина Николаевна ответила: «Да, мы с ним уже разговаривали утром». Тут я нашел какой-то удобный момент и смылся. «Так слушайте, — сказал мне Грин на прощанье. — Повесть у меня есть, и если нужен небольшой отрывок, то, пожалуйста, я сделаю! — и еще прибавил: — Только, пожалуйста, небольшой».
Тайна превращений (из выступления на обсуждении романа Б. Окуджавы)
Я не буду давать оценочных характеристик романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов», а просто скажу, что меня роман удовлетворяет вполне. Я даже не ожидал, что он так меня удовлетворит. Я немного боялся, потому что историю Лавинии и Мятлева-Трубецкого я знаю.
Что меня в этом романе больше всего привлекает и дает мне чувство исторической достоверности?
Однажды мне пришлось рецензировать работу одного исследователя насчет маленького писателя XIX века, которого вряд ли кто-нибудь здесь знает, — я имею в виду Воскресенского. У него есть роман «Женщина». Он начинается вот с чего. Однажды на балу он встречает прекрасную женщину, усеянную бриллиантами. Эта женщина представляется ему каким-то чудом (как декорации Гонзаго). Он не может приблизиться к ней, потому что ее окружает невероятный круг обаяния, отвержения, люди, стоящие около нее, как бы отгораживают ее, а она вся радирует.
Проходит некоторое время. Однажды он возвращается ночью с попойки. Устал, недоволен, мрачен. По улице идут прачки. Они везут бочку воды и белье. А впереди он видит женщину, несколько похожую на ту, которую видел раньше на балу, в том окружении. Его поражает сходство. Он идет за ней и вдруг по родинке узнает, что это та же самая женщина, но в лохмотьях, с тазом. Это чудо превращения просто невозможно, но оно существует.
Проходит некоторое время, однако он не может разрешить для себя эту загадку.
И вот однажды он приходит к испанскому посланнику и видит, что она сидит в ложе с каким-то аргентинским послом. Тут она уже другая: она не русская красавица, она — испанка, но это одна и та же женщина.
И вот дальше проходит несколько превращений. В чем дело? Оказывается, эта женщина — крепостная, ее то любят, то бросают, то опять ее поднимают. Она — человек играющей судьбы. И вокруг нее заворачивается необычайный круговорот других жизней, где и острог и избушка колдовская. Она появляется то в одном, то в другом качестве.
Вот эта фантасмагория николаевской эпохи, это окружение женщины, которая становится виной каких-то фантасмагорических, но вполне исторических судеб, — это сделано гениально. (Может быть, не следовало бы это слово говорить, может быть, это нетактично говорить в присутствии автора, но я говорю об этом, как я считаю, имея на это право.) Она изображена в этой глубокой историчности, в фантасмагории той эпохи. И когда женщина становится тем или этим, вокруг нее закручиваются вихри, и Бермудский треугольник возникает... (В зале смех.)
Расскажу случай, который был вчера. Меня попросили, чтобы я прослушал одну студийку из театрального вуза. Она читает Кафку, и она читает Кафку в «превращении». Я прослушал ее. А новаторство было в том, что эту мужскую вещь — о человеке, превращенном в таракана, читает женщина, которая жалеет того, с кем это происходит. И она рассказывает об этом недоуменно: что же произошло? почему этот человек стал таракашкой? что это такое?!
Я прослушал и сказал: — Все это очень хорошо, все это ново. Но посмотрите — вы же эту роль перевели в Достоевского, в Неточку Незванову, в «Кроткую», и все исчезло, исчезла Германия. Получилась другая фантасмагория, которую нельзя наложить на эту.
И вот когда читаешь Окуджаву, то ощущаешь фантасмагорию николаевской эпохи, никакой другой. И аналогий не найдете. Здесь виден материал, который неповторим. Я не нашел здесь исторических ошибок (я не историк). Великолепный прием. Стилизация достигается не внешними формами, а мышлением, ощущением, тем внутренним монологом, который говорил бы человек. И эта фантасмагория, эти невероятные происшествия со шпионом, с гибелью — погиб неизвестно как — вспомните все эти штуки, которые происходили, — это была та самая реальная мистика. Она ждала каких-то перемен, она ждала 48-го года, потому что 1825 год прошел и был неповторим. В этом отношении, мне кажется, роман Окуджавы неповторим.
Обсуждение романа Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов» состоялось на заседании творческого объединения прозаиков Московской писательской организации 14 декабря 1976 года. Происходило оно после публикации в журнале «Дружба народов» первой книги романа. Председательствовал на обсуждении Г. Березко. Кроме Ю. Домбровского выступили: Л. Жак, В. Соколов, Ф. Таурин, В. Осипов, А. Коган, Н. Рабкина, Б. Хотимский, В. Воронов.
Публикуемые в настоящем томе выдержки из выступления Юрия Домбровского интересны ассоциациями, которые вызвал у него роман Булата Окуджавы. Такие далекие, казалось бы, от переживаний и приключений героев «Путешествия дилетантов», они с неожиданной стороны приоткрывают мировосприятие писателя, его способ мышления, строгий и образный одновременно.
Именно этим руководствовались мы, помещая фрагменты выступления Ю. Домбровского на обсуждении произведения коллеги рядом с его критическими статьями и этюдами о писателях.
Попутно хочется сказать еще вот о чем: архивы не только Московской писательской организации, но и российского Союза писателей, и так называемого «большого» Союза хранят немало «скучных» документов (стенограмм всяких заседаний, обсуждений, совещаний и т. д.), которые ныне обрели историческую важность. Будет печально и постыдно, если мы не обратим пристального внимания на них и не обнародуем. Объективную историю отечественной словесности последних десятилетий трудно написать без привлечения этого огромного архивного пласта.
М. Л.Степан Павлович
Это было осенью или зимой 1959 года. Только что вышла моя, по существу, первая книга. Проходила она трудно очень, несмотря на хорошие отзывы, подолгу застревала в разных редакционных инстанциях, ее снова и снова читали и перекидывали из квартала в квартал, и когда она, наконец, выбралась, вырвалась, вышла в свет, я весь превратился в одно сплошное ожидание. Я ждал рецензий, отзывов, на плохой конец просто упоминаний в общих обзорах литературы за этот месяц или полугодие. Но ничего не было. Книги как будто не существовало. Мимо нее проходили, не замечая, — ну хоть бы выругали, что ли!
И вот тогда я получил одно очень странное и страстное письмо. Мне писал читатель, фамилию которого я сначала даже не разобрал — так она была невнятно написана на конверте. Читатель этот разбирал самую идею моей книги, и она ему нравилась. Он считал, что, хотя книга написана о расовой теории и на материале минувшей войны, еще даже не перешедшей в Отечественную (я брал захват Европы), но она не устарела, да и не может устареть до тех пор, пока фашизм, оставивший после себя на земле «огромные непродезинфицированные помойки», живет, обретает разные формы, проходит через все азы своей отнюдь не короткой стабильности, борьба с ним и с его прямыми и непрямыми потомками должна продолжаться с неослабной силой.
Этот читатель упоминал в письме о своем опыте, о своих переживаниях и о своей борьбе, и тогда, прочитав последнюю строчку этого великолепного письма, я, наконец, разобрал фамилию автора: «Степан Злобин». Я даже, помню, засмеялся от радости! Да, это был как раз тот отзыв, которого я так ждал. Я уже знал про Злобина, этого героя нашего времени, лагерника лагерей уничтожения, одного из тех недрогнувших, неподдавшихся, которые воистину «смертью смерть поправ». Это они разбили врага, выиграли войну, загнали под землю нацизм. Ими был подписан приговор в Нюрнберге. Мог ли я ожидать для себя отзыва более авторитетного и правдивого? И не для этого ли читателя или, вернее, не от лица ли этого читателя — и был написал мной роман?! В общем, я понял, что я получил все то, о чем мечтал, и сразу успокоился.
Встретил я Степана Павловича примерно через полмесяца. Он подошел ко мне после одного из мероприятий в нашем клубе — высокий, красивый, седой человек с совершенно молодым лицом, не тронутым морщинами, и звучным, тоже очень молодым голосом. Он говорил, а я, не отрываясь, смотрел на него. Физиономистика — неточная наука и даже, пожалуй, вообще не наука, но в ней есть такое определение: «героическое лицо» (как в истории живописи есть «героический пейзаж»), и к внешности Злобина оно подходило очень точно. Вероятно, было б проще всего сказать, что я видел перед собой борца — но это слово так же захватано и поэтому уже настолько неточно, что мне не хочется его употреблять... Я видел сильного, мужественного, не отступившего перед всеми смертями человека, мягкого и доброго, доброжелательного и чуткого. Он был страстен и в то же время, пожалуй, несколько робок. Особенно это сказывалось в разговоре: то ли он тебе сказал, так ли ясно высказал свою мысль, понял ли ты его, не навязывает ли он тебе свои собственные, а значит и не обязательные для тебя суждения, — забота об этом все время сквозила в его словах, голосе, умолчаниях, пока он говорил с тобой. Но больше всего он любил все-таки не говорить, а слушать. Это был самый гениальный слушатель из всех, которых я когда-либо встречал. Он слушал, уходя весь в рассказ, переживая его вместе с тобой и стараясь не упустить ни одного слова. Иногда он переспрашивал, просил пояснить, развить и что-то отмечал в записной книжке или на листке бумаги. А вот о своих личных переживаниях во время войны и лагеря он никогда ничего не говорил, и только когда я, прочтя его двухтомную эпопею «Пропавшие без вести», сказал ему, что уж слишком много всякого рода приключений и испытаний падает на долю Емельяна и не убавить ли ему их, ведь не выдержит он один всего этого, не по человеческим силам это, Злобин как-то потупился, смешался, сконфузился и сказал мне как-то неловко:
— Да я уже думал, нет, не получается, я ведь и так все главное, что с ним случилось, отдал другим. Ведь это я — Емельян-то. Видишь как?!
Улыбнулся, развел руками, словно извиняясь, что так нелепо и смешно у него получилось.
Мир и вечная память тебе — Степан Павлович Злобин — большой человек, большой писатель, истинный герой нашего путаного, страшного и самоотверженного века! Мы еще встретимся с тобой, живым, в театре и на экране кино. Только боюсь, что ты будешь не больно похож, потому что передать тебя таким, каким ты был, труд, вероятно, непосильный ни одному актеру.
Встречи со Славиным
Я слабо помню, как я впервые увидел и познакомился со Львом Исаевичем. Кажется, это произошло лет 20 тому назад в Доме литераторов. В то время еще не было возведено то великолепное многоэтажное здание с рестораном, разнообразными буфетами, биллиардной, концертными и выставочными залами, переходами, лестницами, лифтами, кабинетами — простыми и особыми, — которое так гордо взметнулось на улице Герцена и как бы поглотило, растворило в себе особняк Ольсуфьевского дома, что на улице Воровского, Вот, кажется, именно на этой уличке и в этом особняке, в скромной узкой комнате, похожей скорее на коридор, чем на зал ресторана, я и подошел к Льву Исаевичу, представился и познакомился. Потому подошел и познакомился, что большого писателя Льва Славина я знал давно и знакомству этому ныне пошел 47 год, великая часть человеческой жизни. Вот это-то знакомство я помню очень ясно.
Произошло оно летом 30 года, в Лефортовском военном госпитале, где я работал тогда санитаром. Днем я сбивался с ног, а ночью, когда все затихало, — и телефоны, и души, и посетители, — я сидел на широком, — еще екатерининском, — подоконнике и читал. Толстых журналов тогда выходило примерно столько же, как и сейчас. Уже были «Молодая гвардия», «Звезда», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни». Но выходил и еще один журнал самый почтенный и уважаемый, основанный лично Лениным, — «Красная новь». Люди моего поколения помнят его бурые обложки, твердые, крепко схваченные и жестко сброшюрованные книжки, хрустящие и белые страницы, отпечатанные, как мне сейчас кажется, на какой-то хорошей, особенно чистой бумаге. Вот там-то не то в июле, не то в августе я и повстречал дотоле мне неизвестное имя Льва Славина и название романа «Наследник». И стал читать этот роман и когда отложил его, было уже утро.
Есть разные встречи с большими произведениями искусства, в иные входишь трудно, откладываешь книгу, отходишь от картины, бродишь, думаешь, переводишь дыхание, отдыхаешь и потом все-таки идешь дальше, потому что ты уже заболел этим произведением, потому что уже чувствуешь, что главное где-то впереди. И вот узкая дорожка вдруг расширяется, становится легче дышать и двигаться, и перед тобой блеснула ясная даль широкого романа. И есть книги совсем другие — автор встречает тебя у входа, берет тебя за руку и, непринужденно разговаривая, иногда шутя, а иногда не допуская никаких шуток, ведет тебя за собой. И ты послушно следуешь за ним, слушаешь его отчетливый ясный гибкий голос. Идешь, идешь и не замечаешь дороги, не чувствуешь тяжести пройденных сотен страниц — тебе легко, свободно дышится, ты весь находишься в обаянии правды, ясности и огромной внутренней силы, ума, независимости и свободы своего провожатого. Вот такое впечатление с первых же строк произвел на меня роман Славина «Наследник». Я шел и шел за ним — добрым, простым, ясным человеком. Он так дружески, непринужденно говорил со мной о славном юноше Иванове, о всех смешных и чудных происшествиях. И вот ведь удивительно: рассказывается самая обыкновенная, если хотите, даже немного пошленькая история похождений некого молодого одесского фендрика, этакого чудесного парня из богатой еврейской семьи. На него в августе 1916 года свалилась самая большая неприятность, какую только можно выдумать: к нему пришла повестка от воинского начальника. Его призвали в армию, сражаться с коварными тевтонами — за веру, царя и отечество. А фендрику было наплевать на всю эту великолепную тройку, они были для него величины абстрактные, несуществующие, для него реальна была только Одесса-мама с ее ресторанами, портами, бульварами, биллиардными, где витала обворожительная Тамара Павловна, «равно всем общая, как чаша круговая» — это уже не Лев Славин, это Александр Пушкин. А над всем этим гордая, обожаемая и злая, недоступная Катя — невеста негодяя с черными зубами, поручика Третьякова. Как же бросить все это? Иванов, так фамилия фендрика, сына того самого Иванова, которого мы можем увидеть в Художественном театре, начинает «оттягиваться» — т. е. расшатывать свое здоровье. Ему нужны сердечные перебои, нервный тик, хрипы в легких — все кроме венерических болезней, ибо, как сказал дедушка, — они не освобождают. И вот разворачивается это одесско-хохмаческая клоунада, приключения, как будто нарочно списанные из плутовского романа, смешные страдания, жалкие озарения. Здесь все ненастоящее, все поддельное, натянутое, вырезанное из раскрашенной фанеры, все дрыгает, мельтешит, изворачивается, как в театре марионеток. Что здесь может быть настоящего? Что здесь достойно человека? Но пройдя через эти пышно намалеванные декорации, леса ресторанных пальм, юноша становится настоящим человеком. Он понимает, что действительность, к которой он так серьезно относился, тоже абстракция, видимость жизни, а не жизнь. Пробужденный каким-то толчком, вдруг поднял голову и увидел все шнурочки, резиночки, веревочки, которыми все это приводилось в движение и казалось живым. С ним произошло великое чудо перерождения, он, говоря словами Радищева, «взглянул окрест себя». Я пытаюсь тут очень коротко и, как сам вижу, не больно складно передать то, что посетило меня осенью 30 года, когда я закрыл последнюю десятую книжку «Красной нови».
А года через полтора примерно я встретился со Львом Исаевичем на сцене театра Вахтангова. На первом представлении «Интервенции». Да, шла «Интервенция». «Идет армия союзников», — как сказано в последней реплике первой сцены. Какое же это было богатое, красочное, светоносное зрелище, именно светоносное! Я не знаю или забыл фамилию художника, но он сделал все, чтобы передать волю, простор, необычайно влажные краски этого необыкновенного города — Одессы 18 года. Все было богато, великолепно в этой пьесе. Например, одесская негоциантка мадам Ксидиас — словно осколок всех молдавских красавиц, о которых Пушкин писал: «Положив под... ну, скажем, попу, ноги, дамы преют и сидят»; и Филька-анархист — Рапопорт был поистине великолепен в этой роли, второго такого Фильку не увидишь; и старичок-провизор, который уж Бог знает сколько лет не видел обыкновенного анализа мочи, а все стреляные раны, раны.
Но на самом деле вещь была еще богаче. Автор много выкинул из нее. В журнале «30 дней» появились сцены, которые в канонический текст так и не вошли. Там, например, было ограбление банка, даже не ограбление, а хирургическая операция над ним. Представляете: приходит старый, авторитетный, ни к чему грешному не причастный мастер, его почтительно приглашают в комнату, он садится за столик, просит стакан воды, ему подают, вот именно так — прошу стакан воды, берет инструменты, подходит и что-то делает с сейфом, прослушивает его, простукивает, щупает его пульс. Сейф распахивается. Доктор отходит, он даже не интересуется, сколько он заработал, пациент оплатит, его дело — наука, он весь ушел в нее.
Таковы были мои первые встречи со Львом Исаевичем.
Наша последняя встреча — это «Арденнские страсти». Я недавно прочитал роман и нахожусь еще под его впечатлением.
Нет, старый мастер не стал иным, его талант не потускнел. Это жестокая, великолепная и грозная вещь. Это как «По ком звонит колокол». Ее грозный набат сейчас звучит громче, чем когда-либо. О ней еще пока рано писать — она только что вышла, ее надо читать. Читайте, пожалуйста, и помните, в какое время и в каком году мы живем. Я благодарен Льву Исаевичу за то, что он мне дал испытать скорбную радость познания.
Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать.
Памяти Шухова
Позвонили по телефону из Алма-Аты и сказали, что Шухов... Последнее слово трубка либо вовсе съела, либо я его не расслышал.
— Что Шухов?
— Умер, умер, — повторили.
— Как? — спросил я совершенно по-дурацки, еще, кажется, не полностью понимая смысл сообщения.
И тут человек, который тоже был потрясен в глубине души и жил с этим уже целые сутки, рассказал обо всем обстоятельно, с подробностями, которых я теперь уже совершенно не помню. Да разве до них было, до подробностей! Я помню себя, телефон и голос где-то на другом краю страны. Мы говорили о чем-то еще, относящемся к похоронам, к семье, к рукописям покойного, и я положил трубку. И только отойдя от нее, окончательно понял, принял в себя случившееся в Казахстане...
Настоящая скорбь в таких случаях либо сражает сразу, либо приходит с опозданием. После того, как ты примиришься с тем, что вот этого человека, живого, охочего до смеха и хорошей шутки, стихов, любившего слушать чужие вещи и тщательно прятавшего даже от друзей свои, хотя они были порой на голову-две выше тех, которыми он искренне восхищался, — так вот этого человека уже нету! «Не был, был, никогда больше не будет», — как выбито на плите на каком-то древнем римском кладбище.
Во время одной из наших прогулок (или посиделок, не помню) я прочел эти слова, и Шухов — страшнейший жизнелюб — не омрачился, даже не задумался, а засмеялся: «Вот это уж никак не укладывается у меня в голове — никогда больше не будет». — «А будет?» — спросил поэт Ваня Калашников. «Обязательно, — ответил Иван Петрович. — И не единожды». — Он редко говорил таким языком — и поэтому я запомнил это великолепное и твердое «не единожды»...
Написал и вижу, что разговор о Шухове я начал с самого себя.
Вероятно, это не совсем хорошо, но иначе и быть не может. Каждое воспоминание о большом человеке, которого ты знал и любил, есть рассказ о твоей собственной жизни. Ведь роль Ивана Петровича в моей жизни была чрезвычайная. Об этом и пишу.
Очень трудно сказать, сколько же Иван Петрович проработал в «Просторе» (тут нужны довольно сложные вычисления). Был автором, членом редакционной коллегии, главным редактором. Журнал за эти годы несколько раз менял название — был он и «Литературный Казахстан», и «Литература и искусство Казахстана», и «Советский Казахстан», — пока не обрел свое настоящее и неотъемлемое — «Простор».
Представляю себе, как это название, вернее наименование, пришлось по душе Ивану Петровичу — ведь он был природный степняк, — его небольшая, но сильная фигура, широкая грудь, руки, которые умели не только держать перо, но и диких коней обуздывать (он сам мне рассказывал пару таких случаев из своей юности) — все это требовало степного простора, степной бескрайности.
В трудные годы (а они были!) он ехал — нет, кидался в свою Пресновку, и она всегда выручала его. Возвращался он окрепший, — пространством и временем полный, — забывший, вернее, стряхнувший с себя — как сухую дорожную пыль все беды и неприятности... А вот к людям он относился не так. К сожалению, тут мои возможности обрезаны. Обрезаны им самим.
К сорокалетию журнала, как и многие старожилы, я написал воспоминания. Он прочел их и решительно перечеркнул страницы, посвященные ему и его работе с начинающими писателями, — людьми часто сирыми, ни в чем не уверенными. «Нет, так не годится. Это что же такое? Про покойника, что ли, пишете?» рассердился он.
...Это была моя первая стычка с Иваном Петровичем. Все остальные кончались смехом. Он давал мне иногда рукописи на консультацию, не часто — рукописей в те давние, довоенные годы было мало, сотрудники справлялись сами, и денег не было, чтоб оплатить рецензию. Но, конечно, когда это требовалось, мы читали бесплатно, да и было-то нас, творческого актива журнала, раз, два и обчелся — П. Кузнецов, Л. Макеев, Д. Онегин, Н. Титов, В. Чугунов, И. Калашников, я, ну и, конечно, сам Иван Петрович.
Так вот, однажды, когда была вынута из стола одна рукопись, Иван Петрович сказал: «Почитайте-ка, пожалуйста». — «И отзыв дать?» — спросил я. «Нет, отзыва не надо, — ответил Шухов. — Понимаете, я прочитал и вот — не знаю. Рукопись явно не подходит — очень уж лично, вся разваливается по кускам, без сюжета и, как бы вам сказать, нескончаема — ее можно и бросить на любой странице, и продолжать до бесконечности: с диалогами плохо, с характерами тоже».
«Так в чем же дело?» — спросил я. Вкус у Ивана Петровича был абсолютный: он легко принимал и понимал любую вещь, даже если она не звучала на его волне. Только бы она была настоящая, не построенная на приближении с любой, пусть самой модной моделью.
«Стиль прекрасный, — сказал Иван Петрович. — Природа так и дышит, посмотрите, как описывается купание лошадей». — И он прочел мне несколько чудных абзацев. — «И не рябит в глазах от красок, — согласился я. — Все мягко, не резко». — «Вот, вот, — обрадовался Шухов. — Возьмите, посмотрите тут целые страницы можно пролистывать... И позвоните. Ладно?»
Рукопись была не больно велика: страниц полтораста машинописи, но дочитал я ее до конца с превеликим трудом. Да, все, что привлекло в ней Ивана Петровича, было действительно хорошо в отдельных местах. Точность слова, меткость, острота эпитета, простая, короткая фраза, великолепные пейзажи. Хорошие места напоминали раннего Бунина, хотя было ясно, что о Бунине автор не слышал. Но все прочее было ужасно — ходульно, распадалось и осыпалось, как штукатурка... Рукопись положительно не годилась для публикации — сокращай ее, не сокращай, переделывай, не переделывай. Я позвонил об этом Шухову.
«Да, — сказал он, — сам вижу, что вещь безнадежна, но такой стиль, такое, как бы сказать...» — «Видение», — подсказал я. — «Это ваше слово, не мое, — усмехнулся он, — просто хорошо, и все тут. Описывать умеет, а тпрру... Ну, что же... — Он опять помолчал, подумал о чем-то и сказал: — Беден он уж очень. Худ. В чем душа держится».
Через несколько дней я увидел автора. Он был, действительно, худ, в белой, видавшей виды косоворотке с ржавым воротником, заколотым английской булавкой, с продолговатым длинным лицом и бородкой, чем-то с боку смахивающий на Тимирязева. Автор сидел с Иваном Петровичем на зеленом диванчике в коридоре редакции, и Шухов что-то ему тихо втолковывал. В руках Шухова была рукопись. Он говорил, говорил, и тот все слушал, слушал, а потом кивнул головой и спросил: «Авансика нельзя?» — «Нет, — Иван Петрович с сожалением махнул головой, — никак нельзя, дорогой. У нас нет договоров, только гонорар. А он платится после напечатания».
И старик поднялся, забрал рукопись — тут еще раз стало видно, как он худ, нищ, неухожен и несчастен, — кивнул головой и тяжело двинулся к выходу. Я стоял и смотрел, хотя мне совсем не полагалось присутствовать при всем этом. И тут Шухов поглядел на меня и вдруг крикнул: «Постойте-ка!» — и кинулся за уходящим. Они вышли на улицу. Больше в тот день я Шухова не видел. А на другой день и по другому поводу позвонил ему — повод был, надо сознаться, неважный, даже, пожалуй, придуманный — но уж очень мне не терпелось узнать конец истории со стариком. «Ну, чем все кончилось?» — спросил я. — «Да выколотил кое-что из консультативного фонда. Мухамеджан выслушал, подписал и ничего не сказал». — В ту пору председателем Союза был Мухамеджан Каратаев.
Второй неофит был совершенно иного типа. Здоровенный, с мохнатой лиловой шевелюрой дядька. Он написал роман из жизни Лермонтова на толстой оберточной бумаге — в такую, с соломинками, заворачивают развесное мыло, — и теперь непременно хотел его напечатать. К нам относился иронически. Материалы о Лермонтове почерпнул из «Героя нашего времени» — больше ничего не знал и знать не хотел.
После долгого и утомительного разговора с ним — говорил я, а он молчал и только изредка гудел, как телеграфный столб, — я хотел подать ему на прощание руку — он спрятал огромные свои лапищи и сказал с издевательской иронией: «Ничего, ничего, ничего». Тут вошел Иван Петрович, увидел рукопись, взял ее в руки, прочел заглавие и псевдоним «Иван Жалкий» и спросил: «Почему же Жалкий?». И автор ответил тем же тоном: «Ничего, товарищ редактор, ничего». — «А вы кто по специальности?» — спросил Иван Петрович. «Парикмахер», — ответил Иван Жалкий с вызовом. Иван Петрович покрутил рукопись. «Зайдите завтра. Я постараюсь прочитать», — сказал он. — «Не могу, я в Талгаре работаю. А в Алма-Ате особые обстоятельства». — И гордо ушел, не подав руки и даже не кивнув нам на прощание. Мы оба ошеломленно молчали. «Что у него за роман?» — спросил Иван Петрович. Я сказал. — «Да, — покачал головой Шухов. — Тип. Такого не забудешь».
И, верно, не забыл. Почти через сорок лет он однажды спросил меня: «А Ивана Жалкого помните?» Я ответил, что помню. — «Да, такого не забудешь», с грустной улыбкой согласился Иван Петрович. И я понял: ведь тогда, во время того чудаковатого разговора, мы все были молоды. А сейчас? И мне тоже стало немного грустно...
Да, я знал Ивана Петровича в годы его расцвета — сильного, молодого, быстрого, ловкого, ухватистого. И насколько помню, у него всегда было преотличное настроение. Если его что-нибудь сильно задевало, он вспыхивал, сердился, выражал свое мнение об этом человеке — всегда очень картинное и меткое, иногда нервно расхаживал по кабинету, и настроение все равно не портилось. Да и недолги были эти вспышки — побегает, покурит, стукнет иногда кулаком о стол или подоконник, скажет, наконец, что-нибудь еще крепкое и картинное, потом сам же этому рассмеется — и конец. Но были вещи или поступки, которые он не прощал, и люди, которых он по-настоящему не любил. Вот тем у него прощения не было. Мелкие же столкновения или стычки у него просто не шли в счет, были из какой-то иной системы отсчета.
Я знал и немолодого Шухова, но и тогда этот упоенный делом своей жизни человек смело мог написать о себе строки о том, как он колесил по просторам своей страны и как находил дружеский приют у ночных придорожных костров, продувных вагончиков полевых бригад, под шаткой кровлей легендарных палаток (См. «Простор», 1964, № 10, очерк «Чаша жизни»). Ивану Петровичу в ту пору было под шестьдесят...
Записки мелкого хулигана
В Секретариат Союза писателей
от члена Союза Ю. О. Домбровского
(членский билет 0275)
Москва, К-92, Б. Сухаревский, д. 15, кв. 30.
Б-3-40-47
Начну с самого конца: 10 мая меня вновь повесткой вызвали в тот самый нарсуд на улице Чехова, где за месяц до этого я получил десять суток ареста за мелкое хулиганство. Перед тем, как пойти туда, я зашел в Союз и попросил, чтобы мне дали юрисконсульта. Юрисконсульта мне дали, она была со мной, была в суде, была во время разговора с нарсудьей Кочетовой, была, когда я наконец-то первый раз (тогда, перед судом и осуждением, мне этой возможности не дали) знакомился со своим делом.
Разговор с нарсудьей Кочетовой оказался очень странным.
Судья Кочетова (читая больничную справку о моем состоянии). И вы, такой больной человек, полезли в эту историю. Как же вы могли?
Я. Гражданин народный судья, все это я заработал у вас и из-за вас. Все четыре болезни. А насчет дела разрешите мне в конце концов разъяснить, что же было...
Кочетова (перебивает). Я ничего не хочу слушать. Решение уже вынесено.
Я. А если решение это неправильное, неправомерное, не отвечающее существу дела, если оно какое хотите, но только не справедливое, тогда что?.. Я спас женщину от ножа! Ее резали, ей рвали рот, понимаете вы это?!
Кочетова. Решение уже вынесено.
Я. У нее был разорван рот, понимаете? Пальцем! Я видел, как это делается, и на Колыме, и в Тайшете, в карцерах. А на губе у нее был порез — полоснули ножом.
Кочетова. Приговор вынесен.
Я. Комната была залита кровью, и в крови валялся финский нож.
Кочетова (радостно — наконец-то она поймала меня на противоречии). То вы говорили, что брали ее в домработницы, то, что...
Я. А разве это одно другому мешает? Если женщину один берет в домработницы, то другой ее может резать? Я заявил об этом милиционеру, я сказал — пойдите вниз, там засела шайка картежников, там вся комната в крови, там...
Кочетова (кончает разговор). Приговор уже вынесен. Я ничего сейчас не могу сделать. (Я жму плечами — что говорить дальше?) Но так как вы больны, то я заменю арест штрафом. Это единственное, что в моих возможностях. Вы согласны?
После этого мы знакомимся с делом. Моему адвокату его дают на просмотр. Сидим рядом и читаем. Оно уже пухлое, законченное, обросшее постановлениями, запросами, ответами, аккуратно подшитое. Начинаем читать с конца, с того, что мы в некий период именовали «доносы», о чем мне еще придется много говорить. Аккуратнейший чертежный почерк, буковка к буковке. Писал ответственный съемщик. Внизу тем же полупечатным почерком выведены фамилии жильцов. Он — она, он — она, он — она; пропуск: вот здесь надо расписываться. О, как я знаю эти старательно выведенные, стандартные буквы, этот стиль — патриотический, велеречивый, подлый и неграмотный; сколько я видел таких бумаг в своих делах, в делах моих товарищей, они откуда-то выплывали в период реабилитации. Творчество этого человека я знаю особенно хорошо. Еще бы! Это его четвертый донос, который я читаю. И в тех были те же тщательно вырисованные фамилии с местом для росчерка, те же туманные, но очень страшные формулы: «Разлагает...», «нарушает моральный кодекс...», «антиморально...», «антиобщественно».
Все это я, повторяю, читаю уже четвертый раз.
Первый раз, когда писалось про первого мужа жилицы справа.
Второй — когда он писал о муже жилицы слева.
Третий раз — когда просили дать возможность сыну жилицы справа после отбытия наказания прописаться по прежнему месту жительства. Это было доброе дело. Но есть люди, которые, как бы им этого ни хотелось, добра сделать не могут. Не дано оно им. Мне кажется, что и автор всех этих трех бумаг такой же. Общий смысл этого заявления был такой: мы, жильцы квартиры 30, просим помиловать Юрия Касаткина; отец Юрия — пьяница и распутник, он бросил жену, заведовал столовой и пьянствовал сутками. На нем уже висит несколько партийных взысканий (на Касаткине ничего не висит, он партиец почти с сорокалетним стажем). Так что же ждать хорошего от сына подобного разложенца? Яблочко от яблони ведь недалеко падает. Помилуйте сына!
Но этот потешный документ был хотя бы лишен того, чем два предыдущих и четвертый (заявление на меня) оканчивались, — «просим изолировать».
В этом слове «изолировать» и был смысл всех трех документов. Еще тогда, на заре наших отношений, читая первый из них, я подумал: да сколько же подобных просьб было написано и подано этой рукой в предыдущие года: года 37-й и 39-й? Года 40-й и 53-й? И какая часть из них была уважена — двадцать пять процентов, пятьдесят, сто? Конечно, тогда действовали в одиночку в темноте, на соседа не собирались подписи, не выводились чертежным почерком фамилии, не оставлялись места для росчерка. Но и те три документа не состоялись просто потому, что тот первый, к которому «автор» обратился за подписью, достаточно ясно высказал ему это.
Но все это, так сказать, заметки на полях, вопрос, на который не может быть ответа. Он просто невольно приходит в голову, когда читаешь вот такую бумагу. И, конечно, она была заготовлена впрок давно. Но дана жильцам только после моего ареста: он — она; он — она.
Таков первый документ, который мы просматриваем. Второй документ — мое объяснение; третий документ — тоже мое объяснение. О них я буду говорить дальше. Затем заявление двух соседок. Краткий, но исчерпывающий смысл его таков:
«Домбровский в нетрезвом состоянии привел к себе в комнату неизвестную нетрезвую женщину. Он хотел ее оставить одну в комнате и уйти. Когда мы стали протестовать, он обругал нас нецензурно, сказал, что он писатель и что ему все дозволено. Поэтому — мы просим...»
Последнее — постановление милиции на форменном, так сказать, фирменном бланке. Это бланк о применении закона от 19 декабря 1956 года.
Заключение: «Зам. нач. отд. Доставить дело в суд вместе с личностью Домбровского». И, наконец, бланк и в нем — «10 суток».
Адвокат закрывает дело.
«Писать, конечно, можно, — говорит она, — но, по-моему, Юрий Осипович, у вас вряд ли что выйдет».
Что ж, может быть, и верно, вряд ли что выйдет. Но писать я обязан.
Женщину, которую я привел к себе в комнату, жильцы нашего дома знают уже лет двадцать. Едва я лет восемь тому назад приехал в этот дом и поселился в этой квартире (откуда чуть не буквально сбежал мой предшественник — поэт Сидоренко), как мне рассказали: в нашем подвале притон, там живет преступная женщина. Она вечно пьяна. У нее двое детей. Было четверо, но двоих из них она не то подбросила, не то придушила. В общем, пропали дети. В подвале пьют, скандалят, убивают. На пожарной лестнице недавно повесился какой-то мужчина. Ее рук дело! И не повесился он, а его повесили. В общем, не баба, а черт. Так мне рассказали соседи. В своей жизни чертей я видел уже предостаточно; мест, «где вечно пляшут и поют», тоже. Поэтому даже интереса эта «соблазнительница» и ее притон у меня не вызвали. Познакомился с ней лет через пять и совершенно случайно: около нашего парадного постоянно играли две девочки, и каждый раз, проходя, я давал им то гривенник, то конфетку, то печенье, то иллюстрированный журнал, то детскую книгу с картинками. Ведь они с такой радостью бежали мне навстречу и кричали: «Здравствуйте, дядя Юра!» Конечно, не всем детям можно что-то давать на улице, не каждой бы матери, верно, это понравилось бы. Но этим детям нужно было все: и печенье, и гривенник, и книжечка Пушкина, и даже просто ласковое слово, когда у меня не было с собой ничего. Я понял это сразу. Сколько лет было этим девочкам? Ну, наверно, пять одной и четыре другой. Когда им исполнилось лет десять, я как-то узнал (мы почему-то никогда с ними о жизни не разговаривали), что они и есть дети той страшной женщины, которую боятся жильцы и избегают «порядочные». Узнал я и ее фамилию — Валентина Арутюньян. А потом она меня вдруг сама остановила на улице.
Я увидел немолодую низенькую женщину, хромую, плохо одетую, истощенную и бледную (помните «Прачек» Архипова? Ту фигуру на переднем плане?), которой иногда даже и по улице пройти трудно, так она хромает. Это было так разительно, что я уже заинтересовался по-настоящему, и отсюда началось мое грехопадение: я спустился в подвал к «неприкасаемым».
То был поистине страшный подвал. Страшный не своей нищетой и ветхостью, а каменным холодом. Все текло и сочилось. Не было даже отопления. Как можно жить зимой здесь — я так не понимаю и до сих пор. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать эту женщину, но все страшное оказалось ложью: и убитые дети, и повешенный, и разбой, и даже, как ни странно, притон. Пьют здесь не больше, чем везде в подвалах, то есть все-таки порядочно. Заходят сюда тоже многие, либо товарищи ее сожителя (или мужа, как хотите, я что-то вконец запутался в этих различиях), либо подруги самой Валентины Арутюньян (подруг у нее достаточно), либо друзья и подруги ее соседа. Когда-то Арутюньян жила в хорошей благоустроенной квартире, у нее был отец, работник ответственный и даже страшный (так называемые «старые чекисты», наверное, помнят и сейчас Никанорова Ивана Николаевича), была хорошая обстановка и хорошая жизнь. Одна вещь в этой низенькой, постоянно темной комнате (срезали даже электричество!) напоминает мне об этой поре: это то ли шкаф, то ли сервант старинный, дубовый, дорогой, с двумя медалями на обеих створках (по-моему, Франциск II и Мария Стюарт). По словам Арутюньян (и это подтвердила старуха, которой лет 80 и которая присутствовала при ее рождении), они въехали в квартиру Дзержинского, и отец хорошо знал Суслова. «Я постоянно сидела у него на коленях». Так это или не так — опять не знаю. Но твердо я усвоил одно: вот была благополучная счастливая жизнь самой обыкновенной девушки, не особенно хорошей и не особенно плохой, а потом посыпались несчастье за несчастьем: смерть отца, война, смерть мужа, лагерь, первый ребенок (выпустили, но мать не захотела прописать ее в своей квартире после отбытия наказания) и затем вот этот подвал и мужья... один, второй, третий.
Я не судья, не следователь, не милицейский работник, не социолог, а в данном случае я даже и не писатель. Я только жилец третьего этажа, который однажды счел себя вправе спуститься в подвал. Все это и было оскорблением всей квартиры № 30. Несмываемым!
Квартира в подвале имеет две комнаты, одна комната была на замке. Потом мне как-то раз удалось заглянуть туда. Уверяю вас, в то время это была еще настоящая квартира среднего служащего — стоял шифоньер, был дешевенький фарфор, тахта, ковер, еще что-то такое. Так вот, когда я зашел впервые, эта комната была замкнута, в нее Арутюньян не пускали. В ней числился какой-то директор магазина. Но легально (днем то есть) он спускался сюда раза два в год. А потом вдруг замок исчез и комната опустела. Владелец сбежал, фарфор исчез, ковер содрали — пришла жена и все унесла. Но бежать-то директор сбежал, а друзья-то его (ночные) остались. У таких людей друзей сколько угодно — друзей на выпивку, на девочку, на преферанс, на развеселую ночку — всего этого я не застал и никогда не видел. Но вот с дружками этого исчезнувшего жильца мне вдруг пришлось столкнуться, и очень больно. Вот так это вышло.
Из Пятигорска ко мне приехал мой знакомый, мы были с ним у Арутюньян — для разговора, к сожалению, с некоторых пор моя квартира малоудобна (но об этом после). На второй день нашей встречи мы шли по улице, и меня позвала девочка: «Дядя Юра, вас мама зовет». О том, что мы увидели, следовало бы, по всей вероятности, писать словами милицейского протокола. Мой слог с этим не справится.
«Комната оказалась залитой кровью. На кровати лежала женщина, зажимая лицо платком, платок был в крови. Лицо женщины было разбито. При входе нашем в комнату она вскочила с кровати и истерически крикнула: «В той комнате играют в карты — меня убивают, спрячь меня, пожалуйста!» Так я написал бы, если был бы милиционером. А теперь вот от себя.
Я увел женщину к себе в квартиру. По дороге она мне объяснила, что ее избили друзья бывшего жильца. Сказала, что жилец где-то скрывается, а друзья его ходят и требуют комнату на ночь, стол, чтобы резаться в карты, постель для девочек, а главное, чтобы не было посторонних — и детей вон, вон, вон! — так она мне рассказала.
Верно, Арутюньян выполняла эти требования очень долго. Но вот в этот день она почему-то откaзалась. Опять-таки почему — не знаю. И благородных мотивов у ней предполагать я не вправе. Но разбушевавшаяся кодла (выражаясь по-лагерному, но иначе и не скажешь), решила ее проучить по тому же самому тюремному шакальему кодексу. «Ах, не пустишь, стерва!..» Били ногами на кровати, свалили на пол и били там, саданули стамеской, резанули ножом. В общем, когда я и товарищ привели Арутюньян ко мне, кровь капала с нее, как из треснутой банки вишневое варенье. Сознаюсь, в первую минуту я просто растерялся, мы стояли с товарищем и смотрели, как женщина лежит на диване и хлюпает, а кровь у нее пузырится из носа. Потом я сказал товарищу: «Ну вот что! Ты побудь с ней, а я сбегаю за угол за скобками в аптеку». (Что-что, а сшивать такие раны я умею — Колыма научила.) Но когда я отворил дверь в коридор, то увидел перед своей комнатой мяукающую и орущую массу женщин. Собрались все, кто был: портниха, жена шофера, дочка жены шофера. Я привел в их квартиру женщину из подвала. Неприкасаемую! Зачем? Как я смел?
— Но ее же убьют, — сказал я.
— Ну и пусть убивают, — ответили мне, — туда ей и дорога.
— Но я так не думаю, — сказал я.
— Ах, не думаешь, — завизжала женщина.
И тогда пришла милиция.
Я ко многому привык и многое узнал за восемь лет, живя здесь. Я узнал, что такое коммунальная квартира, я отлично теперь знаю, что значит, в понимании моих соседей, «мой дом — моя крепость». Стоит только посмотреть на запоры этой крепости, ее крючки, крюки, замки, перевернутые так и эдак, запертые просто и поставленные на ребро, так, чтобы их нельзя было открыть после десяти часов ни одним ключом (воров такие замки не остановят). Привык я и к крикам о том, что в квартиру (ко мне то есть) приходят неизвестные, а кто их знает, что за люди, что у меня, кроме книг и картин, воровать нечего (какому дураку нужны книги и картины, да еще старые?). А у них и новые платья, и горка хрусталя, и три чайных сервиза, и два сервиза обеденных. Так что реакция квартиры, вопли ее у дверей (а иначе, чем воплями, их не назовешь) и даже самый приход милиции меня не удивили. Раз нажато «02», издан вопль SOS — милиция обязана садиться и мчаться.
Удивило и потрясло меня совершенно другое. Когда пришли милиционеры и увидели в комнате двух совершенно трезвых растерянных мужчин и хлюпающую, как говорят, кровью умывающуюся женщину, то они не заинтересовались ни избитой и порезанной, ни тем, кто ее резал, бил и истязал, ни заявлением ее о том, что в подвале режутся в карты и на полу валяется финский нож, а совсем другим: жилец привел неизвестную, а сам собирается куда-то уходить. Объяснить я ничего не мог — не слушали. Разговор милиция начала в таком тоне:
— Что? Бьют? Да тебя давно убить надо.
— Убивают? Ну что ж? Похороним!
— В карты играют? Ладно, ладно, сама приваживала, а теперь плачешь.
— Финский нож? Да на тебя и топора мало.
В таком тоне и велся весь разговор. Тон благодушных подвыпивших парней, «заводящих» пьяного; разговор санитара с сумасшедшим о его миллионах. Ох, эта непробиваемая броня служителей порядка. Эта смешливость, которая вдруг нападает на работников милиции, когда их просят о помощи. Сколько я ее видел и слышал! Сунуться опасно, говорить не о чем, вот начинают смеяться. А потом еще эпатация: обалделый обыватель отваливается сразу. Он уже ничего понять не может. Напишу только о последнем случае из ряда очень-очень многих, которые мне пришлось наблюдать.
Раз на нас — а нас было четверо, из них две женщины — набросились двое развеселых парней с гитарой и ножами. Это было не на окраине, а напротив бразильского посольства, то есть у самых-пресамых дверей Дома литераторов. Было, повторяю, нас четверо — жена поэта Наровчатова, редактор и парторг Гослитиздата, художник-декоратор и я. Я с Галиной Наровчатовой шел впереди, поэтому, как и из-за чего возникло столкновение, я так и не знаю — то ли пьяный толкнул кого-нибудь из нас, а тот огрызнулся, то ли вид был у женщин не тот (шляпки, блузки), то ли фамилия у редактора — Коган, в общем, повторяю, я этого так и не узнал. Но просто-напросто один из парней взял Когана за грудки, да и трахнул его о решетку. Когда я бросился на помощь, оба парня с радостью переключились на меня. Тут был весь уголовный антураж, не воров, а тех, кого в лагере зовут «сявками», — руки в карман, кулак к носу и двое вооруженных против двоих безоружных. Женщин попросту отбросили. Я справился со всем один: и с матом, и с ножом, и с пальцами рогаткой в глаза: «Ты что, падло, в лоб захотел?» — и еще кое с чем. В течение трех минут мы стояли друг перед другом, матерились и орали на весь квартал. Но в эти три минуты — великое время для жизни и смерти человека! — Галина Наровчатова успела добежать до милиционера и стала звать его на помощь. И угадайте, что ей сказал милиционер? «Знаешь что?.. Сама с ними пила, а теперь их сдать хочешь?! А ну, иди отсюда!» За точность слов, конечно, поручиться не могу, но смысл передаю совершенно точно. А я ведь знаю, что для того, чтобы превратить человека в черепаху, достаточно десяти секунд; чтобы зарезать и пырнуть под сердце или в горло — и трех секунд, пожалуй, много, а чтобы добежать и оказать помощь — и минуты хватит. А у милиционера три минуты ушло на то, чтобы поглумиться над испуганной и совершенно трезвой женщиной. Просто он ржанул, повернулся и пошел в сторону, противоположную опасности.
Я уже подал в Секретариат эту докладную, когда прочел в «Литературной России» что-то совершенно подобное. Вбегает к ответственному секретарю газеты сотрудник: «Любопытное происшествие! Интереснейший факт! Понимаешь, один участковый милиционер шел вместе с дружинниками по улице. Вдруг шум скандала. Дружинники ринулись на шум, а милиционер рванул... в противоположную сторону. «Да ну, — говорит, — из-за пустяков мне еще нервы бередить...» За этим случаем наши коллеги просмотрели целую систему ошибок местной, да и не только местной милиции». Просмотрели, ох, как они все просмотрели! (№ 29 от 15 июля 1966 г.)
Так было и в этом случае. Передаю опять почти протокольно.
Я. Убивают же!
Старший уполномоченный. Ну и пусть — плакать не будем, у нас с ней столько хлопот.
Женщина (визгливо). Он ее все время таскает в нашу квартиру. То супом накормит, то детей ее притащит конфетами оделять, а сколько вещей он ей передавал. Режут, да все не зарежут, небось свой законный муж режет, это дело семейное.
Другой милиционер. У ней столько мужей, так если за каждым бегать...
Общий вопль. И пусть убивают, и пусть убивают.
Оперуполномоченный (нравоучительно). А вы вот скандалите, а еще писатель.
Я. Товарищ начальник, да что вы слушаете этих шкур, да разберитесь, что здесь происходит. Это же шкуры, понимаете, шкуры.
Старший. Стоп! Это почему вы так выражаетесь?
Я. Потому что, кроме своей шкуры, их ничего не интересует: режут — пусть зарежут, убивают — пусть добьют. А подвал и третий этаж не встречаются.
Старший (обращаясь к жилице). Он вас назвал шкурой, мы это слышали. Пишите заявление! Вот я вам скажу, с чего надо начать: «Проживающий в нашей квартире гр. Домбровский в нетрезвом виде...»
Я. Это я-то нетрезвый?
Старший. Молчи, пока не спросят! «...В нетрезвом виде привел неизвестную...»
Я. Да какая же она неизвестная, когда...
Неизвестная. Товарищ милиционер, я в этом доме двадцать лет живу. Меня все знают, и они знают, и вы знаете.
Милиционер. Молчи, Арутюньян, я не с тобой... «...в нетрезвом виде привел неизвестную женщину и хотел уходить».
Я. Я шел в аптеку за скобками.
Старший. Молчи, Домбровский, до тебя еще не дошло. Так вот, значит, нетрезвый привел неизвестную. Хотел уйти неизвестно куда, оставить неизвестную одну.
Мой товарищ Саркисов (он до сих пор стоял и молчал). То есть позвольте, а я? Меня вы что же, за человека не считаете? Он мне специально сказал: побудь с ней.
Старший. Что он вам сказал — нам неизвестно, и кто вы такой — нам тоже неизвестно.
Саркисов. Так вот мои документы.
Старший. Мы у вас их требовать не имеем права. Вы тоже неизвестный. И вообще уходите. Вы здесь ни при чем. Так, значит, ясно, товарищи жильцы, оставил неизвестную, уходил неизвестно куда и зачем, а когда вы стали возражать, обозвал вас нецензурно. Нетрезвый.
Второй милиционер (подсказывает). И милицию тоже.
Старший. Да, да, и милицию, конечно, тоже. Вот так! Чтоб через полчаса бумага была. Пошли, Домбровский. Пошли, пошли, Арутюньян. А вы, товарищ, куда? Нам вы не нужны (это уже на улице).
Я. Но он мне нужен, он же свидетель.
Старший. Свидетелей вам не полагается. А ты, Арутюньян, убирайся, убирайся. И если я тебя еще увижу здесь...
Я. Но загляните хотя бы на минуту в подвал, там ведь весь пол в крови.
Старший. Ты, Домбровский, задержанный и не учи милицию. А ты, Арутюньян, поварачивайся быстрее, если не хочешь неприятностей. Знаешь, что бывает за сопротивление властям? Да и вы бы, товарищ, тоже шли.
Но товарищ пошел со мной в милицию.
Милиция, 18-е отделение. Последний переулок. Начальник — тов. Смирнов. Мне пришлось ждать его порядком, без него, оказывается, никто ни в чем разобраться не может. Много народу. То, что я заступился за Валентину Арутюньян, вызывает неудержимое веселье у окружающих. В словах и выражениях здесь не стесняются. Смешон сам факт: резали? Кого? Резали? За что? Резали? Который раз? Само слово «резали» — один из самых страшных глаголов в мире здесь, кроме смеха, ничего не вызывает. Приходит и наш участковый Богданов. И меня, и Арутюньян, и мое отношение к семье Арутюньян он знает и понимает сразу все, что здесь происходит. Вся улица его уважает. Это серьезный, молчаливый, строгий, справедливый человек. Но как сказать что-то свое, противоречащее общему мнению? И вот он тоже говорит о лишении Арутюньян прав материнства и о том, что совсем тебе, Домбровский, не нужно бы туда ходить. Ты же писатель, и лет тебе много. Богданов — человек изумительной хладнокровной храбрости и выдержки. О нем писали в газете. Но тут храбростью не возьмешь. Он понимает это и уходит. Мне предлагают написать объяснение. Я сажусь и пишу. Почерк у меня и вообще, скромно сказать, очень неважный (пальцы отморожены на Колыме). А тут еще и волнуюсь, и с точки зрения канцелярской мои каракули действительно стоят немногого. Кроме того, и сам я весь дрожу и с трудом справляюсь с дурнотой. Она напала на меня еще в подвале.
Дежурный берет мои объяснения, смотрит и говорит с удовлетворением:
— Вот, а еще утверждаете, что не пьяный. Ты посмотри-ка, что он накорябал...
Отвечаю — уж такой у меня почерк.
Кто-то, кто меня знает, подтверждает: да он всегда пишет так.
— А еще писатель (прячет бумагу). Напишите вторично.
Значит, хочет поймать на противоречиях.
Пишу вторично. Получается почти то же самое. Рука дрожит все больше и больше. Но стараюсь изложить все ясно и четко. Женщина была изранена, в крови. На полу, когда я вошел, валялся финский нож. Мы привели женщину ко мне в комнату. Я оставил ее с товарищем и пошел за скобками. Здесь на меня и накинулась эта мяукающая, вопящая прорва. (Конечно, я слова «прорва» не пишу.) Ни оскорблений, ни ругани не было. И нетрезвым я тоже не был. Подаю объяснение и говорю: «Теперь просьба — подвергните меня медицинской экспертизе. Пусть будет акт об опьянении».
Саркисов. И у меня просьба: я был при всем этом и полностью все подтверждаю. Я сам видел: кровь, израненную женщину, как Домбровский был взволнован, как он хотел бежать в аптеку. Снимите, пожалуйста, с меня показания.
Дежурный. Обойдемся и без ваших показаний. И акта не будет. Вот придет начальник...
Но начальника все нет. И только одного мне удается добиться: на одном из моих объяснений товарищ ставит и свою подпись. А на другом пишет: «Полностью подтверждаю», — и подписывает свой точный адрес.
В эту минуту приходит начальник.
Я и вправду и до сих пор считаю его порядочным человеком и хорошим работником: скромный, тихий, спокойный капитан в милицейской форме. У него мягкие манеры и усталое лицо. Дело его не особенно заинтересовало. Арутюньян он знает хорошо. А меня вспоминает по другому случаю и говорит: «А ведь Тарасов тогда о вас замечательно отозвался». О Тарасове разговор еще впереди. И поэтому я привожу только слова капитана. Затем капитан читает мое объяснение.
— А где Саркисов? — спрашивает он, оглядываясь. Я говорю, что он только что ушел, ему предложили подождать на улице.
— Пойду поговорю с ним (качает головой). Да, эта самая Арутюньян... Беда!
Уходит. Возвращается минут через десять, вздыхает.
— Ну что ж, идите домой, товарищ Домбровский. Вот только мне надо будет вас завтра увидеть. Подпишитесь, пожалуйста, на этой повестке.
Подписываюсь.
Уходим.
Конец вечера проводим в Доме литераторов. Там я давно не был и попадаю в торжественный момент. У Юрия Полухина родился сын. Выпиваем за его здоровье. Рассказываю товарищам о том, в какую идиотскую историю я чуть не попал: защитил женщину и мог бы оказаться мелким хулиганом. Ее же прогнали обратно к тем, кто ее избивал: в общем, иди, и пусть тебя добьют. На меня составили протокол. Хорошо, что попался умный начальник.
— Слушай, Юрий, да уезжай ты оттуда, — говорит мне Полухин. — Я твоих жильцов вот как знаю. От них без оглядки бежать надо! Что, неплохие люди? Пусть неплохие, но жить они дадут только себе, а не тебе. Дверь запирай в десять часов. После десяти не приходи! Гостей не води! Все женщины у тебя проститутки. Все мужчины — пьяницы. Порядочные люди ходят только к ним. Уезжай ты за ради Бога. Неужели это так сложно?
Домой пришел в полночь. В подвал я не заглянул. Начальник мне сказал, что пошлет туда людей. Я приду утром, и тогда мы поговорим обо всем.
Наступает утро.
Поднимаюсь рано, как говорят, чуть заря. Трамваи еще не ходят. Надо очень много еще сделать до вечера; вечером из Пятигорска ко мне приезжает друг. Мы не виделись с ним уже года три. То он в командировке, то я в отъезде, то еще что-нибудь такое. И вот я прибираю комнату, выкладываю на стул чистое постельное белье, покрываю его газетой. Друг будет жить тут у меня, других адресов у него нет; накануне мы обо всем договорились по телефону. А днем нужно писать, писать. АПН заказало большую статью для Америки. Хоть умри, но сдай вовремя. Статья историческая и требует раскопок. Вот сижу, читаю и выписываю.
В десять часов приходит Саркисов. Я встречаю его с ручкой в руках.
— Ну что, старик, ты готов? Пойдем, — говорит он. — Просили пораньше.
Заходим в милицию. Поднимаемся наверх. Кабинет начальника заперт. Где же он? Никто не знает. «Справьтесь в дежурной части», — советует уборщица.
Спускаемся в подвал. За барьером сидит дежурный и что-то пишет. На скамейках, позевывая, переговариваясь, сидят несколько милиционеров. Видно, что смена только что кончилась. Спрашиваю о начальнике. Он поднимает на меня глаза: «А что?» Я говорю, что, и сразу все меняется: смех и гогот — все то, что я уже слышал вчера. Произошло что-то очень смешное. Рыжий, что ли, в парике ввалился в дежурку, пьяного ли за руки и за ноги притащили и бросили:
— Пришел? Пришел! Ну теперь садись жди — скоро поедем!
— Да мне ждать-то долго нельзя, — объясняю я. — Мне еще в Ленинскую надо. Если начальник занят, так я, может быть, потом зайду.
Опять смеются. Дежурный говорит:
— Да нет, зачем позже? Позже ты уж не зайдешь... Позже мы тебя сами в хорошее место свезем. На машине! Видишь, какой почет тебе, Домбровский!
И опять что-то пишет.
Я смотрю на товарища. Произошло что-то не то и, кажется, что-то очень плохое.
И Саркисов тоже смотрит на меня.
— Ты хотел утром звонить своему секретарю, — говорит он. — Звонил?
Я машу рукой. Секретарю я звонил. Разговаривал даже с его женой. Секретарь спал. Жена попросила позвонить попозже. А я так ушел в работу, что все позабыл. Да потом что бы я ему стал говорить? Какие у меня соседи? Так он знает это отлично. Был у меня неоднократно. Как они себя ведут — он знает тоже. Что же я бы стал ему объяснять?
Проходит еще минут десять, потом пятнадцать, потом полчаса. Оба сидим и ждем.
— А зря, — говорит вдруг товарищ. — Зря ты к нему не дозвонился. Надо бы обязательно дозвониться.
— Слушай, — говорю я. — Вот тебе ключ. Ко мне будут звонить из редакции. Скажи, пожалуйста, что я запоздаю.
Снова смех.
Дежурный поднимает голову.
— Запоздает, запоздает! — жизнерадостно объясняет он. — Обязательно запоздает! Иди, иди, звони, скажи, что он запоздает!
Товарищ уходит. Еще через десять минут приходит зам. начальника. Проходит за барьер и садится за стол.
Ему подают мою повестку.
— А где он? — спрашивает зам. начальника.
— А вот, сидит на лавочке, ждет. Зам. начальника поднимает голову.
— Ждет? — повторяет он насмешливо. — Ну и пусть ждет. — Берет дело и переворачивает лист-другой, читает, хмыкает. Все написанное ему очень нравится: ругал милицию, так, так! Привел неизвестную? Отлично! А всего лучше другое. Он встает.
— Помните, как мы месяц назад говорили с вами по телефону? — спрашивает он торжествующе.
Отлично помню тот разговор хотя бы потому, что он совершенно не походил на этот. История эта, конечно, неприятная. У меня в комнате подрались два человека, которые увидели друг друга в этот день впервые. Дело получилось так. Ко мне со стихами ходил один из начинающих. Школьник 11-го класса. Его мать, знакомая моего хорошего знакомого, просила посмотреть стихи и оценить. Вот он ходил и читал, а я слушал. Но слушать-то я слушал, а сказать ничего не мог, т. е., в общем-то, стихи мне нравились и даже не то что, пожалуй, нравились, а просто я подумал, что из парня может получиться толк, но в стихах такого рода — с очень приблизительными ассонансами, с рваными строками, скачущим ритмом — я понимаю немного. А сказать надо было что-то очень весомое, ясное. Вот я и позвонил одному поэту и попросил его зайти. Мы были хорошо знакомы. Его книга только что вышла и имела успех, а за год до этого я отвез целый цикл стихов поэта в «Простор». Паренек был тоже из Алма-Аты, так что получилось так, что отчасти как будто встречались земляки. Поэт пришел ко мне с алма-атинкой, студенткой какого-то московского института. Она читала мой последний роман и хотела со мной познакомиться. И такое тоже иногда бывает. Сидели, слушали стихи, пили чай да пиво (больше на столе ничего не было: пареньку не исполнилось и 18). И все бы окончилось так же хорошо, как и началось, но, на беду, в этот день (и надо же случиться такому!) ко мне забрел товарищ. Я знал его лет сорок (вместе учились), а не видел года три. Вот этот уже был пьян. Да пьян-то был как — зло, агрессивно и запальчиво-обиженно. И второе совпадение: он три года воздерживался, а сегодня как раз его и прорвало. Во-первых, кончились какие-то сроки и зароки, а во-вторых, приезжала дочка, которую он не видел Бог знает сколько времени. Вот он и завелся.
Пока мы слушали стихи, все было в порядке. Я знал беспокойный характер моего друга и отсадил его подальше от девушки, в самый-самый угол, ибо он уже начал придираться. Но вот пришлось мне на минутку выйти из комнаты. Ровно на минутку, но, вернувшись, я застал что-то совершенно невероятное. Тарасов (так звали товарища) сидел в коридоре на стуле возле телефона и вызывал милицию. Из носа у него текло, и он обтирался ладошкой. Вокруг стояли жильцы и кричали о разбое. Я вышел с чайником, и все набросились на меня: «У тебя в комнате...» А я ровно ничего не понимал. Только что было все тихо, мирно — и вдруг... Словом, я так был сбит с толку, что и сказать ничего не мог. Только потом в милиции обозначились контуры произошедшего. Но именно контуры. В общем, когда я вышел, этот мой старый товарищ, который «завязал на три года» и вдруг напился сегодня, полез сначала к девушке, а потом и к поэту. Лезет он всегда с «приемами». Тот и оттолкнул его ладонью и расквасил ему нос. Другая версия: он полез, его толкнули, он и приложился носом об угол шифоньера или стола. Что вернее — не знаю, потому что ровно ничего не видел. Пришел участковый Богданов и увел всех в отделение. Заставили писать объяснение. Тарасов пошел перевязываться и написал показания там отдельно. И так как я вообще ничего не писал и не видел, а все остальные (в том числе и обиженный) показали согласно, что все произошло мгновенно, вспышкой, в отсутствие хозяина, то этим все и кончилось. Ни протокола не составили, ни постановления не вынесли. Да и то сказать, разбитый нос не слишком большое дело, если его обладатель пьян и ничего объяснить не может, а все остальные трезвы. Да и с чего бы ударили совершенно незнакомого человека не где-нибудь, а в гостях? И не кто-нибудь, а другой гость! И все было бы в порядке, потому что даже в лупу в этом печальном столкновении не увидишь хулиганства, если бы не зам. начальника. Он вдруг позвонил в Союз. Попал на секретаря правления и рассказал ему о драке. Тот спросил:
— Ну, а какая же в этом роль Домбровского?
Пришлось сказать, что роли-то ровно никакой и нет.
— Тогда какая же его вина? — спросил он.
И опять пришлось сказать, что и вины тоже как будто нет.
— Ну, что же тогда?
— Но ведь столкновение-то произошло в его комнате, — сказал милиционер...
— Знаете, мне некогда заниматься глупостями, — ответил милиционеру секретарь. — Сейчас у нас проходит съезд, мы готовимся к конференции, а вы хотите поднять шум Бог знает из-за чего. Эти двое — сами взрослые люди. Пусть и разбираются. Чего третьего-то мешать? Ведь он не видел даже ничего.
Вот после этого разговора и позвонил мне этот самый зам. начальника. «Зайдите в милицию для разговора». Но у меня в это время сидел мой переводчик, и я просил разрешения зайти не сию минуту, а примерно через полчаса.
— Мне было бы очень неприятно, — сказал я, — вдруг оставить моего гостя одного. Что б он подумал?
Наступило минутное молчание.
— Ладно, — ответили мне наконец. — Тогда давайте поговорим по телефону. Вот вы знаете, что у вас несколько дней тому назад произошло в комнате...
— Знаю и очень жалею, — ответил я. — И ту неизвестную молодую девушку жалею, и паренька, который пришел читать стихи, тоже жалею. Не надо было им видеть этакое. А Тарасову, пожалуй, поделом — не лезь! Я его знаю! Но раз это произошло у меня, то и я виноват, конечно.
— Так вот, — сказал зам. — Я бы очень просил вас, чтобы больше этого не повторялось. Тут нужно иметь дело с настоящими преступниками, а отвлекаешься на какую-то чепуху.
Голос был мягкий, даже вибрирующий. Человек говорил вежливо, деловито, да и я сам понимал, что произошло черт знает что. «Какие же хорошие люди попадаются в милиции», — вот что я подумал тогда.
— Товарищ начальник, — ответил я. — Практически, конечно, я могу поручиться вам чем угодно, что ничего подобного у меня больше не повторится. За мои пятьдесят семь лет в моей комнате подрались впервые. Но, говоря чисто юридически, какую я могу вам дать гарантию, какие меры тут принимать? Ведь вспомните, я даже как свидетель вам не пригодился. Они взрослые люди, члены творческих Союзов, и каждый, в конце концов, отвечает только за себя. Позвоните в их организации, и вы точно установите долю вины каждого.
— Да я звонил, — ответил мне начальник невнятно. — До свидания.
Так вот, этот самый человек и сидел теперь передо мной. Т. е. сидел-то теперь совершенно иной человек, насмешливый, всесильный, довольный тем, что наконец-то пришла и его очередь.
— Я покажу вашему Союзу! — сказал он. — Если секретарь опять мне так ответит, я и его привлеку. Хулиган! Вот вы кто такой.
Я так ошалел, что только и сумел повторить:
— Хулиган?
Он поднялся из-за стола. Он очень грозно поднялся из-за стола и стоял теперь передо мной, отделенный барьером, и я сразу понял все: по ту сторону барьера карающая рука закона и сам закон, т. е. он, а по другую преступление и наказание, т. е. я.
«Хулиган». Он «покажет». Сколько лет я уже не слышал подобного! Я вспомнил все и почувствовал, что задыхаюсь. И поскорее отошел от него.
— Ну ладно, я хулиган, а тот, что резал женщин, тот кто?
Он фыркнул.
— Кого не надо, того не режут, — ответил он. — Что, проституцию разводить вздумали? В подвал бегать? Баб водить?
Тут я пришел наконец в себя. Нет, я не подошел к барьеру, я как стоял, так и остался стоять у стены.
— Знаете что? — сказал я. — Вот сейчас на вас ваш мундир и вы за барьером. Вы, как говорится, — при исполнении. Но когда-нибудь я вас встречу без мундира и не при исполнении, тогда я вам на все отвечу по-мужски: и на хулигана, и на проституцию, и на это «баб водить». И вы этот разговор на всю жизнь запомните. Уверяю вас, что запомните, гражданин хороший!
Потом мне говорили, что все это я сказал почти шепотом. А мне тогда казалось, что я ору на всю дежурку, но, наверно, кто-то словно сдавил мне горло, и поэтому я говорил тихо-тихо. Сказал и сел. Кто-то сзади осторожно тронул меня за плечо. Оглянулся — Саркисов. И тот, за барьером, тоже потерялся.
— Вы свидетель! — говорит он. — Вы слышали, как он разговаривает со мной?
Тогда Саркисову в праве быть свидетелем отказали, а сейчас ему эту роль навязывают силком. Он растерянно улыбается. Я сижу на лавке. Меня не трясет. Нет, я весь застыл, окаменел в какой-то злобной судороге, как тогда, в 38-м году, перед орущей и кривляющейся мартышкой в майорском мундире. Я уже больше не могу ни говорить, ни кричать. Мне остается только сидеть и ждать, когда это схлынет. Надо мной наклоняется товарищ и что-то говорит, но я еще ничего не воспринимаю. Так проходит с полчаса. Потом подходит милиционер, заглядывает мне в лицо.
— Ну как? — спрашивает он.
— Ничего, — отвечаю я.
— Ну вставай. Поедем.
В руках его папкa. До меня еще не все доходит.
— Куда поедем-то?
— В суд. Закон от девятнадцатого декабря. Мелкое хулиганство, штраф десятка, — объясняет милиционер.
Тут наконец сознание возвращается ко мне полностью, и я встаю. Хорошенькое дело, объясняйся с судьей, потом административная комиссия, потом бумажка в Союз, потом разговор в секции, рассказывай всюду и везде об одном и том же. Да и кто поверит во все это?!
И вот суд. Большая комната — зал судебных заседаний. В нем все, как полагается, — возвышение, гербы, стол, судейские кресла, скамьи подсудимых, лавки. Мы сидим на этих лавках и ждем. Мы — это несколько милиционеров, тройка или четверо сочувствующих и глазеющих и примерно с десяток очень помятых, растерянных личностей в жеваных костюмах. Их привезли прямо из отделения, а ночь на полу или на скамейке и короля английского превратит в пугало, в особенности если соседство попадется подходящее. Привели меня двое милиционеров. Один из них вышел с моим делом и через минуту возвратился сияющий. Он ходил к кому-то на доклад и показывал мои бумаги.
— Домбровский, — кричит он мне радостно. — Судью Милютину знаешь? Ну, десять суток обеспечено.
«Да, — соображаю я, — если Милютина, тогда все возможно».
Эту даму я знаю хорошо. Это воистину тот судья, который сомнений не имеет. Гражданин у нее всегда виноват. Любое учреждение для нее — государство, советская власть. Доказательства всех этих истин не существует. Но о ней я напишу особо в конце. Она стоит разговора. А сейчас мне надо передать темп, в котором все завертелось, — ать-два, ать-два! Сидим друг другу в затылок. Дверь открывается и закрывается. Следующего, следующего, следующего!.. Человек вылетает с 10–15 сутками через каждые три минуты.
Как-то у Охлопкова я смотрел «Бравого солдата Швейка», сцену медосмотра новобранцев. «Дышите — не дышите. Покажите язык. Годен». Пять слов — 20 секунд — лети! Честное слово, и сейчас я вспомнил Охлопкова и Швейка!
Подошла и моя очередь. Вхожу в комнату: нет, не Милютина, это какая-то другая дама. Значит, Милютина сосчитывается со мной через нее. Женщина говорит по телефону. Вхожу и сажусь, потому что разговор у нее долгий и развеселый. Судья Кочетова — это она — общительный и, видно, прекрасный человек. Звонят ей много, разговоры веселые и дружеские. Речь идет о встречах, о поездках, о выходном дне, о том, что «мы вас ждали-ждали, а вы...». Подсудимые стоят и слушают. Из тех трех минут верные две уходят на разговоры. Трубка положена. Я поднимаюсь. Кочетова листает первый лист дела и смотрит на его последние строчки. «Выражался нецензурно», — читаю я за ней. Привычным движением она подвигает к себе бланк, берет ручку, нацеливается. В это время телефон звонит снова. Она слушает и вдруг широко улыбается. Это опять приятный разговор о поездках, о том, кто пришел, а кто не пришел, о том, что «мы ждали-ждали...». У меня все время ломит ноги и позвонок, это предвестники нервного припадка, и я опускаюсь было опять.
— Стойте, стойте, — приказывает она мне быстрым суеверным шепотом и продолжает улыбаться, упрекать, оправдываться, приглашать, сговариваться.
Это звонил какой-то, очевидно, очень хороший знакомый, потому что она и секретарше сообщает — звонил, мол, вот кто, — и та тоже улыбается. Я стою перед ней навытяжку и слушаю. Она кладет трубку, лицо ее скучнеет — это значит, суд не прерывался ни на секунду и телефонный разговор — это тоже часть процедуры.
— Хулиганили, выражались нецензурно? — спрашивает она.
Я отвечаю ей, стараясь говорить ровно и тихо, хотя мне это плохо удается, что не дрался и не хулиганил, а просто спрятал женщину, которую били. Она опять вслух читает мне последние строчки полицейского рапорта. Мои слова ее никак не задевают, не интересуют и не настораживают. То есть происходит то же самое, что и в милиции, только здесь даже и не смеются. А я боюсь, что ей опять позвонят и пригласят куда-нибудь, и поэтому быстро выпаливаю все. Она слушает и не слушает, смотрит на меня и не смотрит, потом тихо подвигает к себе бланк. Страшные слова «рвали рот, били по лицу, резанули ножом» ее не трогают совершенно. Ей все ясно.
— Но вот две женщины подписали, — говорит она.
Я объясняю, что одна женщина прибирала мою комнату, иногда готовила, потом по разным причинам мне пришлось с ней распрощаться. Тогда я (единственный раз) обратился вот к этой «неизвестной» Арутюньян, и она мне помыла полы. Таково первое зерно скандала.
Я говорю, а у нее в руках самописка, и ничего ее больше не интересует. Она вписывает мою фамилию и задерживается перед профессией.
— Так вы что? Писатель? — спрашивает она смешливо. Никогда в жизни никому с таким отвращением я, наверно, не отвечал: «Да!»
— Что ж вы написали?
Я молчу. Я не в силах с ней дальше говорить.
— Не слыхала, не слыхала, — говорит она. — Не слыхала такого. Вот есть Шолохов, Федин, Фадеев, Симонов... — И голос у нее поет. Потом она резко одергивает себя: — Так вот. Десять суток. — И нравоучительно: — Постарайтесь из этого сделать для себя выводы.
Я глубоко вздыхаю. Слова не идут уже у меня из горла. Что десять суток мне, просидевшему двадцать пять лет? Разве в них дело?
— Похоже, из этого сделаете вывод вы, гражданка, — говорю я. — Я постараюсь об этом.
— Э-э, — отвечает она и откладывает постановление в сторону. — Э-э!
Хулиганством называется неуважение личности, сопряженное с озорными действиями. Злостным хулиганством называются те же действия, но совершенные с крайним цинизмом. Большего неуважения к личности и большего цинизма, чем этот телефон на столе перед судьей и ее разговоры о прогулках и встречах во время вынесения приговора, перед вытянувшимся в ожидании своей участи человеком, я поистине не знаю. Это, конечно, не хулиганство, может быть, это даже и не надругательство над человеком (на него просто плевать, и все), но это, пожалуй, даже хуже. Это — унижение закона. Его величия. Это — сведение роли судьи к дамочке, тарабанящей по дачному автомату. Какое уважение к себе могут внушить такой суд и такая судья? Гражданка Кочетова, я почти уверен, что вы неплохой человек, но кто же вам вбил в голову, что можно трепаться во время суда о встречах?
Итак, тюрьма. На этот раз Краснопресненская пересылка. В начале всего душ и машинка. Бреют догола. В этом глубокий воспитательный смысл. Пусть тебя, такого-то, увидят в той квартире, из которой увели. Смеху-то, смеху-то сколько будет. Ну, а смех, думает, по-видимому, автор этой неумной затеи (впрочем, авторов несколько — от прокурора до начальника санитарной службы города Москвы), — тоже воспитательный фактор. Но ведь можно сделать и еще смешнее, так что окружающие кататься будут, можно остричь еще и пол головы, стричь полосами и выстригать кружок на темени! Смеху тогда будет еще больше.
Бреет один из заключенных. Делает он это умело и споро: раз, два — и готово.
— Слушай, — говорю я ему, садясь, — а ведь это же, пожалуй, издевательство, а?
Он поднимает на меня неожиданно умные и серьезные глаза и отвечает очень просто:
— А как же? Конечно.
— И давно они этим занимаются?
— С нового года ввели. В камере прочтешь.
— Гуляют, — вздыхает около меня пожилой крепкий мужчина лет шестидесяти. — Ох и гуляют.
После этого нас ведут в камеру. Ведет старшина — добродушный и посмеивающийся сверхсрочник. «Декабристы» для него что-то очень несерьезное и потешное, и в самом деле, что значит сутки, когда в соседнем коридоре сидят люди со сроками восемь, десять и более лет. Ведь тюрьма-то пересыльная. Кроме того, ему и забот с нами никаких. На оправку выводить не надо, прогулка нам не положена, на работу не выводят, а стеречь — да кого же стеречь, кто побежит? Но камера-то настоящая: железная дверь, в ней кормушка, двойные решетки на окнах, железные затворы, нары. Привел нас надзиратель, сказал «размещайтесь», щелкнул замком и ушел. Лезу на верхние нары, устраиваюсь, перевожу дыхание и оглядываюсь. Да, таких камер я еще не видел. Все полным-полно. Плюнуть негде. В 39-м и 49-м годах приводили нас иногда и в такие камеры, но часа на два-три, много-много — на сутки. А здесь находятся по полмесяцу. Это значит, что пятнадцать суток ты здесь просидишь или пролежишь, но ходить ты не будешь, даже ноги размять негде. Крошечное пространство между нарами забито столом, прогулка не положена, оправка исключена, умываются над унитазом, свежий воздух поступает через чуть-чуть приоткрытую фрамугу. Все эти невозможности: невозможность двигаться, дышать, гулять, курить не в камере, а на воздухе — искупаются, по мысли законодателя, тем, что люди большую часть дня проводят вне камеры — работают. Но в том-то и дело, что здесь никого никуда не выводят. Просто не нужна наша работа. Дай Бог, если вызовут за сутки двух-трех человек во двор или по коридору.
Хозяйственники отлично уже знают, что такое труд заключенного, и пересылку обходят за десять верст. Во всяком случае, при мне вызвали один раз двух человек, в другой раз — трех. Одних часа на полтора, других — на два. Оба раза для работ по коридору.
Сижу на нарах и думаю: а как же здесь спать? Ведь ни матраца, ни подушки, ни одеяла нет. В монастырях такие вещи называются эпитимией, послушанием и преследуют совершенно определенную вещь — умерщвление плоти. Здесь же, по мысли законодателя, все должно воспитывать. Выйдешь отсюда бритый, будешь шататься, засыпать на ходу (шутка ли — пятнадцать суток проваляться на голых досках), второй раз не попадешь. Надо мной висят правила, и я читаю их по нескольку раз в день (другого чтения нет).
Вот читаю: «Все арестованные проходят санобработку и стригутся в обязательном порядке. Примечание: женщин бреют только по указанию санитарной комиссии».
Гражданин законодатель, изобретатель вот этой мухоловки — камеры без оправок, прогулок, постелей, почему вы все же непоследовательны? Брейте и женщин! Брейте их догола. Что вас останавливает? Ведь делали же это во время фестиваля 1957 года. Пускай хулиганки, алкоголички, аморалки пройдут по улицам остриженными наголо, с синеватыми черепами. Вот будет, над чем посмеяться, вот уж кому придумают по двору всякие клички! А ведь ошельмование, надругательство — это, по-вашему, профилактика преступления! Непоследовательность губит всех благодетелей человечества, гр. законодатель, прокурор или санитарный врач города, — так стригите же, брейте, болваньте, шельмуйте женщин. Помечайте их так, чтоб над ними грохотали все газовые плиты, все кастрюли и комнаты коммунальной квартиры. Доводите наш моральный кодекс до полного всеобщего понимания. Женщин вы не стрижете, что за нелепость?
Читаю дальше: «Каждому арестованному предоставляется спальное место без постели». Выражение очень сильное. Что место без постели может быть спальным — не думали ни Ягода, ни Ежов, ни Берия. Пук соломы в мешке да горсть сена в наволоке они давали всегда. Режим вокзальной свалки в течение полумесяца это действительно что-то совершенно новое в истории пенитенциарных систем. Впрочем, тогда у Берии, соображаю я, от человека что-то требовали: последственный должен был отвечать на вопросы, помогать следователю в сочинении так называемого «романа», называть фамилии и т. д. Осужденный работал. Дел было много. Пытка бессонницей применялась именно как пытка, то есть только тогда, когда имело место какое-то вымогательство: подпиши показание, подтверди на очной ставке то-то и то-то, обличи такого-то. «Помоги следствию». Когда же бедный мавр, доведенный до чертиков, делал свое дело, — в кого-то там тыкал пальцем, что-то там подмахивал, — его душу отпускали на покаяние — отдохни до лагеря (или до расстрела). А в лагере постели были уже настоящие, иногда даже с простыней. Не выспишься — не поработаешь, это наши начальники усвоили себе железно. Каждый бы из них счел бы сумасшедшим своего соседа, если бы он вывесил вот это правило: «Спальное место без постели».
Тут могут, пожалуй, возразить: но ведь там и сроки были иные, пятнадцать лет и пятнадцать суток — есть разница! Ах, какая чепуха! Самое-самое страшное это именно и есть не года, а десять-пятнадцать суток. Ведь только длительность переходов — одиночка (с постелью все-таки), допросы, пересылки, — одним словом, полугодовой срок переподготовки свободного человека в ЗК, в номер такой-то, и давали этому номеру силы и моральные, и физические. Они воспитывали его. Иммунизировали. С этой позиции даже следствие с его матом и кулаками имело свой благодетельный смысл. Стащи человека с постели и брось его сразу в лагерь, он и трех дней не выдюжит, а, переходя из одного круга ада в другой, люди выносили и такое, что после им самим казалось фантастикой. Один замечательный, но безымянный поэт в одном из своих стихотворений очень кстати вспомнил, что последний, девятый, круг ада — мороз и лед. Так вот в этом девятом круге мы жили годами и даже стихи там писали. Потому и жили, что до этого времени прошли все восемь кругов по порядку. А вот если б порядок изменился, если б сразу с первого круга нас кинули в пятый или в шестой, тогда бы, конечно, была катастрофа и смерть.
Всю ночь я не спал, то есть находился в том полубредовом, полубодрствующем состоянии, когда действительность расслаивается и начинает делаться сквозной, через желтую лампочку, доски, стены проступала моя улица, моя комната, книги, которые я должен был прочесть до завтра, работа, которую я не закончил. Так же спали или не спали все. Лежали, смотрели на окно — скоро ли оно побелеет, закуривали, слезали, сидели, почесывая желтые, обритые головы. В шесть часов подъем. Но подъем тут — это, конечно, понятие условное. Просто в шесть часов раздача хлеба. А есть здесь никто не хочет. Вялость, духота, неподвижность, скученность — она перебьет всякий голод. В первые дни, во всяком случае.
Меня все время одолевает дурнота. Она началась еще вчера, когда я впервые увидел кровь, чуть не накатила на суде и накрыла меня с головой, когда я сидел и ждал отправки в тюрьму. Она и сейчас не оставляет меня — то нахлынет, то спадет. Слезаю с нар, чтобы выпить воды. Над раковиной умывается тот пожилой, шестидесятилетний, с которым мы стояли в очередь к парикмахеру. Это тогда он сказал «Гуляют». Сейчас я с удовольствием смотрю на то, как он умывается. Истово трет лицо, потом каким-то обмылком до пены мылит голову, смывает водой, вынимает из кармана чистый платок и вытирается досуха. Общим полотенцем не пользуется. Все делает солидно и основательно. И одет солидно: крепкие рабочие сапоги, грубошерстные брюки, пиджак. Кряжистый, большой, неторопливый человек. Вымылся, вытерся, повесил платок на край нар (просушиваться), потом поднял на меня глаза и слегка подмигнул.
— Ну как? — спросил он.
Это он о том, какие у меня были волосы.
— Что ж, сейчас лето, — отвечаю, — так будет легче.
— Это так, — охотно согласился он. — Я, когда был моложе, всегда брился догола.
Он идет на свое место и садится. Я, подождав немного, подхожу к нему. Он подвигается и дает мне место.
— И на много вас?
— Пустяки, всего на пятнадцать суток, — отвечает он. — Вот видишь, как хорошо гостей встретил.
Расспрашивать в тюрьме не полагается, но он как будто вызывает на разговор.
— Вы что ж, выпивши были?
— Ну! Я ее и в рот не беру.
— А?..
— А вот так!.. — И он рассказывает, что случилось.
Жена позвала в гости родственников, потом выяснилось, что закуски маловато. «Ты бы хоть селедочки принес», — сказала жена. Он и побежал на угол в магазин за селедкой. Смотрит, бочка. На бочке надпись: «Рубль сорок кг». И на витрине в судке селедка — крупная, жирная. Стоит очередь. Он встал тоже. «А дают они, понимаешь, совсем из другой бочки. На той вовсе цены нет. И все берут, молчат. А когда подошла моя очередь, я и прошу продавца: «Вы мне, молодой человек, отпустите из той, где цена». — «А товар везде, — говорит, — одинаковый, что в той, что в этой». — «Ну, а если одинаковый, то и дайте из той». А он и не слушает, раз-раз, свешал, завернул, говорит: «Полтора рубля». — «Нет, — говорю, — я этой не возьму. Вы мне ту отпустите». — «Товарищ, — говорит продавец, — не нравится — уходите. Кто возьмет за полтора рубля?» А я заспорил: как же так, стоял и уйду ни с чем. Тут милиционер как раз подходит: «В чем дело?» — «А вот, — говорит, — задерживает очередь, скандалит». Милиционер, конечно, сразу держит за него. «Что же это вы скандалите, гражданин? Берите покупку и уходите». Я ему свое, а он меня за рукав. Я ему объясняю: так и так, а он меня локтем: «Товар везде один, вы не лавочная комиссия, чтоб проверять». Я и озлился. «И вы, говорю, — неправильно поступаете. Вы должны за рабочего человека заступиться, а вы вон чью руку держите. Не затем вы поставлены, чтоб так себя вести». Тут он сразу меня — хлоп! «Скандалишь? Да еще милицию оскорбляешь?! Не хотел домой идти, так со мной пройдешь». И вот, видишь, пятнадцать суток за хулиганство и оскорбление властей.
И он опять усмехается. Говорит ровно, спокойно, беззлобно, как будто и не о себе, улыбается и кончает:
— Вот так, дорогой товарищ, и принял я гостей.
Акцент у него нерусский. Это не то татарин, не то мордвин.
— И говорите, совсем не пили?
Он поднимает руку и истово показывает мне кончик большого пальца с желтым ногтем.
— Вот столько за свою жизнь не выпил, — говорит он торжественно. — Я и понятия не имею, что такое водка, что такое вино.
— И не ругались?
Он качает головой.
— Сроду, — говорит он твердо, — сроду никогда.
— Значит, за что-то тебя здорово милиция полюбила, — сказал кто-то рядом. Он развел руками.
— Да я ее вижу только на улице. Даже свидетелем никогда не был, в тут вoт cразу в суд и пятнадцать суток.
— А небось написали: нецензурно выражался, — догадывается кто-то.
— Ну вот, вот, это самое. Нецензурная брань, — смеется он, и все смеются тоже.
— Это уж они обязательно напишут, — объясняет тот же человек. — Тут со мной глухонемого судили. Так тоже влепили — «нецензурная брань». Даже судья засмеялся. «Ну это уж переборщили, — говорит. — Пишут черт-те знает что».
— Ну и что?
— Да что, пятнадцать суток. Вот он рядом, в соседней камере, за стеной.
— Да не может быть, — говорю я. — Анекдот?!
— Да нет, нет, — сразу откликаются несколько голосов. — Точно, точно. Вон за стеной сидит.
И все опять смеются.
Вот ведь что самое скверное: смеются!
— Да вы бы объяснили, — говорю я соседу, который в один и тот же день получил путевку в Сочи за хорошую работу и пятнадцать суток ареста за хулиганство. — Объяснили бы, как было. Ну, поругались с женой, ну, сказали ей что-то там такое. Так ведь рук-то вы на нее не поднимали.
Это молодой, красивый парень лет тридцати пяти, рыжий, рослый, сильный. История у него такая. Он был премирован как лучший ударник путевкой. Завком обещал выдать тридцать рублей на дорогу. Ехать через два дня.
— Ну, конечно, хватили немного на радостях. Отрекаться не буду. Но так... Нормально. Прихожу к жене, говорю ей — вот какой мне почет, а она сразу чуть не в морду. «Уж договорился там, — кричит, — со своими дружками. Поедешь пьянствовать да котовать, а я тут без денег буду сидеть! Знаю я ваши отдыхи». Ну, слово за слово. Я сначала смехом, смехом, а потом уже пуганул ее как следует. Она мне, я ей. А руку не поднимал. Я этого не придерживаюсь — нет! Но крику, верно, много было. Она в кухню убежала, а я спать лег. А часа через два будит милиционер: «Собирайся, пойдем». — «Куда?» — «В милицию, соседи заявление написали». Вот. Привели, посадили. А на другой день пятнадцать суток.
Все смеются. Уж больно здорово это получается. Молодцы милиционеры! Молодец судья! Вот тебе и курорт! А меня возмущает нелепость положения. Как, за что, почему? Человек получил путевку, ну, поругался с женой, ну, покричали друг на друга, все может быть, и жену я тоже понимаю, ей действительно обидно — муж уезжает в Сочи (а он, наверно, ух, какой парень!), а она остается одна, в общем, поругались. Но где же здесь преступление? При чем тут указ, милиция, суд, пятнадцать суток, Краснопресненская пересылка, бритая голова — в общем, ничего не поймешь, какая-то сплошная нелепость.
— Да ты бы и рассказал, как и что, — говорю я, хотя уже понимаю, насколько это беспомощно. Опять смеются. Но уж не над ним, а надо мной. А один с наслаждением рассказывает:
— Тут ведь вот какой суд. Судья меня спрашивает: «Ну, рассказывай, как что было». А я говорю: «Да что же вам рассказывать, когда вы уже проставили пятнадцать суток». Засмеялся. «Ишь ты, какой глазастый, ну тогда садись на лавку, жди. Следующий!» Им объяснишь, им, чертям, как раз объяснишь!
Что им ничего не объяснишь, это я уже понимаю, но и согласиться с этим не могу.
И еще мне подносят такую же историю. Рассказывает уже пожилой человек с проседью. Поссорился с женой, покричали, и очутился тут. Жена потом в милицию, чуть не на коленях валялась: «Что ж мы с детьми есть-то будем? Ведь у меня и сейчас ни копейки в доме, а он тут еще пятнадцать суток просидит». Ничего и слушать не хочет. Раз к нам попал, то...
Этот уже озлоблен, он не говорит, а лает: «Да чтоб я теперь! С ней!.. С этой стервой! Я и близко не подойду! Посадите меня — все! Все! Она это, сука, чует, — ходит, воет! Нет, нет! Я такой! Она знает! Я такой!»
Вероятно, он и действительно «такой». Говорит он решительно и как-то очень страшно. Он оскорблен до глубины души. Семья разбита. Да, это, кажется, точно. Но говорить с ним очень тяжело. Это какая-то злобная конвульсия, припадок. Я поскорее отхожу.
Меня интересует один человек. Я заметил его еще в бане. Обратил внимание на то, как он мылся, медленно-медленно проводил ладонями по лицу, словно творил намаз. Сейчас он сидит на краю нар, опустив руки вдоль колен, и молчит. Он совершенно лысый, не бритый, а именно лысый, и серый, хотя, кажется, лет ему не так уж много. У него странная сосредоточенность. Он словно к чему-то все время прислушивается, примеривается, во что-то вдумывается. Я подождал удобный момент и, когда люди расползлись по нарам или же поползли к столу гонять козла (в камере непрекращающийся грохот — книг нет, на работу не выводят, так вот нарезали из фанеры дощечек и гремят ими по восемнадцать часов в сутки), так когда все разбрелись, я подсел к нему и спросил: а он-то тут за что? Он ответил:
— Жильцы сдали.
Я спросил:
— Скандалил?
К моему удивлению, он кивнул головой. А вид у него был совсем не скандальный.
— Что ж ты так?
Он промолчал. И опять в нем было что-то очень странное, непонятное, отсутствующее — словом, что-то очень и очень свое. И сидел он здесь по-особому — уверенно и стойко, как космонавт в кабине. А около угла рта все время держалась и не спадала кривая складка раздумья. Это при полной неподвижности.
— И что, большой скандал был? — спросил я.
— Да нет, не особенно. Просто постучал и покричал. Разозлился я тогда очень. Ну пристают и пристают ко мне.
— Почему же?
Помолчал. Подумал.
— Да не работаю я нигде, а выслать меня они не могут.
— А почему ж не работаете?
— Да не берут. Посмотрят документы и говорят: нет, нам не надо. Я шизофреник.
Он вдруг поднимает на меня глаза, и вижу в них что-то очень мое собственное, человечески скорбное.
— А на пенсии трудно, очень трудно. Маленькая! Да и хранить ее я не умею. Обязательно выманят, возьмут и не отдадут, — сказал, смущенно улыбнулся и опять ушел куда-то.
Вот все эти двое или трое суток, как бы ни кричали в камере, о чем бы ни спорили над ним и перед ним, как бы его ни толкали на бок, он сидел так же тихо и неподвижно, не доступный ничему и никому. Его толкнут, он слегка привалится на бок, растерянно потрет его, опять сядет и думает что-то свое, думает, думает. «Господи, — подумал я, — так неужели они и этого воспитывают? Хотят ему что-то доказать? От чего-то остеречь? Да разве через пятнадцать суток он будет иным? Я знаю таких по лагерю. Они весь свой срок, и пять, и десять лет, проводили в таком же полусне. Иногда накатит на них что-то, они вскочат, побегут, застучат, закричат, а потом опять погружаются в свою прежнюю муть. И снова для них и день — не день, и год — не год».
А дышать мне все труднее и труднее, камера к вечеру становится голубой от дыма. На верхней полке и вообще не усидишь. И вот я толкусь внизу и разговариваю с людьми. Мне хочется опросить как можно больше человек. Почти все преступления здесь одинаковы: ссора с соседом, ссора с женой, квартирные склоки. Под понятие хулиганства ни одно из этих дел не подходит. Это все больше казусы из той категории, которые раньше назывались «делами частного иска». Один жилец поссорился с другим, жена поругалась с мужем, что-то случилось в кухне над газовой плитой. Таких столкновений было сколько угодно и до этого. Но вот кто-то из более осведомленных скандалистов или соседей понял, что идет кампания, что милиция заинтересована в том, чтобы случаев мелкого хулиганства сейчас было указано в сводках как можно больше (раньше были заинтересованы как раз в обратном), и позвонил в милицию. Пришел милиционер, увел с собой одного и объяснил другим, как и что на него надо писать. А там рапорт (с обязательным «выражался нецензурно»), постановление, пятнадцать суток. Обжалованию не подлежит. И все — сиди! И еще я думаю, что бумага все терпит и на ней все цифры выглядят убедительно. А между тем что, по существу, могут значить хотя бы такие строки сводки: «Выявлено случаев хулиганства за отчетный период двести двадцать пять случаев. Из них сто человек были привлечены к уголовной ответственности по 206-й, а сто двадцать пять осуждены на разные меры наказания согласно Указу от 19 декабря». Согласимся сразу, кто эти сто, — понятно: над точностью квалификации их проступков трудились сначала следователи, потом прокуратура, затем суд и защита; их дела направлялись в кассационные инстанции, контролировались прокурорским надзором, так что они не остались без защиты, но вот те сто двадцать пять, осужденные единолично, не защищенные кассационными инстанциями, не имеющие права жаловаться, неведомые прокурору — они-то кто? Насколько они виноваты? Да и виноваты ли вообще? Кто это и как это выяснит? А выяснить это нужно во что бы то ни стало, и даже не из-за человечности, а во имя борьбы с тем же хулиганством и мелким, и крупным, и самым-самым крупным, граничащим с убийством и бандитизмом.
Потому что Указ от 19 декабря, по которому я и сижу, это установление совершенно особого рода.
Почему? А вот почему: из всех возможных целей наказания (кара, предупреждение новых преступлений, влияние на других членов общества) Указ больше всего (а может быть, и исключительно) преследует одну, главную, — «перевоспитание осужденных... в духе уважения к правилам социалистического общества», то есть указ — это обращение, апелляция к сознанию самих осужденных. «И сделайте из этого для себя выводы», как сказала мне Кочетова. Но какие же я выводы могу для себя сделать, если я судью не уважаю, нарушений не совершил и права на свое перевоспитание за этими лицами, увидев, как они действуют, не признаю. Ведь о моей изоляции дело не идет, я вернусь в ту же квартиру, из которой меня увели, к тем людям, которые на меня «доказали». Я встану к тому же станку или к той же плите, у которых стоял до этого. Буду жить с той же женой — так как я буду жить? С чем я вернусь? Что я понял и чего я не понял? Какие сдвиги во мне произошли? Ведь вот самые главные вопросы. И ответы на них получаются прямо противоположные — в зависимости от существа дела, следствия и суда. Получил очень много, если понял, что поделом была вору мука: все — если по одну сторону судейского стола сидел закон, а по другую стоял я — нарушитель. А если не так, если нарушитель сидел именно за судейским столом, если я считаю правым себя, а не его? Для какого дьявола тогда все эти милицейские рапорты с их дежурными формулами, издевательские разговоры в дежурке, суд, который не судит, а только осуждает, судья, который не спрашивает, а телефонничает да вписывает сутки — пять, десять, пятнадцать? Если после эдакого суда я потеряю уважение и к суду вообще, и к закону, то чем это может быть искуплено? И не заболею ли я тогда тем самым скептицизмом, тем «неверием», которые все мы считаем какой-то непонятной нам до конца болезнью молодежи? Задумывалась ли судья Кочетова когда-нибудь над этим вопросом? Приходили ли ей эти вопросы вообще в голову? Во всяком случае, могу сказать с полной определенностью и полнейшей ответственностью, что в той камере Краснопресненской пересылки, где я находился, никто ни во что не верил и никто ничего не уважал. И еще, вспоминая прошлое, думаю: опасность кампании еще в том, что она творец видимостей. Она создает видимость борьбы, видимость преступления, видимость служебного героизма и в заключение призрак победы (ох, как потом за него приходится дорого расплачиваться!)[18]. Под конец же она превращается во взбесившегося робота, который уже не подвластен никакому контролю, или — еще проще — в раковую опухоль, которой дано только расти и расти, разрушая все вокруг. Так было в те годы, которые я уже поминал, тогда спрос поистине рождал предложение, и понятно, почему, а сейчас как? Вот в этих делах о мелком хулиганстве.
Наступает ночь. Камера затихает; я лежу и размышляю о своем счастье (не о судьбе — что о ней сейчас думать? А именно о счастье). Очень мне уж не везет в столкновениях с нашей юстицией. Я написал антирасистский роман и был осужден за расизм (сейчас роман издан).
Я заключил договор на перевод, сделал его, сдал в редакцию, и судья Милютина осудила меня за то, что я не сделал перевод и не сдал его в редакцию (а сейчас он печатается).
Я спрятал женщину от хулиганов, и меня осудили за хулиганство (а хулиганами даже не заинтересовались). И это не были запутанные дела — нет, все было ясно, явно, с самого начала говорило в мою пользу: и логика, и свидетели, и документы, и все равно я был осужден. Таково уж мое счастье. Я вечно кого-то раздражаю и не устраиваю. Или — беда нашей судебной практики? То, что она уж слишком многих устраивает и слишком мало кого боится раздражить?
И тут я вспомнил о «полканах».
В 1949 году нас пригнали в Тайшет. Около палатки нас встретил старший дневальный — старый, заслуженный вор. Мы шли, а он стоял и смотрел на нас.
— Ну что, полканы, пригнали вас? — спросил он меня. — Тут уж вам хана!
— Почему мы полканы? — спросил я. Он фыркнул.
— А кто ж вы? Волки? Нет, это кто-то с маслом в голове вас сдал за волков. Ну, вот ты, — обратился он к моему соседу, — за что ты сидишь? Вредитель? Божественник?
Это был профессор Эрнст — высокий, худой старик астматик. Он скинул мешок на снег и стоял перед вором, вытянувшись.
— Я шпион, — ответил он серьезно.
— Ну вот, немецкий шпион, — радостно подхватил вор. — Еще двоих таких, как ты, и орден следователю! Эх вы, полканы, собачьи ваши шкурки.
И он отошел, а через минуту мы услышали его крик — он кого-то бил и тащил с нар.
— Я вор! — гордо орал он. — Я человек! Я воровал и сел! А ты кто? А ты за что? Ах, ты ни за что? Ну и засохни, пока не стащат в столярку (в столярке стояли гробы). Вон иди к параше. Дай место людям! Безвинный!
Да, страшное дело сидеть в лагере ни за что — понял я тогда. А утром мне профессор Эрнст — искусствовед и археолог — объяснил все по пальцам.
— Вот, скажем, дорогой мой, какую-то деревушку одолели волки. И столько их развелось, что за каждую голову власть положила по сотне. А пришел в контору мужичок-серячок, увидел, что там сидит жулик, возвратился в избу, снял с гвоздя ружье. «Полкан, Полкан!» Пиф-паф, голову долой и: «Вот, ваше степенство, волчок-с, пожалуйте премию-с». Спрашивается, — и тут профессор Эрнст загнул первый палец, — много ли будет побито волков? — Он загнул второй. — Много ли останется в живых полканов? — Загнул третий. Много ли в селе появится настоящих охотников или и те, что были охотниками, превратятся в гицелей[19]? — Он показал мне кулак и спросил: — Ясно?
— Ясно, — ответил я.
Этот разговор я потом вспоминал не раз, когда встречался на улицах со своими бывшими товарищами по лагерю; все диверсанты, шпионы-террористы, агенты иностранных разведок либо получали пенсии, либо были реабилитированы посмертно (иногда даже с некрологами). Это все были полканы! Временно исполняющие обязанности волков!
(Не могу забыть только один случай, хотя тут он как будто и ни к чему. Во время моих долгих и тягучих хождений по мукам я почти всегда встречал одну женщину. Мы с ней часами сидели в коридоре — я просто засматривался на нее: такое у нее было замкнутое, холодное лицо. Я еще суетился, советовался с кем-то, что-то там строчил, она сидела молча. И вот раз я встретил ее у входа. Она шла развинченной походкой, пошатывалась, лицо у нее было мокрое, но она улыбалась. «Поздравьте меня, — сказала она счастливо. — Все. Муж реабилитирован посмертно!»)
А что сталось с волками? А почитайте-ка их заграничные мемуары.
Такова вторая беда карательных кампаний: еще полбеды, что невинные гибнут, но вот что с врагом-то делать? Ведь для него нет времени более благоприятного, чем такая пора — пора взбаламученного моря. Работать в «мутной воде» — ведь это мечта всех преступников.
«Выявлять, пресекать, хватать, судить, да нет, что там судить? И милиции хватит, — верещат газеты, — мягки законы, малы сроки, недостаточны санкции. Давай, давай, давай! Товарищи домохозяйки, на вас вся надежда. Бдите, заявляйте, пишите! Товарищи соседи...» И вот уже все, что не нравится обывателю в квартирных склоках, начинает называться вредительством, агитацией (в 1938-м), антиидейностью (в 1946-м), космополитизмом (в 1949-м), тунеядством (в 1962-м), хулиганством (в 1966-м)[20].
В истории советской литературы был такой печальный случай: один великий русский поэт дал пощечину крупному писателю — публично. Демонстративно. Нарушая порядок в учреждении. Что было бы с ним сейчас при нашей судебной практике? Конечно, он предстал бы перед той же Кочетовой, и она спросила бы его: «Как? Поэт? Мандельштам? Осип Мандельштам? Никогда не слышала!.. Маяковский, Есенин — этих да! Ну вот вам десять суток, и сделайте для себя выводы». Обязательно она так бы сказала ему.
Писатель моих лет дал в морду молодому наглецу, который обозвал его старой сволочью. (Почему он долго занимал телефонную кабину.) Собралась общественность. Старика и парня доставили в милицию. К счастью, это было год тому назад, и дежурный тоже попался правильный, но сейчас все было бы иначе, и на одного старого, но мелкого хулигана в Москве стало бы больше. А кто от этого выиграл бы? Советское общество? Моральный кодекс? Краснопресненская пересылка? Выиграла бы, конечно, оперативная сводка, та страшная черная галочка, которая вечно сопровождает такие кампании и орет на весь Союз о победе над преступностью! Выиграл бы самый плохой человек из всех — мелкий хлесткий фельетонист — судья, осуждающий без суда и следствия[21].
Итак, вот остальные беды нынешней кампании.
1. Отсутствие судебного и надзорного контроля над органами порядка. Это дает возможность выдавать за мелкое хулиганство все что угодно — любую неприязнь, ссору, столкновение. Это условие, при котором легко сводить личные счеты и выживать соседа. Это практика доносов и петиций. Это суд коммунальной кухни и лестничной клетки, которая называет себя общественностью. (Вот оно: «Давай, давай!»)
2. Расширительное толкование законов: оно возвращает нас к юридическим теориям Вышинского, к объективному вменению, к осуждению по аналогии.
Пример тому — дела о тунеядцах. Все мы помним печальное дело Бродского. Печальное хотя бы и по последствиям для всех нас, по резонансу, который оно вызвало в мире. Не очень давно в «Известиях» писали о высылке из Москвы такой тунеядки: дочь по уговору сестер и братьев ушла с работы, чтобы ухаживать за умирающей матерью (рак). Кроме этих двух пожилых женщин — умирающей и ухаживающей, в квартире никого не было. И вот все-таки одну из них оторвали от смертного одра другой и угнали в Сибирь, а другую оставили умирать. Прокурорского протеста не было. Каждый умирает в одиночку — вот, наверно, мораль прокурора. И совсем недавно в «Литературной газете» появился любопытный материал. «Общественность» какого-то дома требовала высылки нескольких соседей: образ жизни их, их интересы, их знакомства не помещались в сфере понимания этих соседей. То же формальное затруднение, что тунеядцы эти каждое утро вскакивают в восемь часов и несутся на службу, они обошли с гениальной легкостью. Одна старая общественница (вот уж поистине «зловещая старуха») вывела такую формулу: «Они работой маскируют свое тунеядство». И для кого-то, восседавшего за столом какого-то президиума, это оказалось вполне убедительным. Вероятно, он был просто раздавлен железной логикой: тунеядство скрываемо... А вот общественность выявила, разглядела! От нее не скроешься!
И еще хуже: какой-то кандидат в массовой брошюре втолковывает читателю, что тунеядец — это не тот, который вообще не работает, а тот, кто хочет мало работать, а получать много. Логическое ударение, конечно, на слове «хочет» — он хочет получать много. Но ведь под эту научную формулу можно подогнать кого угодно. Даже Федина и Фадеева! Ведь обыватель так про нас и говорит: «Не захотел ты кирпичи таскать — стал ты бумагу марать».
Об Указе о тунеядстве, о преступлении странном, ускользающем от определения, не только не вошедшем в Кодекс, но и просто не упоминаемом в нем (все-таки слава нашим кодификаторам — они не преступили этот рубеж), стоило бы поговорить отдельно. И конечно, такой разговор обязательно состоится в самом недалеком будущем. Но сейчас я пишу как раз не об этом. Сейчас я пишу о том, что вполне ясное криминалистическое понятие проступка, имеющего четко ограниченные юридические грани, снова на наших глазах превращается в какую-то туманность. Все неблаговидное, с чем надлежит бороться, предлагают окрестить хулиганством. Так кто-то через печать советует всякое оскорбление считать хулиганством и дать право любому тащить в милицию обидчика. Не считаясь с обиженным. Повторяю — любому! Вот что не только страшно, но и примечательно. Да разве любой может знать, что к чему? Разве могу я объяснить любому, почему я поссорился, скажем, с родственником, с другом, с женой? А ведь он требует этого объяснения. Он в комнату мою лезет и милиционера с собой ведет — я начинаю их гнать, а милиционер уже самописку вынул: «Молчите, вот свидетель, что вас обидели!» — «Да позвольте, — говорю я, — обидел, не обидел, это мое дело. Кто вас уполномочил быть щепетильным за мой счет? Оставьте нас обоих в покое». А дежурный (уже дежурный и уже в отделении) мне отвечает: «Нет, не оставим. Докажите нам сначала, что вы не трус, а гордый советский человек. А вдруг вы сукин сын? Тогда мы обязаны — государство и общественность — вас защитить. Мы тебя, дорогой товарищ, научим «свободу любить». Мы привьем тебе чувство собственного достоинства. Воспитаем в духе нашего морального кодекса. Ах, вы недовольны?! Ах, за вас заступаются, а вы еще недовольны?! А ну-ка покиньте помещение. Освободите, освободите помещение, говорю вам. Повышаете голос? Ну, тогда пройдемте». И протокол: «Будучи доставлен в отделение милиции, в ответ на вопрос дежурного о случившемся гражданин (фамилия, имя, отчество) позволил себе... Выражался... по адресу (чин, фамилия)... Оскорблял... Грозил... Говорил, что он...» Подпись общественности. Рапорт милиции. Решение судьи — все! Сидите оба!
Товарищи, да ведь это то самое, что Ленин называл «вогнать в рай дубиной». Даже преследование за такое опаснейшее преступление, предусматривающее смертную казнь, как изнасилование, во всех странах возбуждается исключительно по иску потерпевшей, а здесь любой, услышав шум за стеной, может тащить меня в милицию. И не как обидчика, а как обиженного. Вот до чего дошла наша чуткость и любовь к человеку. Воистину: «Боже, избави меня от друзей...»
3. Третья особенность и беда таких дел заключается в упрощении судебной процедуры. Ведь, по существу, нет ни одной судебной гарантии, к помощи которой мог бы прибегнуть арестованный или уже осужденный. В делах о мелком хулиганстве нет ни презумпции невиновности, ни права кассации, ни обязательного ознакомления с делом. А так как фактически они выведены из-под прокурорского надзора, то и бремя доказывания ложится на плечи обвиняемого. То есть никаких обязательств у судьи Кочетовой передо мной, подсудимым, нет. И мотивированного приговора тоже нет — все заменяет печатный бланк. Вот как я уже писал: «Расскажите, как дело было. А впрочем, чего там рассказывать, садитесь и ждите конвоя. Следующий!» Вероятно, в принципе возражать против упрощенности суда по делам мелким и повседневным не приходится, но учитывать ее надо обязательно. Ведь здесь суд не только самая первая, но и самая последняя инстанция. Поэтому она не столько суд, сколько совесть, честь. Культура суда должна быть исключительно чиста и высока именно по этим делам. А ведь каждый судебный работник знает, какая беда ожесточить человека, поселить в нем неверие и безнадежность, и наплевательство.
(Я хочу упомянуть об одном очень тяжелом факте моей биографии. Мне как-то очень долго — лет 6 — пришлось пробыть среди власовцев, не среди жертв — хотя, в общем-то, жертв было больше, — а, так сказать, среди волков. Это были очень страшные и закаленные в ненависти люди. Целеустремленные и непримиримые. Так вот, добрая половина из них в доверительных разговорах со мной, когда я спрашивал их о том, что же они думали, когда шли с Гитлером или участвовали в том-то и том-то, рассказывали мне о чем-то совершенно подобном — о таких же судах и следствиях. И абсолютно не обязательно, что это были суды уголовные, с тяжелыми санкциями, — нет, это могло быть простое школьное собрание, собрание актива и общественности, колхозное собрание, милицейский протокол и многое-многое другое. Важно было одно, и это они подчеркивали всегда, — первая трещина в сознании появлялась не от вражеского удара, а от пощечины, от плевка, от отсутствия государственной совести.
Оговариваюсь опять и сейчас же — конечно, не одно это было причиной их тяжелейшей моральной катастрофы, но ведь одной причины в таких случаях никогда, как известно, и не бывает. Есть ряд причин, есть система причин. Совершите над человеком одну несправедливость, большую, циничную, несмываемую, и иной чуть не с мазохическим удовольствием будет замечать, коллекционировать и сам вызывать на себя удары. Ему нужно обязательно укрепить в своем сознании эту зудящую идефикс — все плохо, все ложь. Все как есть. Вот так было и в том случае, о котором я рассказываю. И знаете, кто «поддакивал»? Бывший прокурор города, бывший следственный работник, бывший судья. Эти-то уже были абсолютными атеистами. Они все грома выделывали собственными руками и уже ровно ни во что божественное не верили. Я не провожу, понятно, аналогии. Но скажите, во что верят те блюстители закона и порядка, которые называют известную женщину неизвестной, вписывают дежурную формулу о нецензурных выражениях и вообще ведут разговоры в таком духе: «Убивают — пусть убивают, стащим за ноги и похороним! Бьют? Мало тебя, сука, бьют, тебя давно убить нужно».)
Осуждение — само по себе тяжелое наказание, его можно выносить только обоснованно, оно должно доходить до сознания нарушителя. И по этой конечной цели должно равняться все: милиция, суд, прокуратура, тюрьма. Если они не уяснили себе этого, пользы от наказания нет никакой. А у нас чаще всего никто не понимает этого. И вот чего я боюсь еще — не появилось ли у нас в юстиции уже то, что хирурги называют «привычным вывихом»? «Коленная чашечка времени вывихнута из своего сустава», — сказал Гамлет Горацио по поводу таких случаев.
Район — сеть переулков, — в котором я живу, узкий, темный и страшноватый. Это Сретенка и Цветной бульвар.
У этого района издавна плохая слава. (Помните Чехова: «И как не стыдно снегу падать в этот переулок!» Это про нас.) Скандалы и драки с темнотой вспыхивают почти ежедневно. Но попробуйте отыскать милицию — где там! По-человечески это понятно: у хулиганов и ножи, и свинчатки, и еще всякие игрушки, и живут они по соседству; да и вообще мало ли бывает соображений у человека — не лезть на нож! Чувство долга? Но план и без того выполняется и перевыполняется, рапорты-то — вот они! Ради них всех запечных тараканов подобрали! Совесть? Но она ведь, знаете, сговорчивая, доступная к убеждениям. Судьи? Но этот рыцарь не только без страха, но и воистину без сомнения — он припечатает все, что ему подсунут. А между тем, если двое получили одинаковое наказание, но один за дело, другой за так или за мелочь, — уважения к закону не останется ни у того, ни у другого. И когда они повстречаются на нарах, то — повторяю еще раз — неловко будет себя чувствовать именно невиновный. И камера «грохотать» будет только над невиновным. «Я-то знаю, за что сижу» — в тюрьме это очень гордые слова. Они всегда бросаются в лицо «Фан Фанычам» и «Сидорам Поликарповичам»... А бритая голова... ну что ж, она тоже под конец станет модой и бравадой. Хулиганы люди с фантазией. Они стиляги. Бритая голова скоро будет тем же, что и сердце на руке или голая баба у причинного места «Человека».
Наконец уже утро. Вот сидим на нарах и обсуждаем все это. Нас трое: один — студент, другой — инженер и третий — я. Нас объединило то, что мы все считаем себя попавшими зазря (оно и вправду так, в камере только два человека признали себя виновными). Сначала над нами попросту «грохотали»: нашли о чем рассуждать — о правде! («А ты ее видел когда-нибудь? Ну, какая она? Расскажи»), о законе («Закон стоит 27 коп. и заперт у судьи в шкафу»). Тут я вспоминаю опять 49-й год («Вот где твоя конституция, — сказал мне следователь Харкин и подергал ящик стола — он был заперт. — Видишь? Иной для тебя нет). Так вот, сначала смеялись, шикали, даже покрикивали совершенно по-лагерному (и здесь есть «люди»): «А ну, кончай баланду». А потом все-таки прислушались, кое-кто из молодых стал вздыхать: «Конечно, батя, вы вон там сколько просидели, вы все обдумали. Вы если и неправду нам скажете, то разве мы поймем». А под конец стали кое с чем и соглашаться.
— Да ведь это хулиганье — самое-самое зло, — сказал мне один парень лет тридцати. — Вот у меня шурина ночью шилом ткнули в поясницу, так какой теперь из него мужик? Лежит без ног. И жена ему ни при чем.
— А сидишь ты, — засмеялся кто-то. И он с горечью ответил:
— Так мне и поделом, дураку, знаю я, кто это сделал, знаю, а вот не пошел, побоялся. Таких не больно трогают. Возьмут и выпустят. А он каждый день мимо меня проходит и усмехается.
Что ему ответил, я не помню, потому что припадок накрыл меня внезапно. Я вдруг почувствовал, что доски плывут, потом, что сердце у меня раздалось, поднялось и вот-вот выпрыгнет через горло. Я закричал и будто подавился криком.
Сколько времени прошло — опять-таки не знаю, но очнулся я снова от крика, но уже не от своего. Орал молодой парень, студент, тот самый, с которым мы только что толковали. Он стоял на нарах и потрясал кулаками.
— Тут автомат, автомат нужен! — кричал он. — Больше ничем тут не сделаешь! Что с ними толковать попусту?
Я открыл глаза и приподнялся. Мне дали руку, и я сел. Он сразу замолк и наклонился надо мной.
— Ну что, батя? — спросил он заботливо и тихо.
— Ты не базарь, — сказал я. — Тоже автоматчик мне нашелся. Тут есть какая-нибудь сестра?
— Уже позвали, — сказал он быстро. — Побежала за каплями. Сейчас, батя, придет. Вы лягте.
Сестра пришла и капли принесла. Это была обыкновенная валерьянка, и больше ничего. Я выпил и лег. Очень болели ребра, и я догадался, что это мне делали искусственное дыхание — один разводил руки, другой ставил коленку на грудь и давил. Я эту операцию знаю и уважаю. Когда-то она была нашей единственной скорой помощью, но в моем-то положении она, пожалуй, мне и ни к чему.
— Вот что, ребята, — сказал я. — Если мне опять станет плохо, вы мне больше грудь не ломайте, а то вы меня совсем доконаете. Вы сразу зовите врача.
А сам соображаю — вот если бы мне на полчаса выйти на улицу, хотя бы с лопатой, может, я и отдышался бы. Но знаю, не возьмут, уж больно я сейчас дохлый. Коридорный мне утром так и сказал! «Куда нам такого, лежи! Нам и нужно-то двоих — хлеб раздавать по камерам».
Ночь я провожу очень тревожно, но днем прихожу в себя полностью, лежу и думаю: «Ладно, оклемаюсь, выдержу». Мне обязательно хочется выдержать. Скоро ли дождешься вновь такой творческой командировки? А мне ее так не хватало. Я ведь пишу роман о праве. Но припадок опять накатил внезапно и уж совсем по-новому — просто выключилось сознание, перегорело, как лампочка, — и все. Память после этого возвращалась ко мне только трижды, толчками: первый раз, когда камера ломала дверь, стучала, пинала ногами и вопила. Второй раз, когда надо мной наклонилась тюремный врач и я отвечал на ее вопросы. Что отвечал — не помню. Помню только, как она требовала: «Больной, откройте глаза! Больной, почему вы все время закрываете глаза?» А мне просто было больно смотреть. До ломоты резал противный желтый свет. Затем носилки, «скорая помощь», два белых парня по бокам и больница. В больнице тоже не то полубред, не то полусон, а если явь, то какая-то очень мутная. Так мне представляется, что я очень долго разговариваю с какой-то молодой женщиной в белом халате, отвечаю на ее вопросы и сам рассказываю обо всем, что со мной случилось. Женщину эту я увидел на другой день. Оказалось, что она врач нашей палаты и в этот вечер как раз дежурила. Но говорить я с ней все-таки вряд ли говорил, потому что была ночь и полутьма, и все спали. Так что, скорее всего, это, правда, был бред. Хотя кто его знает? Может, и говорили. Тема эта волнует каждого, а врача тем более. Ведь историю с двумя врачами, которых из милиции пришлось отправить на «скорой помощи» в больницу Склифосовского, рассказывали мне именно врачи и сестры.
Наутро больные снабжают меня двумя копейками, и я, несмотря на строжайший запрет, встаю и пробираюсь к автомату. На другой день ко мне начинают приходить друзья. Обрадовать меня им нечем. Оказывается, они уже побывали у районного прокурора, и тот затребовал мое дело, просмотрел и мрачно усмехнулся. «Пусть он сидит и молчит, — сказал он. — Ему и прибавить еще нужно. И я прибавлю, если кто-нибудь попросит».
«Я не вижу никаких оснований для принесения протеста», — сказал он другому. Вот это для меня абсолютно непостижимо! Именно с прокурорской точки зрения непостижимо. Ведь я в двух объяснительных записках (хотя и, сознаюсь, написанных скверным почерком) сообщал:
1. О том, что я спрятал у себя избитую и порезанную женщину, что она была окровавленной и просила помощи, что преступники — картежная шайка, засевшая у нее в ту минуту, когда меня уводили, — сидели в подвале.
2. Что женщина эта совершенно облыжно названа неизвестной, ее знает весь наш дом и все 18-е отделение милиции (а если не знали, почему не заинтересовались, кто она?).
Разве не нуждались эти мои показания в проверке и вызове хотя бы этой свидетельницы?
3. При всем с начала до конца присутствовал мой товарищ. Он вместе со мной подписал мои объяснения. Больше сделать ему ничего не дали. Я заявлял об этом и милиции, и суду. У судьи, положим, был плохой слух. Но как пренебрег этим прокурор? Ведь он отлично знает, что в Указе от 19 декабря есть такое указание:
«Материалы о мелком хулиганстве рассматриваются нарсудом единолично, с вызовом... в необходимых случаях свидетелей», — так разве это не был тот самый необходимый случай? Пусть судья не обратил внимания на то, что я говорил. Но как прокурор-то мог пройти мимо всего этого? Впрочем...
— Этот человек просидел двадцать пять лет, — сказал прокурору один из товарищей.
— Ну что ж, — резонно ответил его помощник. — За это перед ним ведь извинились.
Боже мой, как все просто и ясно для человека, если он прокурор!
Но вот что могло и даже должно было остановить внимание прокурора — это донос. Тот самый, о котором я уже упоминал. Я сознаю, «донос» — слово очень плохое и даже ругательное, но в данном случае я употребляю его просто как технический термин. В самом деле, как можно назвать заявление соседа о соседе, которое кончается так: «Никаких литературных и творческих разговоров Домбровский со своими гостями, как знают жильцы, никогда не ведет»? А какие же он ведет? Ведь, чтобы написать эдакое, надо стоять под дверью, и не один раз, а многократно. Надо подслушивать, вникать, запоминать, записывать. Отвечать на это, прости Господи, «обвинение» мне просто не хочется. У меня бывали не однажды Ю. Олеша, С. Злобин, С. Антонов, Ю. Казаков, И. Лихачев, С. Наровчатов, Ю. Арбат, С. Марков, С. В. Смирнов, С. Муканов, З. Шaшкин (этих двоих я переводил). В этой комнате я написал и несколько раз читал вслух своим гостям с начала до конца «Хранителя древностей», читал по главам и тот роман, над которым и сейчас работаю вот уже третий год. Были у меня и иностранцы, и мои переводчики, и профессора, так что эта фраза прежде всего характеризует самого доносчика. Это, кажется, Чехов сказал: «Высшее образование развивает все способности, в том числе и глупость».
Очень интересна и следующая фраза: «У Домбровского бывала гражданка, высланная из Москвы за тунеядство. Она несколько раз из места высылки просила послать ей денег, но Домбровский, боясь общественности, ничего не посылал».
Тут он с запарки преувеличил, конечно, не только мою трусость, но и мою невиновность. Посылать я посылал, и не раз, об этом можно спросить ее, она вернулась. Но ведь это значит, что и до моей переписки, до запечатанных писем доходили шустрые руки какого-то правдолюба или любителя литературных бесед. В общем, никакими иными словами, кроме доноса, это произведение не назовешь. Оно и составлено согласно всем канонам этого вида литературы («Хранить вечно» — пишется о них на папках). Это еще не само показание, а только творческая заявка на чью-то голову. В этом такая железная логика: «Я располагаю. Вот мой товар. Смотрите. Оценивайте. Вызовите — я покажу. Что вам надо, то я и покажу. Скажете так писать — я так напишу, скажете эдак — я эдак напишу. Недоразумений не будет».
Оперативники моего времени обожали и уважали именно такую форму заявок. Сразу видно скромного и дисциплинированного человека. С таким можно делать дела.
О литературе не говорит — так о чем же? Подробно, не торопясь, с примерами — кого ругает, кого хвалит, что говорит.
Или вот, например:
«Домбровский часто отдает свою комнату приезжим из других городов».
Боже мой, да в этой фразе целое богатство! Сколько узоров здесь можно вышить: пускает на квартиру спекулянтов (колхозный рынок рядом), укрывает беспаспортных, заводит притон разврата, живет на нетрудовой доход, спекулирует площадью и т. д. и т. д. Почему же прокурор не заинтересовался, не проверил хоть это обвинение — не узнал, кого же я пускал? Для чего?
Еще обвинение: «Однажды привел к себе в комнату неизвестного мужчину, который и жил у него три дня».
Жил он у меня, положим, не три дня, а всего провел одну ночь, но, кажется, на том свете мне за эту ночь многое простится. В декабре или январе я подобрал на нижней площадке нашей лестницы мужчину. Он лежал, раскинув руки, на нем был легкий плащ, и мне показалось, он даже и не дышит. Потом я понял, что он страшно, патологически пьян. Что оставалось делать? Мороз был дикий, трескучий. На плечах я его дотащил до третьего этажа. Он не издавал ни звука. Я положил его на диван. Сам лег на полу. С половины ночи он начал бредить и просыпаться. Утром пришел в себя. Я несколько раз выносил за ним таз. Потом поил чаем. Часов в пять он смог пойти домой. Оказалось, что это один из следственных работников прокуратуры. Была, как говорится, «семейная драма», он поругался с женой, стукнул дверью и ушел. Взял все деньги, напился в ресторане. Часов в одиннадцать его выставили. Не подвернись случайно я, он, конечно, отморозил бы себе легкие (и выпотрошили бы его еще за милую душу — деньги почему-то все оказались при нем). Но как на меня накинулись утром, когда узнали, что я кого-то привел с парадного. «Писатель, а такой дурак», — сказали мне. «Да ведь он бы замерз», — сказал я им. «И черт с ним, — ответили мне. — Пусть пьет меньше». — «Ну, дорогие женщины, — ответил я. — Если бы это случилось с вашим мужем, вы бы, конечно, сказали ему, когда бы он проспался: хорошо, что еще нашелся один умный человек, а то так бы и издох ты на лестнице». С этим как будто бы и согласились, но, как я уже говорил, чужая жизнь в нашей квартире и в грош не ценится.
Что писать обо всем остальном? Донос создавала опытная и, сразу видно, наторелая в таких делах рука. Ни одного конкретного обвинения, все туманные формулы и многозначительные подмигивающие фразы, но смысл — крик души старого доносчика. «Да заинтересуйтесь же! Я располагаю. Недоразумений не будет — сговоримся».
А вообще-то такая бумажка хранится про запас. Для нового дела. Ну хотя бы как характеристика. Могу поручиться, мой следующий — шестой — следователь эту бумажку будет ценить на вес золота. И никакие отводы тут не помогут. Она eсть! Все!
Но неужели прокурор не понял, что такое подшито к делу? Неужели у него нe возникло желания поговорить со мной, спросить, что все это значит, хотя бы просто поглядеть, что я за злодей. Ведь не так уж часто в нашей стране писателя сажают за хулиганство. Неужели для него моя личность была ясна при одном перебрасывании листов дела, а моя просьба о вызове свидетелей, рассказ о том, как резали женщину, он счел не заслуживающими внимания? Что-то плохо представляю я себе таких прокуроров! Неужели с хулиганством можно бороться таким образом?
Я хотел написать о судье Милютиной, но теперь, подходя к концу моей докладной, вижу, что это дело особое и говорить о нем надо тоже особо. В одной строчке я уже сказал, в чем его суть, — это всецело гражданский процесс. А коротко, дело в том, что судья Милютина присудила меня к выплате аванса и возмещению убытка за изготовление подстрочника, потому что я как будто бы не выполнил договор и не представил русский текст того романа, который был обязан перевести.
А между тем договор я выполнил, роман перевел и сдал в издательство. Вот расписки у секретаря отдела только не взял. Но ведь никто из писателей никогда таких расписок не берет. Я представил все доказательства этого вплоть до заявления автора (того самого Шашкина, о котором я уже упомянул). Сдача рукописи происходила при нем. Я требовал выписки из книги учета договорных рукописей, приобщения писем, приобщения этого свидетельства автора. Ни одно мое ходатайство Милютиной не удовлетворено. Книга сейчас издается. В общем, история сверхбезобразная, но сейчас меня интересует совсем другое. Я думаю о том радостном возгласе милиционера: «Домбровский, ты знаешь Милютину? Ну, получишь десяток суток, поздравляю». Но ведь Милютина моего дела не знала, со мной не говорила, меня не судила. И все-таки предсказание милиционера сбылось с астрономической точностью. Значит, на Кочетову я, пожалуй, зря и сержусь. Я был осужден до разговора с ней — Милютиной. Просто, вероятно, она позвонила по телефону и сказала: «А дай-ка ему столько-то». И все это делается открыто, на виду, не таясь, что тут таить? Милиционер свой человек, а Домбровский и не человек даже, а подсудимый. Что с ним ни сделают, все будет хорошо. Решение выносится без свидетелей, без обжалования. Что и с кого здесь он потребует?
Товарищи писатели, дорогие коллеги мои, мне кажется, что нетерпимость всего этого переходит уже всякие рамки. Будет плохо, если мы и тут смолчим. Мы же писатели, и с нас спросят справедливее, суровеe и больше, чем с кого-либо. Мы должны быть готовы к этому ответу. Я понял это особенно четко, когда прочел письмо одного читателя, опубликованное в «Казахстанской правде». Вот что пишет некий электротехник Г. Володин автору фельетона «Мужчины с неразборчивыми фамилиями» В. Костиной. В этом фельетоне мужчины обвиняются в том, что в уличных стычках они не всегда проявляют достаточно храбрости. Боятся хулиганов. Не защищают женщин. Совершенно справедливо. Бегут мужчины от греха подальше. Но ведь, товарищи, прав и автор:
«Если бы вы были мужчиной, то и не иронизировали бы над мужским достоинством, ибо оно уже давно задушено там, где «пьяные мозгляки», терроризирующие окружающих, остаются пострадавшими, а благородные поступки честных мужчин, направленные даже на защиту «слабого пола», наказуются по всей строгости закона... Поставить вопрос о некоторых несправедливостях в законодательстве вы побоялись» (№ 126 от 26 июня).
Это грубо, конечно, но это правильно. Я испытал это на своей шкуре и по мере своих сил и способностей изложил, как это вышло. Надо бороться с хулиганством, это безотложная наша задача, но голова и тут нужна, и честность тоже. Нельзя давать милиции или суду скрываться за колонками статистических сводок. Надо ловить преступников, а не тащить за шиворот обывателей. Каждое несправедливое осуждение не только покрывает собой невыявленного преступника, но и родит еще нового, уже не верящего ни во что, и скоро мы задохнемся от открытого дневного бандитизма. Ведь это не шутка, что в Иркутске за последние годы (а ведь это были годы «борьбы») детская преступность увеличилась, по милицейским данным, в восемь, а по судебным — в шесть раз. Шестьсот и восемьсот процентов — что у нас растет так?
В Алма-Ате преступность выросла на 30 процентов. Две тысячи четыреста дел на учащихся средних школ, заведенных только в одном городе. В статистике преступлений только четыре процента приходится на сельские местности, девяносто шесть процентов поставляет город. Подумайте об этом, товарищи.
Я написал о себе, но совсем, совсем неважно, что это случилось со мной. Я, в конце концов, не умер. Вот сижу и печатаю эту записку, а болезни, что нашли у меня, верно, уже были давно (вот тут, кажется, я немного покривил душой перед судьей Кочетовой), только я их не замечал.
В общем, все это пустяки. Важно другое. Настоящее хулиганство — страшный враг (потому что оно уже и не хулиганство, если оно настоящее), и с ним надо бороться, но бороться осознанно, планомерно, умело, законно — не толчками и спазмами. Бороться, уничтожая преступление, но не рождая преступника. Совесть — орудие производства судьи. Это основное. А наши столы: кухонные, милицейские, судебные — часто только и делают, что преступления поставляют. В римском праве была статья, карающая «за оскорбление величия народа». За это полагалась смерть. (Потом, в 15 году по Р. X., величие народа перенесли на Вождя народа (Тиберия), и республика умерла — началась империя.)
Есть ли в нашем законодательстве что-то подобное по отношению к закону? Карают ли за его профанацию? За его умаление? За обман? За собак, сданных вместо волков? За волков, выданных за собак и оставленных на воле? Думает ли кто в нашей стране о культуре суда? Вот о чем я хотел бы спросить наши органы — судебные, следственные, административные и общественные. За разрешением этого вопроса я и обращаюсь к вам, товарищи писатели. А примеров, кроме приведенных здесь, вы и сами знаете достаточно!
С благодарностью за внимание Ю. Домбровский.
Письмо Аристову
Члену ЦК КПСС Аристову А. Г.
от писателя
Домбровского Юрия Осиповича,
Москва Г-34, пер. Островского,
д. 14, кв. 5. Тел. Б-6-81-89
Обращаюсь к Вам по вопросу, хотя и личному, но имеющему также большое принципиальное значение.
О себе и о том, что у меня за дело, я напишу в конце этой докладной и очень коротко, так как суть, конечно, все-таки совсем не во мне.
Я хочу спросить Вас, почему Генеральная Прокуратура, просматривая в надзорном порядке наши дела — дела лиц, осужденных по ст. 58, так категорически отвергает всякую возможность нашего личного участия в этом пересмотре.
Ведь до сих пор все наши просьбы о личном вызове, о даче показаний, все попытки что-то объяснить, дополнить, исходатайствовать — наталкивались на молчаливый отказ. Если заинтересованное лицо и вызовут в Генпрокуратуру, то никак не к практическому работнику, разбирающему его претензии и никак не для выяснения какой-либо неясности, а разве только для того, чтобы выслушать жалобу.
Правильно ли это?
Мне думается, что, безусловно, нет!
Политические дела периода 1937–1953 гг. (а в громадном большинстве случаев речь идет именно об этих делах), велись как общее правило, и в лучшем случае — недопустимо неряшливо, но обязательно с обвинительным уклоном, в худшем же — представляли просто голую фальсификацию.
Нужно, однако, учесть, что внешняя форма делопроизводства нарушалась совсем не так часто, и поэтому разобраться в такой фальшивке далеко не просто. А при той, поистине гигантской работе по восстановлению справедливости, которую выполняет Генпрокуратура и Прокуратуры Союзных республик, это иногда и вообще невозможно: для этого нет ни времени, ни работников.
И вот, в ряде случаев, Прокуратура, просматривая дело и исходя только из его материалов, шлет отказы — один, другой, третий, а потом вдруг реабилитирует человека. Такие дела часто длятся годами и переживают реабилитируемого.
А между тем, часовой разговор, несколько четко поставленных вопросов, и все, может быть, приняло бы совсем другое течение.
Особенно, конечно, это относится к делам Особого Совещания, не имеющим такой важной и, пожалуй, даже основной части делопроизводства, как судебное следствие.
Между тем, внешняя сторона этих дел, предназначенных для Москвы, соблюдалась всегда достаточно строго.
Конечно, мы — жалобщики — пишем жалобы и указываем на все то конкретное, на что вообще в состоянии указать; конечно, эти жалобы принимаются, собираются и хранятся в надзорном деле, но ведь надо учитывать и то, что далеко не всякий знает свое следственное дело полностью, не все он помнит и не все было в листах дела, когда он его подписывал. Да и может ли всякий подсудимый знать, что данный прокурорский работник и в данное время считает наиболее важным или, наоборот, наиболее сомнительным?
Для этого нужны прямые вопросы и прямые ответы.
А этого-то как раз прокуратура почему-то избегает.
Заинтересованное лицо часто находится в самом здании прокуратуры и обрывает все телефоны, но прокурорскому работнику, разбирающему его дело, говорить с ним не о чем.
Это пожелание — личный вызов — относится, конечно, ко всем категориям дел по ст. 58, но для лиц, осужденных по п. 10 этой статьи, т. е. за приписываемые им антисоветские высказывания, он просто необходим. И понятно почему: здесь чаще всего никаких материальных доказательств преступления у следствия не было да и не могло быть. Их заменили показания свидетелей. И примерно в 90% они касались разговоров наедине.
Слов нет, это вообще крайне скользкий путь доказательств, но в принципе возражать против него все-таки не приходится. Тут все дело, очевидно, в анализе достоверности, т. е. в четком выяснении, кто показывает, почему и когда он это показывает. Выяснить все это — положительно необходимо.
Как забыть, что бериевская компания, терроризируя одних, развязала самые темные, антисоциальные и даже античеловеческие инстинкты у других, что масса людей, не имеющих гражданского мужества и моральной стойкости (в особенности т. н. «запятнанные» и «бывшие»), пали жертвами этой компании.
Вольно или совсем невольно, спасая иногда самих себя или зарабатывая капитал, они стали клеветниками и лжесвидетелями и теперь уверены, что обратного пути им нет. Они боятся и закона, и мести реабилитированного, и общественного мнения, и партответственности.
Поэтому часть их остается и будет упорно оставаться при своих прежних показаниях, насколько они их знают и еще помнят (кстати, у лжи, действительно, короткие ноги: знают и помнят они их далеко не всегда и далеко не точно. Часто для выяснения истины достаточно заставить такого свидетеля повторить то, что он говорил раньше и попросить объяснить появившиеся противоречия).
К их числу надо прибавить вралей, профессиональных сплетников и кляузников, хронических алкоголиков, просто невменяемых — одним словом, людей, безграничная способность которых все перевирать и домысливать, превращать муху в слона — широко известных всем окружающим, но именно по этому признаку они и были желанными гостями в некоторых следственных кабинетах.
Разобраться в этом нарочитом хаосе, конечно, нелегко. Очень многое здесь зависит от профессиональных качеств, от чутья и добросовестности прокурорского работника, но еще больше дала бы четкая проверка всех обстоятельств, изложенных в жалобе, — проверка не только достоверности оспариваемых показаний, но и выяснение способности свидетеля трезво воспринимать, запоминать и оценивать события.
Конечно, не личность свидетеля должен взвешивать и оценивать следователь, а только его способность свидетельствовать, если ответчик эту способность у него мотивированно оспаривает.
А как пройти мимо таких заявлений ответчиков, как: «Я с этим лицом был незнаком вообще и поэтому не мог с ним разговаривать», «Все могут засвидетельствовать, что я со свидетелем ни о чем, кроме служебных дел, не говорил», «Я сказал не это, а вот что и сошлюсь на таких-то», «Я в это время и в городе не был, проверьте...» и т. п.
До сих пор никто на такие заявления внимания не обращал и ничего не проверял.
Происходит все это потому, что любое (иногда нелепейшее по существу) свидетельское показание и до сих пор продолжает иметь в глазах прокурорского надзора абстрактную и абсолютную ценность, замкнутую в самой себе и не зависимую от личности автора.
А два-три таких однотипных и согласованных показания (а чтобы они были однотипны и согласованны, об этом в свое время позаботился и следователь, и начальник следственного отдела, из-под пера которых вообще и вышло дело) механически приобретают в глазах прокуратуры силу неопровержимого юридического доказательства и неминуемо ведут к отклонению жалобы, как «необоснованной».
К лицу ли в 1956 году этот упорный бумажный фетишизм? Это уважение к форме, которая никакого реального содержания не имеет и ровно ничего не отражает?!
Но, кроме прямых оговоров — (явления, в общем, не столь уж частого), в каждом фальсифицированном политическом деле наличествуют обязательно следующие элементы:
Причина их появления слишком понятна. Здесь стоит только заметить, что «признания» составлялись с точной согласованностью со всеми другими материалами дела. Если нужно было, они переписывались и подгонялись по нескольку раз, и поэтому проверять их другими свидетельскими показаниями невозможно. Они и есть эти другие показания, но перефразированные.
Обвиняемый уличается в: «опошлении советской действительности», «охаивании мероприятий партии и правительства», «восхвалении капиталистических порядков», в том, что он «пытался доказать (доказывал) преимущества капиталистического строя перед советским», «распространял антисоветские измышления», «вел антисоветские разговоры», «клеветал на...», «хулил вождя» (Рюминский словарь не богат, и я исчерпал едва ли не все основные формулировки по ст. 58-10). Для осуждения и этого в ту пору было достаточно. Но разве не ясно, что такая запись — не показание, а самовольная экспертная оценка следователем каких-то разговоров, содержание которых более точно неизвестно.
По-моему, самое появление в листах дела такой обвинительной туманности показывает, что у следователя в руках ровно ничего не было.
До лиц, ныне разбирающих дела, любые показания доходят только в записи, в редакции и осмысливании следователя, ибо свидетель готов был подписать любую их редакцию, только бы поскорее уйти.
Такая следовательская редакция преследовала:
1) Превратить любое высказывание подследственного в явное преступное.
2) Согласовывать его высказывания:
а) с самооговором;
б) с материалами оперативного дела, всегда известными следователю.
Делалось это так. Свидетеля спрашивали: «Знаете ли вы такого-то как советского человека?» У кого в кабинете следователя в тот период повернулся бы язык сказать про арестованного или подлежащего аресту (а об этом давали понять сразу), что данный «враг народа» на самом деле честный советский человек? Почти все были убеждены, что ответить так значит сесть рядом с арестованным, а поэтому отвечали уклончиво: «Нет, он не советский человек», «не вполне советский человек».
Тогда следователь определял: «Если не советский, то значит, антисоветский — третьего не дано», — и заносил в протокол: «Знаю такого-то как антисоветского человека». Этим началом определялся весь дальнейший ход и характер показаний.
Свидетель был уже деморализован и не возражал против любой редакции своих показаний.
Здесь злоупотреблений было не менее чем везде.
Материалы очных ставок, как правило, никогда не соответствовали тому, что реально происходило в кабинете следователя. Ни прокурор, ни работник МГБ из соседнего кабинета — понятой — не мешали самой безудержной фальсификации: очника всегда наталкивали, поправляли, направляли, а чаще всего просто-напросто абзац за абзацем списывали в протокол очной ставки материалы прошлого допроса. Причем возражения подсудимого оглуплялись до того, что нельзя было понять, о чем же он говорил. Чаще же всего их вообще не протоколировали.
Если же подследственный прижимал очника к стене, — следователь немедленно приходил к нему на помощь. В протоколе очной ставки вдруг появлялось стереотипное «остаюсь при своих прежних показаниях» и этим закрывалось все.
Свидетель, показывающий что-то в пользу подследственного, немедленно исчезал из «дела». Точно так же изымались и все обстоятельства, оправдывающие подследственного, или говорящие в его пользу, или обнажающие с какой-либо стороны шаткость обвинительной концепции.
Если же протокол данного свидетеля был уже положительно необходим, он составлялся заново, уже без неудобных для следствия моментов (они объявлялись «не имеющими отношения к делу», «излишними»), и подписывался свидетелем вторично.
Таковы 6 основных следственных подлогов.
На основании двадцатилетнего опыта я утверждаю, что любое дутое политическое дело создано при помощи одного, при помощи двух, трех, а чаще всего, всех 6 подлогов.
Все надзорные жалобы будут указывать именно на эти виды фальсификаций.
Есть подлоги грубые, есть подлоги искусные; наряду с делами, сколоченными кое-как, разоблачить которые нетрудно уже при беглом чтении, попадаются подделки, сделанные технически очень грамотно.
Не надо забывать, что «дело» всегда представляет собой согласованное целое. Оно создано единой преступной волей и преследует только определенную цель. Вот эта мнимая стройность и вводит в заблуждение иногда и очень опытного работника. И в таких случаях разговор следователя с жалобщиком просто необходим.
Но вести такой разговор надо очень конкретно, с делом в руках надо спрашивать и давать возможность отвечать и доказывать. Такой разговор либо очень быстро покажет необоснованность претензий жалобщика, либо наметит конкретные пути для их проверки.
Что удерживает спецпрокуратуру от такого пути? Время? Но понятно, что времени потребуется не больше, а много меньше. Следственная тайна? Но она уже давно не тайна! Для подследственного, во всяком случае!
Винят прокуратуру и прокуроров, клянут бесчувственность чиновников и бюрократизм судей. Но, по-моему, беда тут в самом характере, в природе пересмотра. Это — надзорный пересмотр, поэтому и формы его особые, кабинетные: все сводится, по существу, к чтению и формальному анализу листов дела.
Правильно ли, что надзорный пересмотр дела таков? В принципе — да, безусловно. Прокурорский протест в обычное время по обычному делу, при нормальном суде первой инстанции — действие чрезвычайное и исключительное.
Но ведь не то происходит сейчас!!! Как же закрыть глаза на то, что надзорный протест сейчас является единственной формой восстановления юридической справедливости, что функции и следователя, и судьи, и прокурора возложены на одни и те же плечи.
А произошло это потому, что у подсудимого в свое время были отняты все его права, и ни суд, ни прокуратура помочь ему тогда не могли.
Но раз это так, разве не следует начать с восстановления этих прав, хотя бы в какой-то их основной части и, прежде всего, выслушать жалобщика? — задать ему вопросы и разрешить на них ответить и говорить в свое оправдание! Стоит ли сейчас слепо хвататься за классические процессуальные формы и категории, если признано, что в настоящее время имеешь дело с ненормальным делопроизводством и ненормальной работой судов?
Не следует ли именно здесь проявить гибкость и установить такую надзорную практику, которая была бы применима к спецделам известного Вам периода?
Форма тут не пострадает, а советское общество и люди очень выиграют.
Почему я это пишу и какое имею право обобщать и советовать? Мне кажется, что право на это я имею. Я хорошо имел возможность изучить вопрос и поэтому знаю все то, о чем пишу.
В течение 20 лет (с 1936 года!) я трижды арестовывался органами ГБ все одного и того же города (Алма-Ата), все по одной и той же статье и тому же самому пункту (58-10).
Все три мои дела опротестованы прокуратурой и судом.
Два из них прекращены полностью; третье (по-моему, самое дикое) опротестовано частично. Я просил о справедливости, а мне оказали снисхождение и отпустили. Я подал жалобу на эту половинчатость, и Генпрокуратура Союза предписала Прокуратуре Республики пересмотреть третье мое дело еще раз. И вот свыше 18 месяцев (с июля 1954 года!) длится это глупое дело, и конца ему не видно. И ни разу никто не согласился меня принять и выслушать, хотя дело было в Москве и я стучался во все двери прокуратуры.
За эти 20 лет я ни разу не был виноват даже в простой неосторожности или оговорке — меня отучили их делать! — но и доказать следствию за эти 20 лет я ничего не сумел, да и что, по существу, было доказывать? Даже и говорить было нечего, потому что следователи знали все лучше меня и старались только, чтобы я не мешался при оформлении еще одного пункта 10, еще одного дела. Но я мешал, и меня пытали — я ничего и никого не оговорил, и меня, как неисправимого («он никогда не сознается!»), засунули в самые дальние и черные углы: так я был на Колыме, на Дальнем Востоке и под конец в страшном Тайшетском Озерлаге.
Там я видел таких же, как я — не взявших на себя ничего, — и людей, сознавшихся в чем угодно и закопавших сотни. По их просьбе и от их имени я написал, вероятно, не одну сотню жалоб.
Я разговаривал с однодельцами и сличал их показания, выяснял истину. Я говорил со следователями и бывшими прокурорами, с бывшими крупными работниками — участниками больших «групп» и процессов, с профессорами и людьми азбучно неграмотными. Я знаю дела 1937–1938 гг., дела 1945 г., дела 1948–1953 гг. Из всего этого бесконечного разнообразия у меня создалось единое четкое впечатление — о нем я сейчас и пишу.
Я не адвокат и не прокурор, я только бывший член Союза Советских Писателей, человек, который кое-что обещал, но которому так и не дали ничего сделать. (В прошлых жалобах и в том числе и в жалобе в КПК КПСС, ответ № 29 от 4.XI.55 г. я подробно писал о себе и поэтому не повторяюсь.)
В течение этих 20 лет я хотел понять, что же происходит: я присматривался, отсеивал случайное, выделял все общее и типичное. И вот теперь мне понятно очень многое: я знаю не только, что такое реально — в лицо — люди рюминского типа, или деятели бериевской замашки, но понимаю и то, почему всякая следственная инстанция неминуемо станет на путь кровавых авантюр и антигосударственных подлогов, как только она сбросит с себя прокурорский надзор и пренебрежет священными правами обвиняемого.
Сейчас это поняли все: но если мне понятно, почему закон был нарушен так долго, так страшно и кто в этом был кровно заинтересован, то почему и сейчас прокуратура («полностью восстановленная в своих правах!») действует так медленно, делает так мало, создает у себя такие очереди, когда ей легко действовать и быстро, и эффективно — мне все-таки понять трудно.
Восстанавливать справедливость, возвращать советскому обществу хорошего и нужного человека — это ведь такая большая радость, а все идет косно, медленно, канцелярски равнодушно и безразлично. И это равнодушие идет нога в ногу с реабилитацией или вдруг выпускает такие издевательски-скрупулезные постановления: «Снять пункт 11, оставить пункт 10, срок наказания оставить прежний — 10 лет». Как тут не вспомнить Ленина — «По форме все правильно, а по существу издевательство».
Но я знаю и еще более характерный случай: человека вызвали для переследствия из Тайшета в Москву (значит, возили 7000 км); перевезли, посадили в следственную тюрьму, продержали две недели да и отправили обратно. И никто его не вызвал, никто его не спрашивал — просто зачитали ему через тюремную администрацию бумагу о переквалификации статьи (58-10 и 58-8, через 17 на 58-10 — за агитацию) и соответствующим с этим снижением срока вот и все. А человек только об одном и молил: «Вызовите меня, спросите, а потом поступайте, как хотите». (Дело А. Оганезова.)
И вот мне кажется, что основной порок всех пересмотров — это оторванность жалобы от жалобщика, замена человека папкой его дела.
Иными словами, сидит в лагере или ходит по Москве (а это существенной разницы не составляет) осужденный за антисоветскую агитацию какой-нибудь гражданин (скажем — Домбровский) и требует реабилитации, а у прокурора на столе лежит его двойник — «Дело» Домбровского, осужденного за антисоветскую агитацию. Никакого реального отношения его «Дело» к живому Домбровскому не имеет, но оно составлено по точным инструкциям директивных органов госбезопасности и поэтому выглядит страшно.
И вот по материалам «Дела» об этом Домбровском — контрреволюционере, умелом и ловком враге — и решается судьба настоящего живого Домбровского, который даже и точного понятия не имеет о том, как выглядит его страшный двойник.
А происходит это опять-таки потому, что пересмотр надзорный и только надзорный. А только надзорный пересмотр сейчас явно недостаточен, ибо сущность дел, которую он затрагивает, иная, и приходится сомневаться во всех материалах от обложки до обложки, от обвинительного акта до протокола об ознакомлении с делом (знаменитая 206 ст.!).
Я думаю, Вы поймете меня и поверите, что совсем не одни личные соображения толкнули меня на составление этой докладной — я просто изложил те мысли, которые уже 10 лет приходят мне в голову и которые я уже не счел вправе скрыть!
1 января 1956 года, Ю. ДомбровскийПисьмо Сергею Антонову
Дорогой друг,
когда я подошел к тебе в Доме литераторов со словами «Ты написал похвальное слово о книге автора, который меня посадил», ты был, конечно, смущен, потрясен и даже немного перепуган. Прости меня, дорогой, может быть, мне не надо было делать этого, т. е. в той форме, в тот момент, при тех людях. Конечно, мы с тобой их хорошо знаем, это даже в какой-то степени близкие нам люди — наши редактрисы, — значит те, с кем мы работаем, но все-таки к нашему разговору они люди сторонние. Так что ты меня действительно прости. Просто сдали нервы. Во всем же остальном я прав, прав железно и буду настаивать на этом. Не смели тебе подсовывать эту самую книгу! Не надо было тебе писать то, что ты написал! А самое-то главное — не смеет Ирина Ивановна Стрелкова писать о морали и учить нравственности. «Облик нового советского человека» — сколько раз мы слышали эту железную формулу, тему для диссертаций и брошюр, и именно поэтому всегда бежим мимо нее. Слова, слова и слова! Один придумал, тысячи повторили и все ладно, — а я сейчас подумал: да и что же это за облик, над которым так рьяно работает Ирина Ивановна? На кого этот новый человек должен быть похож? Как ни верти, а тут дальше и выше самой Стрелковой не прыгнешь. «Се предел, его не перейдеши». Страшное дело! Действительно, есть делать жизнь с кого!
А теперь по существу. Когда я в 1943 году освободился из лагеря, то как-то сразу ослеп, оглох и одурел от впечатлений. За те четыре года, что я пробыл под вышками, мир стал совершенно иным. Куда ярче, богаче, осмысленнее. Несмотря на страшную войну, голод, лишения, неразбериху, бесквартирье — Алма-Ата жила так повышенно, как она вряд ли будет жить еще! Ну как же! Там снимался «Иван Грозный» и там жили Эйзенштейн, Рошаль, Зощенко, Паустовский, Маршак, Шкловский. Называю первые попавшиеся имена. Но их, конечно, было много больше. Мне эти люди и дела их были совершенно недоступны. Я никого не знал и ходил на костылях (я почти два года пролежал без ног сначала в лагере, а потом в клинике. Меня и из лагеря выбросили как балласт — благо даже по тем временам за мной ничего серьезного не числилось. Я был посажен за пропаганду расовой теории, т. е. за то, что написал антирасистский и антифашистский роман «Обезьяна приходит за своим черепом» («Сов. писатель», 1959 г.). «От него не отказался бы и сам фашиствующий Сартр», — написали о рукописи (!) в «Каз. правде» за десять дней до моей посадки. А через десять лет я там же прочел с большим удовольствием: «Фашистские молодчики разгромили дом прогрессивного писателя Сартра». Вот так!). Словом, за всем тем, что происходило, я наблюдал как сторонний прохожий. А жил я тогда в доме — огромном общежитии, бывшей гостинице, где друзья каким-то образом выкроили мне номер. Там разместили киношников, а я что-то делал для киностудии. Вот тут я и встретился со Стрелковой. Она как-то молниеносно появилась в нашей жизни, т. е. очень скоропалительно вышла замуж за моего товарища Алешу Брагина. У того уже была жена и две дочки (он и сейчас живет с ними), — но не то жена его бросила, не то он ее, словом, не знаю, что уж там вышло, — но вдруг в нашем общежитии появилась эта очень энергичная пробойная молодая белоглазая женщина. Она была умна, остроумна, с ней было интересно разговаривать, и эта встреча, как ни смешно звучат эти слова ныне, была светлым лучом в моем темном и тесном мире. Я часами мог разговаривать с ней. Она очень много знала такого, о чем я не имел понятия. У нее были прекрасные книги, и самое главное — у нее был Хемингуэй. Первое отдельное издание его, небольшой томик «36 рассказов и “Пятая колонна”». (За год до моей гражданской смерти в «Иностранной литературе», как я сейчас установил, был, правда, напечатан его роман «Иметь или не иметь», но он как-то совсем прошел мимо меня. В это время журнал «Литературный Казахстан» собирался печатать моего «Хранителя древностей», объявил об этом, и я страшно много работал. Он — этот роман — пропал, как и все, что я тогда делал и писал, — и в 60-х годах я написал его сызнова и по-новому.)
Так вот, от Стрелковой я впервые получил Хемингуэя. Я прочел его залпом ночью и в семь утра, оглушенный, сбитый с толку, словно увидевший новый свет, прибежал к ней. Я понял, что все, что я писал дотоле, никуда не годится, мои герои страшно много говорят, вернее, не говорят, а выговариваются, я толкаю их на какие-то странные авантюры, и все это, конечно, для нагнетания интереса — а в результате получается страшное утомление — меня, читателя, моих героев, самой ткани вещи. А писать надо так, как написаны вот эти новеллы, — просто, ясно, коротко. И не надо никогда ничему учить читателя, что-то ему там растолковывать. Он умный, он сам поймет. Со всем этим я пришел к Ирине Ивановне. И она меня поняла и объяснила страшно важную вещь — что Хемингуэй открыл в литературе то, что давным-давно знали актеры — подтекст. И таким образом чуть не впервые сумел создать образ неинтеллектуального героя. Это было так! Это было воистину так! — я слушал, разинув рот. Я что-то страшно много начал прозревать после этой книги, после ночи, проведенной над ней, и нашего утреннего разговора. Я и до сих пор считаю это одним из самых важных разговоров в моей жизни. А дальше пошло то так, то эдак. Брагин много пил, иногда где-то пропадал чуть не по суткам, и брак разладился, Брагин вернулся к прежней жене. На наших отношениях это хоть и косвенно, но не могло не сказаться. Тут, предвидя твои вопросы, я могу сказать, что с Брагиным я не пил и компаний не водил, одно постороннее обстоятельство сделало это просто невозможным (но об этом, если хочешь, лично). Так что к распаду их брака я никакого отношения не имел и даже причин его не знаю. Ирина Ивановна уехала из гостиницы — у нее были мать и, кажется, отчим, — и мы перестали встречаться в домах. Но отношения все время были теплыми, приятельскими, «Здравствуйте, классик!» приветствовала она меня на улице или в Союзе писателей. «Здравствуйте, львица!» — отвечал я ей, мы смеялись и расходились. Так продолжалось до 1949 года, а в 1949 году меня посадили. Следователь мой, курносая, тупая скотина, безграмотный, как дамский парикмахер в совхозе, путал континент с контингентом и кричал на меня за то, что я ему рассказываю «детективные романы». Тем не менее запутал он меня здорово.
И сделал это, надо сказать, со своеобразным следовательским блеском.
Он обвинил меня в антипатриотизме, космополитизме и пораженчестве. Помню, я сначала только рассмеялся ему в лицо — откуда же пораженчество? А потом понял, что это далеко не смешно. Следователь взял протокол допроса свидетеля и прочел мне, что я якобы утверждал, будто скоро Советский Союз будет воевать с США и потерпит поражение. Как же так? Ведь мы только что наголову разбили Гитлера?! А! Нет! Немцы были болваны, они выжигали деревни, устраивали Освенцимы, газовые камеры, морили пленных голодом. Американцы поступят иначе: они будут кормить пленных шоколадом и стелить им белоснежные простыни. «И значит все пойдут в плен? — напористо, уже на очной ставке спрашивал следователь, — и война будет проиграна? Советской власти не будет? Так?» — «Выводы делайте сами», — тупо и понуро отвечал свидетель. Следователь делал их и получалось — пораженчество. Я ничего не мог поделать с этой идиотской историей. Она только сначала казалась мне хохмой, а потом я понял, что в руках следователя (того следователя, в том году! И для такого подследственного, как я, — у меня сейчас три реабилитации!) — это страшное оружие. Вся беда в том, что о войне с США, о чистых простынях и шоколаде я действительно говорил. Вернее, писал об этом. В том романе, над которым я тогда работал, один мой отрицательный герой говорит: «Мы не повторим ошибки Гитлера, мы наших пленных будем кормить эрцаз-шоколадом и уложим их спать на чистые простыни. Но жить они у нас долго не будут. Почему? Не знаю, право, но мне так кажется». Этот кусок я читал одному моему другу, и он на горе вспомнил его, а следователь, записывая, опустил всякое упоминание о романе, и получилось — это говорит Домбровский сам от себя. Что мне оставалось делать? Ссылаться на рукопись? Да, она — первая часть романа «Дрогнувшая ночь» — лежала у следователя на столе, и он мне показывал ее, но ведь совершенно же ясно, что при первой же ссылке на нее она исчезнет. Она ведь не была занесена ни в какую опись, ибо ее даже не дома взяли, а просто кто-то принес. Взял у меня читать и держал, пока меня забрали, а там я ее увидел у следователя. Итак, я ясно понимал бесплодность любой ссылки на рукопись. И решил правильно. О рукописи надо молчать. Я и молчал до тех пор, пока меня освободили. Рукопись сохранилась, была мне возвращена и потребовалась мне для реабилитации. Вот тогда моя ссылка на нее сыграла самую решающую роль. Рукопись эта сейчас существует. Это безнадежно плохая вещь. Такая плохая, что я ее подарил одному собирателю рукописей и очень рад. Сжечь — рука не поднималась, а хранить у себя было просто неприятно. Итак, этот пункт (пораженчество) у следователя был зафиксирован. Я объяснял на очной ставке с товарищем, в каком это смысле говорится, но ведь ты знаешь, что такое очные ставки того времени. Товарищ, насмерть перепуганный, красный, мокрый, ерзал на стуле, на меня не смотрел и бормотал что-то невнятное, а следователь писал и писал, спокойно и не торопясь, все, что ему было нужно. Я отказался от подписи. Но что значил мой отказ? Я был накрепко обречен, это понимали все. Понимал и товарищ. Несчастный! Не хочу поминать его имя. В одной книге коротенько описана наша последняя встреча с ним в 1958 году. Он погиб вскоре после нее (застрелился из охотничьего ружья, снял сапог и пальцем ноги спустил курок). Итак, пораженчество доказывалось одним показанием и одной очной ставкой. Для антипатриотизма понадобились другие показания и другая очная ставка. И мне ее дали!
Однажды меня привели утром, и я увидел Стрелкову! Честное слово, это было самое удивительное за эти три месяца. Я обалдел и не понимал — она-то тут при чем? Я смотрел на нее как баран на новые ворота. «Рот-то закрой!» — усмехнулся следователь. «В каких отношениях вы со свидетельницей?»
Я пролепетал, что в нормальных. «Так, — сказал он, — а теперь, Ирина Ивановна, расскажите нам о Домбровском».
Она не краснела, не потела, не ерзала по креслу. С великолепной дикцией, холодным, стальным, отработанным голосом диктора она сказала:
— Я знаю Юрия Осиповича как антисоветского человека. Он ненавидит все наше, советское, русское и восхищается всем западным, особенно американским.
Нет, никак не могу передать тебе, что я почувствовал в ту минуту. Наверное, то же, что почувствовал бы ты, если бы я, идя вчера с тобой по улице, вдруг схватил бы тебя за руку и заорал: «Держите его, он вытащил у меня кошелек и сейчас выбросил его за забор! А вчера на моих глазах изнасиловал девочку!» Вот что-то подобное я пережил тогда.
— А подробнее, Ирина Ивановна, вы мне сказать не можете? — спросил тихо улыбающийся следователь. Он любил и уважал чистую работу. Стиль Стрелковой ему импонировал.
— Ну вот он восхвалял, например, певца американского империализма Хемингуэя (тогда все запретное, как ты помнишь, не хвалили, а восхваляли). Он говорит, что все советские писатели ему в подметки не годятся.
— А что он вообще говорит про советских писателей? — прищурился следователь и лукаво посмотрел на меня.
— Домбровский говорит, настоящие писатели либо перебиты, либо сидят в лагерях. На воле никого из них не осталось.
Боже мой! Были у меня с ней разговоры о лагерях, были! Говорили мы и о писателях в лагерях. Она расспрашивала жадно, неутомимо, с сочувствием, трогательным для такого холодного человека. И я говорил. Я рассказал, как встречался с О. Мандельштамом, как видел умирающего Бруно Ясенского; о том, как погиб, простудившись, поэт Князев, о том, как сошел с ума и умер в больнице инвалидного пункта на Колыме (23 км) Дм. Мирский, о моем разговоре с Переверзевым на пересылке. Много о чем я тогда ей рассказывал, но какое это имело отношение к Пастернаку, Зощенко, Платонову (он тогда еще был жив), Ахматовой, к Ю. Олеше? Нет, конечно, никаких параллелей и сравнений я не проводил и выводов не делал, я просто рассказывал и все.
— Бог с вами, Ирина, — сказал я, — вы же отлично знаете, что я никогда в разговорах с вами не касался советской литературы. А Хемингуэя вы же сами мне дали.
— Ничего подобного, — холодно отрезала она, не моргнув и не замешкавшись, — вы говорите неправду.
О, как она прекрасно держалась в этой проклятой комнате!
— Ничего я вам не давала! Да! Я отлично помню, как Домбровский сопоставлял тех и этих, погибших и живущих на воле. Да, да, вы сопоставляли!
— А как он вообще относится к русской литературе? Ну, к Тургеневу, к Толстому? — продолжал интересоваться следователь. У него все шло как надо, и он был добр, снисходителен и вежлив.
— Отвратительно, — выговорила Стрелкова, — он однажды так сказал скверно о Тургеневе, что мне даже стало неприятно. Я повернулась и ушла от него и потом сказала в одном обществе, что теперь понятно, для чего это говорилось!
Теперь — это после кампании космополитизма! Я ведь застал только самое начало ее. Весь пышный и красочный разворот — собрания, показания, осуждение, шум и визги и «жалкий лепет оправданья» проходили уже без меня.
Так вот оно в чем дело, — понял я, — она сама напросилась в свидетели, ее не притащили за руку, как того несчастного, запуганного, который ерзал в углу, не зная, куда себя деть. Нет, она пришла сама. На кой дьявол ей это потребовалось?
Я и до сих пор, дорогой, этого не знаю! Но зачем-то, очевидно, потребовалось, и она подала заявку на мою голову. Помню, тогда я подумал: «Как держится! Как сидит! Да! Эту бы никакой детектор лжи не взял бы, здесь у нее все крепко».
— Так что же такое я сказал о Тургеневе? — спросил я просто из одного интереса. Она даже не стала ничего выдумывать. (Тургенев один из самых любимых моих писателей, и тут уж выдумывать просто пришлось бы.) Ведь от нее уже ничего не требовалось, кроме вот этих безличных и железных формул «восхвалял», «опошлял», «дискредитировал», «клеветал».
— Не знаю, — сказала она небрежно, — но что-то очень и очень скверное.
— Подпишите протокол, Ирина Ивановна, — подошел к ней следователь. Она подписала. Я подписать отказался. После этого меня — руки назад! — отвели. Они остались. Мой следователь любил интеллектуальные беседы.
Вот и все, дорогой. Ее имя было первым в списках свидетелей, но на суд, на заседание облсуда (сначала под пред. Некрасовой, потом — Нарбаева) она не пришла, ни первый, ни второй раз, просто прислала справку, что она в декрете. Сейчас она пишет книги и учит ребят морали. Она очень моральный, даже риторический писатель. Не буду говорить о достоинстве или недостатках этих книг. Тут я могу быть сто раз неправ. Возмущение и омерзение — плохие советчики. Раз ты хвалишь ее рассказы, значит, они тебе понравились. Я же считаю, что совесть — орудие производства писателя. Нет ее — и ничего нет. «Но», — скажешь ты, и я знаю, что последует за этим «но». Первое «но»: хорошо, это все, положим, было. Но что же ты все-таки хочешь сейчас? Чтобы ей запретили печататься? Или писать? Мы этого не можем. Да честное слово, я и не хочу этого! Пусть печатают, если кому-то эта правда нравится. Пусть пишет на здоровье. Но... страна должна знать своих моралистов! И довольно с нас одного такого доктора литературоведения, специалиста по марксистской эстетике и этике. Вполне, за глаза довольно нам его одного!
А промолчать я по-честному не могу. Во имя этой же нашей страны. Во имя того звания, которое я пронес незапятнанным через самые страшные испытания.
Тут одно прямое обращение к тебе, очень личное. Ты был солдатом, я был каторжником, но каждый из нас был на своем месте, Когда тебе, инженеру-мостовику, показался нелепым один приказ, ты его не выполнил и пошел на расстрел. Я помню этот твой рассказ. «Пришел мой товарищ и сказал так весело, добродушно: «А утром тебя расстреляют! Выпить хочешь?» — «А я, — сказал ты, — был просто зол и все! Я же их, дураков, спасаю, а они в меня стрелять будут. Ну что за идиотство!» Тебя не расстреляли, потому что через несколько часов твой прогноз стал осязаемой действительностью (нельзя было на этом грунте строить мост, он рухнул бы с первой оттепелью, оттепель, к счастью, наступила раньше, чем в тебя пустили пулю). Я помню этот рассказ потому, что неоднократно переживал что-то подобное. Так вот как и у тебя тогда — ни капли мести, или ожесточения не осталось у меня на душе. Нет. Не хочу мстить и не мщу. Но да будет известно и да будет неповадно! Это главное! Без этого невозможно! Без этого мы с тобой не писатели, а балаганные зазывалы! Несчастный мой товарищ застрелился и видит Бог, как я его жалею! Эта же будет писать высокоморальные книги, и я ее не жалею. Большие нравоучительные книги для всех возрастов будет писать она. И для нашего с тобой тоже — только для нас — с психологическими проблемами, Ну и пусть себе пишет. Но и я о ней напишу. Это не только мое право, но, пожалуй, и долг. Вот так, дорогой.
Прости, что вышло не вполне складно, но как вылилось, так и вылилось, тут уж не до слога. А за каждое слово я, понятно, отвечаю своей головой, стоит только поднять и посмотреть судебное дело.
Обнимаю тебя.
Юрий.P. S. И одно маленькое курьезное примечание. Пишу его в постскриптуме, потому что прямо оно к делу не относится. Когда-то, в 1958 году, я приехал в Алма-Ату, и один мой друг спросил меня: «А Брагин против тебя показывал?» Я сказал, что нет, никаких следов его в этом деле нет. «А знаешь, почему, — улыбнулся товарищ, — его бывшая жена, ну ты знаешь ее, Ирина Стрелкова, заявила ему, что если он что-нибудь скажет о тебе дурного, она тоже расскажет об нем кое-что хорошее. Вот он испугался и не стал».
Я взглянул на товарища. Он улыбался. Он был добрый, и ему хотелось рассказать хорошую историю, которую мы оба знали. Я постоял, подумал немного, но опровергать ничего не стал. Просто не захотелось мне что-то тогда рассказывать эту историю. День был ясный, хороший, товарищ был хороший. Она и вообще куда-то исчезла, как бы не существовала. «Что ж там ворошить старое?» — подумал я тогда. А почему она так говорила (потому что, если не она, то кто же?) — я понял сразу же. Кто же в жаркое лето 1949 года мог подумать, что я вернусь и смогу сказать свое мнение? Ирина Ивановна умная женщина, но на это и у ней соображений не хватило.
Вот так-то, брат.
Ну, жму тебе руку и обнимаю.
Твой Юрий.Две анкеты
1. Какое место, по Вашему мнению, принадлежит Лермонтову в судьбах нашей культуры?
Как и Пушкин, Лермонтов создал свою собственную поэтическую школу, и если нет понятия «лермонтовская плеяда», то причины этого лежат в личной биографии Лермонтова (кратковременность его литературной деятельности, характер и т. д.), а отнюдь не в силе его поэтического воздействия. Без Лермонтова была бы невозможна поэзия Огарева и молодого Некрасова.
Он оказал серьезное влияние на развитие русской поэзии конца века минувшего и начала нынешнего. Что же касается Блока, то тут следует говорить даже не о влиянии, а о прямой преемственности.
Наконец, если говорить о живописи, то Лермонтов создал Врубеля в том виде и в том качестве, в котором мы его знаем.
2. Как вы расцениваете значение литературного наследия Лермонтова для современников?
Очень большое: энергию, краткость, четкость стиха Лермонтова и его школы, его короткие гневные ритмы, его бешеное стремление вперед к концу — все нарастающая экспрессия стиха — это как раз то, чего иногда очень не хватает нашим современникам. Я не говорю уж о прозе. Ведь Чехов мечтал всю жизнь только о том, чтобы написать нечто подобное «Тамани». Мне кажется, что его рассказ «Воры» — это прямой отклик на гениальную новеллу Лермонтова.
3. Какую роль сыграл Лермонтов в вашей творческой биографии?
Всю жизнь помнил, что в русской литературе существует «Герой нашего времени», произведение, в котором автору удалось как будто совершенно невозможное: дать на протяжении одной сотни страниц изображение четырех судеб, четырех гибелей, развитие четырех характеров во всей их противоречивости. Так и в такой степени это еще, пожалуй, никому не удавалось. Причина этого в избирательной способности Лермонтова, в его умении заметить только то, что нужно для построения образа, и пройти мимо всего непринципиального и случайного. Это, вероятно, и называется сверхзадачей и стержневым действием в прозе. Этой же задаче соответствует и стиль Лермонтова — четкий, ясный, его краткость и определенность. Каждая строка обладает собственным дыханием и мускулатурой. Вот этому я бы желал учиться у Лермонтова. Этому да еще четкости в построении психологического сюжета.
«Вопросы литературы», 1964 г., № 101. Возникает ли языковой строй Ваших произведений в какой-то мере непроизвольно, «сам собой», в процессе выполнения общей художественной задачи или проблема языка всякий раз встает перед Вами как самостоятельная проблема? Какое место она занимает в кругу других профессиональных вопросов? Менялось ли у Вас отношение к этой проблеме на протяжении всего Вашего творческого пути или оставалось неизменным?
Вопрос о языке для меня прежде всего вопрос о рассказчике, то есть о степени объективизации действительности, которой я хочу достигнуть в своем произведении. Иными словами, прежде чем начать писать, мне надо решить, буду ли говорить с читателем я или слово возьмет мой герой.
В своей практике с этой проблемой я сталкивался неоднократно. В романе «Обезьяна приходит за своим черепом» язык пролога и первой части резко отличается от языка остальных частей, потому что место героя со второй части заступает автор, а в эпилоге опять выступает герой.
С той же самой языковой задачей я столкнулся во втором своем романе. Рассказ в первой части «Хранителя древностей» ведется от имени самого Хранителя. Но вот во время дальнейшей работы, над вторым томом, выяснилось, что тут рассказчиком должен быть не герой, а лицо ему постороннее, то есть автор. Пришлось резко ломать стиль. Это и понятно. Не все можно и должно рассказывать о себе. Лучше иногда отступить в сторону и дать слово другому. Он расскажет и полнее, и объективнее, и притом еще и смущаться не будет. Но это, конечно, уже не языковая, а скорее морально-этическая проблема.
Кроме того, перед писателем обязательно встают и специальные стилевые задачи. Так, например, первую часть «Обезьяны» я стилизовал под легкий западноевропейский роман 30-х годов. Это привело к некоторой пошловатости и облегченности рассказа. Я пошел на эти жертвы, потому что мне казалось, что нужный «колер локаль» можно создать одним языком, не прибегая к нагромождению деталей, экскурсов, заданным диалогам и т. д.
2. В практике русской классической и советской литературы сложились и складываются различные, зачастую противостоящие друг другу системы словесного искусства (назовем для примера тенденции «нагой простоты», с одной стороны, и «густого» «метафорического» письма — с другой, или «книжность», «литературность» одних писателей — и тяготение других к разговорному народному «характерному» слову и т. д.). Какую языковую традицию русской литературы Вы считаете наиболее живой и современной сегодня и наиболее близкой Вашей творческой индивидуальности? Какие новые тенденции в языке Вы замечаете в последние годы?
Если говорить о стиле, то самым значимым здесь для меня остается случайно оброненная фраза Альбаля. Это автор классического самоучителя для начинающих писать (у нас есть такие руководства Г. Шенгели и А. Крайского, они выдержали ряд изданий, но рядом с этой старой французской, во многом уже устарелой книжкой я их никогда не поставлю). Так вот Альбаль пишет: вы хотите написать, что шел дождь? Ну так и напишите — «шел дождь».
Это, по-моему, самое главное: писать так, чтоб фраза сразу входила в сознание. Почти все наши литературные восприятия относятся либо к зрительным, либо к слуховым. Значит, и надо обращаться к зрению и слуху. А это и есть — писать просто, ясно и зримо. Мне кажется, что современная советская проза стремится именно к такой простоте и такой ясности.
Прошу понять меня правильно: я не отрицаю ни опыты Пильняка, ни орнаментальную прозу Замятина, ни гекзаметры Белого, ни гротеск Булгакова, ни рассказов и сказов Зощенко. Все это, конечно, соответствовало внутреннему настрою не только писателя, но и воспитанной им аудитории. Сейчас все это осталось позади. Мы нуждаемся прежде всего в познании действительности, действительности, схваченной в моменты ее наибольшего напряжения и выразительности (конечно, действительностью может быть и отдельное явление, и герой, и кусок истории). Мне всегда вспоминается фраза одного старого критика. В одном крошечном отрезке дуги, писал он, содержатся целиком все ее элементы. Вот именно такие отрезки и должен искать писатель,
Кроме того, мне кажется, что современная проза все больше стремится перенять у разговорной речи ее гибкость, интонацию и свободу. Она стремится к максимальному общению с читателем, так сказать, к чувству локтя.
3. Считаете ли Вы, что передача речи героя-современника во всей ее характерности (профессиональный жаргон, например, студенческий, терминологические штампы, газетные обороты и т. д.) противопоказаны языку художественного произведения?
Нет, не считаю. Язык персонажа — одно из важнейших средств для построения его образа, а в ряде случаев даже и важнейшее (описание внешности, как правило, дает немного). Ну, конечно, такт писателя необходим и тут. Индивидуализация речи ни в коем случае не должна вести к затрудненности. Надо иметь в виду и то, что современная проза стремится не только к интонационной свободе разговорной речи, но также и к краткости, упорядоченности и дисциплине литературного языка. В этом отношении она может даже пренебречь интонацией и дойти до точности, сухости и лаконичности подлинных документов эпохи. (Смотри, например, великолепную и до сих пор не оцененную по достоинству повесть П. Слетова «Мастерство».) Такие случаи не часты, но забывать о них все-таки нельзя.
4. Как, по Вашему мнению, отражается сегодня на языке — как поэтическом, так и прозаическом — взаимовлияние прозы и поэзии?
Вопрос к поэтам: существует ли в современной поэзии проблема прозаизма, как стилистического приема? Чем, на Ваш взгляд, отличается проза поэта от «просто прозы»?
Вопрос к прозаикам: как Вы в своей творческой практике разрешаете проблему стилистической координации прямой и авторской речи?
Как оцениваете Вы то, что в некоторых произведениях современных прозаиков язык автора и язык персонажей почти неотличимы друг от друга?
Если речь автора и героя неотличимы друг от друга, значит налицо подлинная беда. Еще, конечно, хуже, когда все герои выражаются одинаково, и никак не поймешь, кому кто сказал или кто кому ответил.
О зависимости поэзии от прозы. Сейчас, по-моему, мировая поэзия, и советская в частности, все больше и больше испытывает воздействие прозы. Она стремится к четкости, яркости, отбору необходимых деталей. Но эти же качества, по-моему, и есть главное свойство подлинной поэзии. Тут полезно вспомнить Белинского. Он говорил: выбросьте из прозы все лишнее, и у вас получится поэзия. И приводил пример. Все стихотворения Лермонтова — проза. Вся проза Марлинского это — стихи. Привожу по памяти, но смысл передаю точно. Мне очень близки эти высказывания великого критика.
Люди моего поколения еще помнят старую теорию литературы: поэзия — мышление в образах. Как было объяснить популяризатору этих истин, что ряд крупнейших жемчужин русской лирики совершенно лишен образов в школярском понимании этого слова (вспомните, например, пушкинские «Для берегов отчизны дальней», «Цветок засохший, безуханный»; «Василий Шибанов» А. К. Толстого. Примеров можно найти достаточно). Именно в этом отношении вся стихотворная практика Б. Слуцкого представляется мне прямо-таки необходимой для нашей поэзии.
В обратное воздействие поэзии на прозу я плохо верю. Всегда получается что-то не то, что-то водянистое, скучное, вялое, возвышенное и низкопробное, — одним словом, какое-то переложение поэм Байрона прозой. Что же касается «Стихотворений в прозе» Тургенева, то это настоящая и притом очень хорошая проза.
«Вопросы литературы», 1967, № 6Приложение
Валентин Новиков. Юрий Домбровский: земной путь и лагерные мифы
В сорок шестом году я работал в парикмахерской Дома делегатов в Алма-Ате. Парикмахерская находилась в вестибюле, слева от входа. Аккуратная застекленная будка. Я работал там мужским мастером. Мне было 17 лет. Заочно я учился на первом курсе университета. О Домбровском в сущности ничего не знал. Точнее, знал, что странный всклокоченный тип, рассеянно бродивший по городу, — писатель, который вроде бы сидел и после отбытия срока поражен в правах и сослан в Казахстан. О том, что он писатель, почему-то знали все, хотя никто его книг не читал. И само понятие «писатель» применительно к лохматому типу в замызганном, жутко мятом «белом» костюме вызывало у людей приятное ощущение своего превосходства над ним. Я хорошо помню это слово «писатель», произносимое беззлобно, этак покровительственно. В те гимнастерочные, кительные, широкоштанные годы такой человек вызывал недоверие.
Помню, в начале войны по городу в жару некий тип ходил в прорезиненном задубелом плаще и резиновых сапогах. И бдительные граждане отводили его в милицию как шпиона. На следующий день он снова шагал по городу в тех же сапогах и том же плаще. Это был продавец керосина из подвальчика на одной из улиц Алма-Аты.
Юрий Осипович в каком-то смысле напоминал этого продавца керосина. Не знаю, доставлял ли его кто-либо «куда надо», но у бдительного человека подозрение он вызывал несомненно.
Был он невообразимо худ, кости его, казалось, лишь выявлял и подчеркивал тесноватый замызганный костюм. Но не вписывался в окружающую обстановку он вовсе не потому, что был небрежно и убого одет, а потому, что вроде не замечал ничего вокруг, был отрешен от всего и одновременно сосредоточен на чем-то своем, на каких-то своих мыслях и никак не реагировал на окружающее. А это выходило из ряда вон.
Людей в те годы объединяла общая собранность, общая озабоченность, общая усталость. Даже человек, приехавший из другого города и в сущности такой же, как и местные жители, сразу бросался в глаза. И как правило, он натыкался на проверку документов, на какой-нибудь летучий шмон.
Я работал в парикмахерской один, второе кресло там просто негде было поставить, впрочем и клиентов много не собиралось, два-три человека, не более. С улицы, как правило, никто в парикмахерскую не заходил. Дом делегатов отпугивал вывеской и еще чем-то труднообъяснимым. Видимо, природная осторожность, обыкновенный инстинкт самосохранения, отпугивал людей от этого весьма представительного и ухоженного здания. Тогда все выглядело привычно обшарпанным, будь то гостиница, филармония или здание университета. А немногие ухоженные здания заставляли прохожего побыстрее проходить мимо них. Самым ухоженным, пожалуй, было здание МГБ, находившееся недалеко от Дома делегатов, серое, какое-то очень уж благополучное и как бы пребывавшее вне времени, окруженное тенистыми деревьями, современное по архитектуре и уж никак не устрашающего облика. Оно выходило окнами на небольшой парк. И тем не менее я никогда не видел, чтобы какой-либо зевака останавливался здесь отдохнуть, половить ворон, «на людей посмотреть и себя показать».
Однажды, когда у меня не было клиентов, я достал колодочку и начал направлять бритву. И в этот момент через стеклянную стенку своей парикмахерской увидел, что в фешенебельный вестибюль Дома делегатов вошел Юрий Осипович с вареным початком кукурузы. Он нес его, не таясь, словно свечку в Божьем храме. И шагал по ковровой дорожке так, будто делал это каждый день и был тут своим человеком.
В вестибюле справа и слева стояли два кожаных кресла. Порой какой-нибудь генерал или делегат, выходя в вестибюль, отдыхал в одном из этих двух несуразно огромных кожаных кресел, олицетворяющих удобство, негу и безусловный достаток. Но обычно они пустовали. Пустовали представительно и строго.
Юрий Осипович уселся в кресло и оглядел свой вареный початок. Всклокоченный, в мятом замызганном «белом» костюме с оттянутыми карманами и оборванными пуговицами, он, честное слово, сильно напоминал легендарную ворону, где-то добывшую кусочек сыра.
Оставив бритву и колодочку, я внимательно наблюдал за ним.
Обычно в вестибюле вертелась шустрая комендантша, ходили технички, перетаскивала узлы с бельем кастелянша. А сейчас не было никого.
Юрий Осипович принялся за початок. Кукуруза в те годы выручала многих от лютой голодухи.
В студенческой столовой можно было часто видеть голодных ребят с ускользающими воспаленными глазами, они бродили меж столов, тщетно высматривая объедки. Голод многих гнал за базар. Там уже в середине лета можно было купить початок с мягкими, наполненными сладким молочком зернышками. А зимой в ход шла кукурузная мука.
Юрий Осипович бережно обглодал зернышки. Обглодал не торопясь, как делает только очень голодный человек, у которого нет ни прошлого, ни будущего, есть только одно — великое блаженство медленно пережевывать душистые вареные зернышки.
Обглодал и со всех сторон оглядел пустой кочешок. Съел и его до самого зеленого хвостика. Меня этот захватывающий момент прямо-таки вывел из равновесия.
Затем повертел в руках оставшийся зеленый хвостик, осмотрел его со всех сторон как пытливый исследователь. И съел.
Посидел еще немного в кресле, оглядел вестибюль, оглядел свои пальцы. И ушел.
В годы войны и первые послевоенные годы я видел много голодных людей. И каждый из них был голоден по-своему. У каждого формировался свой житейский голодный почерк.
Юрий Осипович ушел, и после этого я не видел его десять лет. Лишь в конце пятидесятых годов познакомился с ним в доме Льва Игнатьевича Варшавского.
В. Васильченко
С Юрием Домбровским мне пришлось встречаться трижды в разные годы. В 1938–1939 гг. (точно не помню) мой знакомый, студент мед. института, пригласил меня на литературные чтения произведений начинающих писателей. Здесь присутствовали писатель Иван Шухов, которого я знал в лицо, и Юрий Домбровский — его я раньше не видел.
После того, как был прочитан и обсужден отрывок из повести одного начинающего писателя, Шухов объявил, что Юрий Домбровский прочитает отрывок из романа, который он сейчас пишет. Это был отрывок из романа «Державин». Мы слушали его примерно в течение получаса. Домбровский читал выразительно и свободно. Потом выступил Шухов, очень хвалил написанное, говорил об исключительной образности некоторых моментов.
Я прочитал этот роман после войны.
Вторая встреча с Юрием Домбровским состоялась совершенно непредвиденно для меня. После войны, будучи адвокатом, я часто выступал по различным делам в областном суде. Однажды секретарь вручила мне для ознакомления дело по обвинению Юрия Домбровского по статье 5810 УК РСФСР.
Сначала я не подумал, что по делу проходит тот самый Домбровский, которого я встречал на литературном чтении. Ознакомившись с делом, я понял, что это именно тот человек, так как свидетелями по делу проходили писатели Шухов, Медведев и др.
При встрече и беседе я заметил, что Домбровский не верит в то, что я буду оспаривать на суде его виновность. Я объяснил ему, что в его действиях нет состава преступления, предусмотренного статьей 5810, что его следовало бы пожурить в административном порядке за невыполнение задания Союза писателей.
Обвинение Домбровского в контрреволюции основывалось на том, что, будучи посланным в творческую командировку в один из колхозов с заданием собрать материал и написать о героях труда, он вернулся без этих материалов, привез только описания природы и пр.
На суде Юрий Домбровский держался спокойно, в предъявленном ему обвинении виновным себя не признавал.
Тем не менее суд признал его виновным.
После вынесения приговора Юрий Домбровский поблагодарил меня за выступление и просил писать жалобу в Верховный суд. Я видел, что отношение его ко мне изменилось, стало более доверительным. Я сказал ему, что знал его еще до военного времени.
Я написал кассационную жалобу, но она была отклонена.
Последняя наша встреча была после реабилитации Юрия Домбровского. Я направлялся в суд. Домбровский стоял у газетного стенда около Министерства культуры. Мы рады были встрече. Он коротко рассказал мне о своем освобождении и просил зайти к нему в гостиницу.
Что-то мне помешало, и наша встреча не состоялась...
Арман Малумян. И даже наши слезы...
В концентрационном мире, где душа обнажена, лак воспитания, образованности слетает так же быстро, как эмаль с упавшей посудины. Тот, кто прошел через блюминги КГБ, через страдания духовные и телесные, способен оценить и измерить человека с первого и единственного взгляда, ибо только катализатор, называемый «жизнью ГУЛага», позволяет безошибочно уловить разницу между добрыми и злыми, сделать выбор. Голод, холод, страх, ужас, убивающий труд способны обнаружить настоящую ценность человеческой личности. В эпоху ГУЛага было весьма сложно остаться Дон Кихотом. Тем не менее я с ним повстречался.
Юрий Домбровский умер. Его творчество будет жить. Его книги войдут в мировую литературу сквозь парадные двери.
Он не переносил трусости и подхалимства тех, кто шел на любые унижения, чтобы выжить. Для Юрия в лагерях существовало два сорта зэков: способные к борьбе и «ждущие освобождения по амнистии» (он употреблял аббревиатуру этого выражения).
Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон Кихотский. На ворона он действительно был чем-то похож: глубоко сидящие в орбитах глаза, осторожность, ум и естественная сухощавость, подчеркнутая фасонной стрижкой, обязательной в «домах отдыха». Нос? Он у него был выразительным, солидным, внушительных размеров. Юрию нравилась тирада Сирано де Бержерака, он делал жест ростановского героя и говорил: «Я попаду в конце посылки...»
И все-таки Дон Кихотский ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его чувствительность были скрыты под маской ворчуна: он обладал глубоким умом, юмором, заостренным, как толедский клинок, благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба делали его похожим на ветряную мельницу. В отместку он дал мне кличку «Дюваль» — по персонажу Дюма-сына.
Воркута. Норильск. Шизо 601 Тайшетский.
— Юрий Осипович Домбровский, милостью кремлевских шарлатанов — враг народа, профессия — старый лагерник. Счастлив им быть и познакомиться с вами на этой даче.
— Арман Жан-Батистович Малумян, милостью «усатого» и манипуляциями гебистских алхимиков — предатель родины, которая никогда не была моей.
— Вы француз?
— Да. Из Парижа. В настоящее время отдыхаю на курорте по 25-летней путевке. Профессия — непримиримый.
— Позвольте, сударь, — сказал Домбровский одному из уголовников и подмигивая мне краем глаза, — в наши дни, в век опущенных голов и согласного молчания совершенно невероятно встретить зэков, поколотивших сук и сломавших окна и двери в шизо. Господи, что за эпоха!
Вот так мы и познакомились. Я снова встретился с ним, когда попал на три недели в тот же шизо 601, потом опять в БУРе, в Тайшете, в транзитном лагере. Нас было всего шестеро в камере, предназначенной для двоих. Было лето, время каникул, жара. Я дремал, сморенный духотой. Открывая глаза, я видел Ворона, восседающего на параше, как Иов на куче собственного дерьма, и столь же нищего, как он, и разговаривающего с эстонцем из Тарту Эвальдом Б.
— К Сартру я отношусь без особой нежности, — говорил Юра. — Он утверждает, что человек есть свобода безо всякой связи с божеством. Это прекрасно вписывается в генеральную линию Кремля. Да и вообще все сместилось: террорист становится бойцом армии освобождения, палач — ответственным работником, дезертир — идейным союзником, уголовник — «социально близким», предатель — истинным патриотом. Проказа века — концлагерь стал лагерем для трудового перевоспитания. И наши братья возвещают ИТЛ, вкладывая в это их настоящий смысл — истребительно-трудовых лагерей.
Как ты был прав, Дон Кихотский! С тех пор все продолжается в том же духе. Социализм построил рай на земле и чтобы избранные были ограждены от соблазнов, окружил его колючей проволокой, сторожевыми вышками, занавесом — будь то занавес железный, шелковый, бамбуковый или тростниковый.
...Мы снова встретились в больнице № 2 в Ново-Чунке, где был и транзитный лагерь для тех, кого выпустили Хрущев и Булганин. Выпустили не потому, что у них было повышенное чувство справедливости, и не из угрызений совести, и не из гуманности, а по необходимости. Наша встреча была радостной и волнующей, хотя Ворон не принадлежал к тому типу людей, которых называют экспансивными. Он очень редко оказывал кому-нибудь настоящее доверие, но те, кто знал его дружбу, знали и ту ценность, которую он вкладывал в это понятие. И если я был горд называться его другом, то и он был горд называться моим...
Одной из особенностей Юрия была его эрудиция. Со своей матерью он переписывался по-латыни. Это и стало причиной забавнейшей сцены в кабинете «кума».
— Переведите мне это письмо, — попросил он, — оно написано на иностранном языке.
— По-латыни.
— Вот-вот. Переведите.
— Категорически отказываюсь, гражданин начальник. Я никогда не был вашим сообщником, облегчая вам... работу.
— Я тебя закатаю, Домбровский...
— По-английски на «ты» обращаются только к Богу и пишут в стихах. Две области, вам абсолютно неизвестные. Стало быть, я ваших слов не слышал.
— Причем тут английский? Вы-то русский, или как?
— Русский. Но не советский. И вообще я намереваюсь стать британским подданным, ибо в этой стране соприкасаешься только с джентльменами, уважающими других, личную жизнь, переписку. Нормальные аспекты жизни, которые вам, разумеется, незнакомы.
— Вы думаете, что если вы освобождены и это pea... реба... ратаби...
— Еще маленькое усилие, гражданин начальник. Вы узнали новое слово, которое должно присоединиться к пяти другим, вам уже известным: «донос», «протокол», «наседка», «провокация», «приговор». Реабилитация — это достаточно ясно?
— Ладно, раз вы не хотите переводить, я попрошу одного из этих. Вы вот — священник, вы должны знать латынь, — сказал он, обращаясь к отцу К-ому, поляку из Кракова.
— Да.
— Переведите.
— Я не знаю русского языка.
— Ну, погоди, у тебя будет время обучиться русскому в карцере. Ты, Морозов?
— Я — по-латыни? Вы что, начальничек, у вас мухи в голове завелись? Я имя-то свое с трудом пишу. А вам нужно узнать стратегические тайны, которые зэка Домбровский, несмотря на скорое освобождение и реабилитацию, продолжает передавать своей матери?
— А вы, Б., вы — студент?
— Да, начальник.
— Переведите.
— Бандеровцы не сотрудничают с вами.
— Десять суток, слышишь — десять суток карцера!
— Вас, Малумян, просить бесполезно, вы ответите «нет», как всегда.
— Да, я в первый раз с вами согласен: я скажу «нет».
Латинское письмо Юрия так и не было переведено.
— Сколько братьев наших погибло, сколько жертв на совести этой системы?! Неужели мы никогда этого не узнаем? — говорит Морозов и печально качает головой.
— Разумеется, узнаем, — говорит Юрий. — Каждый из нас может сделать простой расчет с помощью обыкновенной арифметики и данных, официально опубликованных. Население страны составляло в 1917 году что-то около 140 миллионов. Средний процент демографического роста по Союзу статистика дает как 1,7. Умножим 140 миллионов на 1,7, получается 2 миллиона 380 тысяч. С 1917 года по 1940 — 23 года, умножим 2 мил. 380 тысяч на 23 и получаем 54 миллиона 740 тысяч, прибавляем их к 140 миллионам — это будет 194 миллиона 740 тысяч. Такова цифра, представляющая количество населения Союза в 1940 году.
— Почему 1940?
— Потому что в 39–40 годах было присоединено множество территорий и стран. Это дает что-то около 20 миллионов. Стало быть, вместе получается 21 миллионов 740 тысяч. Это ясно?
— Ясно, ясно.
— Так. Теперь умножим 214 мил. 740 тысяч на 1,7 и получим 3.650.580 новых граждан в год. 1940 по настоящий, 1955 — 15 лет, умножим на 3.650.580, получается 54 миллиона 758.700, прибавляем к 214.498.700 и получаем общий результат 269.498.700, скажем 270 миллионов населения. Но вы, как и я, читали в газетах, что население этой страны 200 миллионов.
Холодный пот выступил у всех на лбу. Мы онемели от этой простой логики.
— Юрий, — сказал дрожащим голосом Морозов, — не хватает 70 миллионов. 70 миллионов мертвых.
— Да, Семен. Конечно, была война...
Юлия Первова. Встреча в домике Грина
В 1960 году, после отчаянной борьбы с крымской плутократией, Нине Николаевне Грин удалось добиться возвращения ей дома в Старом Крыму, где скончался ее муж, писатель Александр Грин. За время ее отсутствия (она отбывала десятилетний срок заключения в Печоре, позже в Астрахани) домик был превращен в сарай, в котором кудахтали куры и хрюкали свиньи время от времени сменяющихся первых секретарей райкома.
Старый Крым был тогда райцентром.
Из полуразвалившейся халупы заботами Нины Николаевны возник чистый, белый, увитый виноградом домик. С первых же минут пребывания в нем посетители начинали ощущать себя гостями Александра Степановича. Нина Николаевна полностью доверяла им, считая, что человек, пришедший в дом Грина, не может совершить дурного поступка. Если кто-то просил оставить его в комнате одного, она растроганно разрешала. Разрешала посидеть в кресле, писать за рабочим столом, смотреть лежащие на нем книги — прижизненные издания, переводы Грина, изданные за рубежом. За десять лет ничего не пропало — так действовало доверие, обмануть которое было немыслимо.
Отчетливо было ощущение присутствия хозяина в Домике, начинавшееся со слов Нины Николаевны, сказанных гостям у калитки: «Вы к Александру Степановичу?»
Слухи об этом оазисе ширились, посетителей становилось все больше, а Нине Николаевне соответственно — все труднее. Грина стали широко издавать. В шестьдесят пятом году вышел шеститомник; число поклонников творчества писателя множилось. Его открывали после длительного насильственного забвения.
Как-то надо было помочь Нине Николаевне. И мы, ее друзья, нашли выход: весь «горячий» сезон был поделен между нами. Почти полгода, с мая по октябрь, мы по очереди приезжали в свои отпуска. Получилась некая эстафета.
В 1966 году на мою долю выпали последние недели августа и начало сентября.
В один из дней произошла встреча, о которой я хочу рассказать.
Часам к двенадцати к Домику подъехал УАЗ Коктебельского Дома творчества. Из машины вышли три человека — две женщины, с ними высокий мужчина. Нина Николаевна направилась к калитке. Я стояла в стороне, наблюдая. В тех случаях, когда лица посетителей внушали нам доверие, мы оставляли с ними Нину Николаевну. Но порой нам казалось, что пришли чужие: любопытные, равнодушные, а могло быть и того хуже. Пришли либо для того, чтобы поговорить с женщиной, о которой ходили сенсационные слухи, — изменяла, предавала, сотрудничала; либо потому, что быть в Крыму и не побывать в Домике Грина стало вроде бы неприлично; нередко появлялись похожие друг на друга, как близнецы, служаки в штатском, чтобы послушать — а не говорят ли в Домике чего-то идеологически опасного о Грине, который, как известно (из XII тома БСЭ), был космополитом и чуждым эпохе писателем. В этих случаях мы сами вели экскурсию, а Нина Николаевна выходила к посетителям лишь под конец.
Лица приехавших сейчас людей — немолодые, интеллигентные — мне понравились. Я оставила их с Ниной Николаевной, а сама ушла хозяйничать в летнюю кухню. Оглянувшись, увидела, что мужчина задержался на крыльце; он был явно и сильно взволнован. И тут я поняла, что совсем недавно видела его. Но где? Крупные черты, густые волосы, характерный профиль — все было очень знакомо.
Посетители задержались. Так бывало не раз. Часто людей, приходивших в Домик, постигал некий шок: простота, сердечность, приветливость и юмор хозяйки Домика, ее рассказы об Александре Степановиче завораживали. Было трудно подняться и уйти. А Нина Николаевна уставала,
Я зашла в комнату Грина, извинилась перед гостями и сказала, что Нине Николаевне пора отдохнуть. Разговор длился более часа, и по тому, как она потянулась ко мне, по ее просиявшему лицу стало ясно, что действительно пора. Отведя Нину Николаевну в ее комнату, я вернулась к смущенным гостям; они стали извиняться за нечуткость, за бестактность, как назвали свою околдованность. Особенно горячо просил прощения человек, лицо которого снова показалось мне недавно виденным. Мы уже стояли во дворе, а он все объяснял, что уйти от Нины Николаевны, кончить разговор с ней было очень трудно. «И разговор о моем любимом писателе, и сама она — слов нет. Россельс говорил о Нине Николаевне много хорошего, но то, что я в ней сегодня увидел, словами не расскажешь. Придется поверить тому, что тоже говорил Россельс, — именно с Нины Николаевны списаны почти все героини Грина». Россельс... Я насторожилась. «Вы знаете Владимира Михайловича?» — «Да, — ответил незнакомец, — мы встречаемся».
Владимир Михайлович Россельс, московский литературовед, редактировал недавно вышедший шеститомник Грина; в работе над собранием, по просьбе Россельса, принимала участие Нина Николаевна; делала она это с радостью и гордостью. Кроме того при пенсии, которую она получала, — а сумма ее равнялась двадцати одному рублю — работа, предложенная Россельсом, была солидным подспорьем. Возникла дружба. Некоторое время Нина Николаевна жила на даче у гостеприимного редактора. Хорошо знали это хлебосольное, приветливое семейство и мы, ее друзья.
— А вы тоже имеете отношение к литературе? — бестактно полюбопытствовала я.
Человек поморщился: «Все равно вы меня не знаете». Но вежливость превозмогла, «Юрий Домбровский» — представился он. Я потрясенно ахнула.
Еще с шестьдесят четвертого года, когда я прочитала в «Новом мире» «Хранителя древностей», роман этот стал одним из моих любимых. Недавно он вышел отдельной книгой, мгновенно разошелся, и только в Старом Крыму я смогла купить несколько экземпляров. В книге был портрет автора. Теперь, наконец, мне стало ясно, кого напоминал наш гость.
Расставаться не хотелось. Мы долго простояли у калитки. Юрий Осипович рассказал, что Грина он любит с детства, что это не просто любовь, а влюбленность, крепнущая с годами; он называл любимые рассказы, потом заговорил о романах, о необычном языке Грина, о психологической глубине его творчества. О том, как помогал ему, Домбровскому, Грин в ГУЛаге, где Юрий Осипович пробыл долгое годы: мужество его героев, их бескомпромиссность, чистота, стойкость в экстремальных ситуациях — все это не раз вспоминалось и помогало в тяжкие минуты.
— Мне ведь довелось однажды и встретиться с Александром Степановичем, — сказал Юрий Осипович. — Это было в Москве летом тридцатого года. И Нину Николаевну тогда видел, тоненькой и молодой. Пытался напомнить ей об этом сегодня, но она забыла. Понятно — столько лет прошло. Встреча была забавной и горькой, но рассказывать долго. Может, напишу о ней.
(Действительно, в 1972 году вышел ленинградский сборник «Воспоминания об Александре Грине», и в нем рассказ Домбровского о встрече с Александром Степановичем.)
— О чем я пишу сейчас? — сказал Юрий Осипович, отвечая на мой вопрос. — Будет ли у «Хранителя» окончание? А вот, представьте себе, какая история — именно над окончанием его я и работаю.
— Но ваш роман кончается арестом героя.
— Вот я и пишу о том, что за этим последовало. Не напечатают? Что ж, полежит. Подождем.
Мы простились. Машина, развернувшись, уехала. Я стояла у калитки, силясь опомниться, когда ко мне подошла Нина Николаевна и сказала: «Какой удивительный человек приезжал. Знаете, кто это?» — «Да, — сказала я, — Хранитель». — «А я, старая безмозглая хрычовка, не пригласила его к нам еще, когда мы прощались, не попросила расписаться в книге!»
(Книги отзывов Домика были гордостью Нины Николаевны и читались, как увлекательный роман.)
— Потому что устали, Нина Николаевна.
— Да, совершенно скисла. Не столько от разговоров, не только от них. Как этот человек говорил об Александре Степановиче! Как он знает его книги!
Вечером я читала Нине Николаевне «Хранителя древностей»; она любила, когда ей читали вслух, неизменно вспоминая: «Мне перед сном всегда читал Александр Степанович».
Сейчас она с радостью слушала главы «Хранителя».
Э. Мороз
Имя Домбровского я впервые услышала от Федора Марковича Левина, бывшего «космополита» и вообще личности примечательной. Он хлопотал об издании книжки с интригующим названием — «Обезьяна приходит за своим черепом». Был 1958 год.
В ту пору в литературу стали возвращаться реабилитированные писатели, в том числе и через редакцию русской советской прозы издательства «Советский писатель», где я работала. Помню, например, появление в нашей единственной комнатенке Олега Васильевича Волкова, очень прямого, очень высокого человека с прозрачными глазами и окладистой бородой. Осанка, манеры, легкое грассирование, эти «дворянские штучки», а главное — доброжелательство, какая-то детская открытость — ничего не вытравили ни лагеря, ни ссылки. Сергей Александрович Бондарин, напротив, — замкнутый, неулыбчивый, внешне робкий и тихий, но, как оказалось впоследствии, очень твердый человек. Еще красивая, но какой-то неприятной красотой, Галина Серебрякова. Несколько раз приходил в редакцию и Александр Исаевич Солженицын, но позже. Все они приходили по-разному.
Юрий Осипович появился в издательстве, как лагерник. Была весна. Он вошел в телогрейке и калошах, кажется, на босу ногу. Черный лохматый чуб падал на лоб, впалые, изборожденные морщинами щеки, с прищуром, веселые, молодые глаза. Вид у него был такой, что казалось — сейчас сунет два пальца в рот и оглушительно свистнет.
Мы были знакомы с Ю. О. по редакции и еще через одного моего друга-ленинградца, историка и литератора Мишу Хейфеца. Когда Миша приезжал в Москву, мы отправлялись к Ю. О.
В 1974 году Мишу Хейфеца посадили. Дело по нынешним временам не стоило выеденного яйца: он и В. Марамзин составили и «самиздали» двухтомник И. Бродского. Миша написал к нему предисловие, естественно, не вполне литературоведческое, было там и про танки, утюжившие Чехословакию, и многое другое. Взяли по доносу одного из соседей по писательскому дому на Новороссийской улице. Началось следствие. Жена его Райка прилетела в Москву — надо было что-то предпринимать, нам казалось тогда, что можно что-то сделать, ну хотя бы для начала найти хорошего адвоката. Но оказалось, что все хорошие адвокаты уже провели к тому времени свои громкие процессы и дисквалифицированы на многие годы вперед. Б. Золотухин, к которому я обращалась, лишился работы более чем на 20 лет. Выяснилось, что адвокатов подследственным КГБ предлагал своих.
Володя Альбрехт, член комитета помощи семьям политзаключенных, написал какое-то воззвание, но оно показалось нам малоубедительным, и мы решили отправиться к Сахарову. Куда еще?..
Андрей Дмитриевич сразу предложил:
— Сегодня в 18 часов я смогу передать за рубеж ваше (жены) обращение к женщинам мира.
Райка растерялась:
— Но ведь меня немедленно выгонят с работы?
— Конечно.
— А можно до шести подумать?
— Подумайте и позвоните.
Мы помчались к Ю. О. На душе было как-то безнадежно скверно: передать обращение — лишить куска хлеба двух малолетних детей, оказаться на улице, не передать — упустить хоть какую-то возможность помочь Мишке. Что делать? Что предпринять?
Решили — надо посоветоваться с Ю. О. С дороги позвонили ему, он велел приезжать.
Минут через сорок мы были у его дома (с улицы Чкалова, т. е. от Курской до Преображенки, а там одну остановочку напрямик до Просторной пешком).
Поднялись на девятый этаж (с площадки, почти от двери, лестница на чердак. Чердак, как мне недавно рассказала Клара, жена Ю. О., сыгравший в их переселении в эту квартиру не последнюю роль. Судьбу переезда решила кошка Кася: ей здесь будет прекрасно — гулять на чердаке по ночам с женихами. Оба они, Ю. О. и Клара, кошатники. Ю. О., подписывая книжку, всегда рисовал кошку, а то и несколько) . Позвонили. На наш звонок никто не ответил. Мы спустились вниз, сели на лавочку у подъезда и стали ждать.
Довольно скоро показался Ю. О. в сопровождении высокой, броско одетой (по нашим понятиям), стройной молодой женщины.
— Вот, ходил встречать, знакомьтесь — Ванесса Рэдгрейв (дай Бог память, кажется, это была она, но в ту минуту наши головы были забиты совсем другим), английская звезда. Будет сниматься в «Смуглой леди».
Мы вошли в лифт. Звезда была вся в желтой коже — кожаные брюки, кожаная куртка, перехваченная широким ремнем с большой, должно быть, серебряной пряжкой, усыпанной камнями.
— Камушки любит, — усмехнулся, перехватив наши взгляды Ю. О., и щелкнул по этим камушкам пальцами безо всякого почтения.
Кажется, английской звезде все нравилось.
Вошли в квартиру.
Ю. О. велел англичанке поставить чайник и сесть в другой комнате — у нас дела, пояснил он ей, а нам подмигнул: — Вживается в образ.
Не знаю, понимала ли она по-русски, однако молча сделала, как он сказал. А мы пошли в большую комнату (какую уж там «большую», вся квартира, наверное, метра двадцать четыре, московский стандарт).
Рассказали про визит к Сахарову.
— Нет, ребята, не надо ничего передавать. Толку особого не будет, а с работы попрут.
Достал с полки Уголовный кодекс.
— Для начала сделаем вот что. — И он стал записывать на клочке бумаги карандашом вопросы, которые в первую очередь нам следовало выяснить — что ему шьют, какой статьей грозят, ну, много разных сугубо практических вопросов и к самому Мишке, и по поводу его дела.
Это было конкретное, немедленное действие, включенность в чужую беду. Оттого ли, что Мишка был Ю. О. другом (просто добрым приятелем? — не могу судить о степени их близости), или так диктовал его собственный опыт, а может, потому, что чужая беда была для него не бедой вообще, а бедой живого конкретного человека, и его бедой тоже, но мы как-то успокоились. И даже появилась надежда.
Чайник к тому времени почти распаялся. Звезда мирового кино сладко посапывала в соседней комнате. Мы выпили чаю с карамельками, всегдашней принадлежностью чайного стола этого дома, и пошли звонить Андрею Дмитриевичу из автомата.
Миша Хейфец получил четыре года строгого режима мордовских лагерей и два года ссылки в город Ермак в Казахстане, — «родные места» Ю. О.
Когда он освободился, Ю. О. уже не было в живых. Провожая Мишку за кордон, куда он был выдворен после освобождения в течение двух недель, я отдала ему на память тот клочок бумаги, с карандашными каракулями.
Да, почерк у Ю. О. был не прекрасный.
Из переписки
Уважаемый Наум Яковлевич,
Ваше письмо мы читали вчетвером в редакции «Н. м.». А. Марьямов читал, а Берзер и Борисова и я — слушали. Большое, большое спасибо за него. Главное: Вы все поняли совершенно правильно, книга не кончена, то, что напечатано, — это только пролог ко всему остальному, к трактату о современной демонологии. Для меня шпион или вредитель Вышинского — такой же демонологический персонаж, как и ведьмы Якова Шпрингера. Я далек от отрицания научной ценности «молота», именно поэтому могу непредубежденно подойти и к «теории косвенных улик», ибо и то и другое все-таки наука — наука той системы отсчета, в которой жили и творили эти виднейшие демонологи, — словом, книги эти и в самом деле духовная реальность века. И если верил в ведьм Шекспир (впрочем, я все чаще и чаще начинаю соглашаться с тем, что это реверанс перед ученым королем), то почему не веровать в них и Андрею Януарьевичу? Впрочем, веру Вышинского, конечно, следует сравнивать только с верой Торквемады — и тот, и другой не только знали, что истинные создатели всех этих развернутых демонологических показов, с переодеванием и метаморфозами и световыми эффектами, — они сами, но знали то, для чего и как этот их нереальный мир служит их миру вполне реальному и действительному, тому самому, которым они живут и работают. По своей испорченности я не верю в их искренность, но как теоретическую возможность это отрицать все-таки мне не приходится. Про себя-то я знаю, что А. Я. В. — прохвост, уголовная личность и персонаж международного судилища, — но знаю и то, что, например, про его тень Л. Шейнина я сказать могу это уж куда с меньшей уверенностью а ведь принципиально и действительно их разница — это только отличие (как говорил Ленин) желтого черта от зелененького. Но не в их тайнах и не в них самих, конечно, дело — и Бог, и черт с ним, — а в том, что мир должен быть продезинфицирован, в нем должны быть настежь открыты все окна (а хотят обойтись форточками!), иначе все мы сдохнем от этих ядовитых туманов, а ведьмы действительно будут глодать младенцев. Для меня самое страшное и многозначительное в процессе Бейлиса не то, что Бейлис был обвинен, а в том, что Андрей Ющинский был действительно замучен как раз тем способом, о котором писал обвинительный акт. А убийцы где? Нету! Великолепная уголовная полиция, блестящая криминалистика, вся юридическая наука не смогла найти реального убийцу. В дело вступила другая наука — демонология и мистика крови. Не в том дело, что мы сидели, — считаю я (хотя это, конечно, тоже национальная трагедия), но в том, что действительный и величайший заговор против человека и всего достояния его остался не только не раскрытым, и не покаранным, но даже и плохо замеченным. Вот о чем, по-моему, надо писать! Запад — в лице своей средней интеллигенции — страшно, невиданно суеверен и верит во все: в масонов, в жидомасонов, в вовервольфов, в дьяволистов, в сионских мудрецов (кстати, знаете ли Вы, что их протоколы — это точный перевод антибонапартийского памфлета — разговор в царстве мертвых между Макиавелли с Цезарем и Бонапартом, — уничтоженный французской полицией в 70 году) и почти безропотно ждет своей гибели, и по Богу говоря, я понимаю их. Сто раз легче поверить в век атома и Эйнштейна в то, что мы имеем дело с огромным сверхчеловеческим разрушающим разумом, чем в то, что все эти невероятности — результат примитивнейшей человеческой глупости! Но как же так? Ведь человек так мудр, так добр, так предусмотрителен — так откуда же все это?! И еще одно: когда делегация Филона Александрийского прибыла в Рим, все они открыли рты от удивления, узнав, что Нерон — тиран, в 1905 году в сибирских деревнях не слышали ни о японце, ни о Порт-Артуре, а в 1914 в Сараево убивают крон-принца, и Иван из-под Сызрани идет умирать, инцидент на польской радиостанции, и в Африке убивают бедуинов — никогда отдельная личность не была так связана с судьбами мира, как сейчас. Следствие этого: только искусственно можно отделить судьбу моего хранителя от судьбы любого служителя имперской канцелярии. Произошла генерализация мирового процесса — его общность, и пошла, загремела эта общность по нашим жизням и судьбам. И ведьмы залетали уж не только от сих до сих, а по всему миру. И изжить их можно тоже только во всемирном масштабе. Пишу, каюсь, очень непонятно, но кажется, Вы меня поймете. А суть всего этого в том, что подождите следующую книгу. Вся редакция Вам кланяется и желает Вам всего-всего! Бесконечно буду счастлив, если Вы мне подарите свою книгу — приобрести я ее не сумел: был очень долго в горах Тянь-Шаня: ловил снежного человека. Я в него, знаете, верю. Поэтому и ответил не сразу, а на второй день приезда. Алма-Ата все та же и так же о Вас помнит. «Ромео и Д» еще не читал — как хорошо, что Вы меня об этом известили: прочту, как только доберусь до библиотеки (немного болею — малярия, наверно). Шекспиром увлекаюсь по-прежнему, и даже все больше и больше. В «Н. м.», кажется, в 1965, будет напечатана моя «Леди». Жму крепко-крепко руку. Еще раз спасибо.
7 мая 1956
Дорогой друг!
Очень рад был получить Ваше письмо — я уж, по правде, и перестал его ожидать. Вы удивляетесь моей памяти? А в свое время я так же удивлялся Вашей. Помните Ваш фокус — пятьдесят слов по порядку и в разбивку и ключ к нему? (кажется, — первый десяток — предметы города). Я месяца два тому назад вспомнил это и показывал своей племяннице. Писать о себе: это тяжело, долго и страшно, об этом надо лично, да и то не все сумеешь рассказать, — но коротко попытаюсь. Я многострадальнее Вас. Вы попали, очевидно, на рудник, а я на «прокаженку» — 23 километр. Очень много нужно, чтоб колымчанин окрестил лагпункт «прокаженкой», — и это многое там было полностью. Вы умирали в проклятом сарае стоя, мы дохли в брезентовых палатках лежа. Только и разницы. Зимой я из палатки выходил только раз — посмотреть сполохи, предвещающие войну, а в августе, когда она наступила, — нас собрали и по инвентарному списку погрузили на тот же «Дзержинский» и повезли на Большую Землю. Там в бухте Находка то на земле, то на нарах, то на больничной койке я провалялся год. Умирал, умирал и не умер. (Помните, Вы как-то мне говорили, что если случится железнодорожная катастрофа, то погибнут все, кроме Вас, — Вы столько пережили, что бессмертны. Вот таким же Вечным Жидом чувствовал себя и я.) Когда выяснилось, что я уж и не умру, меня вместе с другими кащеями погрузили в товарняк и повезли. Довезли до крошечного (4 л/п!) лагеречка «Средняя Белая» и сбросили. Представляете — сибирская степь, ни дерева, ни полена дров, помещение — землянка. Когда утром моют пол — паршивенькая желтая лампочка не видна от влажного тумана, барак плавает по озеру грязи — идешь — из досок бьют бурые фонтаны. Мы сожгли все полы, все крыши, сортиры, квч, еще черт знает что. Вшей сгребали горстями, ибо в бане давали только с поллитра теплой воды. (Помню раз: нам тупейшей бритвой бреют лобки, мы орем — все холодное помещение набито желтоватыми беззадыми телами, рядом на почетном месте сидит влюбленная парочка: нач. санчасти в бобрах — прехорошенькая дурочка лет 22 и пьяная тупомордая скотина опер в болотных сапогах. Они, далекие от всей земной скверны, объясняются в любви. Он говорит: «Люблю!» Она туманно тупит глазки и качает головкой: «Не верю, это у вас от тоски!» А кругом мат, рев, вой, они ничего не слышат.) Тут в этой степи я опять стал сдыхать и так быстро, что меня зимой 43 года еле-еле успели выбросить (по актировке) за ворота. Доехал до Алма-Аты. Здесь, лежа в больнице, я написал большой роман «Обезьяна приходит за своим черепом» — собственно говоря, написал только первые две части и забросил. Надо было вертеться и зарабатывать дневное пропитание. Работал сценаристом на фабрике, преподавателем в киношколе, преподавателем в студии театра (в первой — вел теорию драмы — по Волькенштейну! — во второй — курс по Шекспиру, это уж сам по себе), редактировал и переводил, переводил, переводил. Один товарищ взял у меня роман и повез в Москву к Чагину. Вдруг телеграмма «Роман вызвал положительные отзывы, шлите остальные части». Стал приводить в порядок черновики. Вдруг статья в «Звезде», в «Правде», и меня начинают бить местные Прянишниковы — мои братья-писатели. К тому времени я написал повесть о Шекспире — «Смуглая леди» — это о рождении «Гамлета» (о черной даме, о сонетах, об Эссексе и Елизавете) — меня и за нее продернули! И вот в «Известиях» — громовой подвал некоего П. Кузнецова (делателя акынов) о безыдейном юродствующем богемце с богатым прошлым. О известном всему городу «пройдохе Домбровском», который... ну и т. д. Ну, думаю — смерть, но оказывается не тут-то было. Во-первых, Чагин (директор «Московского рабочего») поднял скандал. Призвали Кузнецова: «Читал роман?» — «Нет, не читал», «А писал?», «Писал», — выгнали из «Известий». Потом телеграмма от М. Шагинян: «Прочитала «Смуглую леди», считаю превосходной вещью, прекрасно вскрывшей сонеты Шекспира. Фадеев, Шагинян». Потом телеграмма от Лавренева: «После долгих боев удалось отстоять Вашу прекрасную вещь. Берем ее в “Звезду”» — и т. д. Отзывы, триумф. Итак, чувствую себя калифом на час. Приезжаю в Москву и захожу к Вашей сестре. Вы знаете, что я увидел и как она жила. Обещал зайти на другой день, и тут опять «чижа захлопнула злодейка западня». На этот раз — Тайшет, спецлаг, номера, два письма в год и прочие маленькие радости. Что тут пережил и что делал — об этом, разумеется, только лично, ибо — это поистине неописуемо. В 55 году освобождаюсь (десять лет заменили на шесть). Роман уничтожен во всех редакциях — и все-таки нашел один экземпляр (сохранили в КГБ) и ныне сдал в «Новый мир», где прозой заведует тот же Лавренев, а что из сего выйдет, не знаю. Может быть, и ничего. Сейчас:
1) жду реабилитации — из моих четырех дел — три похерены за «отсутствием состава», четвертое наполовину — вот добываю эту половину.
2) Пишу повесть о Шекспире «Вторая по качеству кровать» (это о его смерти и взаимоотношениях с женой, которой он из всего своего имущества завещал только эту «кровать»).
3) Ожидаю всего хорошего, ибо оно, конечно, так же неизбежно и исторически обусловлено, как и то плохое, что мы с Вами пережили. Худ. Страшен. Беззуб. Не женат (вернее, был много раз женат и поэтому холост), но все равно повторяю из Сервантеса — на титульном листе первого издания «Дон-Кихота» был нарисован сокол со скинутым колпачком и написано по латыни: «После мрака надеюсь на свет». Ведь мы тоже не то Дон-Кихоты, не то Кюхельбекеры. Пишите, дорогой. Я Вас очень хорошо помню и часто вспоминаю. Очень, очень рад, что у Вас все так хорошо кончилось. Ничего! «За битого двух небитых дают». В искусстве-то это, во всяком случае, так. Жму руку. Пишите скорее. Москва 7-34, Островский пер. 14 кв. 15.
Ваш ДомбровскийДорогая Ольга Федоровна,
и вот Вам исполнилось — 55! Великое дело! Я вот никогда не думал в юности, что доживу до 30, 40, 50, 60 и доживал. И как будто ничего не менялось. Хотя по существу менялось абсолютно все. Поэтому я понимаю, что к радости у Вас сейчас примешивается и чувство горечи и горести. Что тут не думай — ничего умного не выдумаешь — стареем, да! Вопрос только — как. Вот Гете считал старость самой счастливой порой своей жизни. Мне это не больно понятно — но важно, что и такой подход, значит, возможен. Я так не думаю, но мне, как человеку, который всю жизнь собирал себя (да так и не собрал), доставляет, например, некоторое чувство удовлетворения то, что я сейчас как-то наиболее приспособлен к своей работе. Еще 10, 5 лет было не так. Это радость — работать в полную возможность — тоже очень много значит. Мне кажется, это относится и к Вам. Наиболее четко, уверенно, твердо ощущаешь себя в работе. Ведь ни Вы, ни я ничего иного не умеем, кроме как работать по своей специальности. Не будем работать — загнемся и все. Пенсии для нас в этом случае — нет. Просто ее не может быть. 120 рублей — да, они нужны, — а вот ходить по городу, по кино, по магазинам — это мы не сможем. В этом отношении я уверен, что мы очень похожи. Все мое бешенство идет от того, что я не всегда мог работать — надо зарабатывать, а это чертовская разница! У Вас же работа и заработок совпадают — это великое счастье, и оно редко у кого бывает. Вот в этом году я все-таки, наверно, кончу (обязан!) свою работу, которую волочу уже 8 лет и поистине вздохну свободнее. Смогу подумать и о других работах, за которые сейчас взяться не могу. Они тоже меня интересуют — но требуют отдачи полностью. У Вас же все было, есть и будет в руках. Какое великое счастье, когда про себя это можно сказать с таким полным правом — как о Вас скажут друзья в Ваше пятидесятипятилетие. Так обнимаю, целую Ваши руки и поздравляю, поздравляю!
Ваш Домбровский, 1972Три письма, помещаемые в заключительном томе собрания сочинений Ю. Домбровского, — только малая часть эпистолярного наследия писателя, которое постепенно приходит к читателю. Так, несколько писем из обширной переписки Ю. Домбровского опубликованы в журналах «Наше наследие» и «Новый мир». Готовятся они к публикации и в других изданиях.
Ю. Домбровский и театральный режиссер Л. Варпаховский познакомились в пересыльном лагере в 1940 году. Л. Варпаховский спас жизнь Ю. Домбровскому — при отправке на Колыму втащил на руках на пароход, иначе Юрия Осиповича, у которого отказали ноги, пристрелили бы.
С известным литературоведом Н. Я. Берковским судьба свела писателя в Алма-Ате в конце 40-х годов, когда тот «на предмет пайка» написал первую рецензию на роман «Обезьяна приходит за своим черепом», отмечая в ней, что «Домбровский — даровитый писатель, с хорошей культурой, знает науку... У него есть умение романиста, есть выдумка, манера рассказывать достаточно свободная. Несомненно, это писатель с будущим». Не удивительно, что когда через 16 лет «Обезьяна» вышла, Ю. Домбровский одному из первых послал ее Н. Я. Берковскому.
Комментарии
Под названием «Факел» очерки изданы отдельной книгой в 1974 году в Алма-Ате. Название книге дал ее редактор П. Косенко. В настоящем издании восстановлено авторское название очерков.
В те годы произведения Юрия Домбровского у нас не издавались, а имя его не появлялось в печати. «Факел» начинался очерками о А. Зенкове и Н. Хлудове — фрагментами «Хранителя древностей». Таким образом писатель напоминал о своем как бы отсутствующем в литературе романе.
При жизни автора стихотворения не печатались. Их подборка в основном сделана самим Юрием Домбровским.
В последнее время часть стихотворений напечатана в сборнике «Средь разных имен» (сост. В. Муравьев), альманахе «Конец века», журнале «Юность» (1988, № 2).
Статья опубликована в газете «Казахстанская правда» 16 июля 1937 г. История ее опубликования стала одной из сюжетных линий романа «Хранитель древностей». В данном издании статья публикуется в том виде, в каком она увидела свет впервые почти 60 лет назад.
Опубликовано в газете «Казахстанская правда» 15 августа 1965 года. Перепечатывается впервые.
Статья напечатана после смерти писателя в журнале «Вопросы литературы» (1983, № 12, публикация О. Мизиано). Написана для АПН в середине 60-х годов и адресована была зарубежному читателю.
Впервые опубликовано в журнале «Дружба народов», 1958, № 11.
Эти небольшие воспоминания о единственной встрече с Грином напечатаны в сборнике воспоминаний о А. Грине, составленном Б. Сандлером.
Юрий Домбровский часто перечитывал произведения А. Грина; все, что относилось к жизни любимого писателя, интересовало его.
Публикуется впервые.
Впервые воспоминания напечатаны в книге «Обезьяна приходит за своим черепом». (Библиотека «Знамени», 1991 г.).
Публикуется впервые.
Напечатано в книге «Воспоминания об Иване Шухове», Алма-Ата, 1979 г.
Впервые напечатаны в журнале «Знамя» в 1990 году, № 4. Разговор о юриспруденции и праве делает эту «докладную» о подлинных событиях в «коммуналке», в которой жил писатель, острым публицистическим произведением.
Написано вскоре после освобождения Ю. Домбровского. Писатель видел, как неоправданно затягиваются дела с реабилитацией, предлагал свои конкретные меры ее ускорения.
Печаталось в нескольких изданиях романа «Факультет ненужных вещей» как приложение к нему.
Посвященное эпизоду в жизни Ю. Домбровского, письмо имеет общественное значение. Не случайно в журнале «Столица» (1991, № 6) оно опубликовано под красноречивым названием: «Да будет известно и да будет неповадно».
На публикуемые в данном томе анкеты журнала «Вопросы литературы» отвечали известные мастера слова. Так, в анкете, посвященной 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, приняли участие И. Ефремов, Ю. Казаков, Ю. Нагибин, Е. Исаев, П. Антокольский, а в анкете о языке и стиле — В. Белов, В. Шукшин, С. Кирсанов, А. Тарковский и другие.
Биография Ю. Домбровского мало известна широкому кругу читателей. Исходя из этого, мы и поместили в приложениях к шестому тому его собрания сочинений несколько воспоминаний о писателе.
Большинство из них публикуется в нашей стране впервые.
К. Турумова-Домбровская