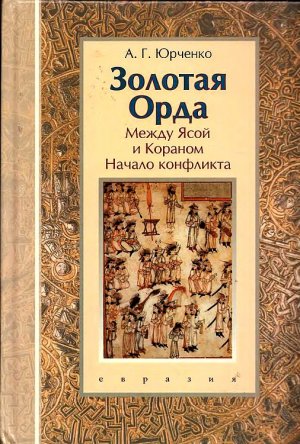
«По правде говоря, за разнообразными масками, которые создает любой рассказчик, будь то историк, поэт, новеллист или мифотворец, нельзя различить лица. Он рассказывает историю, и все, что у нас есть, это история. Эту проблему нельзя решить, трактуя ее как проблему перевода. Ибо хотя мы можем перевести фотографию в живописное изображение, а живописное изображение, лишив его жизни, — в словесное высказывание, английский текст — в русский текст, мы ни во что не можем перевести действительно произошедшее (т. е. поток времени). Мы можем перевести на другой язык то, что кто-то считает произошедшим, и постараться установить эквивалентность различных переводов, по крайней мере, до определенной степени. Но мы не можем переводить реальность; ибо для этого нам в первую очередь потребовалось бы ее изображение или текст о ней. <…> Но горькая правда состоит в том, что за маской нет лица, а вера в то, что оно есть, безосновательна. Ибо любое описание лица, определенно, было бы еще одной маской. Мы не можем представить доказательства, что это подлинное "описание" лица, и каждый возможный мимолетный его образ был бы, в силу своей природы, еще одной маской»
Peter Munz. The Shapes of Time: A New Look at the Philosophy of History.
Middletown, 1977. Цит. no: Франк Анкерсмит. Нарративная логика.
Семантический анализ языка историков. М., 2003. С. 129.
Экспозиция
С момента возникновения ислама христианские писатели вступили в полемику с представителями новой религии. В Византии были созданы сочинения об исламе[1]. Пожалуй, никому ни придет мысль изучать основы ислама по византийским апологиям, поскольку есть в наличии собственная литературная мусульманская традиция. На ее фоне сочинения с изложением теологических споров являются вторичными и представляют интерес только для истории культуры.
С момента возникновения Монгольской империи христианские и мусульманские историки предприняли попытки описать этот политический феномен. Их сочинения известны. Однако мы не можем заявить о незначимости этих сочинений, хотя их вторичный характер очевиден, и вынуждены использовать их при изучении истории Монгольской империи, поскольку собственных монгольских сочинений не сохранилось. Иными словами, некие реальные явления скрыты за двумя масками: христианской и мусульманской. Их давний спор между собой перенесен на новую почву. В условиях империи добавились новые участники дискуссий: несториане и буддисты. В грандиозном споре слышны голоса суннитов, шиитов, католиков, православных, яковитов, грузин и армян, только не слышен голос самих монголов. Нет ни одного сочинения, где бы излагалась идеологическая доктрина Монгольской империи. Яса Чингис-хана утеряна. О ее влиянии мы можем судить по деформациям суфийских практик в Центральной Азии.
Созданная с опорой на внешние источники картина религиозных предпочтений монгольских правителей не подлежит проверке, и потому вызывает законные сомнения.
Монгольский имперский феномен не укладывается в рамки других имперских проектов, будь то Арабский Халифат или Священная Римская империя. И Халифат и христианская империя были теократиями. Монгольская империя предоставляла свободу всем вероисповеданиям. Для описания религиозной политики монгольских ханов в лексиконе мусульман или христиан не было соответствующих понятий. Монгольская империя не была религиозным государством, что порождало у наблюдателей несбыточные планы и религиозные утопии.
Вот как В. В. Бартольд описывает восприятие великого хана Мунке (1251–1259) в текстах наблюдающих культур: «Замечательно, что последователи всех религий считали великого хана своим. По словам Гайтона, он крестился; Гайтон даже присутствовал при совершении обряда крещения; по словам Джузджани, он при вступлении на престол, по настоянию Беркая, произнес мусульманский символ веры; по одному буддийскому сочинению, он признавал превосходство буддизма перед всеми остальными религиями: "Как все пять пальцев выходят из ладони, так буддизм есть ладонь, а все прочие веры — пальцы"[2]. Эти три известия как нельзя лучше подтверждают слова Рубрука о Мункэ и представителях различных религий: "Все следуют за его двором, как мухи за медом; всем он дает, все считают его своим, и все предсказывают ему всякие блага". Историк Джувейни признает, однако, что в его время монголы, в противоположность прежнему времени, смотрели на мусульман с презрением; в этом, по словам историка, были виноваты сами мусульмане, интриговавшие друг против друга. Представители духовенства всех религий по-прежнему были освобождены от всяких податей; исключение, по словам Мирхонда, было сделано для раввинов, к большому неудовольствию евреев. Веротерпимости Мункэ соответствовало его стремление править каждой областью сообразно национальностям и привычкам ее населения. С этой целью в канцелярию при дворе великого хана были приняты писцы из представителей всех религий и всех национальностей: персы, уйгуры, китайцы, тибетцы и тангуты; указы, обращенные к населению какой-нибудь страны, писались на местном языке и местными письменами, по образцу тех указов, какие издавались при прежних царях, "так, чтобы они, если бы были живы, действовали бы точно таким же образом"»[3].
Следует добавить, что мусульмане, христиане и буддисты были представлены среди влиятельных сановников и советников Мунке-каана. Персидский историк ал-Джузджани прославляет веротерпимость Бату и его покровительство туркестанским мусульманам; в орде Бату были мечети, имамы и муэззины; существовало даже мнение, что он втайне принял ислам. Как видим, все дело ограничивается слухами и ожиданиями. Никто не ответил на вопрос, какая доктрина лежала в основе политики Мунке и Бату. Л. Н. Гумилев писал о православно-несторианском синтезе в Золотой Орде: возник «союз полухристианской Орды и христианской Руси, эффективный до перехода хана Узбека в ислам в 1312 году»[4]. С. Н. Малахов опровергает построения Л. Н. Гумилева, указывая на догматические различия между христианами византийского толка и несторианами, и незначительную численность несториан по сравнению, скажем, с христианизированными аланами[5]. Исходя из логики этого спора, следовало бы предположить, что монголы перед вторжением в Европу должны были принять во внимание вероисповедание венгров, а перед вторжением в Кухистан — вероисповедание исмаилитов; а с учетом культов бирманских племен, планировать военную экспедицию туда вообще не стоило бы. Каков был ответ Чингизидов и кочевой аристократии на разнообразие мирового религиозного опыта — эта тема вообще не обсуждается.
В экспозиции я ограничусь указанием на одну болевую точку, а именно, на то, с какой легкостью исследователи приписывают монгольским правителям те или иные религиозные предпочтения (в полном соответствии с теми или иными средневековыми источниками). На мой взгляд, создан ряд масок, за которыми вообще ничего не стоит.
Известный арабист А. Н. Поляк полагал, что в 1263 г. египетский султан аз-Захир Рукн-ад-дин Байбарс ал-Бундукдари (1260–1277) отправил Берке письмо о вступлении в подданство и подчинении[6]. Со ссылкой на А. Н. Поляка этот сюжет рассматривает Ю. М. Кобищанов[7]. Д. Айалон опроверг аргументы А. Н. Поляка: султан Байбарс не признал над собой власть монгольского правителя[8].
В свою очередь, Г. А. Федоров-Давыдов утверждал нечто противоположное: Берке через своих послов в Каире присягнул каирскому халифату: «Мощное религиозное влияние на Золотую Орду оказывал Египет. Берке через своих послов в Каире присягнул халифату, основанному Бейбарсом. Халиф сам провозгласил благословение Аллаха на хана Берке и приказал сделать то же самое с мимбаров Каира, Мекки, Медины и Иерусалима. За Берке по указанию султана совершили хадж и потом рассказали о нем хану»[9].
Г. А. Федоров-Давыдов ссылается на книгу египетского историка Амин ал-Холи[10] и на материалы из сборника В. Г. Тизенгаузена[11]. В книге Амина аль-Холи сказано следующее: «Когда Каир стал центром основанного Бейбарсом халифата, послы Берке присягнули новому халифу. В Египте должным образом оценили этот поступок. В дар хану Берке была направлена золотая нисба нового аббасидского халифа, а сам халиф призвал с мимбара благословение Аллаха на Берке»[12].
Амин аль-Холи ссылается на сочинение ал-Макризи (1364–1442), где говорится о присяге султана Байбарса новоиспеченному халифу, но отнюдь не послов Берке. Иными словами, Амин аль-Холи ошибочно интерпретировал текст ал-Макризи. Вот этот сюжет в переводе В. Г. Тизенгаузена: «В четверг, 8 мухаррама 661 года (22 ноября 1262 г.), ал-Малик аз-Захир устроил общее сборище, в котором собрался народ и присутствовали татары, прибывшие из Ирака, да послы, отправившиеся к царю Берке. Явился [также] эмир Абу-л-'Аббас Ахмад, сын Абу Бакра, сына 'Али, сына Абу Бакра, сына Ахмада, сына ал-Мустаршид би-л-Лаха ал-'Аббаси, приехавший верхом в большой дворец в "Горный Замок" и севший бок о бок с султаном. Народу была прочтена родословная его, составленная главой кади Тадж ад-дином 'Абд ал-Ваххабом, сыном Бинт ал-А'азза, и ему [халифу] был дан титул ал-Хаким би-амри-л-Лах, повелитель правоверных… По окончании присяги [новому халифу] султан стал беседовать с ним о посылке послов к царю Берке, и народ разошелся. В пятницу на другой день [опять] собрался народ, и явились упомянутые послы; выступил халиф ал-Хаким би-амри-л-Лах — на нем была черная одежда — и взошел на амвон для произнесения пятничной проповеди. <…> В 661 году (1262/1263) прибыли [в Египет] послы царя Берке, прося помощи против Хулаку. Это был эмир Джалал-ад-дин, сын ал-Кади и шайх Нур-ад-дин 'Али со свитой. Они сообщили о принятии им [Берке] ислама и обращении в мусульманство народа его. При них было послание, помеченное 1 раджабом 661 года (11 мая 1263 г.). Прибыл также посол Ласкариса. Он [султан] оказал послам почет, устроив им угощение на землях ал-Лука и раздав им подарки, во вторник и субботу при игре в Майдане. В пятницу 28 ша'бана (7 июля 1263 г.) халиф ал-Хаким би-амри-л-Лах сказал проповедь за султана [Египетского] и царя Берке, читал с народом молитву соборную, совещался с султаном и послами о делах мусульманских» (Сборник материалов. Т. I. С. 301–303).
Как видим, у ал-Макризи и речи нет о том, что послы Берке присягнули каирскому халифу. Символическое содержание такого акта настолько значимо для мусульманского мира, что известие о нем было бы широко известно. Более того, без специального ритуала — публичного облачения в халаты, присланные халифом, — оно не считалось завершенным. Но о таком событии египетские летописи молчат. Сообщение Амина аль-Холи — это маска, за которой нет лица. Дело не в том, что ошибку не заметили и некритично повторили. Если принять во внимание механизмы имперской власти и авторитет Ясы, который поддерживался кочевой аристократией, то сведения о том, что Берке признал над собой власть халифа, выглядят крайне вызывающе. Истинная проблема в том, что у нас нет истории Берке, написанной придворным летописцем.
С именем Амина аль-Холи связана еще одна ошибка. Он пишет, что Берке из Египта был отправлен в дар трон, отделанный черным деревом и слоновой костью[13]. «Египетские послы привезли в Орду подарки: почетные одежды, трон, инкрустированный черным деревом, слоновой костью и серебром, и "Коран 'Усмана". <…> Нетрудно заметить, что из Египта в Орду были присланы инсигнии. Удивительно, что в источниках, связанных с историей Золотой Орды, об этой реликвии и символе власти мы не находим практически ничего», — полагает Е. А. Резван[14]. На самом деле, здесь нет ничего удивительного, поскольку трона никто не посылал. У египетского султана Байбарса не было оснований для такого высокомерного подарка. Кади Ибн 'Абд аз-Захир, секретарь султана Байбарса, в своем сочинении перечисляет подарки, отправленные с египетскими послами в Улус Джучи: «Коран 'Усмана», в обложке из красного, шитого золотом атласа и футляре из кожи, подбитой шелком; налой для него из слоновой кости и черного дерева, инкрустированный серебром; венецианские ткани и множество редких вещей (Сборник материалов. Т. I. С. 72–73).
Истинное отношение монгольских правителей к священнослужителям проявлялось в критических ситуациях. Ясно, что с точки зрения Чингизидов, это были просто обременительные для бюджета группы. Их польза была в том, что своим авторитетом они придавали легитимность правящему дому.
Во время соперничества между Хубилаем и Ариг-Букой за корону Монгольской империи, царевичи и провинции по обстоятельствам склонялись на ту или иную сторону. В этой войне население города Каракорум, столицы империи, оказалось бесполезным ресурсом. «Имамы, бахши и христиане доложили [жалобу Ариг-Буке]: "Как нам оказать [содействие], когда повинность тяжка?". Он сказал: "Какое войско разбили эти три разряда [людей] и какая от их [помощи] польза? Пусть они остаются здесь и помогают нам [только] молитвой, а если прибудет каан, то пусть поспешат к нему!" — и отправился воевать с Алгу. Вскоре после его ухода к Каракоруму подошел каан с большим войском и обложил город. [Из города] вышло по нескольку человек от каждой религиозной общины; они доложили [каану] об образе действий Ариг-Буки. Он обласкал их и в соответствии с указами Чингис-хана и Менгу-каана сделал тарханами на прежних основаниях» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 164).
Пока монголы творили историю, эти три группы (имамы, бахши и христиане) переписали историю. Мы пожинаем их плоды.
Часть 1.
Монгольская имперская идеологема
Глава 1.
Монголы в системе мировых религий Роджера Бэкона
Почему Монгольская империя не стала христианской империей? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, знал современник событий английский интеллектуал Роджер Бэкон (1219–1294).
Считается, что Роджер Бэкон получил степень магистра искусств на факультете свободных искусств Оксфордского университета и в 1240 г. начал карьеру преподавателя в Парижском университете. Кардинал Фуке, избранный Папой в феврале 1265 г., проявил интерес к некоторым трудам Роджера Бэкона. Считается, что Opus maius (Большое сочинение) был отослан Папе не ранее 1268 г.
Роджер Бэкон, человек с широким взглядом на мир, описывает религиозную ситуацию в Евразии, опираясь на сведения из книг Иоанна де Плано Карпини и Вильгельма де Рубрука. Последний, как известно, выполняя секретную миссию французского короля Людовика IX, в 1253–1255 гг. совершил дипломатическую поездку в Каракорум, ко двору монгольского хана Мунке. Это было время наивысшего могущества Монгольской империи. С позиции католиков и мусульман, монголы проявляли удивительную веротерпимость. При монгольских дворах были вынуждены мирно сосуществовать буддисты, даосы, мусульмане, несториане, католики и православные, наряду с монгольскими прорицателями и другими специализированными магами. Напряжение находило выход в религиозных диспутах. Такая ситуация порождала иллюзии. Многие наблюдатели, выдавая желаемое за действительное, полагали, что монгольские правители склонны принять ту или иную из мировых религий. Это был естественный, но ошибочный взгляд на вещи, и опирался он на признание безусловной ценности той религиозной доктрины, которую исповедовал наблюдатель.
Вот как мусульмане смотрели на буддистов, игравших значимую роль в религиозной жизни Каракорума: «И так как судьба благоприятствует приверженцам веры, то повсюду, куда ни бросишь взгляд, глаз видит населенный верующими в Единого Бога огромный многолюдный город, и посреди тьмы яркий свет. И среди членов ордена аскетов-идолопоклонников (которые на их собственном языке называются тойин{1}) существует поверье, что до того, как в тех краях обосновались мусульмане и зазвучали такбир и игамат (да утвердит и сохраняет их вечно Всевышний), идолы с ними разговаривали — "Ведь шайтаны внушают своим сторонникам (чтобы они препирались с вами)", — но из-за прихода мусульман они разгневались и замолчали — "Аллах наложил печать на их уста"» (Джувайни. I. 10). Многие наблюдатели утверждали, что буддисты умеют заставить говорить своих идолов. По свидетельству армянского священнослужителя Вардана Аревелци, религиозная жизнь при дворе ильхана Хулагу находилась в руках буддистов; «эти жрецы, искушенные в обмане и гаданиях, умели заставить говорить войлочные изображения и лошадей» (Вардан Аревелци, с. 22–23).
Религиозная идентичность, с позиции конкурирующих групп, была важным, если не решающим критерием для различения «своих» на фоне «чужих» в пестрой мозаике империи. У монголов же был другой критерий идентичности, ставящий правящую группу выше религиозных пристрастий. Эта группа создала империю и расширяла границы своего жизненного пространства, а ее лидер получил небесный мандат (möngke tengeri-yin jarliq). Иными словами, самоидентичность монголов была связана с почитанием Вечного Неба и исполнением предписаний Ясы. По мнению историка Т. Мэя, «остается открытым вопрос, почему монголы не обратились ни к одной из мировых религий, с которыми столкнулись? Частично ответ на этот вопрос заключается в том, как монголы рассматривали сами себя. Несомненно, они верили в то, что Небо, или köke möngke tngri, повелело, чтобы Чингис-хан и его сыновья правили всей землей»[15]. На мой взгляд, доктрина Вечного Неба дает полный, а не частичный ответ на вопрос, почему монголы отвергли все мировые религии в качестве государственного вероучения. У них уже была собственная имперская религия. В документах XIII в. Вечное Небо всегда сопряжено со стремлением к светской власти.
Главной темой Ясы была необходимость поддержания единства правящего рода и объединение Монгольской империи под властью одного правителя[16]. То, что было важно для мусульман и католиков, не было таковым для монголов. Религией монголов, условно говоря, была жажда власти. Конструкция Монгольской империи формально походила на Respublica Christiana во главе с папой римским и императором и Всемирный Халифат во главе с наместником Пророка. Однако войны монголов не были религиозными войнами, что очень скоро усвоили на латинском Западе.
Роджер Бэкон создал классификацию мировых религиозных учений, где монголы фигурируют вместе с буддистами, мусульманами, христианами и иудеями. Если в христианской картине мира социокультурные коды Роджера Бэкона выглядят хотя бы естественно, то современная постановка этой проблемы вызывает недоумение.
К. Коллмар-Пауленц, обращаясь к проблеме религиозной идентичности монголов, видимо, не знает о классификации Роджера Бэкона, который в исторической перспективе выступает ее предшественником. Вот что она пишет: «Прежде чем ставить вопрос о характере религиозной идентичности у монголов, нам следует поставить вопрос: а возможно ли вообще говорить о "религиозной идентичности" у монголов в начале XIII в.? Действительно ли монголы в эпоху империи Чингис-хана уже обладали чем-то вроде этноцентрического самовосприятия, которое на теоретическом уровне определяет культурную стратегию в создании специфической идентичности посредством дифференциации между собственной группой и другими людьми? На этот вопрос не так легко ответить. Речь не идет о том, чтобы снова разворачивать дискуссию о термине mongghol или пытаться выяснить, когда это этническое определение было использовано впервые. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что определение mongghol и, соответственно, monggholjin использовалось в начале XIII в. для обозначения политической общности, которая в 1206 г. уже состояла из нескольких этнически и лингвистически разных групп. Кроме того, характерной чертой этой общности была искусственно созданная социально-военная структура»[17].
Ответить на поставленный вопрос нетрудно, если мы согласимся рассматривать идентичность монголов как культурно-политическую, а не узко религиозную институцию. В таком случае, для решения проблемы мы можем привлечь надежные материалы, например, воинские пояса конца XII — первой половины XIII в. Анализ этих артефактов, вкупе с изложением основных принципов формирования чингизидской правящей элиты, проведен М. Г. Крамаровским[18]. Определенно можно говорить о корпоративной солидарности императора и его гвардии, что нашло отражение в геральдических символах: седло и конское снаряжение Чингис-хана и кебтеулов украшались фигурами свернувшихся драконов. Элиту первого порядка составляла ночная стража — кебтеулы. Ступенью ниже стояли гвардейцы дневной стражи — турхауды. Элита третьего порядка была представлена армейскими офицерами[19]. Налицо группа, ясно демонстрирующая внешние и внутренние знаки различия, которые одновременно выступают идентификационными кодами. Следующими материалами, указывающими на наличие социокультурных кодов, являются данные письменных источников и миниатюр о мужской прическе. Мужчины Монгольской империи обязаны были носить сложный тип прически. Требование одинаковой укладки волос на голове распространялось на всех мужчин, находящихся на службе, независимо от их этнического происхождения и социального статуса. Прическа Чингис-хана не отличалась от прически рядового воина в его армии. Имперская мода выполняла функцию социального регулятора, очерчивая границу между «своими» и «чужими», и одновременно оставляла открытой возможность для вхождения новых групп в культурное пространство империи[20]. Стоит вернуться и к дискуссии о термине mongqol в эпоху Чингис-хана. Монгольская идентичность была сконструирована и использовалась в символической унификации новообразованной империи.
С позиции Роджера Бэкона, монголы не этническая, а религиозно-политическая общность. Империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. «Монголами» становились все, кто обрел свое место в новой иерархии власти. По мнению П. О. Рыкина, в «Тайной истории монголов» термин mongqol играл роль не этнонима, а своего рода классификационной категории, куда включаются группы, провозгласившие Чингиса ханом. С именем «монгольской» идентичности произошла занимательная трансформация: став обозначением обширной державы, раскинувшейся «от восхода солнца до его захода», термин mongqol приобрел престижные коннотации и превратился в нечто вроде статусного индикатора, обладание которым давало право на пользование определенными «корпоративными привилегиями»[21]. К концу XIII в. эта ситуация достигла своего пика. «В настоящее время, — пишет Рашид-ад-дин, — вследствие благоденствия Чингис-хана и его рода, поскольку они суть монголы, — [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кереитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, — все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не признавали этого имени. Их теперешние потомки, таким образом, воображают, что они уже издревле относятся к имени монголов и именуются [этим] именем, — а это не так, ибо в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 1. С. 103).
В чем же, на взгляд Роджера Бэкона, заключалось монгольское «религиозное учение»? Он полагает, что монголы почитают единого всемогущего Бога. Стремятся же они к могуществу и господству. Эти сведения он взял из отчетов францисканских миссий. Францисканцам же это растолковали несториане из окружения великого хана. Согласно монгольской доктрине Вечного Неба, Чингис-хан должен быть владыкой Мира. Харизматический лидер находился в прямом контакте с высшими силами. Несториане перенесли функции Тенгри на своего небесного Бога, но замещение не прошло даром: несторианский Бог озабочен успехами только Чингис-хана[22]. Внешне (на уровне терминов) ничего не изменилось, по смыслу же это была совершенно новая идея. Католическая Европа не поняла сути несторианских метаморфоз. Роджер Бэкон отделяет почитание монголами единого Бога от их стремления к господству. Для монголов имперского периода это слитная конструкция.
В 1245 г. русский архиепископ Петр сообщил Лионскому собору: «Намерены они подчинить себе весь мир, и было им божественное откровение, что должны они разорить весь мир за тридцать девять лет» (Английские источники, с. 152). В 1242 г. Понс де Обон, магистр ордена тамплиеров во Франции, направил послание Людовику IX, где сообщает о дипломатических контактах между рыцарями и монголами: «И если к ним посылают какого-либо гонца, его берут передовые в войске, завязывают ему глаза, и ведут его к своему государю, который, по их словам, должен быть владыкой всего мира» (Понс де Обон, с. 6).
В классификации Роджера Бэкона мировые религиозные учения выстроены по степени удаления от совершенства единого Бога. Роджер Бэкон вводит в классификацию и дополнительный критерий: цель, а именно достижение счастья в настоящей и будущей жизни. В результате получается, что монголы, подобно христианам, веруют в единого Бога, но совершенно не заботятся о будущей жизни, горя желанием повелевать над миром.
Не все были готовы столь радикально обновить свой взгляд на религиозную ситуацию в мире. Например, венгерскому архидиакону Фоме Сплитскому трудно выйти за пределы традиционной для Средиземноморья схемы, при этом его позиция выдает полную неопределенность: «Они не связаны ни христианским, ни иудейским, ни сарацинским законом, а потому им не ведома справедливость и не соблюдают они верности клятве» (Фома Сплитский. XXXVII). Для него монголы это просто нечестивый народ.
Другие наблюдатели услышали и поняли, в чем заключалась суть имперской толерантности. По словам папского посланника Андре де Лонжюмо, «король тартар домогается только власти над всеми и даже монархии над всем миром и не жаждет чьей-нибудь смерти, но дозволяет каждому пребывать в своем вероисповедании, после того как [человек] проявил к нему повиновение, и никого не принуждает [совершать] противоположное его вероисповеданию» (Английские источники, с. 133).
То же самое утверждает персидский историк Джувайни: «В согласии с Ясой и обычаем монголов каждый, кто покоряется и подчиняется им, получает безопасность и освобождается от ужаса и немилости их жестокости. Кроме того, они не препятствуют никакой вере и никакой религии — как можно говорить о препятствии? — они даже поощряют их; и свидетельство этого утверждения — слова Мухаммада (да будет мир с ним!): "Истинно, Аллах укрепит свою религию через народ, у которого не будет никаких богатств". Они освободили наиболее ученых из приверженцев каждой религии от любых налогов и от тягот податей; их священная собственность и наследство, которое они оставили для всеобщего употребления, принадлежащие им крестьяне и земледельцы также объявлены освобожденными от налогов; и никто не может поносить их, особенно имамов веры Мухаммада и особенно теперь, во времена правления Менгу-каана, когда несколько принцев дома Чингис-хана, его дети и внуки, объединили достоинства ислама с властью над миром; и так велико число их последователей и приверженцев, которые украсили себя драгоценностями благодати веры, что их невозможно сосчитать и исчислить» (Джувайни. I. 11).
Джувайни выдает желаемое за действительное, когда полагает, что возможно объединить «достоинства ислама с властью над миром». Единство империи и благополучие правящего дома диктовали соблюдение Ясы, а Яса устанавливала приоритет имперских законов над религиозными законами. На практике мусульман устраивал закон о свободе их вероисповедания, но не устраивало то, что такая же свобода дана и другим конфессиям. Скрытый конфликт можно обозначить как противостояние Ясы и Корана, Тенгри и Аллаха. Только с распадом Монгольской империи в середине XIV в. ислам восторжествовал в Золотой Орде, Иране и Чагатайском улусе.
Возникает вопрос: все ли наблюдатели осознавали новизну момента и, второе, как они, признавая собственную веру сверхценностью, определяли ценность монгольской доктрины? Немногие понимали существо вопроса. Но те, кто понимал, а в их число входит и Роджер Бэкон, рисуют поразительную картину.
Странность в том, что политоним «тартары» (под которым следует понимать «монголы») был воспринят западными интеллектуалами как этнорелигиозная идентификация. С позиции внешних наблюдателей, монгольская элита выглядит как военно-религиозный орден, что отчасти соответствует сословной корпоративности гвардии великого хана.
И наоборот, было бы наивностью полагать, что монгольская элита не понимала существа разногласий между духовной и светской властью на Западе. По свидетельству Салимбене, между ханом Гуюком и Иоанном де Плано Карпини состоялся такой разговор: «Он спросил, сколько властителей в западных странах; и Иоанн ответил, что два: папа и император, и что эти двое предоставляют власть всем остальным. Еще он спросил: кто из этих двух главный. И брат Иоанн, ответив, что главный — папа, достал послание папы и отдал ему» (Салимбене де Адам, с. 225). Через тридцать лет точно такой же диалог произошел между ханом Хубилаем и братьями Николо и Матвеем Поло (Марко Поло, с. 46).
Папа римский декларировал свою духовную власть над миром, но при этом предполагалось, что духовная власть выше светской. Салимбене, сторонник папы, описывает причину разногласий между Иннокентием IV и императором Фридрихом II, которая, несомненно, заключалась в борьбе за власть. «Фридрих почти всегда любил ссориться с Церковью и многократно подвергал ее нападкам — ту, которая его вскормила, защитила и вознесла. В Бога он нисколько не верил. Он был хитрым, изворотливым, алчным, любящим роскошь, злокозненным, злобным человеком. Но иногда он обнаруживал хорошие качества — когда хотел выказать благорасположение и обходительность; он любил развлечения, был приятным, ласковым, деятельным; умел читать, писать и петь, а также сочинял кантилены и песни; он был красивым человеком, хорошо сложенным, но среднего роста. Я видел его и некогда почитал. <…> Он также мог говорить на многих и различных языках. Короче говоря, если бы он был верным католиком и любил Бога и Церковь и свою душу, мало бы нашлось в мире правителей, равных ему. Но так как написано, что "малая закваска квасит все тесто" (1 Кор. 5, 6), он перечеркнул все свои хорошие качества тем, что преследовал Церковь Божию. Он не стал бы ее преследовать, если бы любил свою душу и Бога» (Салимбене де Адам, с. 381). В течение всего Средневековья отношения глав христианского мира демонстрировали соперничество церковной и светской иерархий, священников и воинов. Каждая из сторон пыталась разрешить конфликт в свою пользу. Соединяя обе власти в своем лице, папа становился императором, король становился священником. По словам Жака Ле Гоффа, «идея вселенской империи в последний раз облачилась в ослепительные одеяния при Фридрихе II, увенчавшем свои юридические притязания на всемирное верховенство эсхатологическими аргументами. В то время как его противники видели в нем Антихриста или предтечу Антихриста, он представлял себя "императором конца времен", спасителем, который приведет мир к золотому веку — "дивной неизменчивости", новым Адамом, новым Августином, почти что новым Христом»[23].
В 1246 г. Даниил Галицкий должен был выбрать себе сюзерена: либо папу римского, либо монгольского хана. Князь вступил в переговоры с курией. Вот послание папы: «Светлейшему королю Руси епископ Иннокентий, раб рабов божьих. Поелику мы намерены удостоить тебя и королевство твое, как новую ниву [Господню], особой милости и благоволения, то охотно вняли твоим мольбам и благожелательно выслушали просьбы твои, уповая на милость Бога. Склоненные твоими мольбами, мы принимаем тебя и означенное королевство под покровительство святого Петра и наше, [что] и подтверждаем настоящим письмом. Да не будет никому из людей позволено нарушать эту страницу нашего покровительства или в безрассудной дерзости выступать против него. Если же кто-либо осмелится это сделать, то пусть он знает, что испытает на себе гнев всемогущего Бога и святых апостолов Петра и Павла. Дано в Лионе, в пятые ноны мая, третий год понтификата [3 мая 1246 г.]»[24].
Потенциальный конфликт между папой и великим ханом, если бы конфликт обрел реальные черты, был бы связан с борьбой за мировое лидерство. На практике, папа римский стремился к тому же, к чему и великий хан — к неограниченной светской власти. Мир был многообразней, чем это представлялось из Лиона. Универсальный принцип Монгольской империи давал ответ и папе, и императору. Преимущество монгольской концепции власти заключалось в том, что она, имея ресурсы для самореализации, отводила папе римскому роль одного из духовных лидеров, наряду с патриархом несториан, халифом, духовными лидерами даосов и буддистов.
По мнению Роджера Бэкона, в мире существуют шесть основных религиозных учений, представленных главными родами человеческими. Это сарацины, татары, язычники, идолопоклонники (буддисты), иудеи и христиане. С позиции истинного вероучения, тартары, признавая единого Бога, стоят выше язычников и буддистов, но на ступень ниже иудеев. Призрачная классификация Бэкона бесконечно далека от реальности. Стоит ли говорить, что у буддистов нет богов, а духовный мир язычников не имеет точек соприкосновения с христианскими утопиями о язычниках. Согласно христианской концепции времени, в неопределенном будущем на смену шести учениям придет седьмое, а именно закон Антихриста, что будет означать конец земной истории. В эсхатологической перспективе Запад интересовал вопрос: является ли монгольское вторжение предвестником Судного дня? Ответ Роджера Бэкона на этот вопрос — отрицательный. Апокалиптическое видение событий мировой истории, характерное для Матвея Парижского и Винцента из Бове, не находит сочувствия у Роджера Бэкона. Обратимся к тексту.
Часть IV. Математика. Раздел IV. Королларий 1
Польза математики в исследовании Божественного
«Третья коренная значимость [математики для богословия] состоит в [необходимости точного знания] хронологии. Ибо события, о которых повествует Писание, происходят в различные дни, столетия и эпохи: от начала мира до [первого пришествия] Господа Христа, и все это устроено в определенном порядке ради Него, и не ожидается иного Законодателя, но Он один есть Спаситель мира через свой закон. А потому следует отвергнуть заблуждение иудеев, ожидающих Мессию, и заблуждение сарацинов, касающееся Магомета, который пришел после Христа, и заблуждение тех, которые примкнут к грядущему законодателю нечестия, о котором учит Абу Машар{2} в книге «Конъюнкций» и которым в действительности будет Антихрист, а также всех сект язычников, идолопоклонников, тартар, еретиков и прочих неверных, рассеянных по всему миру в почти что неисчислимом количестве сект. [Все это] должно быть устранено с помощью точного установления времени [прихода] Спасителя, таким образом, чтобы [стало ясно], что ни до, ни после Него не следует ожидать никого иного, кто принес бы спасение роду человеческому. Но установить достоверную истину о временах не может никто, кроме астронома, и ни одна наука не занята установлением таких истин, кроме астрономии. Ибо все остальные нуждаются в ней в этом отношении, что очевидно. <…>
Часть VII. Моральная философия. Раздел I
<…> И поскольку знание об Антихристе относится к христианской вере, ибо она учит о грядущем Антихристе, который будет уничтожен Христом, поэтому вера в грядущего Антихриста связана с другими положениями [христианской] веры. В силу этого одно из начал этой [т. е. моральной] науки относится к приходу Антихриста — в подтверждение того, что относится к вере Христовой. Итак, Этик{3}. говорит, что незадолго до времен Антихриста будет одно племя из рода Гога и Магога с севера, у врат Черноморских, злейшее из всех народов, которое вместе со своими злосчастными отпрысками [до того] запертыми за вратами Каспия, произведет грандиозное опустошение в мире, и встретит Антихриста, и назовет его богом богов.
И Абу Машар в книге «Конъюнкций» равным образом доказывает это, утверждая, что после [установления] закона Магомета придет князь с законом гнусным и магическим, который. на определенное время уничтожит все прочие законы. Но, как сказано ранее, он продержится недолго по причине грандиозности [своего] злодейства.
И, несомненно, это начало моральной науки должно быть тщательно рассмотрено. Ибо род тартар определенно пришел из тех мест, поскольку они обитали за теми вратами, между севером и востоком, запертые горами Кавказа и Каспия, и они ведут с собой народы, которые получили свое имя от этих гор, и дошли вплоть до границ Польши, Богемии и Венгрии, которые далеко на юге. Но верно также, как следует из посланий Иеронима и повествований историков, что из этих мест вышли и другие народы, и наводнили юг, вплоть до Святой земли, как ныне делают тартары. И племена готов и вандалов, которые после этого вторглись в южные земли, были также с севера. А потому походы тартар не свидетельствуют в достаточной степени о наступлении времен Антихриста, но требуются и иные [знамения], как станет ясно из последующего{4}. <…>
Часть VII. Моральная философия. Раздел IV. Глава I
Я сделал третью часть моральной философии столь объемной, чтобы показать красоту и полезность наук о нравственности, а также из-за того, что редко встречаются книги, из которых я извлек сии корни, цветы и плоды благонравия. Теперь же я хочу обратиться к четвертой части этой науки, которая хотя и не столь обильна и велика, как третья, но куда более удивительна и обладает большим достоинством не только сравнительно с той [третьей] частью, но и со всем прочим, ибо она убеждает в том, что надлежит верить истинному учению, которое должен принять род человеческий, любить его и удостоверять делами. И из всей философии нет ничего более необходимого человеку, более полезного и благородного. Ибо [положение, согласно которому] моральной философии подчинены прочие науки, истинно, прежде всего, благодаря этой части. Ибо вся мудрость направлена на постижение того, как спастись роду человеческому, а это спасение заключается в принятии того, что ведет человека к счастью будущей жизни, о которой Авиценна, как было сказано ранее, говорит, что ее глаз не видел и ухо не слышало. И поскольку эта четвертая часть стремится к постижению этого спасения и увлекает к нему людей, то все науки, искусства и занятия, да и все, что может быть рассмотрено человеком, обязано [служить] этой благороднейшей части гражданской философии; и в ней положен предел человеческому познанию. <…>
А теперь я укажу главные народности, у которых различаются [религиозные] учения, существующие ныне в мире. И это: сарацины, тартары, язычники, идолопоклонники, иудеи, христиане. И большего числа основных учений нет и быть не может — вплоть до появления учения Антихриста. А составные учения формируются различными сочетаниями [элементов] всех этих [учений], или пяти, или четырех, или трех, или двух.
Но помимо указанных имеется и еще одна цель, а именно счастье в иной жизни, которую различные [люди] ищут различными способами и к которой по-разному стремятся. Ибо одни рассматривают [это счастье] как удовольствие телесное, другие — как наслаждение духовное, а третьи — как то и другое. А есть еще учения, которые сочетают это счастье с иными целями — всеми или несколькими, и различным образом. Ибо хотя они стремятся к будущему счастью, многие, тем не менее, позволяют себе вожделение, другие стремятся к богатству, третьи желают почестей, четвертые — могущества и господства, пятые — славы. И я в первую очередь затрону первые три учения, чтобы было ясно, к чему они стремятся. А затем поведу речь о [необходимости] избрания учения верных, которое одно должно быть сообщено миру.
Некоторые же хотят обладать этими целями настоящей жизни, не считая, что они при этом отдаляются от будущего счастья, как бы они ни злоупотребляли временными благами и ни погружались в соблазны вожделения, как сарацины, которые, в соответствии со своим законом, имеют столько жен, сколько хотят.
А другие, горят желанием повелевать, как тартары, поскольку их правитель говорит, что должен быть один господин на земле, так же, как на небе есть только один Бог, и этим господином должен быть провозглашен он сам, как ясно из письма, которое он послал королю Франции господину Людовику{5}, в котором он требует от последнего дани. Об этом говорится в книге брата Вильгельма «О нравах тартар»{6}, которую он написал для вышеупомянутого короля Франции.
И это явствует также из их деяний: уже захватив восточные царства, они не помышляют ни о каких сладостях жизни, но ведут себя, с этой точки зрения, не по-человечески: употребляют в питье молоко кобылиц, нечистую пищу и нечистым образом, что вошло у них в обычай.
Это явствует из вышеназванной книги, а также из книги брата Иоанна «О жизни тартар»{7}, а также из «Космографии» философа Этика.
И этот философ и те книги о нравах тартар описывают их как нечестивейший и зловреднейший род, что явствует из математической части, где повествуется о народах и местах этого мира.
Чистыми язычниками являются те, у кого, как у пруссов и сопредельных им народов, место закона занимает обычай. Они считают, что удовольствия от богатства и славы в этой жизни имеют значение для жизни будущей, веря, что каков был человек здесь, таков он будет и там, и тем, чем он обладал здесь, он будет обладать и в будущей жизни. Поэтому они [имеют обычай] публичного сожжения мертвых вместе с драгоценными камнями, золотом, серебром, помощниками, семьей, друзьями, всеми богатствами и благами, надеясь, что те будут наслаждаться всем этим после смерти{8}.
Равным образом и идолопоклонники надеются достичь благ будущей жизни с помощью благ этого мира, но с одним исключением — их жрецы дают обет чистоты и воздерживаются от плотских наслаждений. Это, как было сказано выше в разделе, посвященном местам мира, известно на примере стран, расположенных на северо-востоке.
И все они ожидают в будущей жизни благ телесных, не помышляя о благах духовных. <…>
Иудеи же стремятся как к временным, так и к вечным благам, но по-разному, поскольку мудрецы, помышлявшие о духовном, исполняя закон, стремились не только к телесным, но и к духовным благам. Однако те, кто толкует закон буквально, ожидают в иной жизни только телесных благ. Опять же, они ищут временных благ не в соответствии с дозволенным и недозволенным, но сообразно с их законом, в согласии с Божественным авторитетом и правом. Ибо хотя они овладели имуществом и подчинили себе многие народы, тем не менее, они сделали это по справедливости. Ибо им по праву наследования должна была достаться Земля Обетованная, ибо они происходили из рода сынов Ноя, а сыны Хама захватили эти земли не по праву, поскольку изначально они не были даны им в удел. Ибо сынам Хама были даны Египет, Африка и Эфиопия, как явствует из Писания, [трудов] святых и исторических сочинений (и это уже было затронуто прежде).
Христиане же, в соответствии со своим законом сообразуя духовное с духовным (1 Кор., 2, 13), могут обладать временным, по причине человеческой немощи, ради того чтобы практиковать духовное в этой жизни, пока не придут к вечной жизни как духовно, так и телесно. Но в той жизни они будут жить без внешних вещей, которыми человек пользуется в этой, ибо животное тело станет духовным и будет прославлен весь человек, и он будет жить с Богом и ангелами.
Итак, таковы основные религиозные учения. Первое — учение язычников, менее всего знающих о Боге. Они не имеют священнослужителей, но кто угодно по своей собственной воле может измыслить себе бога и поклоняться ему и приносить жертвы так, как ему вздумается. Далее следуют идолопоклонники, у которых есть священнослужители и общие места для молитв; и, как у христиан, у них есть большие колокола, которыми они пользуются во время служб, а также определенные молитвы и жертвоприношения. И они полагают, что существует много богов, но никто из них не всемогущ. На третьей ступени находятся тартары, которые поклоняются и почитают единого всемогущего Бога. Но, тем не менее, они чтут огонь и домашний порог. Ведь они проносят и проводят через огонь вещи умерших, посланцев и другое, чтобы они очистились. Ибо их закон учит, что все очищается огнем. А тот, кто наступает на порог дома, осуждается на смерть. И в этих двух вещах, а также в некоторых других они являются весьма жестокими. На четвертой ступени находятся иудеи, которые должны, в соответствии со своим законом, больше знать о Боге и искренне ожидать Мессию, который есть Христос. И так поступали те, кто познал закон духовно, а именно святые патриархи и пророки. На пятой ступени находятся христиане, которые постигают иудейский закон духовно и добавляют к нему как завершение веру Христову. А затем придет закон Антихриста, который на время уничтожит прочие законы, разве что устоят избранные в вере христианской, пусть даже и с [большим] трудом по причине сильнейших гонений. Итак, сообразно этому делению имеется шесть законов и шесть — сообразно предшествующему: плотское наслаждение, богатство, почести, могущество, слава, счастье будущей жизни вкупе с презрением к временным благам» (Роджер Бэкон. Большое сочинение)[25].
Суждение Роджера Бэкона о «религиозном учении» и устремлениях монголов опирается, в первую очередь, на послание хана Менгу, которое Вильгельм де Рубрук привез своему королю. О содержании этого послания Роджер Бэкон узнал из уст самого брата Вильгельма. Напомню мысль Роджера Бэкона: «Quidam vero ardent libidine dominandi, ut Tartari secundum quod imperator eorum dicit unum dominum debere esse in terra sicut unus Deus in coelo, et ille dominus debet ipse esse et constitui, ut patet in epistola quam misit domino Ludovico regi Franciae, in qua petit ab eo tributum» — «А другие горят желанием повелевать, как тартары, поскольку их правитель говорит, что должен быть один господин на земле, так же, как на небе есть только один Бог, и этим господином должен быть провозглашен он сам, как ясно из письма, которое он послал королю Франции господину Людовику, в котором он требует от последнего дани».
В отчете Вильгельма де Рубрука имеется перевод первых строк этого письма на латынь: «Preceptum eterni Dei est. In celo non est nisi unus Deus eternus, super terram non sit nisi unus dominus Chingischan, filii Dei, Demugin Cingei, id est sonitus ferri». Ipsi vocant Chingis sonitum ferri, quia faber fuit; et in superbiam elati, dicunt eum modo filium Dei» — «Заповедь вечного Бога — на небе есть лишь Бог единый и вечный, на земле да не будет иного владыки, кроме Чингисхана, сына Бога, Демучин Чингая, что означает 'звон железа'». Они называют Чингиса "звоном железа", потому что он был кузнецом, и они, вознесясь в гордости, именуют его не иначе, как сыном Бога» (Itinerarium. XXXVI. 6).
Отметим первое расхождение: если в тексте письма единственным владыкой земли назван Чингис-хан и такова заповедь вечного Бога, то в пересказе Роджера Бэкона господином мира назван отправитель послания, т. е. сам хан Менгу, а повеление или санкция Бога даже не упоминается. В конструкции Роджера Бэкона повеление Бога, вручившего власть Чингис-хану, заменено желанием монголов повелевать. Небесный приказ переоформлен в тему человеческой гордыни. Известно, что послания и эдикты монгольских ханов начинались формулой: möngke tngruin küöündür — 'Силою вечного Неба'. Монгольская доктрина Небесного мандата оказалась настолько неприемлемой для монотеистического мышления, что была вытеснена за пределы обсуждения. Действительно, если признать санкцию Бога на создание мировой империи монголов, рухнет концепция римского престола, занятого наместником Спасителя на земле. С необходимостью встает вопрос о невозможности перевода смыслов монгольского концепта власти в рамках латинских средневековых представлений о богоизбранности правителя. Вся история взаимоотношений христианского Запада и мусульманского Востока с Монгольской империей — это история непонимания.
Послание хана Менгу в восприятии Жана де Жуанвиля, преданного спутника французского короля Людовика, окончательно утратило мотивировку, что отчасти объясняется тем обстоятельством, что Жан де Жуанвиль писал свою книгу воспоминаний спустя десятилетия, в 1309 г.
§ 490. Когда великий король татар принял послов и дары, он послал, обещав безопасность, за несколькими королями, которые еще не явились сдаться на его милость; и велел натянуть для них шатер и обратился к ним так: «Сеньоры, король Франции прибег к нашему милосердию и подчинился, и вот дань, которую он нам прислал; и ежели вы не сдадитесь на нашу милость, мы отправим его вас подчинить». И из них оказалось достаточно тех, кто из страха перед французским королем сдались на милость этого короля.
§ 491. С вернувшимися послами короля прибыли и их послы; и они привезли королю Франции послание от их великого короля, которое гласило следующее: «Мир — доброе дело; ибо на мирной земле и четвероногие мирно щиплют траву, и двуногие мирно обрабатывают землю, дающую все блага.
§ 492. И мы передаем тебе эти слова, дабы предуведомить: ты не обретешь мира, если не установишь его с нами. Ибо поднялись против нас пресвитер Иоанн, и тот король, и тот (он называл многих из них); и всех предали мы мечу. Посему велим тебе посылать нам каждый год столько золота и серебра, сколько потребно удержать нас в друзьях; а если ты не сделаешь этого, мы уничтожим тебя и твоих людей, как поступили с теми, кого называли выше». И знайте, что король сильно раскаялся, что отправил туда послов (Жан де Жуанвиль. § 490–492).
Имперский культ Тенгри (при участии несториан) был воспринят западными христианами как почитание единого Бога. Христианство так и не смогло выйти за границы собственных представлений. Сведения из отчетов дипломатических миссий францисканцев были поняты и усвоены лишь отчасти. Христианство вновь обнаружило — но уже за пределами своего опыта — границы воображаемого мира, география которого по-прежнему основывалась на Библии.
Обратную картину мы находим у персидского историка Джувайни. Он совершенно игнорирует то обстоятельство, что Чингис-хан почитал Вечное Небо. Культ Тенгри выглядит у Джувайни как следование древним монгольским обычаям. Скорее всего, культ Тенгри он обходит молчанием.
У Марко Поло, видимо, не было причин скрывать такие сведения: «Они говорят, что есть верховный небесный бог; ежедневно они возжигают ему курения и просят у него доброго разумения и здоровья»[26]. Ему известно также, что монголы, оставшиеся на родовых территориях, придерживались древних языческих верований. Привыкший к утонченным и пышным церемониям при дворе великого хана в Ханбалыке, он считал их веру «дикой». «Держатся они татарского закона, а закон этот дикий; но соблюдают они его так же точно, как соблюдал Чингис-хан и другие истые татары; делают они своего бога из войлока и называют его Начигай; делают ему и жену, называют двух богов Начигаем и его женой; говорят, что они боги земные и охраняют их скот, хлеба и все их земное добро. Они им молятся; когда едят что-нибудь вкусное, так мажут своим богам рты. Живут они, как звери» (Марко Поло, с. 225).
Бенедикт Поляк понимал разницу между культом Тенгри и почитанием онгонов: «Тартары верят в единого Бога, создателя вещей, видимых и невидимых, и подателя благ, [отмеренных] на этот век, равно как и зла. Однако они не почитают Его должным образом, потому что имеют разных идолов. У них есть некие изображения человеческих фигур из войлока, которые они помещают по обеим сторонам от входа в юрту над выменем, сделанным ими из войлока подобным же образом, и утверждают, что они являются хранителями скота и приносят им в жертву молоко и мясо» (НТ, § 39).
Джувайни пишет о толерантности, диктуемой Ясой, и поразительным образом умалчивает о доктрине небесного избрания Чингисхана, которая признавала право на существование всех конфессий при условии признания с их стороны главенства монгольского хана: «В начальную пору его владычества, когда к нему присоединялись монгольские племена, он отменил дурные обычаи, которые соблюдались теми племенами и признавались ими, и установил обычаи, достойные похвалы, диктуемые благоразумием. Среди тех установлений есть многое, которые согласуется с шариатом. В указах, что рассылал он во все страны, призывая народы к повиновению, он никогда не прибегал к запугиванию и угрозам, что было обычаем царей-тиранов древности, которые угрожали своим недругам захватом их земель и мощью своего вооружения и припасов; монголы же, наоборот, в виде крайнего предупреждения писали так: "Если вы не смиритесь и не подчинитесь, что можем мы знать? То Древний Бог ведает". Если поразмыслить о значении этого, [видно], что это слова тех, что полагаются на Бога: "И сказал Господь Всевышний: А кто полагается на Аллаха, для того Он достаточен" (Коран, 65:3), — так что при необходимости всякий достигнет того, что он носит в своем сердце и о чем просит, и исполнит всякое свое желание. Поскольку Чингис-хан не был приверженцем никакой веры и не следовал никакому исповеданию, то он не проявлял нетерпимости и предпочтения одной религии другой и не превозносил одних над другими; наоборот, он почитал и чтил ученых и благочестивых людей всех религиозных толков, считая такое поведение залогом обретения Царства Божия. И так же, как он с почтением взирал на мусульман, так миловал и христиан и идолопоклонников. А дети и внуки его, по нескольку человек, выбрали себе веру по своей склонности: одни приняли ислам, другие христианство, некоторые избрали идолопоклонство, а еще некоторые остались верны древним обычаям дедов и отцов и ни на какую сторону не склонились, но таких было меньшинство. Но хоть и приняли они разную веру, но по большей части избегают фанатизма и не уклоняются от ясы Чингис-хана, что велит все толки считать равными и различий меж ними не делать» (Джувайни. I. 19).
Что означает утверждение Джувайни, что Чингис-хан не был приверженцем никакой веры и не следовал никакому исповеданию? Это означает, что Джувайни воспринимает Чингис-хана в религиозной системе координат, причем система эта — ислам. Быть верующим на практике означало признавать духовный авторитет халифа. Чингис-хан следовал другой религиозно-политической доктрине, но с точки зрения ислама этой доктрины просто не существует. Позиция Джувайни свидетельствует о серьезном конфликте, который не смел выплеснуться наружу. Мы не можем оценить всю глубину дискомфорта мусульманского жречества перед лицом новой реальности, когда верховный правитель с равным вниманием относился к разным культам, следуя воле Вечного Неба. Нет ничего смертоноснее для духовенства, чем отрицание его исключительности.
Для меня удивительно было обнаружить в новейших научных исследованиях, видимо, бессознательное присутствие жреческого взгляда на ситуацию. «Четыре первых великих хана Монгольской империи оставались язычниками», — утверждает известный специалист А. М. Хазанов[27]. На самом деле первый из ханов был объявлен избранником Вечного Неба; это не то же самое, что язычник. Остальные были наследниками его харизмы. Язычники не устраивают религиозных диспутов между представителями мировых религий. Идея диспутов — это идея диалогов, во всем отличная от монорелигиозных практик. Как правило, христиане и мусульмане если и вступали в полемику друг с другом, то с целью демонстрации превосходства своих вероучений. Исключения, лишь подтверждают правило[28]. В сочинении Раймонда Луллия (1235–1315) в форме теологического диспута между Христианином, Иудеем и Саррацином, нашлось равное место и для Тартарина[29]. Однако это был воображаемый диспут. При дворе Менгу-хана религиозные диспуты были повседневной реальностью.
Перед нами другая культурная модель. Отрицание этого факта оборачивается приписыванием Чингизидам диковинной мотивации.
«Можно предположить, — пишет А. М. Хазанов, — что некоторые Чингизиды играли на религиозном соперничестве среди своих новых подданных и искусно демонстрировали свою религиозную беспристрастность, если считали это целесообразным. Сделать это было совсем нетрудно, потому что в эпоху монголов, как и во все другие времена, находилось немало людей, желавших быть обманутыми. Так, последователи разных мировых религий считали великого хана Мунке своим собратом»[30]. Допустим, желавших быть обманутыми было великое множество. Дело в другом, монголы предложили идеальную имперскую стратегему, когда отпала необходимость в религиозном лицемерии, поскольку государство не преследовало людей за убеждения. Чингизидам и их подданным не нужно было демонстрировать ни религиозное благочестие, ни беспристрастность.
Дипломаты францисканцы, соприкоснувшись с монгольской реальностью, не все свои наблюдения доверили отчетам. Например, Иоанн де Плано Карпини в частной беседе сообщил брату Салимбене, что для аудиенции с ханом был вынужден облачиться в пурпурную одежду (Салимбене де Адам, с. 225). Вильгельм де Рубрук затемняет суть дела, когда пишет, что Иоанн де Плано Карпини сменил свои одежды на монгольские, чтобы избежать пренебрежения со стороны двора, поскольку был послом Папы{9}. Дело вовсе не в пренебрежении или презрении: облачение в дорогой халат было императивом монгольской политики. Халаты вручались всем лицам, имевшим властные полномочия; халат был статусной вещью, их шили специально для двора, ибо имперский ритуал предполагал внешне однообразие участников. Брату Вильгельму халат не полагался, поскольку францисканец был миссионером, а не послом. С точки зрения организаторов ритуала, облачение участников в праздничные одеяния символизировало их включенность в космос империи и определяло их место в иерархии власти. И одновременно призвано было продемонстрировать лояльность представителей еще не покоренных территорий новому владыке мира. Другими словами, послы папы (а в их лице и сам папа) мыслились подданными великого хана[31]. Ускользнуло ли это обстоятельство от внимания францисканцев?
И другая ситуация. Известно, что Роджер Бэкон встречался с Вильгельмом де Рубруком. Мне кажется, результат этой встречи отражен Роджером в панораме религиозных учений мира. Только брат Вильгельм мог поведать брату Роджеру о буддистах Центральной Азии и о своих тайных догадках относительно монгольской доктрины Вечного Неба. Перед нами поразительная попытка понять иной взгляд на мир. Другое дело, что монгольская доктрина не обещала покоренным народам ничего, кроме легитимации их подчинения[32]. Это обстоятельство и понял Роджер Бэкон.
Энциклопедист Винцент де Бове не справился с аналогичной ситуацией. Вот его реакция на монгольские титульные формулы: Tante vero impietatis et arrogantie sunt ut dominum suum chaam filium Dei appellent et ipsum loco Dei super terram venerantes adorent dicentes factoque ostendentes illud in eis esse impletum: "celum celi Domino, terram autem dedit filiis hominum". Nam et ipse chaam se filium Dei appellat et in litteris suis sub hoc nomine mandat omnibus ejusque subditi videlicet — «Они до такой степени нечестивы и надменны, что хаама, своего государя, называют сыном Бога и почитают его как занимающего место Бога на земле, произнося и демонстрируя тем самым воплощение следующего: "Господь неба небесного дал земле сына человеческого". Так и сам хаам называет себя сыном Бога и в посланиях своих этим именем всеми повелевает» (Simon de Saint-Quentin. XXX. 74).
Фактически^ речь идет об искажении призыва, представленного, например, на пайцзах: «Указ пожалованного Небом императора Чингиса. Должен вести дела по усмотрению» (Мэн-да бэй-лу, с. 74). К адекватному пониманию этих формул Европа в лице своих ученых придет через 700 лет. У китайцев же не было проблем с пониманием. Для сравнения приведу наблюдения южносунского посла Пэн Да-я. Его миссия к монголам состоялась в 1233 г.: «В повседневных разговорах они непременно говорят: "Силой Вечного неба и покровительством счастья императора!". Когда они хотят сделать [какое-либо] дело, то говорят: "Небо учит так!". Когда же они уже сделали [какое-либо] дело, то говорят: "[Это] знает небо!". [У них] не бывает ни одного дела, которое бы не приписывалось бы Небу. Так поступают все без исключения, начиная с татарского правителя и кончая его народом» (Хэй-да ши-люе, с. 143).
Роджер Бэкон не одинок в своем стремлении систематизировать мировое разнообразие религиозного опыта. Доминиканская миссия 1246 г., согласно донесению Симона де Сент-Квентина, отвергла официальную формулу культа Чингис-хана, устроив с монголами религиозный диспут о «сыне Бога». Доминиканцы готовы были пожертвовать своими жизнями, наотрез отказавшись преклонить колени перед нойоном Байджу как представителем «живого Бога». Требование монголов заключалось в следующем: «Если вы хотите лицезреть нашего господина и представить ему послание вашего господина, то нужно, чтобы вы ему поклонились как сыну Бога, царящему на земле, прежде перед ним трижды преклонив колено. Ибо приказал нам Хан — сын Бога, царящий на земле, — дабы мы сделали так, чтобы назначенные им правители, нойон Байот и Баты, были почитаемы всеми сюда прибывающими так же, как если бы то был он сам. Так мы и делали вплоть до сих пор и обещаем это всегда твердо соблюдать» (Simon de Saint-Quentin. XXXII. 42). Участник миссии брат Гвихард Кремонский ясно высказал мысль, что монгольский церемониальный жест — преклонение на оба колена — есть знак покорности и повиновения монгольскому правителю как божеству. На деле, каждый, кто приветствовал хана, преклонив колена, становился его подданным.
Предписания этикета следует рассматривать как производную от монгольской имперской идеологемы. Она отражена в дипломатических посланиях двора. Письмо Гуюка сохранилось в латинском переводе, выполненном в лагере нойона Байджу на территории Великой Армении летом 1247 г.[33] «Per preceptum Dei vivi, Cingischam filius Dei dulcis et venerabilis dicit quia Deus excelsus super omnia, ipse est Deus immortalis et super terram Cingischam solus dominus. Volumus istud ad audientiam omnium in omnem locum pervenire provinciis nobis obedientibus et provinciis nobis rebellantibus. 'По повелению Бога живого, Чингис-хан, возлюбленный и почитаемый сын Бога, говорит: как Бог, вознесенный надо всем, есть бессмертный Бог, так на земле лишь один господин — Чингис-хан. Хотим, чтобы эти слова дошли до слуха всех повсеместно, в провинциях нам покорных и в провинциях, против нас восстающих' (Simon de Saint-Quentin. XXXII, 52). Для понимания этого текста необходимо слово Deus 'Бог' заменить словом «Небо», ибо несомненно, что в исходном монгольском тексте стояло слово «Тенгри».
Персидский историк Джузджани, испытывавший глубокую неприязнь к монголам, описывает воображаемый диспут при дворе Гуюка. Христиане-несториане уговорили Гуюка вызвать ко двору авторитетного имама Нур-ад-дина Хорезми для религиозного спора, чтобы в его лице посрамить ислам. Христиане вели себя вызывающе грубо. В ту же ночь Гуюк за оскорбление имама лишился жизни[34]. Догадывались ли монголы, какое безумное наследие они получили вместе с властью?
Когда Роджер Бэкон пишет о религиозном учении тартар, он постулирует существование некой идеальной доктрины, Джувайни же заинтересован в размывании культа, который он даже не называет. Дело доходит до комичных положений. У Джувайни монгольские царевичи, возводя Угедея на ханский трон, обращаются к нему как истинные мусульмане: «В этот день, который согласно предсказаниям астрологов и камов, должен быть удачным днем и подходящим и благоприятным временем, ты должен с помощью Господа — да святится имя Его — утвердиться на троне мира и украсить землю справедливостью и благими делами» (Джувайни. I. 147). Современник Джувайни, Киракос Гандзакеци, знал, что монгольского Бога называют Тенгри.
Попытка Роджера Бэкона придать религиозный статус монгольской политической доктрине, найти ей место в духовном универсуме и абсолютное игнорирование этой доктрины Джувайни свидетельствуют о неком феномене XIII в., для описания которого ни христианская, ни мусульманская культуры не имели адекватного языка.
На вопрос, почему Монгольская империя не стала христианской империей (а также мусульманской, буддийской), следует дать такой ответ:, это была империя Вечного Неба. Монголы сражались и победили киданей, исповедующих буддизм, кереитов и найманов, приверженцев несторианства, мусульман и христиан всех толков и направлений. Был ли у них стимул обратиться в религию одного из покоренных ими народов, если Вечное Небо повелевало им править всей землей?
Иногда исследователи, занимаясь интеллектуальными играми, сравнивают фигуры пророка Мухаммада и Чингис-хана как основателей мировых империй. Разумеется, сравнение не в пользу Чингисхана. Я не понимаю, почему очередная мировая религия, культивирующая комплекс неполноценности перед Создателем и рабскую покорность перед ним и признающая полную непогрешимость жреческого сословия, лучше, чем принцип свободы вероисповедания, провозглашенный Чингис-ханом. И в чем благо мировой религии, насаждаемой огнем и мечом и объявляющей все, кроме себя, инакомыслием? Почему бы тогда не сравнить Чингис-хана с Александром Македонским, который также не был озабочен созданием мировой религиозной общины. А. М. Хазанов пишет: «Арабы положили начало новой цивилизации. Монголы не сделали и не могли сделать этого, хотя они много способствовали культурным и другим связям между различными цивилизациями. Монгольский пример лишь подтверждает то, что кочевое общество не способно создать новую цивилизацию или мировую религию. Примечательно, как мало по сравнению с арабами монгольские завоевания изменили религиозную картину мира, значительно меньше, чем его политическую и этническую карты. Лишь на короткое время монголы соединили различные, уже существовавшие цивилизации в Pax Mongolica»[35].
На мой взгляд, реальная практика веротерпимости стоит всех религиозных войн, вместе взятых. Что касается утверждения о неспособности кочевников создать цивилизацию, то дело не в кочевниках, которые как раз-то и создали новую цивилизацию[36], а в историках, не способных разглядеть новое явление.
Глава 2.
«Силою Вечного Неба»
Монголы принимали разнообразие мирового религиозного опыта без попытки придать одной из доктрин исключительное положение. Двор великого хана Менгу уделял равное внимание и буддистам и мусульманам даже в такой тонкой сфере как прогноз предстоящей военной кампании. В мире религиозных распрей столь широкий подход выглядел как аномалия и был отвергнут современниками и не понят нынешними исследователями. Мы же, напротив, обратим пристальное внимание на то, что при монгольских дворах несли службу представители самых разных религиозных групп и направлений. Такие примеры в истории есть, но они немногочисленны. Например, время правления римского императора Коммода (180–192), на которое выпадает момент триумфа восточных культов и, в частности, митраистских мистерий в Риме.
Хулагу, прежде чем принять решение об осаде Багдада, вел переговоры с халифом ал-Муста'симом (1242–1258) и затребовал у своего окружения астрологический прогноз, закончившийся диспутом между астрологами. Дело в том, что среди мусульман считалось, и не без основания, что покушение на власть халифа самым неблагоприятным образом отразится на судьбе претендента. Предсказывали в этом случае и череду природных катастроф. Предостережения прозвучали из разных уст. Известно, что ответил халиф на предложение покориться и стать данником монгольского хана. Халиф назвал себя Джахангиром (властителем вселенной), «владыкой моря и суши, кичась знаменем Магомета, ибо "здесь оно, — говорил он, — и ежели я сдвину его с места, погибнешь и ты, и вся вселенная"» (Киракос Гандзакеци. 60). Мусульманский мистицизм лицом к лицу столкнулся с монгольским имперским мифом, согласно которому деяниям хана покровительствует Вечное Небо. Хан оказался предусмотрительней халифа, поскольку пригласил на службу мусульманских астрологов. Почему хан, окружая себя представителями чуждых монголам религий, не рисковал утратить статус законного правителя в глазах кочевой аристократии? Потому что истинной «религией» монголов, уповавших на волю Неба, было стремление к могуществу и господству. Создание империи предполагало стягивание в одну точку сакральных потенций от всех подвластных монголам земель и церквей.
Астрологический прогноз преследовал единственную цель — дать возможность хану поступить в согласии с волей высших сил. Однако предсказание шести катастроф внушало серьезные опасения и грозило парализовать волю к победе. Буддийские астрологи, изложив свой прогноз, в диспуте с мусульманским звездочетом не участвовали, но по настоянию Хулагу состоялся спор между мусульманскими астрологами. Структуры повседневности Монгольской империи предполагали раздельное существование магических картин, поэтому поединок между придворными буддистами и мусульманами был исключен. Еще раз обращу внимание на универсальный характер имперской политики. У монгольских ханов был свой надежный способ гадания на бараньей лопатке, и не стоит сомневаться, что такие гадания были проведены. Однако был заказан и астрологический прогноз, причем, у мусульман. В имперской матрице нашлось место и мусульманам и буддистам. Это прямая иллюстрация к типологии религиозных учений Роджера Бэкона, полагавшего, что монголы почитают единого всемогущего Бога и горят желанием повелевать миром. При таком сочетании доктрины и целей нет места религиозным предрассудкам. Вечное Небо (Тенгри) брало под свое покровительство и мусульман и буддистов.
Согласно «Сборнику летописей» Рашид-ад-дина, события развивались так: «Хулагу-хан совещался насчет того похода с государственными мужами и придворными сановниками. Каждый из них высказывал что-либо согласно своему убеждению, [Хулагу-хан] призвал звездочета Хусам-ад-дина, который сопутствовал ему по указу каана, чтобы избрать час выступления в путь и привала, и приказал ему: "Расскажи без лести все то, что видно в звездах". Вследствие [своей] близости он обладал смелостью и решительно сказал государю: "Нет счастья в покушении на род Аббасидов и в походе войска на Багдад, ибо доныне ни один государь, который покушался на Багдад и на Аббасидов, не попользовался царством и жизнью. Ежели государь не послушает слов слуги своего и пойдет туда, произойдут шесть казней: во-первых, падут лошади и воины захворают, во-вторых, солнце не будет всходить, в-третьих, дождь не будет выпадать, в-четвертых, поднимется холодный вихрь и мир разрушится от землетрясения{10}, в-пятых, растения не будут произрастать из земли, в-шестых, великий государь в тот же год скончается". Хулагу-хан на эти слова потребовал доказательства и взял письменное свидетельство. Бахши{11} и эмиры согласно сказали: "Поход на Багдад — само благо". Затем [Хулагу-хан] призвал ходжу мира Насир-ад-дина Туей и посоветовался с ним. На ходжу напали подозрения. Он предположил, что его хотят испытать, и сказал: "Из этих обстоятельств ни одно не случится". [Хулагу-хан] спросил: "Так что же будет?" Насир-ад-дин ответил: "А то, что вместо халифа будет Хулагу-хан". После этого [Хулагу-хан] призвал Хусам-ад-дина, чтобы он поспорил с ходжой. Ходжа сказал: "По общему признанию всех мусульман многие из великих сподвижников [посланника божьего Мухаммада] пали жертвою и то никаких бедствий не случилось. Ежели говорят, что это-де особое свойство Аббасидов, то ведь Тахир из Хорасана пришел по приказу Ма'муна и убил его брата Мухаммад-Амина, а Мутаваккиля при помощи эмиров убил сын, а Мунтасира и Му'тазза убили эмиры и гулямы и точно так же еще несколько других халифов были убиты рукой разных лиц и никакой беды не произошло"» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 39).
Если на минуту забыть имя заказчика прогноза, то мы увидим спор двух мусульманских ученых. Новизна ситуации в том, что спорят они в ставке монгольского предводителя, почитателя Вечного Неба.
В битву за Багдад самым неожиданным образом вмешался один из чингизидских царевичей, Берке. Если верить арабскому историку Ибн Фадлаллах ал-'Умари, современнику хана Узбека, а консультировал ал-'Умари шейх Шамс-ад-дин ал-Исфахани, Берке решил спасти халифа как собрата по вере. Заодно Берке удалось убедить Бату в коварстве великого хана Менгу, и Бату смог остановить на полпути объединенное монгольское войско. Замечу, что военные операции имперского масштаба планировались заранее, и решение, принятое на курултае, имело силу закона. Кочевая аристократия, запуская механизм войны, обладала надежным инструментом контроля (у каана была служба, приводившая в исполнение смертные приговоры царевичам). Допускать мысль о том, что кто-то из чингизидов из любви к миру воспротивился общему решению, означает не понимать суть вещей: «было не в обычае, чтобы кто-либо переиначивал решение и указ каана, а тот, кто бы это совершил, являлся бы преступником» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 13). Был ли Берке преступником, поправшим решение курултая? Кажется очевидным, что мусульманские историки приписывают Берке преступное, с монгольской точки зрения, поведение. В глазах мусульман он был героем. Наша задача в том, чтобы указать на глубину и характер противоречий в источниках. Взаимоисключающие сообщения указывают на серьезный конфликт, которого на деле быть не могло. Скорее всего, вымышленным был вариант шейха Шамс-ад-дина ал-Исфахани.
Официальная монгольская версия событий выглядит так: «Окончив размышление [Менгу-каан] назначил своего брата Кубилай-каана в области восточных владений Хитай, Мачин, Карачанак, Тангут, Тибет, Джурджэ, Солонга, Гаоли и в часть Хиндустана, смежную с Хитаем и Мачином, а Хулагу-хана определил в западные области Иранской земли, Сирию, Миср, Рум и Армению, чтобы оба они с ратями, которые у них имелись, были бы его правым и левым крылом. После большого курултая он послал Кубилай-каана в пределы Хитая и в упомянутые края и назначил для него войска, а Хулагу-хана, с согласия всех родичей, нарядил в Иранскую землю и во владения, что были поименованы выше, и постановил, чтобы войско, которое с Байджу и Чурмагуном раньше посылали для [несения службы] тама, стояло бы в Иранской земле, а войско, которое также посылали для [несения службы] тама в Кашмир и Индию с Даир-бахадуром, все принадлежало бы Хулагу-хану. <…> Сверх этих войск, определили, чтобы из всех дружин Чингис-хана, которые поделили между сыновьями, братьями и племянниками [его], на каждые десять человек выделили бы по два человека, не вошедших в счет, и передали в качестве инджу Хулагу-хану, чтобы они отправились вместе с ним и служили бы здесь. В силу этого все, назначив [людей] из своих сыновей, родичей и нукеров, отправили их вместе с войском на службу Хулагу-хану» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 23). Отправили своих людей и Бату с Берке, что надежно документировано{12}. О решении Менгу отправить своих братьев в завоевательные походы в Персию и Китай известно было и Вильгельму де Рубруку{13}. В варианте же шейха Шамс-ад-дин ал-Исфахани трехлетнее движение имперской армии было секретом для мусульманина Берке. Берке узнал о замысле войны против халифа, когда войско Хулагу подошло к Амударье. Эта абсолютно невозможная версия событий в некоторых исследованиях принимается на веру[37], хотя выяснить, как планировались имперские походы, несложно.
Из Монголии в Хорасан армия двигалась свыше трех лет с учетом сезонных перекочевок. «Вперед выслали гонцов, чтобы они на протяжении принятого в расчет перехода войск Хулагу-хана от начала Каракорума до берегов Джейхуна объявили заповедниками все луговья и пастбища и навели прочные мосты на глубоких протоках и реках. Было повелено, чтобы Байджу-нойон и дружины, которые до этого прибыли с Чурмагуном, отправились в Рум и со всех владений на каждого человека приготовили бы для довольствия войск по одному тагару муки и бурдюку вина» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 23). Заповедники создавались с целью сохранить в целости источники фуража для монгольской конницы[38]. От начала похода до осады Багдада прошло пять лет, включивших покорение Аламута[39], горной крепости исмаилитов в Кухистане, военный рейд Бачу-нойона в Румийский султанат и прибытие союзных войск из Армении и Грузии. Относительно судьбы халифа Хулагу получил от брата такие наставления: «Ежели халиф багдадский соберется служить и слушаться, не обижай его никоим образом, а ежели он возгордится и сердце и язык не приведет в согласие [с нами], то и его присовокупи к прочим [врагам]. <…> Опустошенные земли вновь приведи в цветущее состояние, завоюй вражеские владения силою великого господа, дабы преумножились наши летние и зимние становища, и во всех случаях совещайся и советуйся с Докуз-хатун» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 24).
На языке монголов служба халифа великому хану заключалась в помощи и поддержке войском, оружием и припасами. Империя расширяла свои границы, поглощая ресурсы еще не завоеванных территорий. В послании багдадскому халифу ал-Муста'симу разъяснялось: «Признак покорности и единодушия в том, чтобы ты во время похода на врага оказал помощь войском, ты же его не прислал и привел отговорку. <…> Ежели ты разрушишь крепостные стены, засыплешь рвы и явишься повидать нас, препоручив царство сыну, а не хочешь явиться сам, то пришлешь везира, Сулейман-шаха и даватдара, всех трех, чтобы они не прибавляя и не убавляя, передали тебе наше слово, словом — ежели ты будешь повиноваться нашему указу, то нам не придется враждовать, и владение, войско и подданные останутся тебе. <…> Ежели ты желаешь пощадить свой древний род, то внемли разумно моему совету, а ежели не послушаешься, тогда я погляжу, какова воля божия» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 34–35). Последнюю фразу следует понимать так: на все воля Неба. С позиции «людей войны» все провинции мира делятся на две категории: покорные и восстающие, третьего не дано. Такая концепция власти отчетливо не признавала границ. Монголы полагали, что все земли, куда дошли письма от имени Сына Неба, должны им покориться.
Вернемся к версии шейха Шамс-ад-дин ал-Исфахани. Мусульманские шейхи в мистическом поиске некой опоры не ведали что творили. Задним числом они конструировали историю монгольских походов, чтобы обрести надежду на будущее. Спасительная сила мифа компенсировала ужас истории. В новом варианте главной целью похода объявлена война монголов с исмаилитами, а соперничество с халифом предстает личной инициативой Хулагу. В картине мира шейхов нет места монгольскому концепту Вечного Неба, покровительствующему замыслам хана. Немыслимая, с монгольской точки зрения, акция Берке в защиту халифа является производной от агиографической истории обращения Берке в ислам. Вот как это выглядит в полном, а не усеченном варианте цитирования:
«Проходя мимо Бухары, он (Берке) сошелся с шейхом Шамс ад-дином ал-Бахарзи, [одним] из последователей "главы аскетизма" Наджм ад-дина Кубра. Прекрасно повлияла на него речь ал-Бахарзи, и он (Берке) принял ислам из рук его. Укрепилась дружба между ним да ал-Бахарзи, и посоветовал ему ал-Бахарзи вступить в переписку с халифом ал-Муста'симом, присягнуть ему и послать ему подарки. Он (Берке) написал халифу и отправил ему подарок. Стали они [с тех пор] посылать друг к другу послов, письма, дары и приношения. <…> Пришли к нему (Мангу-кану) послы от жителей Казвина и земель Джибальских, жалуясь на зло, которое им причиняют соседи их мулхиды (т. е. исмаилиты), и вред, который они наносят им. Тогда он (Мангу-кан) отправил брата своего Хулаку с громадным войском для поражения мулхидов, завоевания их крепостей и прекращения дальнейшего их господства. Хулаку стал представлять в заманчивом виде брату своему Мангу-кану захват владений халифа и выступил с этой целью. Дошло это до Берке, сына Джучи, и не понравилось ему, потому что между ним и халифом утвердилась дружба. Он сказал брату своему Бату: "Мы возвели Мангу-кана, и чем он воздает нам за это? Тем, что отплачивает злом против наших друзей, нарушает наши договоры, презирает нашего клиента и домогается владений халифа, т. е. моего союзника, между которым и мной происходит переписка и существуют узы дружбы. В этом есть нечто гнусное". Он представил поступок Хулаку брату своему Бату в таком гадком виде, что Бату послал к Хулаку [сказать], чтобы он не двигался со своего места. Прибыло к нему послание Бату, когда тот [Хулаку] находился за рекой Джайхун. Он не переправился через нее и с бывшими при нем простоял на своем месте целых два года, до тех пор, пока умер Бату и воцарился после него брат его Берке{14}. Тогда усилились пожелания Хулаку. Он [снова] послал к брату своему Мангу-кану просить дозволения исполнить то, что он некогда приказал [ему] относительно нападения на владения халифа и отнятия их у него. Он ему так хорошо расписал это, что тот согласился. Хулаку вступил в [те] земли и напал на мулхидов. Он заподозрил 700 человек из знатнейших лиц Хамадана — это область принадлежала [сперва] Бату, потом Берке — в преданности Берке и тайных действиях против Хулаку и Мангу-кана. Он умертвил их [всех] до последнего. Затем он стал продолжать свой путь по странам, добрался до Дешт-Кипчака и вступил в него. Три дня он простоял, не находя противника; на четвертый день его настигла конница. Берке напал на них со своими ратями и полчищами. Судьба не благоприятствовала Хулаку» (Сборник материалов. Т. I. С. 182–184)..
В этой версии падение Багдада отменялось. Берке превратился в могущественного султана, способного усилием воли приостановить имперскую машину войны. Единственный вопрос, достойный внимания: к какой категории текстов следует отнести рассказ шейха Шамс-ад-дин ал-Исфахани о Берке, который усилием воли замедлил ход истории?
Мусульманский мир ничего не смог противопоставить имперскому натиску монголов, поэтому в вымышленном варианте событий на защиту Багдада выступило войско Берке; правда, для этого сочинителю пришлось направить армию Хулагу во владения Берке. Некие высшие силы вмешались в ход мировых событий, заставив имперские армии сражаться друг с другом. Воображаемый сценарий спасения строится на ожидании мистического чуда. Столь же загадочными казались мусульманским историкам Египта причины, по которым армия Хулагу остановила военные действия в 1260 г. Рашид-ад-дин, историк ильханов, вкладывает в уста правителя Египта, султана Кундуза, достоверное объяснение. Войну остановила смерть великого хана Менгу на полях сражений в Китае: «Хулагу-хан с огромной ратью устремился из Турана в Иран и ни одна душа из халифов, султанов и меликов не нашла силы сопротивляться. Завоевав все страны, он дошел до Дамаска, и ежели бы к нему не подоспело известие о кончине брата, то и Миср (Египет) тоже был бы присоединен к прочим странам» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 51).
Рациональному объяснению Рашид-ад-дина противостоит мистическое объяснение, найденное египетскими историками. Так, Ибн Фадлаллах ал-'Умари прославляет доблести египетских мамлюков, основную массу которых составляли кипчакские рабы. Для ал-'Умари они были истинным войском Аллаха и их победы были исполнением воли Аллаха. При таком взгляде на ситуацию поиск иных причин просто неуместен. К тому же мамлюки из кипчаков были военной элитой страны и именно из их среды выдвигались султаны Египта (Сборник материалов. Т. I. С. 172–173). Если у нынешних историков нет задачи заниматься апологетикой или самообманом, то теологические версии событий, при всей их привлекательности, должны быть отвергнуты.
Кончины великих ханов всегда останавливали военные действия монголов, где бы они не происходили, так как князья должны были отправиться на курултай для избрания нового хана. Тем самым выявляются тайные пружины, запускавшие и останавливавшие механизм монгольской экспансии. «Монголы остановились там, где они были в Индии и Европе в 1242 г., из-за смерти Угедея в конце 1241 г. Они остановились там, где они были на Среднем Востоке в 1260 г. из-за смерти Мунке в августе 1259 г. Кончина степного самодержца, как знали все монголы, не являлась чем-то принципиально незначимым»[40]. Речь идет о системном факторе, прочие обстоятельства, при всей их важности, должны быть признаны второстепенными. Планирование и реализация военных акций — это единственное условие существования империи Чингис-хана. Смерть хана останавливала войну, что указывает на одну из скрытых структур повседневности, определявшую поведение монгольской элиты. Система военной иерархии была настолько тесно связана с личностью правителя, что, когда он умирал, возникала реальная опасность распада империи.
Мусульманские писатели творили собственную реальность, не считаясь с имперскими мифами. До слуха ал-Джузджани, бежавшего в свое время от монголов в Индию, дошла поразительная версия, без которой критический разбор сюжетов о Берке будет неполон. Рассказы о разграбленных сокровищах халифов не давали покоя многим.
Хулагу «забрал все сокровища багдадские, исчисление и счет которых не могут быть начертаны пером и не поддаются человеческому определению. Из денег, драгоценных камней, редкостей и дорогих украшений он все увез в свой лагерь… Кое-что, в виде подарка и доли, отослал к Берке, мусульманину, а часть утаил. Люди, заслуживающие доверия, рассказывали следующее: "То, что дошло до Берке, последний не принял, умертвив послов Хулаву. По этой причине возникла вражда между Берке и Хулаву"» (Сборник материалов. Т. И. С. 51). Многие принимают этот слух за факт[41]. На самом деле, вражда между монгольскими правителями вспыхнула намного позже и по иному поводу. Рассказ ал-Джузджани отражает ситуацию переживания катастрофы, ибо мусульманский мир лишился лидера. Неприглядная повседневность вытеснена достоверностью мифа. Мусульмане полагали, что богатства царствующего дома могут принадлежать только Аббасидам. Почему эта тема так волновала современников?
Переход халифских сокровищ в руки монгольского хана означал утрату халифом жизненной силы и сакральной составляющей его власти, ибо золото и драгоценные камни — это светлая противоположность разлагающейся плоти. Сокровища перешли к истинному царю. Какая бы казнь не ждала халифа, предварительно он был лишен сияющих золотом великолепных одеяний и изолирован. Перемещение фигуры из условного центра на периферию происходило в несколько этапов и преследовало снятие сакрального ореола. В свои дворцы халиф уже не вернулся, за городом для него были поставлены шатры. В ритуальном плане повелитель правоверных должен был превратиться в простого смертного. Возможно, таким образом, монголы пытались избежать вредоносного следствия, предсказанного звездочетом Хусам-ад-дином.
Монгольский сценарий войны предусматривал смерть неповинующимся. Бросая вызов земным правителям, монгольский хан следовал доктрине, начинающейся словами: «Силою Вечного Неба».
Глава 3.
Имперский культ Неба и шаманизм
Принцип веротерпимости, положенный в основу имперской политики, исследователи пытаются объяснить неким комплексом страхов, питаемым шаманизмом. Вот типичный пример таких размышлений: «Вообще все сведения, которыми мы располагаем, показывают одно из основных направлений Чингис-хана и его ближайших потомков в религиозной политике — уравнивать представителей различных конфессий, несмотря на свои личные симпатии и антипатии, держать их как бы на одинаковом расстоянии. Причины этого отчасти следует видеть в религиозных воззрениях монгольских народов. Они обожествляли небо и землю, поклонялись Солнцу и Луне, горам и рекам, огню, стихийным силам. Боялись злых духов, которых старались задобрить с помощью жрецов-шаманов, именовавших себя "камами"; верили в бессмертие души умершего человека, что выражалось в почитании монголами войлочных идолов, символизировавших души обожаемых предков. Все это — отличительные черты шаманизма, представителями которого и были монголы. Для шаманистов совершенно не характерно проявление религиозной нетерпимости в силу их политеизма и основных религиозно-мировоззренческих представлений. Плано Карпини, ездивший послом к Гуюку, сообщал: "И так как они не соблюдают никакого закона о богопочитании, то никого еще, насколько мы знаем, не заставили отказаться от своей веры или закона…". Кроме вышеотмеченных факторов в установлении принципов религиозной политики основатель монгольского государства руководствовался политическим расчетом. Именно политические выгоды были, пожалуй, главными среди причин, определивших окончательное отношение Чингиз-хана и его преемников к религиям»[42]. Итак, в качестве объяснения веротерпимости Ю. В. Сочнев предлагает диковинную смесь шаманизма с политическим расчетом. Эта аргументация не учитывает ментальности эпохи и не находит опоры в источниках. Доктрина Неба вообще не принимается в расчет. Зато исследователь привлекает обезоруживающий аргумент страха перед злыми духами. Автором этой концепции, видимо, следует признать Н. И. Веселовского, который страхом монголов перед чужими богами и природой объяснял происхождение их «религии»: «По всем данным приходится заключить, что ни у какого другого языческого народа шаманские верования не достигали такой резкой и грубой формы, как у монголов и татар. Боязнь колдовства и всяких чар, направленных во вред человеку, суеверия, одно нелепее другого, гадания — все это достигло у монголов необычайного развития. <…> Уяснить верование татар необходимо для того, чтобы понять, из каких побуждений вытекали отношения ханов к покоренным народам и в частности к русским князьям и к русскому населению. Так, освобождение русского духовенства, как и всякого другого, от податей и повинностей исходило у монгольских ханов из страха перед колдовством, которым обладали, по мнению монголов, все церковнослужители, почему и надо было их задобрить»[43].
В краткой рецензии Хорхе Луиса Борхеса на сочинение Джеймса Фрэзера говорится о страхе перед мертвецом в первобытных религиях. «Вполне возможно, — замечает Борхес, — что антропологические идеи доктора Фрэзера когда-нибудь безнадежно устареют или даже теперь уже меркнут; однако невозможно, невероятно, чтобы это его произведение утратило интерес. Отбросим все его гипотезы, отбросим факты, их подтверждающие, и все равно этот труд пребудет бессмертным: уже не как давнее свидетельство легковерия дикарей, но как документальное доказательство легковерия антропологов, когда речь идет о дикарях. Верить в то, что на диске луны появятся слова, написанные кровью на зеркале, едва ли намного более странно, нежели верить, что кто-то в это верит»[44]. Страх кабинетных ученых от одной мысли оказаться в диком лесу или открытой степи проецируется на переживания лесных охотников или кочевников. Скорее бы, кочевник чувствовал бы себя неуютно в Музее антропологии, чем в степи.
Следующий пример. «С самого начала монгольских завоеваний стала складываться монгольская имперская идеология. В ее основу легли тюрко-монгольские антропологические и этногонические легенды, христианская и мусульманская мифология, — полагает А. Б. Малышев, — Монгольские ханы проводили политику веротерпимости, покровительства и поддержки в отношении различных религий. Большинство конфессий и их священников были освобождены от имперских податей. Этим ханы стремились достичь нескольких задач: 1) сохранить социальный, политический и религиозный мир в полиэтничной Монгольской империи и Золотой Орде; 2) идеологически обосновать с помощью религии свое господство над покоренными этносами; 3) избежать кары чужих богов, которых монголы, наряду со своими, считали истинными, и "колдовства" священников, а также заручиться их (богов и священников) поддержкой»[45]. И хотя исследователь упоминает пайцзы и послания монгольских ханов, содержавшие формулу имперской идеологии («Силою вечного Неба…»), эти документы тонут в массе второстепенных материалов.
Для анализа имперского культа Неба следует привлечь вполне надежные источники:
1) монгольские дипломатические документы, сохранившиеся в переводе на латынь[46]; дипломатические послания ханов: письмо Гуюка папе римскому Иннокентию IV[47]; изложение письма хана Мунке французскому королю Людовику IX в. в отчете Вильгельма де Рубрука (Itinerarium. XXXVI. 5–6); письмо хана Угедея в изложении доминиканца Юлиана{15}; послание ильхана Абага мамлюкскому султану Байбарсу (1269 г.)[48]; письмо Хулагу на арабском языке, посланное к мамлюкскому султану Египта в 1260 г., сохранившееся в составе руководства по ведению дипломатической переписки для египетских чиновников, принадлежавшего перу ал-Калкашанди (1358–1419). Письмо, по словам ал-Калкашанди, представляло собой «не что иное, как грубости и открытые вызовы к вражде». Адресант его выглядел так: «От царя царей Востока и Запада, величайшего хана, во имя твое, о боже, простерший землю и поднявший небо!»[49]; письмо ильхана Улджэйту королям Филиппу Красивому и Эдуарду I (1305 г.); послание Хубилая правителю Японии (1267 г.)[50]; письмо царевича Годана к Сакья-пандите Гунга-Джалцану[51] и. т. д
2) великоханские и джучидские пайцзы[52], в частности золотоордынские пайцзы ханов Токты и Узбека. Вступительная формула документов монгольских канцелярий XIII–XIV вв. «Силой Вечного Неба <…>» свидетельствует, что именно Небо было верховным божеством[53].
3) свидетельства современников событий.
В 1223 г. Чингис-хан, прощаясь со знаменитым даосом Чань-Чунем, с которым он провел несколько бесед о бессмертии, издал указ об освобождении даоских монахов от всех налогов и повинностей. «Царя Чингиса повеление начальникам всех мест: какие есть у Цю шень сяня скиты и дома подвижничества, в них ежедневно читающие священные книги и молящиеся небу, пусть молятся о долгоденствии царя на многие лета; они да будут избавлены от всех больших и малых повинностей» (Си ю цзи, с. 375). Это самое раннее свидетельство о политике монголов в отношении духовных лиц в покоренных странах. И Угедей-хан, следуя Ясе Чингис-хана, также проявлял известную веротерпимость. В 1238 г. в Китае по предложению Елюй Чу-цая был произведен отсев среди служителей трех религий: буддистов, даосов и последователей Конфуция. «Если буддийские и даоские монахи, экзаменуясь по канонам, понимали [их], то [им] выдавались грамоты, [они] принимали монашеский обет и [им] разрешалось проживать в буддийских и даоских монастырях; если конфуцианцы выдерживали отборочные [экзамены], то они освобождались от налогов»[54].
Киракос Гандзакеци так воспринял монгольский культ Неба: «У них нет богослужения, они не поклоняются [никому], но божье имя упоминают часто, при любом случае. И мы не знаем, воссылают ли они хвалу богу сущему или призывают другое божество, да и они тоже не знают. Но обычно они рассказывают вот что: государь их — родственник бога, взявшего себе в удел небо и отдавшего землю хакану[55]. <…> Язык их дик и непонятен нам, ибо бога они называют Тангри» (Киракос Гандзакеци. 32).
Никаких элементов шаманизма в текстах, отражающих имперскую доктрину Неба, нет, равно как и нет страха перед злыми духами и ни малейшего признака политического расчета. Это обстоятельство не осознается большинством отечественных исследователей, полагающих, в частности, что в Улусе Джучи ислам столкнулся с шаманизмом{16}. В Улусе Джучи ислам столкнулся с имперской доктриной Неба. Именно эта доктрина, а не пресловутый шаманизм, предполагала свободу вероисповедания мусульман, христиан, буддистов, даосов, иудеев, и даже манихеев.
Кратко монгольская идеологема выглядела так. «Власть хана (хагана), несмотря на избрание на курултае, была личной. Она была дарована хану Вечным Синим Небом. Легитимация власти определялась именно тем, что она была пожалована хану Небом. И в подчинение ему и в "упорядочение" были отданы Небом все народы, и не было разницы между подлинной принадлежностью к его государству и принадлежностью потенциальной. Такая концепция власти "отчетливо не признавала границ"[56]. Лично хан должен был обладать небесной благодатью-силой (küčü) и особым видом харизматической благодати (suu)[57]. Концепция дарованной Небом власти монгольского хана близка таковой китайской. Но вряд ли здесь имеет место прямое заимствование. Это и концепция власти ханов многих кочевых государств до появления государства монгольского, и обе модели уходят корнями в древний восточно-азиатский культ Неба как верховного божества»[58].
Культ Неба, шаманизм и этиология смерти у монголов эпохи империи (П. О. Рыкин{17})
Объединение под властью Чингис-хана всех этнических групп и племенных конфедераций на территории Монголии привело к созданию политической общности нового типа — кочевой империи, получившей название Yeke mongyol ulus, букв, 'народ великих монголов'[59]. Идеологическая легитимация власти имперской элиты в лице Чингисхана и его окружения потребовала смены религиозной доминанты, поскольку прежняя система шаманистических представлений и культов, в основе которых лежали элементы анимизма и полидемонизма, не могла удовлетворять запросам новой социальной и политической реальности. Своеобразным преломлением этих запросов в сфере религиозных представлений стал универсалистский квазимонотеистический культ Неба{18} (ср.-монг. tenggeri ~ tngri[60]), который выполнял роль официальной религиозной и идеологической системы Монгольской империи, призванной одновременно обосновывать концентрацию власти в руках единого имперского лидера (ср.-монг. qa'an ~ qahan[61]) и выражать его притязания на безусловное мировое господство[62].
Прямая зависимость между образованием державы Чингис-хана и установлением культа Неба в качестве господствующей формы религиозных представлений с определенностью выявляется на основе данных средневековых источников; так, армянский автор Гайтон в сочинении «Цветник историй земель Востока» (1307) сообщает о том, что почитание «бессмертного Бога» (христианская интерпретация знаменитой монгольской формулы möngke tengri 'Вечное Небо'[63]){19} было утверждено первым же указом Чингис-хана сразу после его вступления на престол:
«Арres се que Changuis Can fu fait empereor, par la comune volente e consentement de touz les Tartars, avant que Changuis Can feist antre chose, il vout savoir si touz lui seroient obei'ssans. Don't il comanda in comandemens. Le primer comandement fu que touz deiissans croire e aorer l'inmortel Deu, par la volunte de qui il estoit fait empereor, e des adonques touz les Tartars comencierent ä croire et ä nomer le non de Deu en toutes leurs evres» 'После того как Чингис-хан был сделан императором по общему желанию и согласию всех татар и прежде чем Чингис-хан сделал что-либо другое, он захотел узнать, будут ли все ему покорны. Тогда он отдал три приказа. Первый приказ был такой, что все должны верить и почитать бессмертного Бога, по воле которого он был сделан императором, и с тех пор все татары начали верить и призывать имя Бога во всех своих начинаниях' (Hayton. III. 3; пер. Я.Р.).
В довольно искаженном виде идею о вытеснении шаманизма[64] культом Неба в качестве религиозной доминанты, правда, не связывая это с политическими факторами, передает другой армянский хронист Григор Акнерци (1250–1335) в своей «Истории народа стрелков» (1271): «От самих Татар мы слышали, что они из туркестанской родины своей перешли в какую-то восточную страну, где они жили долгое время в степях, предаваясь разбою, но были очень бедны. У них не было никакого богослужения, а были какие-то войлочные идолы, которых они и до сих пор переносят с собою для разных волшебств и гаданий. В то же время они удивлялись, солнцу, как какой-то божественной силе. Когда они изнурены были этой жалкой и бедственной жизнью, их осенила внезапно здравая мысль: они призвали себе на помощь Бога, Творца неба и земли и дали ему великий обет — пребывать вечно в исполнении Его повелений» (Григор Акнерци, с. 3–4).
Таким образом, мы вправе рассматривать культ Неба у средневековых монголов как символическое выражение социального порядка, связанного с образованием Монгольской империи как принципиально новой формы политического единства центральноазиатских кочевников{20}. При этом речь не идет о том, что культ Неба привел к полной ликвидации шаманских верований, восходящих к прежним, доимперским формам социальной организации кочевников{21}. Шаманы (ср.-монг. bö'es, ед. ч. bö'e[65]) и характерные для них религиозные практики (гадания, предсказания, заклинания духов, врачевание и т. п.) неоднократно упоминаются различными источниками в монгольском обществе эпохи империи[66]. Однако они были вытеснены на периферию религиозной жизни социума и обслуживали преимущественно сферу семейно-родовой обрядности, тогда как ритуальные действия, имевшие общеимперскую значимость (включая все, что относилось к культу Неба), выполнялись либо самим правителем, либо по его поручению избранными представителями знати или специальными функционерами[67]. По существу, есть все основания говорить о своего рода двоеверии — параллельном сосуществовании шаманизма и культа Неба у монголов имперского периода. В более общем виде эта идея уже высказывалась известным французским ученым, специалистом по истории религиозных верований алтайских народов Ж.-П. Ру: «Существует большая вероятность того, что алтайский мир знал двойной культ: один официальный, ориентированный на Бога-Небо (Tängri) и связанный с Государством и Правителем, а другой частный, родовой или семейный (с другими божествами). Так же, как в каждом из двух культов существовали свои жертвоприношения, там должны были быть и свои молитвы. Только природа, с одной стороны, местных документов, а с другой, — сведений наших иностранных информаторов может объяснить, почему акцент делался на официальном культе»[68].
Если распространять это утверждение на все алтайские народы было бы все-таки слишком рискованно, то, по крайней мере, для средневековых монголов оно представляется вполне справедливым и уместным.
Следует отметить, что двойственность религиозной системы средневековых монголов также имела отчетливую социальную основу. С образованием империи прежняя система племенных конфедераций не исчезла полностью, а как бы отступила на задний план, подчинившись требованиям нового социального порядка, который вырос над ней в качестве своеобразной надстройки[69]. Аналогичная участь постигла и обслуживавший эту систему шаманизм — из господствующей формы религиозных представлений он был понижен в статусе до вспомогательного и периферийного элемента имперской религиозно-идеологической доктрины, центральное место в которой занимало почитание Вечного Неба. За функционирование культа Неба и связанной с ним обрядовой системы отвечала собственно имперская элита, куда входил сам монгольский ка'ан и вся административная верхушка империи, которую составляли представители обеих категорий знати — потомки Чингисхана (kö'üt) и члены других родов (noyat), представлявшие как старую племенную (тюркскую и монгольскую) аристократию, так и выходцев из числа перешедших на службу к монголам киданей, чжурчжэней и северных китайцев[70]. Именно имперская элита играла определяющую роль в формировании культа Неба как особой религиозно-идеологической доктрины, направленной на легитимацию верховной власти в рамках монгольской мировой державы[71], а также в его последующем поддержании и распространении с помощью различных средств, от упоминаний «вечного Неба» (möngke tngri ~ möqke derjri) в текстах указов и пайцз[72] до открытой пропаганды{22}. Кроме того, ка'ан и другие представители элиты выполняли функции жреческого сословия, совершая обряды жертвоприношения Небу и целый ряд других ритуальных действий, связанных с узнаванием и выражением воли верховного божества.
Однако едва ли правильна точка зрения о том, что культ Неба был ориентирован исключительно на имперского лидера и его окружение, тогда как их подданные, простые кочевники, по-прежнему оставались приверженцами шаманистических верований[73]. Известно, что эти верования благополучно существовали даже при дворах членов правящей элиты Монгольской империи{23}, и напротив, рядовые монголы вполне искренне принимали выработанную имперской идеологией доктрину божественного Неба. Скорее, дифференциация проходила не по социальному, а по ценностному принципу: высшей символической ценностью для всех слоев монгольского общества в эпоху империи, безусловно, обладала официальная доктрина, а влияние шаманизма было ограничено теми аспектами религиозного опыта, которые в имперской системе координат расценивались как гораздо менее важные и символически значимые.
Главенствующая роль культа Неба в религиозном мировоззрении средневековых монголов неизбежно должна была отразиться и на том специфическом комплексе верований, который можно назвать этиологией смерти. Речь идет о культурных стереотипах, связанных с происхождением и причинами смерти, ее основными агентами и способами их нейтрализации. У нас нет достаточных данных для того, чтобы охарактеризовать представления о смерти у монголов до образования империи, поскольку источники практически молчат об этом{24}. Однако мы можем привлечь в качестве сравнительного материала то, что известно об этих представлениях в постимперский период, когда единый и универсальный культ Неба утратил свое значение, лишившись своей социальной и политической основы. Согласно монгольским обрядовым текстам XVII–XIX вв., болезнь или смерть вызывались вмешательством разного рода злых духов, известных под целым рядом названий: ongyod, eliy-e, caliy, ada, erlig, kölcin, cidkür ~ jedker, luu, albin, simnüs, todqar[74]. Эти духи либо вселялись в тело человека, либо похищали одну из его «душ», в результате чего — при отсутствии должного противодействия со стороны ритуальных специалистов (шамана или ламы) — наступала смерть[75].
Такая концепция смерти хорошо подходила для шаманистического восприятия действительности, в рамках которого она некогда и возникла, но ее основные принципы едва ли согласовывались с религиозной доктриной культа Неба в пору политического могущества монгольской мировой державы. Эта доктрина носила ярко выраженный универсалистский характер и имела тенденцию к охвату всех сторон жизни средневековых монголов. Глава китайской дипломатической миссии к монголам Пэн Да-я, составивший вместе со своим коллегой Сюй Тином путевые заметки под названием
Ему вторит и уже упомянутый армянский автор Гайтон: «Les Tartars croient е noment Deus implement, e dient que est inmortel, e en leur dil mettent Deu tot avant. [Nulli. minas inferrent, nisi Deum preponerent, dicendo sic: "Novit Deus quid tibi faciam”, et similia]» 'Татары верят и призывают Бога по-простому и говорят, что он бессмертен, и в своих речах ставят Бога превыше всего. [И ничего, по их мнению, не может совершиться помимо Божьей воли, а поэтому у них принято говорить: "Видит Бог, что я тебе сделал!" — и прочее]' (Hayton. III. 49)[77].
Отсюда ясно, что в объяснительной системе культа Неба наступление смерти не могло восприниматься иначе, как только в связи с волей главной и единственной божественной силы — самого Вечного Неба. На этот счет источники дают нам целый ряд прямых указаний. Так, в знаменитом письме ка'ана Гуюка папе Иннокентию IV, написанном на персидском языке (1246), содержится любопытная фраза: «Людей этих стран, (именно) Вечное Небо (x[u]dai qadim) убило и уничтожило их. Кроме как по приказу Неба, как может кто-либо убивать, как может (кто-либо) захватывать своей собственной силой (quvvat)?»[78]. По справедливому замечанию П. Пелльо и И. де Рахевильца, перс. x[u]dai 'Бог' в тексте письма соответствует монг. tengri 'Небо'[79].
Здесь наступление смерти объясняется двояким образом: Небо может убивать людей самостоятельно, без всяких посредников, а может отдавать специальные приказы, на основании которых осуществлялось причинение смерти. Адресатами этих приказов, вероятнее всего, выступали ка'аны и другие представители монгольской элиты, которые выполняли их с помощью своих подчиненных. И в том и в другом случае смерть выступала как наказание за нарушение воли Неба и выражающих ее постановлений, имеющих силу закона (например, указов о подчинении, ведении войны, даровании власти и т. п.), а само Небо выступало в роли высшего вершителя судеб[80].
Небу даже не обязательно было непосредственно убивать (или приказывать убивать) провинившегося; достаточно было лишить его своей божественной поддержки, что автоматически влекло за собой смерть. Так, при завоевании Армении два монгольских военачальника предлагали полностью разграбить страну и перебить все население, однако встретили противодействие в лице командующего экспедиционным корпусом Чормакана. Наутро после того, как оба военачальника предложили столь жестокий план, они были найдены мертвыми. По сообщению Григора Акнерци, «тогда Чорман, взяв с собой свидетелей происшествия, отправился к главному своему начальнику, Чингиз-Хану, рассказал ему о своем намерении и о замыслах своих сотоварищей, об их гибели и о своем спасении в ту ночь. Изумленный хан, слушая рассказ, сказал Чорману: "то, что задумали оба предводителя, не было угодно Богу, и потому они скоропостижно умерли, а ты не умер за свои добрые намерения"» (Григор Акнерци, с. 11).
Однако смерть могла происходить не только в качестве кары за какие-либо проступки, но и как естественное завершение человеческой жизни, ниспосланной и предопределенной Небом. По-видимому, именно это имел в виду Мунке-ка'ан в беседе с послом французского короля францисканцем Вильгельмом де Рубруком, который передал ее в отчете о своем путешествии (1255): «"Nos Moal", inquit, "credimus quod non sit nisi unus Deus, per quern vivimus et per quern morimur, et ad ipsum habemus rectum cor"» 'Мы, Моалы, — сказал он, — верим, что существует только единый Бог, благодаря которому мы живем и умираем (курсив мой. — П.Р.), и именно поэтому имеем прямое сердце' (Itinerarium. XXXIV. 2, пер. А.Ю.).
Представления о том, что Небо может как даровать жизнь, так и отнимать ее, а также воскрешать из мертвых, нашли отражение и в одном из важнейших памятников среднемонгольского языка — словаре «Мукаддимат ал-Адаб». Рукопись этого четырехъязычного (арабско-персидско-тюркско-монгольского) словаря датируется 1492 г. и представляет собой копию арабско-персидского словаря аз-Замахшари (1075–1144), который в неизвестное время (предположительно в XIV в.) был дополнен тюркским и монгольским языковым материалом, переданным в арабской графике. Хорошо известный лингвистам, данный словарь никогда ранее не использовался в качестве источника этнографических данных, хотя содержащиеся в нем сведения представляют огромный интерес для специалистов по культуре средневековых монголов. Безусловно, при изучении словаря нужно принимать во внимание очевидное исламское влияние, которое ко времени составления памятника испытала на себе западная часть монгольского мира, но в тоже время сложно отрицать и тот факт, что словарь сохранил целый ряд весьма архаичных слов и выражений, которые отображают различные аспекты монгольской культуры еще доисламского периода. В частности, «Мукаддимат ал-Адаб» содержит определенное число контекстов, в которых идея получения и лишения жизни напрямую соотносится с вмешательством божественного Неба: к примеру, alaba tü:ni tengri 'тенгри убил его'[81], ükuüilbe tedeni tengri 'тенгри их предал смерти'[82], но также amidu kibe tengri ükükseni 'тенгри воскресил мертвеца'[83], amidu kibe tü:ni tengri 'тенгри воскресил его'[84], tengri qoina orqiba amiduluq 'тенгри отсрочил его смертный час'[85], tonilyaba tü:ni. tengri üküleise 'тенгри спас его от гибели'[86], amiduluq ögbe öimadu tengri 'тенгри дал тебе жизнь'[87], boljal ögbe tengri tü:ni nasundu 'тенгри дал срок длительности его жизни'[88], urtu kibe tengri tü:ni [na]suni 'тенгри сделал его жизнь долгой'[89], urtu nasutu kibe tü:ni tengri 'тенгри дал ему долгую жизнь'[90].
Таким образом, можно согласиться с Ж.-П. Ру в том, что Небо в имперских культурах средневековых кочевников Центральной Азии выступало главной причиной смерти, «основным убийцей»[91]. Однако это не означает, что вытесненная культом Неба на периферию культурной жизни шаманистическая концепция смерти полностью утратила свое влияние и значимость. Уступив лидирующие позиции в обществе более могущественному сопернику, шаманизм нашел возможности сосуществовать с ним на основе своеобразного религиозного консенсуса, когда за культом Неба закреплялись важнейшие религиозные функции общеимперского характера, а в компетенции шаманизма оставались культовые действия более низкого статуса, относящиеся к сфере семейно-родовой обрядности. При этом предметные области культа Неба и шаманизма не находились друг с другом в строго дополнительном распределении — значительный пласт религиозных представлений выступал своего рода общим ресурсом для обеих составляющих системы двоеверия, каждая из которых задействовала его по своему усмотрению и интерпретировала в соответствии со своими собственными объяснительными принципами. К этому общему ресурсу, вероятно, принадлежали и представления о смерти у средневековых монголов. Иначе было бы сложно понять, почему наряду с вполне логичным для официальной доктрины объяснением смерти волей, приказом или попустительством Вечного Неба мы находим также примеры ее альтернативной трактовки в духе старых шаманистических верований — как результат действий злых духов или колдовства. Так, Киракос Гандзакеци (1201–1272) в своей «Истории Армении» (начата в 1241, закончена в 1265 г.) пишет о монголах: «А когда кто-либо из них умирал или если убивали кого, то, бывало, много дней подряд возили [его труп] с собой, поскольку, [как им казалось], бес, вселившийся в него, говорил вздор и долго бормотал» (Киракос Гандзакеци, с. 173).
Согласно этому описанию, у монголов имперского периода продолжала сохраняться вера в то, что смерть может наступать вследствие вселения в тело человека злых духов. На это же указывает знаменитая «Mongqol-un ni'uca to[b]ca'an» Тайная история монголов[92] в § 272, где говорится о том, что тяжелая болезнь ка'ана Угедея была вызвана «[духами-]хозяевами и властителями земли и воды китайского народа» (kitat irgen-ü qajar usun-u ejet qant) за то, что монголы во время завоевания Китая грабили народ и разрушали города, причем определение причин болезни и их устранение осуществлялось с помощью «шаманов и гадателей» (bö'es tölgecin){25} (ТИМ XII 21а:4–5)[93].
Представляет интерес также свидетельство Вильгельма де Рубрука относительно монгольских шаманов, которых он называет «предсказателями» (divinationes): «Их призывают также и по другим случаям, когда родится мальчик, чтобы выяснить его судьбу; призывают их и когда кто-либо лишается сил, и тогда они произносят заклинания и выясняют, естественная ли это слабость или от чародейства»{26}.
Здесь любопытно, прежде всего, различение двух видов болезни — «естественной» и «произошедшей от колдовства». Можно предположить, что в первом случае имеется в виду болезнь (в перспективе, и смерть), предопределенная Небом не за какие-либо проступки, а просто как естественное завершение человеческой судьбы, тогда как второй явно предполагает использование вредоносной магии, несовместимой с культом Неба, но вполне приемлемой в мировоззренческой системе шаманизма.
Обвинения в колдовстве, якобы повлекшем за собой болезнь или смерть человека, нередко упоминаются в источниках[94]. У того же Вильгельма де Рубрука мы читаем: «Меж тем случилось, что первая жена Мангу-хана родила сына и прорицателей позвали предсказать судьбу младенца; все они пророчествовали счастливое, говоря, что он будет долго жить и станет великим государем. Спустя немного дней случилось, что этот мальчик умер. Тогда мать в ярости позвала прорицателей и сказала им: "Вы сказали, что сын мой будет жить, а вот он умер". Тогда те ответили ей: "Госпожа, вот мы видим ту колдунью, кормилицу Хирины, которая была убита некогда. Она убила вашего сына, и вот мы видим, как она его уносит". А у этой женщины остались в становище взрослые сын и дочь; госпожа в ярости послала за ними и приказала мужчине убить юношу, а женщине — девушку в отомщение за ее сына, про которого прорицатели сказали, что мать их убила его»[95].
Известен также случай, когда в правление Гуюка (1246–1248) одну из приближенных его матери обвинили в том, что она околдовала царевича Кодэна, вызвав у него болезнь. После смерти царевича несчастную схватили и предали жестокой казни. Такой же участи подвергся один мусульманин по обвинению в наведении колдовства на сына Гуюка Ходжа-Огула (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 117). В монгольском Иране болезнь ильхана Аргуна (1284–1291), которая в конечном итоге вызвала его кончину, была приписана колдовству, причем причины болезни были выявлены посредством гадания на бараньей лопатке, проведенного шаманами. Подозрение в колдовстве, что само по себе примечательно, пало на представительницу дома Чингисхана, внучку ильхана Хулагу, которая была подвергнута пытке и казнена (Рашид-ад-дин, Т. III. С. 126).
Отсюда видно, что двойственность религиозной ситуации в Монгольской империи проявлялась, помимо прочего, в осмыслении такой важной для человеческого существования категории опыта, как смерть, которое в полной мере испытало на себе воздействие религиозного «конфликта интерпретаций» между имперским культом Неба и противопоставленным ему, но также и сосуществующим с ним шаманизмом.
После изгнания монголов из Китая в 1368 г. имперская эпоха завершилась, а вместе с ней стали достоянием истории идея централизованной власти монгольских ка'анов и обосновывавшая ее политическая доктрина мирового господства. Монгольская знать, которая составляла костяк прежней имперской элиты, вернувшись в степи, все больше утрачивала жесткую зависимость от носителей верховной власти, по мере того как последние теряли свое влияние и авторитет, превращаясь в марионеточные фигуры, используемые в борьбе между различными аристократическими родами[96]. В условиях усиливавшейся социальной дезинтеграции и бесконечных междоусобных войн потребность в универсалистской религиозной системе, соответствовавшей совершенно иным историко-политическим реалиям, разумеется, не могла сколько-нибудь долго сохраняться. Новой форме социального порядка наилучшим образом отвечала старая доимперская шаманистическая идеология с характерным для нее дроблением сферы сакрального и переносом акцента на низшие уровни пантеона; эта идеология и закрепилась в качестве религиозной доминанты постимперского периода[97].
Оставшись без своей социальной основы, имперский культ Неба должен был приспосабливаться к изменившийся ситуации и в конечном итоге вошел в систему шаманистических культов, которые некогда сами были им поглощены. Это привело к парцелляризации единого образа Вечного Неба, его членению на множество отдельных культовых персонажей — тэнгриев, каждый из которых получил определенную функциональную специфику[98]. В традиционной культуре позднейших монгольских народов число сверхъестественных существ — тэнгриев, на которые распался образ божественного Неба средневековых монголов, варьировало от двенадцати у монгоров провинции Ганьсу[99] до девяноста девяти у западных бурят[100], но нигде почитание Неба не имело характера веры в квазимонотеистическое абстрактное начало, которому поклонялись монголы в эпоху могущества их мировой державы. Дискретизация и существенное снижение социальной значимости культа Неба не могло не сказаться и на этиологии смерти, которая лишилась связи с представлениями о воле имперского верховного божества и вновь, как и до образования империи, оказалась включенной в шаманистическую мифологию в качестве одного из ее компонентов. Это состояние фиксируется текстами монгольских обрядников и этнографическими данными, согласно которым в роли инстанции, распределяющей и отбирающей жизненную силу, выступали разного рода божества и духи. Таким образом, мы вправе говорить о непосредственной зависимости между типом социально-политической организации монгольского общества и уровнем развития религиозной системы, тем самым подтверждая гипотезу о социальной детерминации религиозных явлений, выдвинутую Э. Дюркгеймом[101] и его последователями.
Часть 2.
Берке. Другая история
Глава 1.
Чудеса Египта
Сочинение египетского историка ал-Муфаддала «Прямой путь и единственная жемчужина в том, что случилось после летописи Ибн 'Амида» охватывает период с 1259 по 1341 гг. Сведения о монголах почерпнуты отчасти из сочинений Абу Шама, Ибн Шаддада и Ибн 'Абд аз-Захира. Нас интересует рассказ египетских дипломатов, которые привезли Берке среди прочих подарков Коран 'Усмана и, видимо, ожидавших по этому поводу какого-то особенного воодушевления в орде. Вместо бесед о дорогом подарке случились разговоры о чудесах Египта.
«В это время царю Берке было от роду 56 лет. Описание его: жидкая борода; большое лицо желтого цвета; волосы зачесаны за оба уха; в [одном] ухе золотое кольцо с ценным [восьмиугольным?] камнем; на нем (Берке) шелковый кафтан; на голове его колпак и золотой пояс с дорогими камнями на зеленой булгарской коже; на обеих ногах башмаки из красной шагреневой кожи. Он не был опоясан мечом, но на кушаке его черные рога витые, усыпанные золотом. При нем в шатре его [сидело] 50 эмиров на скамейках. Когда они [послы] вошли к нему и представили послание, то это чрезвычайно удивило его. Он взял грамоту и приказал визирю прочесть ее. Потом он велел им перейти с левой стороны [на правую] и уставить их по бокам шатра, позади находившихся при нем эмиров, приказал подать им кумыса и после того — вареного меда, а потом предложил им мясо и рыбу, и они поели. Затем он приказал поместить их у жены своей Джидже-хатун. Когда они утром встали, то хатун угостила их в своем шатре. В конце дня они отправились в отведенные им помещения. Султан Берке стал их требовать к себе в разные часы дня и расспрашивать их про слона и жирафа, спросил [также] про Нил да про дождь в Египте и сказал: "Я слышал, что через Нил протянута кость человеческая, по которой люди переправляются [через реку]". Они ответили: "Этого мы не видели, и у нас нет этого". Пробыли они у него 26 дней. Он одарил их кое-чем по части золота, которым торгуют в землях Ласкариса; потом упомянутая жена его [султана] пожаловала им халаты. Он вручил им ответные грамоты и отправил их в путь» (Сборник материалов. Т. I. С. 151–152).
Кратко опишем дипломатический ритуал, а именно, загадочный жест Берке, согласно которому послов перевели с левой стороны шатра на правую. Южносунский дипломат Пэн Да-я, побывавший в 1233 г. при дворе великого хана Угедея, с полным пониманием описывает этикетную ситуацию в приемном шатре: «Что касается [различия между] местами у них [по почетности], то самым почетным считается центр, за ним идет правая [сторона], а левая [сторона] считается еще ниже» (Хэй-да ши-люе, с. 141). В монгольском имперском этикете имелось правило, в котором, с позиции внешних наблюдателей, содержалась загадка. По свидетельству папского посла Иоанна де Плано Карпини, чужеземные послы, еще не побывавшие в ставке великого хана, во время встречи с Бату должны были находиться в левой половине юрты, тогда как на обратном пути их всегда сажали справа{27}. Папский посол отметил поразительную перемену. Она была связана с обретением нового статуса, суть которого определялась приобщением к имперскому социуму[102]. После церемонии представления монгольскому императору западные послы превратились в его «подданных» и поэтому на них распространялось его покровительство. Право занять положение «по правую руку» великого хана означало обретение места в монгольской «табели о рангах», тогда как нахождение «по левую руку» символизировало чужеродность и знаковую размытость статуса иноземного посла (ибо мужчина находился на «женской» стороне). Послы же из Египта прибыли специально к Берке, именно ему было предназначено послание и подарки султана Байбарса, иными словами, двор Берке был конечной точкой маршрута египетских послов, и именно поэтому, после прочтения султанского послания их заставили перейти с левой стороны шатра на правую.
В строго иерархической вертикали Монгольской империи правая мужская сторона «уравновешивалась» левой женской. На персидских миниатюрах в торжественных церемониях ильхан сидит на троне со старшей из жен. Статусы их равны. Это исключительно монгольское явление. По окончании встречи египетских послов направили в ставку старшей жены Берке, Джидже-хатун. Такому же предписанию следовал и князь Даниил Галицкий. После встречи с Бату, он отправился поклониться Боракчин-хатун, старшей из жен Бату. Особенностью монгольской системы власти было участие жен Чингизидов в управлении улусом. Реальность полномочий старшей жены определялась тем обстоятельством, что в случае смерти мужа, она становилась правительницей до созыва курултая, на котором будет избран новый хан. Такое перетекание властных ресурсов призвано было предотвратить кровавые схватки претендентов на трон.
Берке демонстрирует удивительную осведомленность о достопримечательностях Египта. Он спросил послов про дожди в Египте. Этот странный вопрос для Чингизида обретает полноту и смысл, если рассматривать его как продолжение диалога о чудесах мира. Такого рода сюжеты характерны для арабо-персидских космографий. Разговор при монгольском дворе имеет параллель в беседах ученых и литераторов, которым покровительствовали багдадские халифы в X веке. В спорах о пороках и достоинствах Египта обычно звучала следующая тема: «Из пороков Египта то, что там не идут дожди, а если пойдет дождь, то [египтянам] это не нравится, и они обращаются к Аллаху с мольбой»[103]. Внешних наблюдателей волновал только один вопрос, проявит ли в условиях Египта свою силу магический камень йада, с помощью которого тюрки вызывали бурю, снег или град. Ходили слухи, что свойства «камня дождя» зависят от климатических условий страны. Однажды по инициативе знатока минералов ал-Бируни был проведен опыт с участием заинтересованных сторон. Его безрезультатность вызвала дискуссию, где Египет фигурирует как земля, неподвластная «камню дождя». Тюркская знать настаивала на том, что для опыта была выбрана не та местность, а ал-Бируни с удивлением отметил всеобщее заблуждение.
«Один тюрок как-то принес и мне нечто подобное, полагая, что я этому обрадуюсь или приму его, не вступая в обсуждение. И вот сказал я ему: "Вызови им дождь не в положенное время или же, если это будет в сезон дождей, то в разные сроки, по моему желанию, и тогда я его у тебя возьму и дам тебе то, на что ты надеешься, и даже прибавлю". И начал он делать то, что рассказывали, а именно — погружать камень в воду, брызгать ее в небо, сопровождая это бормотанием и криками, но не вызвал он этим дождя ни капли, если не считать тех капель, которые он разбрызгивал и которые падали при этом обратно на землю. Еще удивительнее то, что рассказ об этом весьма распространен и так запечатлелся в умах знати, не говоря уже о простонародье, что из-за него ссорятся, не удостоверившись в истине. И вот поэтому-то один из присутствующих стал защищать тюрка и объяснять происшедшее с камнем дело различием условий местностей и [уверять], что эти камни бывают превосходными лишь в земле тюрок, и в доказательство приводил рассказ о том, что горах Табаристана, если толкут чеснок на вершинах гор, то за этим немедленно следует дождь, а если проливается много крови людей или животных, то за этим идет дождь и смывает кровь с лица земли и очищает ее от мертвечины; в земле же Египта не вызвать дождя ни тем, ни другим способом. Я сказал им: "Правильный взгляд на это можно получить, изучив положение гор, направление ветров и движение туч с морей"» (ал-Бируни. Минералогия, с. 205).
Анонимный персидский автор XIII в. в книге «Чудеса мира» пишет об удивительных возможностях тюрков в войске монголов, вторгшихся в государство хорезмшаха: «В это время, когда я, раб, собрал [свою] книгу, в 617/1220 году, выступили тюрки-татары. Они дошли до Ирака [Персидского] и совершили бесчисленные убийства. Говорят, будто их правитель знаком с колдовством. Они заклинаниями превращают воду в лед, а на людей и неприятеля насылают ливни и грозы. Это — свойство камня, о котором будет рассказано в своем месте. Не было видно никакого конца продвижению тех тюрок. Наш Пророк Мухаммад-Избранник, да благословит Аллах его и его семью и [да ниспошлет] мир, дал знать об их выступлении, а Бакави, да помилует его. Аллах, привел [это] в книге "Шарх ас-Сунна"» (Чудеса мира. 151). Таковы были первые слухи о монголах. На самом деле, ни Чингис-xaнa, ни кто-либо из его окружения не занимались магическими манипуляциями с «камнем дождя». Это было привилегией тюрок-канглы, участвовавших в войне с хорезмшахом на стороне монголов.
Вопрос Берке о дождях в Египте следует рассматривать в контексте придворных диалогов о чудесах разных стран. Берке спросил послов о жирафе и слоне, про Нил и про дожди. Вопросы адресовались жителям Египта, то есть у вопрошающего была возможность узнать из первых уст о положении вещей. Диалог не состоялся, среди послов были знатоки Корана, но не нашлось знатоков космографий. Этот эпизод показывает, что Берке был куда более интересным персонажем, чем его образ, рисуемый сторонниками идеи обращения Берке. Судя по отчету послов, разговора о Коране не получилось, видимо, за отсутствием интереса у получателя дорогого подарка.
Для сравнения приведу перечень чудес Египта из географического сочинения ал-Бакуви: пирамиды, Сфинкс, Нил и его разливы, крокодилы; источник Натула: «Там есть пещера, и в этой пещере есть источник, из которого бьет вода и стекает на глину, а эта глина превращается в мышей»; «Там есть дерево, которое по-гречески называется мукикус, и его можно видеть ночью, так как оно испускает ослепительные лучи. Там есть трава, называемая ад-далас. Из нее делаются корабельные веревки. Берут кусок этой веревки и зажигают — и она горит как свеча. Затем ее гасят. И так, когда нужен свет, берут ее за один конец и вертят в течение часа подобно фитилю, тогда она сама по себе загорается. Там есть сорт индийских арбузов. На сильном верблюде можно везти только два таких арбуза. Они весьма сладкие. Там есть ослы величиной с барана, пятнистые как мулы. Такие в других местах не встречаются. Там есть большая птица черной окраски с белой головой, питается она рыбой. Ее называют нильским орлом. Когда она летает, то ясным голосом выкрикивает: "Аллах выше всех!". Там есть маленькое животное, называемое нимс (ихневмон). Оно крупнее крысы, но меньше ласки, рыжее, с белым брюшком. Когда [это животное] видит гадюку, то подходит к ней. Гадюка пытается съесть его, но как только оно оказывается в ее пасти, то испускает [зловонный] запах, и гадюка разрывается на две части от действия этого запаха» (ал-Бакуви. III. 119).
И при дворе ильханов обсуждался вопрос о камне йада (jada). В «Летописи Чингис-хана» Рашид-ад-дина есть рассказ, где о магических ухищрениях с камнем дождя говорится как о привычных и повседневных вещах. Осенью 1182 г. коалиция найманов, меркитов и татар выступила против Чингис-хана, но битвы не случилось — противники погибли от бурана и мороза. Событие происходит за пределами исламского мира, вмешательство Аллаха в пользу одного из соперников исключено. Тогда участию какой силы приписать гибель коалиции? Разумеется, Тенгри. Однако реальность тенгрианского мира не вписывается в систему координат ислама.
Заголовок гласит: «Рассказ об объединении Буюрук-хана, брата государя найманов, Токтай-беки, государя меркитов, и других племен — татар, катакин и прочих, об их выступлениях с великим войском на войну с Чингис-ханом и об их гибели в горах от снега, бурана и ветра». Отмечу, что рассказ записан спустя сто двадцать лет и переведен на язык другой культуры.
«Осенью года собаки брат государя найманов, Буюрук-хан, и государь меркитов, Токтай-беки, племена дурбан, татар, катакин и салджиут, предводитель их Акуту-бахадур, и государь племени ойрат — Кутукэ-беки, а это сборище было то, которое [раньше] неоднократно воевало с Чингис-ханом и Он-ханом, бежало [перед ними], укрылось у вышеупомянутого Буюрук-хана и объединилось с ним, — все [они теперь] вместе выступили с огромным войском на войну с Чингис-ханом и Он-ханом. Чингис-хан и Он-хан выставили свой сторожевой пост в местности по имени Чэкэчэр и Чиуркай. Один из дозорных вернулся назад из упомянутой местности и уведомил о приближении войска найманов. Чингис-хан и Он-хан, откочевав из местности Улкуй-Силуджолджит, отходили по направлению к стене Уткух. То место было юртом Тачар-ака у границы Караун-джидун. Упомянутая стена подобна стене Александра, которую построили на границах Хитая. Сангун, сын Он-хана, находился на фланге. Он дошел до леса, из которого спустившись, достигаешь [названной] стены. Он еще не успел дойти до него, [как] Буюрук-хан, [заметив их], сказал: "Это — племя монголов! Мы разобьем их всех сразу". [Еще до этого] он выслал передовой отряд из войска найманов и племен монгол, бывших с ним, Хакучу-бахадура из племениГ катакин и брата Токтай-беки, Куду, из племени меркит. Они дошли до Сангуна и начали строиться к битве, но, не сразившись, вернулись назад. Сангун тоже двинулся и вступил в [район] стены Уткух. [Найманы] тем временем совершили волхвование с тем, чтобы пошел снег и поднялся буран. Сущность волхвования заключается в следующем: читают заклинание и кладут в воду различного рода камни, [вследствие чего] начинается сильный дождь. [Однако] этот снег и буран обернулись против них же. Они захотели повернуть назад и выбраться из этих гор, но застряли в местности, называемой Куйтэн. Общеизвестно, что в этой местности у Буюрук-хана найманского и у вышеупомянутых племен монголов, объединившихся с ним, от жестокости стужи отморозились руки и ноги. Буран же и метель были таковы, что множество людей и животных поскатывались с высот и погибли. Чингис-хан и Он-хан остановились стойбищем на краю Арала, что значит остров» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 2. С. 121–122).
То обстоятельство, что буран обернулся против найманов, вызвавших его, по мысли рассказчика, демонстрирует магическую мощь Чингис-хана. На самом деле, речь шла о военной удаче. Небо благоволило Чингис-хану, но о воле Неба Рашид-ад-дин писать не может. Эпизод имперской мифологии обрел литературную форму и получил санкцию на существование ценой роковых потерь. Суть события провалилась в зазор между теологией и магией. Рашид-ад-дин сконструировал особую реальность. Сюжету о «камне дождя» я посвятил отдельное исследование[104].
Перейдем к следующему вопросу Берке из разговора с египетскими послами: «Я слышал, что через Нил положена человеческая кость, по которой люди переходят через реку».
Сюжет о ноге великана, поставивший в тупик послов, относится к жанру арабо-персидской литературы о чудесах мира. У арабов было предание о народе 'ад — следующем после Ноя поколении людей, которые жили в Аравии и отличались очень высоким ростом. По версии Корана, эти гиганты, не вняв проповедям пророка по имени Худ, не поверили в единого бога и были за это истреблены[105]. По мнению В. П. Демидчика, гипотезой о великанах, которые до Ноя и потопа населяли Южную Аравию, объяснялось возведение циклопических сооружений, древние постройки огромных плотин, пирамиды Хеопса, храмов Пальмиры и Баальбека[106].
О великанах древности размышлял ал-Бируни в своем трактате о мировой хронологии: «Что же касается огромности тел, то хотя она и не обязательна, так как теперь ее не наблюдают, и то время, к которому относятся рассказы о ней — отдаленно, это, однако, все же не является невозможным. Вот ведь, и в Торе говорится нечто подобное о телесах великанов, но ею не пренебрегают с тех пор, как израильтяне видели их воочию, и никто на нее не нападает. Наоборот, [израильтянам] читали [Тору] и они сами читали ее и не смотрели на тех, кто ее читает, как на лжецов. Однако, если бы великаны были не так [огромны], как рассказывают, то читающего Тору, несомненно, обвинили бы во лжи, поскольку он говорит нечто противоречащее видимости. И если бы какие-то люди действительно не были огромны телом — прибавил им Аллах в этом обширности! — то наверное не осталось бы упоминание о них в устах непрерывным и не уподобляли бы им всякого, кто превосходит величиной обычные существа своего вида. Таковы, например, люди из племени Ад; уподобление им стало ходячей [поговоркой]. Но где мне заставить [скептиков] поверить моим словам об адитах! Они ведь отрицают даже то, что ближе по времени и более очевидно по состоянию, и приводят доводы, которых не сравнить с самыми слабыми доказательствами, применяемыми против них. [Эти скептики] бегут от согласия с убедительнейшими доказательствами, "словно пугливые ослы, бегущие ото льва", но что скажут они о следах [существования] огромных людей, находимых теперь в домах, выбитых в твердых скалах в горах Мадьяна{28} и в вытесанных в этих горах могилах, о погребенных в глубине могил костях, величиной с кости верблюда или больше, и о зловонии, из-за которого в эти могилы можно войти, только заткнув чем-нибудь ноздри? Жители тех мест согласны в том, что это "люди тьмы", но когда [скептики] слышат про "день тьмы", то насмешливо смеются, презрительно кривят губы и задирают нос, радуясь тому, что предполагают, и думая, будто они достойнее [других] и выдаются из ряда простых людей. Но достаточно с них Аллаха! За нас — наши дела, а за них — их дела» (ал-Бируни. Хронология, с. 101).
То, о чем спрашивал Берке, было хорошо известно баварскому солдату Иоганну Шильтбергеру, который много лет скитался по восточным странам (1394–1427). Вот его рассказ: «Жил-был в Египте великан, называемый язычниками ал-Искендер. Главный город этого края и резиденция короля-султана есть Миср или Каир, как его называют христиане. В этом городе насчитывается 12 тысяч хлебных печей. Указанный великан был таким сильным, что однажды принес в город такое огромное количество дров, что им можно было растопить все указанные печи, за что он получил от каждого хлебопека по хлебу, то есть всего 12 тысяч хлебов, которые он съел за один раз. Кость от ноги этого великана находится в Аравии в одном ущелье меж двух гор. Там, среди скал есть такая глубокая долина, что нельзя увидеть ручья, который ее орошает, но журчание ручья слышно. Нога великана наведена через это ущелье вместо моста. Все путешественники, пешие или конные, которые проходят через эту местность, должны проходить по этой ноге, так как другого прохода по этой дороге нет, а она чаще других посещается купцами. По уверению язычников, эта нога по длине равна парасангу, то есть расстоянию полета стрелы. Здесь с купцов взимают пошлину, служащую для покупки деревянного масла, которым смазывают ногу, чтобы она не сгнила. Сравнительно недавно, примерно около двухсот лет назад, как видно из приписки, король-султан велел построить мост неподалеку от ноги, чтобы владетели, которые приходили бы туда с большим войском, могли переходить через ущелье по мосту, а не по ноге. Но это не мешает желающим выбирать путь через ногу, чтобы убедиться в том, что в этом краю существует чудо, о котором я не говорил бы и не писал бы, если бы не видел его собственными глазами» (Шильтбергер, с. 55).
Интерес Берке к чудесам мира и попытка расспросить чужеземных послов были обычной практикой монгольских правителей. Так, царь Малой Армении Хетум, находясь при дворе каана Менгу, услышал разные удивительные истории. В одной из них шла речь о кости, растущей из земли: «Есть остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбьей; если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам». В другой говорилось о диких племенах: «Есть некая страна за Хатаем [Китаем], где женщины имеют обличье человека — [существа] словесного, а мужчины — обличье собачье; они бессловесны, огромны, волосаты. Собаки эти не позволяют никому вступать в их страну, собаки же охотятся за дичью, и ею кормятся собаки и женщины. От совокупления собак с женщинами дети мужского пола рождаются собаками, женского — женщинами». Киракос, записывая слова Хетума, высказывает осторожное сомнение: «Много чего еще рассказывал мудрый царь наш о диких племенах, но мы опускаем [эти рассказы], ибо кое-кому они могут показаться лишними» (Киракос Гандзакеци. 58).
В тот же год при дворе каана Менгу францисканец Вильгельм де Рубрук услышал легенду о золотых персиках. Брат Вильгельм не понял смысла этого рассказа. Заботой монгольских ханов был поиск секрета долгой жизни. Вот что хотели придворные хана обсудить с иностранцем. Мистическую тему они преподнесли как космографическую. Скорее всего, это был тест. Получив послание, францисканец применил не тот код, отсюда его сомнения в реальности «страны бессмертных». Диалог не состоялся: «Рассказывали также за истину, чему я не верю, что за Катайей есть некая область, имеющая такое свойство: в каком бы возрасте человек ни вошел в нее, он и останется в таком возрасте, в котором вошел»{29}. Это древняя китайская легенда о «стране бессмертных».
В свою очередь брат Вильгельм настойчиво пытался разузнать у китайских монахов о людях чудовищного вида. То, что он услышал в ответ, выглядит неожиданно. Монахи заявили, что никогда ничего подобного не видели{30}. Однако настойчивость брата Вильгельма не пропала даром, и некоторые истории китайские монахи все же ему поведали. В частности, он узнал о загадочном существе синсин на негнущихся ногах, кровь которого использовалась в качестве красителя: «Однажды сидел со мной некий священнослужитель из Китая, который был одет в ткани лучших красных оттенков. И спросил я его, откуда у него такой цвет одежд. Он же рассказал мне, что в восточных областях Китая есть высокие скалы, среди которых обитают некие существа, в целом похожие на человека, за исключением того, что их ноги не гнутся в коленях, и ходят они словно подпрыгивая. Ростом они не выше одного локтя, тела их полностью покрыты волосами, и живут они в недоступных пещерах. Их охотники, выходя, приносят с собой пиво, коим они могут сильно опьянить, и делают углубления в скалах, наподобие чаши, и наполняют их этим пивом. Ибо Китай до сих пор не имеет вина, и лишь теперь они начинают высаживать виноградную лозу, хотя их основной напиток приготовляется из риса. Итак, охотники прячутся, а вышеуказанные животные выходят из своих пещер и отведывают этот напиток и кричат: хин, хин, и поэтому, благодаря этому крику, они имеют свое название, т. е. хинхин. И тут они собираются в большом количестве и пьют это пиво, пьянеют и тут же засыпают. Затем подходят охотники и связывают руки и ноги спящих. После чего они вскрывают у них вену на шее и собирают их кровь по каплям в необходимом количестве, после чего не препятствуют их уходу. И эта кровь, как он мне сказал, является самым ценным веществом для окраски в красный цвет (Itinerarium. XXIX. 47–48).
При дворе Хубилая, как сообщает Марко Поло, ценились рассказы о необычном, и, что важно, слушателем занимательных историй выступал сам великий хан. Вернувшись в Италию, Марко Поло признался своему собеседнику, писателю Рустичелло, что воспользовался этой ситуацией во благо себе: «Видел он и слышал много раз, как к великому хану возвращались гонцы, которых он посылал в разные части света; о деле, зачем ходили, доложить, а новостей о тех странах, куда ходили, не умели сказывать великому хану; а великий хан называл их за то глупцами и незнайками и говаривал, что хотелось бы услышать не только об одном том, зачем гонец посылай, но и вестей и о нравах, и об обычаях иноземных. Марко знал все это, а когда отправился в посольство, примечал все обычаи и диковины и сумел поэтому пересказать великому хану обо всем» (Марко Поло, с. 51). Что стоит за интересом великого хана к чужеземным обычаям? Отдавал ли Марко Поло себе отчет в мистической и милитаристской составляющих этого интереса?
На самом деле, речь шла об описании мира во всем его многообразии. Владел миром тот, кто знал его тайны. Космографическая программа Хубилая была продолжением военной экспансии и включала разведывательные экспедиции на Мадагаскар и Занзибар{31}, на остров Цейлон за сокровищами Будды, на острова Южных морей{32} и в Страну тьмы — приполярные области Сибири. Владения хана были столь велики, что границы реального мира с неизбежностью растворялись в описаниях мифических стран. Универсум мыслился как каталог географических сведений, последние страницы которого открыты для обновления. Свою карьеру при дворе Хубилая Марко Поло начинал как гонец, способный добывать интересные сведения. По его собственному признанию, «как увидел великий хан, что Марко отовсюду несет ему вестей, зачем посылается, то делает хорошо, все важные поручения в далекие страны стал он давать Марку; а Марко исполнял поручения отменно хорошо и умел рассказывать много новостей да о многих диковинках» (Марко Поло, с. 51). Наглядным доказательством далеких поездок является «Книга о разнообразии мира».
Поверхностный, на первый взгляд, опрос гонцов со всех концов мира указывает на программу с далеко идущими целями. Это была иррациональная по сути своей деятельность, некая производная от имперского универсума, и ее можно рассматривать как альтернативу духовной технике, посредством которой алхимики и мистики искали путь к бессмертию. В пределе внешний и внутренний пути сливались у линии воображаемого горизонта. Видимо, окружение Хубилая и сам хан считали эту линию достижимой, иначе, чем объяснить размах монгольских экспедиций. Двор питал интерес к иррациональному опыту других культур, владевших рецептами продления жизни. Вот каких вестей о чужеземных обычаях жаждал хан.
Глава 2.
Берке против Сартака: религиозный конфликт?
Минхадж-ад-дин Джузджани (1193 — после 1260) собирал слухи о монголах, пребывая в Индии. Какова степень исторической достоверности сообщаемых им известий? Обычно исследователи этот вопрос не задают. В кратком обзоре биографии и творчества Джузджани А. Арсланова отмечает, что по сути это был единственный из персидских историков, настроенный к монголам крайне враждебно[107]. С монголами ему пришлось столкнуться во время обороны Тулака. В 1223 г. Джузджани покинул Хорасан и ушел в Индию, где нашел покровительство у делийских султанов. Свой исторический труд «Насировы разряды» он завершил к 1260 г. Последняя, двадцать третья глава сочинения посвящена монголам. По мнению, А. Арслановой, «в отличие от некоторых последующих за ним собратьев по перу, подвизавшихся в жанре историографии, Джузджани был весьма честно мыслящим и правдивым историком, в силу своей географической удаленности от места событий официально не ангажированным»[108]. Издатели второго тома «Сборника материалов» В. Г. Тизенгаузена, А. А. Ромаскевич и С. Л. Волин, отмечали: «До жившего в Индии Джузджани сведения о Золотой орде могли доходить только в виде слухов, и поэтому сообщенные им данные не совсем точны, в частности, им несколько преувеличено мусульманское благочестие Берке». В казахском переиздании этого тома сделано уточнение: «Все мусульманские источники подтверждают сообщения Джузджани об особом мусульманском благочестии Берке-хана»[109]. Все свелось к мелким препирательствам. Достоверность известий, полученных Джузджани от самаркандского саййида Ашраф-ад-дина, сомнению не подвергается. Несомненно, рассказы саййида были записаны без всяких искажений. Другое дело к, какому жанру относятся эти рассказы? На мой взгляд, их следует рассматривать как утопии. Религиозные и политические утопии не нуждаются в фактах. Безусловная ценность утопий в их альтернативности историческому реализму.
Проверим эту гипотезу на конкретном сюжете.
«Рассказ о мусульманском благочестии Берка.
Второй рассказ. Тот же саййид Ашраф ад-дин рассказывал, что по смерти Бату-хана остался сын его Сартак, чрезвычайно жестоко и несправедливо обращавшийся с мусульманами. Сартак [этот] из страны Кипчакской и Саксинской отправился ко двору Менгу-хана, чтобы по милости Менгу-хана сесть на место отца [своего] Бату. Когда он дошел до тамгачских{33} земель Менгу-хана, [то последний] приняв его, отпустил его с почетом восвояси. Приближаясь к своему дяде Берка-хану, он (Сартак) отказался [от посещения его], свернул с дороги и не пошел к своему дяде. Тогда Берка-хан отправил людей к Сартаку [сказать ему]: "Я заступаю тебе место отца; зачем же ты проходишь точно чужой и ко мне не заходишь?" Когда посланные доставили Сартаку весть Берка-хана, то проклятый Сартак ответил: "Ты мусульманин, я же держусь веры христианской; видеть лицо мусульманское [для меня] несчастие". Да проклянет его Аллах многократно! Когда такая неподобающая весть дошла до того мусульманского царя Берка-хана, то он вошел один в шатер, обмотал шею свою веревкой, прикрепил цепь к шатру и, стоя, с величайшею покорностью и полнейшим смирением плакал и вздыхал, говоря: "Господи, если вера Мухаммадова и закон мусульманский истины, то докажи мою правоту относительно Сартака". Три ночи и три дня он, таким образом, рыдал и стонал, совершая обычные обряды, пока [наконец] на четвертый день проклятый Сартак прибыл в это место и умер. Всевышний наслал на него болезнь желудка, и он (Сартак) отправился в преисподнюю. Некоторые рассказывали так: заметив на челе Сартака признаки возмущения, Менгу-хан тайком подослал доверенных людей, которые отравили проклятого Сартака, и он сошел в ад. Берка-хан женился на жене Бату; из рода Туши-хана было всего 15 сыновей и внуков, [но] все они отошли в геенну, и [потом] все царство поступило в распоряжение Берка-хана. По благодати мусульманства перешли во власть его земли кипчакские, саксинские, булгарские, саклабские и русские, до северо-восточных пределов Рума, Дженда и Хорезма.
В 658/18 декабря 1259 — 5 декабря 1260 г., в котором окончены были эти "Разряды", некоторые лица, прибывшие из стран хорасанских, сообщили, что Менгу отправился в ад, что во всех городах Востока и Запада, равно как в землях Ирана ('Аджам), в Мавераннахре и Хорасане, в хутбе произносили имя Берка-хана и что султану этому дали прозвище Джамал ад-дин Ибрахим, а Аллаху лучше известна суть дела» (Сборник материалов. Т. I. С. 47–48).
Вернемся к конфликту между Берке и Сартаком, каким он виделся мусульманским мистикам. Рассказ саййида Ашраф-ад-дина не подлежит исторической критике или комментированию, поскольку в нем заведомо игнорируется историческая реальность. Реальность заменена некой воображаемой картиной, в центре которой эпизод с попыткой суицида и трехдневным плачем Берке. Рассказ саййида характеризует ожидания наблюдателей, придающих конфликту Чингизидов мифологическую глубину иной культуры. В воображении мусульманских духовных лидеров мир рисовался ареной войны между принявшими ислам и неверными, в этом дискурсе вообще нет места монголам с их соперничеством за власть. Перед нами не монгольские князья, а два религиозных фанатика.
В. В. Бартольд комментирует сообщение Джузджани: «Если эти два князя действительно так враждебно относились друг к другу, то эта вражда, пожалуй, вряд ли может быть объяснена религиозными соображениями. Рубрук опровергает то, что Сартак принял крещение, однако об этом категорически свидетельствуют сообщения не только сирийских и армянских, но и мусульманских источников (сюда относятся также сообщения обоих независимых один от другого современников — Джузджани и Джувейни). Во всяком случае, Сартак, имевший, по словам Рубрука, шесть жен и освободивший от налогов, по Киракосу, как мусульманское духовенство, так и христианское, очевидно, так же не был фанатичным христианином, как и Беркай, столица которого, Сарай, в 1261 г. стала местопребыванием христианского епископа, — фанатичным мусульманином»[110].
Христианские наблюдатели пишут о благочестии Сартака, хотя на деле, последний следовал имперской политике толерантности. Налицо подмена понятий. «Вступив в возраст, он уверовал в Христа и был крещен сирийцами, которые вырастили его. Он во многом облегчил положение церкви и христиан и с согласия отца своего издал приказ об освобождении [от податей] священников и церкви, разослал его во все концы, угрожая смертью тем, кто взыщет подати с церкви или духовенства, к какому бы племени они ни принадлежали, даже с мусульманских мечетей и их служителей. С этого времени, осмелев, стали являться к нему вардапеты, епископы и иереи. Он любезно принимал всех и исполнял все их просьбы. Сам он жил в постоянном страхе божьем и благочестии — возил с собой в шатре алтарь, всегда исполняя священные обряды» (Киракос Гандзакеци. 56).
Для церковного историка Киракоса Гандзакеци борьба за власть между Берке и Сартаком выглядит как религиозный конфликт: «Сартак прибыл в свои владения во всем величии славы. Его родственники — мусульмане Барака{34} и Баркача{35} напоили его смертоносным зельем и лишили его жизни{36}. Это было большим горем для всех христиан, а также самого Мангу-хана и брата его Хулагу, правившего всеми областями на Востоке» (Киракос Гандзакеци. 59).
Как в реальности выглядела политика покровительства разным религиозным группам, увидим на примере денежных раздач, которые проводила Соркуктани-беги, жена Тулуя, и мать хана Менгу. «Несмотря на то, что она была последовательницей христианской религии, она весьма стиралась способствовать преуспеванию [божественного] Мухаммедова закона и в изобилии жаловала милостыни и осыпала дарами имамов и шейхов ислама. Это подтверждается тем, что она дала тысячу серебряных балышей на постройку медресе в Бухаре и [приказала], чтобы шейх-ул-ислам Сейф-ад-дин Бахарзи, да будет над ним милосердие Аллаха, был управителем и попечителем этого богоугодного дела. Она приказала купить деревни и отказала их в вакф [на это медресе] и поместила [туда] мударрисов и туллябов. Она постоянно посылала в области и окрестности милостыню и расходовала имущество на пропитание нищих и бедных из мусульман и по этому пути шла, пока не скончалась в месяце зу-ль-хидже лета 649 г.х. (14 февраля — 13 марта 1252 г.)» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 128–129).
Глава 3.
Берке, Хулагу и Байбарс: реальная политика и фантомы
В 1307 г. армянский принц Гайтон продиктовал свое сочинение на французском языке писцу Николаю Фалько. Гайтон, переживавший за судьбу Киликийской Армении, приписывает мамлюкскому султану Байбарсу (1260–1277) авторство геополитической игры: «Еще султан Египта свершил иное коварное дело, ибо он отправил своих посланцев к татарам, бывшим в области Кумании и Руссии, и заключил мир и любовь с ними, и распорядился, что если Абага вступит в землю Египта, то им [татарам] надлежит вторгнуться в его земли [т. е. Персии] и воевать против него [Абаги]» (Hayton. III. 27).
Монголы не вели религиозных войн и никогда не объявляли войну исламу. Это обстоятельство обычно игнорируется и исследователи излагают мусульманский миф под видом геополитической картины. В частности, Д. А. Коробейников пишет: «Антиисламская направленность политики государства Хулагуидов обретала устойчивость в силу нескольких факторов. Во-первых, оба его главных противника — Золотая Орда и Египет — выступали против Ильханов под предлогом зашиты ислама. Поэтому естественными союзниками монголов Ирана в борьбе с Египтом были западно-европейские государства. Во-вторых, часть монголов исповедовала несторианство»[111]. Отношения между джучидами, ильханами и мамлюками Египта можно рассматривать в нескольких контекстах: военном, дипломатическом, религиозном. Есть ли у нас основания религиозный фактор принимать за основной? Отличаем ли мы тех, кто вел войну, от тех, кто занимался дипломатическим оформлением войны? На мой взгляд, Золотая Орда выступала против ильханов под предлогом защиты ислама только в воображении египетских дипломатов. Рассмотрим этот вопрос детально.
В августе 1262 г. передовые отряды войска Берке под командованием Ногая вторглись в Ширван и столкнулись с авангардом войск Хулагу.
Причины войны между Чингизидами широко исследованы[112], и хотя здравая версия армянских писателей не рассматривается как главная, а много внимания уделено благочестию Берке, обзор литературы вопроса не входит в нашу задачу. В монгольских и египетских источниках указаны разные причины конфликта. Расхождения, на мой взгляд, носят не исторический, а идеологический характер.
Египетские историки ссылаются на письмо Берке мамлюкскому султану аз-Захиру Байбарсу. В письме Берке аттестует себя противником Ясы Чингис-хана и ратует за восстановление в мусульманских странах прежних порядков, тех, что были до вторжения монгольской армии в Иран. Если такое письмо и имело место, то при переложении с монгольского на арабский язык, его перевели в особом ключе: с политического языка на религиозный. Ибн 'Абд аз-Захир, включивший в свое сочинение текст письма Берке, конструирует особую реальность, что, однако очевидно не для всех[113]. Прочитав все описание целиком, а не выборочные цитаты, увидим, что ответ на загадку письма Берке лежит на поверхности.
«О прибытии послов царя Берке… Когда султан, возвращаясь из ал-Карака, находился близ Газзы, то к нему прибыл гонец от эмира 'Изз-ад-дина ал-Хилли, наместника султанского в Египетских областях, с извещением, что из Александрии получены письма о прибытии послов царя Берке, а именно: эмира Джалал-ад-дина, сына ал-Кади, да шейха Нур-ад-дина 'Али — и вместе с ними свиты. Сообщалось [также] о прибытии послов царя Ласкариса и приезде начальника Генуэзского да послов султана 'Изз-ад-дина, властителя Румского. Султан написал, чтобы всем им был оказан почет, а по прибытии в крепость свою собрал их вокруг себя, в присутствии эмиров и народа прочитал им письмо, которое было при эмире Джалал-ад-дине, и письмо, находившееся в руках шейха Нур-ад-дина. Содержали они оба привет и благодарение, требование помощи против Хулавуна, извещение о том, как он (Берке) действует против йасы Чингисхановой и закона народа своего{37}, о том, что все совершаемое им (Берке) душегубство вызвано только враждой к нему, что "я и четыре брата мои принялись воевать против него со всех сторон, чтобы восстановить опять маяк правоверия и возвратить обителям правды [мусульманским странам] прежнее состояние, т. е. благополучие, прославление Аллаха, призыв к молитве, чтение Корана и молитву, и чтобы отомстить за имамов и народ". [Далее] он домогался отправки отряда войск к Евфрату, чтобы загородить путь Хулавуну, ходатайствовать за султана 'Изз-ад-дина, властителя Румского, и просил о содействии ему» (Сборник материалов. Т. I. С. 71–72).
Поскольку письмо Берке было публично зачитано в присутствии послов Михаила Палеолога, иконийского султана 'Изз-ад-дина Кей-Кавуса II и представителя Генуи, то, вероятнее всего, сообщение о мусульманском благочестии Берке им и предназначалось. Сообщение ложной информации — один из приемов дипломатической войны. Сходным образом поступил монгольский хан Мунке, заявивший неким непокорным правителям в присутствии послов французского короля Людовика IX, что последние прибыли с данью и выразили готовность воевать с его врагами. В одном из писем Байбарса, адресованных Берке, демонстрируется значимость султана в политическом ландшафте Средиземноморья: «…он написал письмо, в котором было много по части расположения и возбуждения к священной войне, описание войск мусульманских, многочисленности и разноплеменности их [с указанием], сколько в них конницы, туркмен, курдских родов и арабских племен, какие владыки мусульманские и франкские повинуются им, кто противодействует им и кто с ними в ладу, кто посылает им дары и кто с ними в перемирии, да как все они в повиновении у него (султана) и послушны указаниям его» (Сборник материалов. Т. I. С. 70).
В позднем сочинении ал-Муфадалла приводится иное изложение письма Берке. «Содержание послания было [следующее]: "Знай, что я друг правоверия, а что этот супостат, т. е. Хулавун, неверный; он уже злодейски избил мусульман и овладел их землями. Я рассудил, чтобы ты двинулся на него с твоей стороны, а я пойду на него со своей. Мы нападем на него сразу и выгоним его из края. Я отдаю тебе [все] мусульманские земли, находящиеся в руках его"» (Сборник материалов. J, I. С. 148).
Причины и событийный ряд войны между Берке и Хулагу не остались без внимания современников (см.: Григор Акнерци, с. 30–33; Марко Поло, с. 228–232; Рашид-ад-дин. Т. III. С. 58–60). В частности, армянский историк Киракос Гандзакеци (1200–1271) так понимал суть разногласий, приведших к войне: «Великий Хулагу беспощадно и безжалостно истребил всех находившихся при нем и равных ему по происхождению знатных и славных правителей из рода Батыя и Беркая: Гула{38}, Балахая{39}, Тутхара{40}, Мегана, сына Гула, Гатахана и многих других вместе с их войском — были уничтожены мечом и стар и млад, так как они находились при нем и вмешивались в дела государства. И лишь некоторые из них, и то с большим трудом, спаслись, одни, без жен, детей и имущества, убежали к Беркаю и другим своим родичам. Узнав об этом, Беркай собрал бесчисленное и несметное войско, чтобы прийти отомстить Хулагу за кровь сородичей своих. А великий Хулагу тоже собрал огромное войско и разделил его на три части: одну [рать] поручил своему сыну Абага-хану, к нему же направил и правителя Аргуна и послал их в Хорасан на помощь Алгу с этой стороны; другую рать он собрал у Аланских ворот и, взяв с собой остальное войско, двинулся и вступил [на территорию] далеко за Дербентскими воротами, ибо туда есть лишь два пути: через аланов и через Дербент. И, разорив части улуса Джучи, дошел до великой и бездонной реки Теркн Этиль, куда впадает множество рек и которая течет, разлившись подобно морю, и впадает в Каспийское море. Против него вышел Беркай с мощной ратью. И у великой реки имело место побоище. Много было павших с обеих сторон, но особенно много было их со стороны Хулагу, ибо они мерзли от сильного снега и мороза, и множество людей утонуло в реке. Тогда Хулагу повернул обратно, пошел и вышел далеко за пределы Дербентских ворот. <…> И так воевали они друг с другом в течение пяти лет, начав в 710 (1261) году и до 715 (1266) года армянского летосчисления, собирая ежегодно войско и сталкиваясь друг с другом в зимнюю пору, ибо летом они [воевать] не могли из-за жары и разлива рек» (Киракос Гандзакеци. 65).
Причиной войны между правящими домами Киракос Гандзакеци называет борьбу за власть, но никак не религиозные разногласия. Рашид-ад-дину известна во всех подробностях история казни царевичей-джучидов, не подчинившихся указу хана Мунке, но он вкладывает в уста Берке претензии к Хулагу, которые охотно цитируют сторонники гипотезы о мусульманском благочестии правителя Золотой Орды: «Он разрушил все города мусульман, свергнул все дома мусульманских царей, не различал друзей и врагов и без совета с родичами уничтожил халифа. Ежели господь извечный поможет, я взыщу с него за кровь невинных» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 59). Однако сюжет неладно скроен, ибо тут же говорится: «И послал он в передовой рати Нокая, который был его полководцем и родственником Тутара, с тридцатью тысячами всадников отомстить за его кровь» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 59). Отмщение за кровь царевича Тутара не имеет ни малейшего отношения к уничтожению багдадского халифа.
По оценке В. В. Бартольда, «как и раньше, в рассказе о вражде между Беркаем и Сартаком, так и теперь Беркай в некоторых источниках изображается защитником ислама; сообщают, будто он резко упрекал Хулагу за опустошение столь многих мусульманских стран и в особенности за казнь халифа Муста'сима. Более правдоподобны, вероятно, те известия, согласно которым царевичи из дома Джучи считали, что их права были ущемлены из-за создания нового монгольского государства в Персии; с новым государством были объединены также такие области, как Арран и Азербайджан, где еще при Чингиз-хане прошли "копыта монгольских коней" и которые, следовательно, по установлениям завоевателя, должны были принадлежать к уделу Джучи»[114].
На поверку письмо Берке султану Байбарсу оказалось пропагандистским вымыслом. Все три персонажа — Берке, Хулагу и Байбарс — заняты укреплением своей власти, т. е. внешней войной. Параллельно шла дипломатическая война, и потому нет причин принимать фантомы за реальные факты.
Глава 4.
Небесные битвы
В XVI в. хорезмийский сказитель Утемиш-хаджи поведал историю, в которой, на взгляд непосвященных, Берке в одиночку вышел сражаться с войском своего двоюродного брата, ильхана Хулагу. У Берке было маленькое войско, а у Хулагу огромное. Но Берке имел преимущество — он был истинным мусульманином. Его мнимая беззащитность означает присутствие невероятной силы: невидимого небесного воинства, ниспосланного Аллахом. Загадочным для нас образом, сторонники Берке не видят войска Аллаха, противники же, напротив, в страхе бегут с поля боя. Сюжет следует рассматривать как «божественное» послание сомневающимся бекам из войска Берке, поэтому небесное воинство остается незримым для них. Они видят лишь чудесный результат, однако продолжают недоумевать, каким образом Берке в одиночку удалось внушить ужас врагам. Тут же появляется эпизод с расспросом плененных врагов. Агиографический сюжет перекодируется в фольклорный. В результате, враги Берке видят небесных помощников как реальное войско. Сходный сюжет имелся в мифологии крестоносцев: в разгар сражения они видят одинокого всадника в белых одеждах, громящего вражью силу. Это явление Георгия Победоносца.
Так выглядит событие в мусульманской фольклорной литературе. Это пример конструирования идеального прошлого в интересах группы дальних потомков Джучи-хана, а именно Иш-султана, пожелавшего выяснить, кто и после кого становился ханом. Призыв к извлечению из этого источника ценной информации звучит удручающе бессмысленно. Перед нами другая реальность, а вовсе не исторический текст, в котором смешаны «полезные» и «бесполезные» вещи. У мифологической и рациональной картины мира разные задачи, их насильственный брак породит лишь монстров.
Утемиш-хаджи. Чингис-наме
Начало повествования о Берке-хане
«Упомянутый [Берке-хан] — да будет над ним милость [Аллаха] — знаменит [тем, что] с рождения матерью был мусульманином. Когда он появился на свет, он не сосал молока [ни] своей матери, [ни] молока других женщин-немусульманок. По этой причине показал [его Йочи] своим колдунам и ведунам. Когда те сказали: "Он — мусульманин. Мусульмане не сосут молока женщин-немусульманок", — то разыскали и доставили женщину-мусульманку. Ее молоко он начал сосать{41}.
Когда через несколько лет после этого события его отец Иочи-хан умер, он пришел в город Сыгнак, не будучи в состоянии находиться среди неверных. Когда [же] он пришел в этот вилайет, то, прослышав о достохвальных качествах Шайх ал-'алам Шайх Сайф ад-Дина Бахарзи, который был [одним] из халифа хазрата полюса полюсов Шайх Наджм ад-Дина Кубра, со страстным желанием и любовью прибыл к нему на служение и в течение нескольких лет ревностно стремился овладеть крайней степенью [духовного] совершенства святых. Он все еще находился на служении у шейха в то время, когда умер Саин-хан [и] беки его в согласии послали гонца к Хулагу-хану.
Однажды хазрат шейх сказал Берке-хану: "О, сын [мой]! Такое последовало повеление от Господа Всевышнего: "Отправляйся и правь в юрте отцов [своих]!" [Тот сказал]: "Обрету на службе у вас. Еще отправлюсь и обреку себя на правление этим [тленным] миром и его тяготы". Когда [же] шейх сказал: "Нет спасения от суда Господа Всевышнего, коль попадешь ты в передрягу, коль примешь муки ее", — то упомянутый хан также оказался в безвыгодном положении и согласился. Несколько дней он готовился [и затем] отправился. Хазрат шейх проводил [его] из Бухары до Кара-Куля. Хан пешком шел при поводе [коня] шейха. Из Кара-Куля шейх, благословив [Берке-хана], вернулся, [а] хан отправился в вилайет Дашта.
В вилайете Хаджи-Тархана был знаменитый своим богатством человек по имени Хаджи Нийаз. Он рассказывал: "Из Кара-Куля хазрат хан вышел [вместе с] восьмью человеками и двинулся в вилайет Дашта. Каждый из тех восьми человек — предок тысячи юрт. Когда хан, да будет над ним милость [Аллаха], выйдя из Кара-Куля, прибыл в Урганч, он йз Урганча пошел в Сарайчук. Рассказывают пока он шел в Сарайчук, [вокруг него] собрались пятьсот человек. Пока [же они], пройдя через Сарайчук, дошли до берега реки 'Идил, то собрались [уже] тысяча пятьсот человек. Когда они пришли на берег реки 'Идил, то получили известие, что Хулагу-хан с огромным войском идет [сюда] по побережью Кулзумского моря{42}. Это собравшееся [вокруг Берке-хана] войско его перетрусило и все вместе они сказали [хану]: "Хулагу-хан — великий государь. Есть у него войско. Нас [же] мало. Не следует нам идти на него и сражаться". Говорят, что тогда у хана был щит без чехла. Некоторые говорили, [что у хана] был шлем без чехла. Был [у него] также овечий альчик{43}. В ответ им хан сказал: "Не по своей воле, не по своему желанию пошел я в поход. Вы не верите в меня. Если сейчас вот мы своей рукой поставим этот альчик на тырбу на шишак щита или шлема, то он не устоит.
[А] теперь давайте с вами условимся. Я метну этот альчик на шишак этого щита или шлема. Если станет он на тырбу у них на шишаке, то знайте, я одолею этого врага. Господь Всевышний [победу] отдаст мне. Если [же альчик] не станет на тырбу, то не ослушаюсь я, что бы вы ни сказали". Эти люди в свою очередь сказали: "Если [альчик] станет на тырбу, то и мы, пока теплится в нас жизнь, будем с вами заодно". Когда хан — да пребудет над ним милость [Аллаха] — взял альчик в свои руки и бросил, памятуя об Аллахе Всевышнем, [то альчик] точно стал на тырбу на шишаке. Когда те увидели это, то изгнали из своих сердец сомнение, все стали послушными покорны, переправились через реку 'Идил и по берегу Кулзумского моря двинулись навстречу войску Хулагу-хана.
На том пути из Кулзумского моря многочисленными рукавами выходят заливы. Путь проходит, пересекая головы этих рукавов. Там есть высокие песчаные бугры. Я, бедняк, видел те места. [Их] называют Кыр-Мачак. За теми местами рукава из моря [уже] не выходят. Есть там один громадный бугор. Караулы Берке-хана поднялись на тот бугор. Со стороны Ширвана появилось огромное облако пыли. Сообщили хану, что появилось облако пыли, [поднятое войском] врага, и нет [ему] ни конца, ни края. Те беки опять начали трусить. [Тогда] хан сказал: "Я поднимусь на этот бугор, [а] вы стойте и смотрите отсюда и увидите могущество Господа Всевышнего. Если враг придет и будет меня одолевать, то вы отсюда же и бегите". И они согласились и стояли.
Хан поднялся на вершину холма. Немного спустя с той стороны появилось [вражеское] войско. Волна за волной, полк за полком подходило оно. Как только подходили они, так тут же начинали принимать напротив него боевой порядок. Выстроили несколько боевых линий. [Когда] подтянулись последние полки, то разглядеть края их войска стало невозможно. Тогда хазрат хан трижды хлестнул нагайкой и погнал коня в карьер на врага. Не успел он еще с бугра ворваться [в расположение врага, как] могуществом Господа Всевышнего [боевые порядки] войска его перемешались и [враг] обратился в бегство. Увидев это, войско [Берке-] хана ринулось следом за ханом. Преследовали несколько дней, убили тех, кому суждено было быть убитым, кому нет — тех полонили, и вернулись. Завладели всеми конями их, всем их снаряжением.
У тех, угодивших в плен, спрашивали: "Почему [же] бросились вы бежать от одного [лишь] человека на том бугре?". Они отвечали:
"По обеим сторонам от того человека, что находился на бугре, стояли два громадных войска. Сколько ни всматривались [мы, так и] не смогли разглядеть ни конца тех двух войск, ни края. Потому-то мы и построились вдали. Когда тот человек на холме помчался на нас, ринулись [на нас] и те два громадных войска. Почудилось нам, будто рухнули на нас земля и небо. Потому-то вот не устояли мы и бросились бежать". Это чудо хазрат хана известно среди народа.
Некоторые говорят, что в этом войске был [сам] Хулагу-хан. Когда войско это было разгромлено, он был убит. Никто [однако] не знал о его гибели. Но в хрониках хазрат Дост-султана говорится: "С тоски по этому войску, что было разгромлено в походе, он заболел и через два месяца умер". А впрочем, Аллах лучше ведает.
Когда вилайет Дашта подчинился Берхе-хану, то большую часть неверных он обратил в ислам» (Утемиш-хаджи, с. 96–99).
К агиографическому сюжету Утемиш-хаджи о Берке имеется комментарий М. X. Абусеитовой, выполненный в стиле «научной агиографии». А начинается комментарий с немыслимой ошибки: Берке назван сыном Бату (Саин) — хана. «Берке принял ислам. С принятием ислама в Золотой Орде получила распространение в Дашт-и Кыпча-ке сравнительно высокая арабская культура. При переходе к новой религии монгольская аристократия прежде всего интересовалась политическими выгодами, поскольку новая религия способствовала усилению господствующих классов, и, в первую очередь, власти самого хана. Особенно агрессивной была политика Берке по отношению к Хулагу, которая завершилась войной. Война между ханами Золотой Орды и Хулагуидами привела к сближению хана Берке с Мамлюкскими султанами в Египте»[115].
Этот комментарий шаг назад по сравнению с тем, что писали исследователи прошлого века, в частности, В. В. Бартольд: «Трудно установить, насколько Беркай как мусульманин способствовал распространению культуры ислама среди своих монголов. Египетские известия говорят о школах, в которых молодежь изучала Коран; не только сам хан, но и каждая из его жен и каждый из его эмиров будто бы имел при себе имама и муэззина; но из тех же рассказов мы узнаем, что при дворе хана все языческие обычаи соблюдались так же строго, как и в Монголии»[116].
Со своей стороны задам вопрос: на каких основаниях агиографический сюжет рассматривается как исторический? Я не понимаю, о какой политической выгоде для монгольской аристократии толкует М. X. Абусеитова. Ни один из четырех великих ханов Монгольской империи — Угедей, Гуюк, Мунке, Хубилай — не считал, что ислам способен укрепить его власть. Наоборот, они даровали равные возможности представителям всех религий. Аллаху принадлежала только часть территорий, над которыми царствовал Тенгри. Когда Монгольская империя стала дробиться, тогда вновь наступило время Аллаха.
Рассказ, записанный Утемиш-хаджи, не единственный случай отмены реальности.
С позиции суннитов, благочестивого большинства в мусульманском мире, нусайриты были богохульниками и нечестивцами. Обитали они в горных районах к западу от Алеппо в Сирии. Согласно сухой исторической справке, нусайриты — крайняя шиитская секта, названная по имени предполагаемого основателя ее Ибн Нусайра, отделившегося от имамитов во второй половине IX в. Учение нусайритов представляет смешение элементов шиизма, христианства и народных мусульманских верований.
Сами свое учение они оценивали иначе, но это мало кого интересовало. Грех нусайритов заключался в том, что они приписывали Али божественную сущность. К тому же молва обвиняла их в том, что они не молятся, не совершают омовений и не соблюдают поста. Такое пренебрежение к групповым установкам общепризнанного благочестия было чревато серьезными последствиями. Претензии на исключительность всегда вызывают ответную волну ненависти. В 1317 г. нусайриты подняли восстание, которое можно рассматривать как магическую революцию, как попытку преодолеть гравитационные силы истории. Событие по горячим следам описывает чужестранец Ибн Баттута. Он сам и маршрут его странствий вполне благонамеренны. Великая тайна появления грядущего имама (махди) не задела бесхитростного паломника. Никто из наблюдателей не озаботился составлением гороскопа лидера восстания, никто не всматривался в небесные знаки. Ландшафт события удручающе скушен. В восприятии собеседника Ибн Баттуты участники драмы выглядят плоскими картонными фигурами. Следуя воле своего бога, они производят впечатление жалких слепцов. В свою очередь, нусайриты, прозревая внутренним взором царствие небесное, полагали слепыми суннитов. В этой взаимной слепоте заключено неразрешимое противоречие. Характеризуя нусайритов, сунниты говорят только о внешнем. Вслед за суннитами идут нынешние исследователи, не задаваясь вопросом о мотивации нусайритов, которые, как каждому очевидно, были обыкновенными безумцами. В их перевернутом, утопическом мире приказы имама удостоверялись листьями оливы, а палки миртового дерева в нужный момент должны превратиться в мечи. Противостоящие стороны воспринимают друг друга в искаженной перспективе. Выходки нусайритов — грабеж чужого имущества и насилие над женщинами — воспринимаются их врагами как преступление, на самом же деле — это антиповедение. В структуре сирийского общества нусайриты занимали низовую нишу, это малообразованные крестьяне, для которых стихийный бунт — единственный способ что-либо изменить в своем существовании. Простотой и наивностью их внутреннего мира не объяснить массовое нарушение общепринятых запретов. Ответственность за эксцессы взял на себя махди, мифический герой, но и он лишь персонаж желанного праздника обновления. Вся суть в особой атмосфере, где поступки и чаяния людей определяются сценарием, не подвластным человеческой воле.
Кто есть герой в мифических ситуациях? — спрашивает Роже Кайуа, — и отвечает, герой есть тот, кто находит разрешение этих ситуаций. «Дело в том, что индивид страдает прежде всего от невозможности вырваться из раздирающего его конфликта. Любое, пусть даже насильственное и опасное решение кажется ему желанным; однако социальный запрет делает для него это решение невозможным психологически еще более, чем материально. Поэтому он ставит на свое место героя — то есть герой по природе своей есть нарушитель запретов, Будь он просто человеком, он был бы преступником, и в мифе он тоже таков — он осквернен своим поступком, ему необходимо очищение, но и оно никогда не бывает полным. Однако в специфическом свете мифа — в свете величия — он предстает безусловно оправданным. Итак, герой есть тот, кто разрешает конфликт, которым мучается индивид; отсюда его высшее право не столько на преступление, сколько на вину, и функция такой идеальной вины в том, чтобы тешить индивида, который желает ее, но не в силах реально взять на себя… Нарушать запрет необходимо, но это возможно лишь в мифической атмосфере, куда индивида и вводит обряд. В этом — сама суть праздника: это дозволенный эксцесс, посредством которого индивид драматизируется и тем самым становится героем, обряд реализует миф и позволяет переживать его»[117].
«Мне рассказывали, — сообщает Ибн Баттута, — что однажды появился среди них неизвестный, который объявил себя махди{44}. Они собрались вокруг него, и он пообещал отдать им во владение всю страну и разделил между ними Сирию, определив каждому по городу, повелел идти туда дабы вступить во владение. Дал каждому по листочку оливкового дерева, сказав при этом: "Покажите их там [для тех] — это приказ". И когда один из них, выполняя его волю, появился в выделенном ему городе, его привели к наместнику, которому он сказал: "Ал-Имам ал-Махди дал мне этот город". Наместник ответил ему: "А где приказ?". А тот возьми и предъяви оливковый листок, за что и был побит палками и отправлен в тюрьму. Позже тот самый неизвестный приказал им готовиться к войне против мусульман, начать он решил с города Джабла, а вместо мечей он велел вооружиться палками миртового дерева{45}, пообещав, что в бою они превратятся в их руках в мечи. Руководствуясь указаниями своего предводителя, они ворвались в город Джабла, а случилось это в пятницу, когда все жители были в мечети на пятничной молитве, и стали грабить и насиловать женщин. Разгневанные мусульмане выскочили из мечети, вооружившись, бросились на врага и без труда обратили их в бегство. Когда весть о случившемся достигла ал-Лазикийу, ее наместник Бахадур ибн Абдаллах выступил со своими войсками и стал преследовать нусайритов, затем к нему присоединился амир ал-умара из Триполи со своим отрядом, к которому были посланы почтовые голуби с известием о выходке нусайритов. Они преследовали бегущего врага до тех пор, пока не убили примерно двадцать тысяч сектантов. Оставшиеся укрепились в горах и начали переговоры с амиром ал-умара, предложив ему по динару за голову, если тот пощадит их. Меж тем, голубиная почта доставила ал-Малику ан-Насиру известие о случившемся. Ответ султана был таков: "Предать всех мечу". Амир ал-умара обратился к ал-Малику ан-Насиру с просьбой пересмотреть свое решение, обосновывая это тем, что нусайриты основная рабочая сила мусульман в деле обработки земли, и если их всех предать смерти, это бы значительно повредило мусульманам. Султан отменил свой приказ и сохранил им жизнь» (Ибн Баттута, с. 112–113).
Собеседник Ибн Баттуты даже не догадывается, что над воинством махди с миртовыми ветками в руках парила армия ангелов с грозным оружием, что праведный имам распахнул перед ними врата царства блаженства, что бесчинства и насилие служили пропуском в заветный мир. Призрачные небесные армии увлекали верующих в землю, откуда не было возврата.
Глава 5.
Конфликт религиозных общин в Бухаре
Сведения о религиозных общинах каждого азиатского города, отмеченного в книге Марко Поло, выдают особый взгляд, приемлющий многообразие духовных практик. В Монгольской империи принцип веротерпимости был возведен в закон. Для Марко Поло это обстоятельство имело большое значение, за семнадцать лет службы хану никто его не принуждал сменить веру. Видимо, по возвращении в Венецию, его не раз спрашивали об этом, и он отвечал: «Эти татары не заботятся о том, какому Богу поклоняются на их землях. Если ты верен хану, проявляешь ему покорность и таким образом выполняешь свой долг, предусмотренный законом, и справедливость при этом не страдает, ты можешь свободно распоряжаться своей душой. Тем не менее, они не хотят, чтобы дурно отзывались об их духах или чтобы вмешивались в их дела. Поступай, как хочешь, со своим Богом и со своей душой, будь ты иудей или язычник, сарацин или христианин, какие и живут среди татар»[118].
Ситуация была чревата потенциальным конфликтом между несторианами, мусульманами и буддистами.
По сведениям Марко Поло, в Самарканде жили две общины: христианская и мусульманская, и между ними вышел спор из-за постройки церкви. Церковь возвели при Чагатае, в чьи владения входил Самарканд. Несториане Самарканда полагали, что Чагатай был христианином, однако это противоречит известным фактам. Миф о Чагатае, покровителе христиан, был, скорее всего, реакцией несториан на монгольскую политику толерантности. В 1281 г. в Багдаде был рукоположен католикос мар Ябалаха, на церемонии присутствовал митрополит Самарканда — мар Иакоб (История мар Ябалахи, с. 75). В Каталанском атласе 1375 г. над Самаркандом изображен флаг ильханов.
В кратких сведениях Эбсторфской карты о большом азиатском городе Samarcha, который находится под совместным управлением двух царей, язычника и христианина, как мне кажется, сжат сюжет о конфликте, зафиксированный в двух независимых источниках: персидском и китайском. Мы их подробно рассмотрим. В этих материалах представлены точки зрения конфликтующих сторон: мусульманской и несторианской общин Самарканда.
В версии, записанной ал-Джузджани, как и в версии Марко Поло, в споре двух общин участвуют два «царя». Ожидать большего совпадения элементов в описании религиозной драмы просто невозможно. Апокрифическая версия ал-Джузджани восходит к сведениям сейида Ашрафа-ад-дина, одного из лидеров мусульманской общины Самарканда; апокрифическая версия Марко Поло восходит к рассказу Мар-Саркиса, лидера несторианской общины Самарканда. Каждое из этих свидетельств отвечает интересам отдельной группы, что означает их несопоставимость, но для понимания глубины конфликта религиозного спора, сравнить их необходимо. Версию ал-Джузджани, согласно которой в спор на стороне мусульманской общины вмешался Берке, обычно рассматривают с доверием, тогда как это всего лишь религиозный миф. Несторианский рассказ выпал из поля внимания исследователей. При таком подходе к источникам эпизод, где Берке выступает защитником ислама, обретает статус достоверного свидетельства. Наша задача собрать все маски, ибо за ними скрыты лица рассказчиков, но нет подлинности.
Сведения Эбсторфской карты о городе, которым управляют два царя, отражают реальность монгольского времени. Толерантность власти воспринимается церковным сознанием как раздвоение власти. В несторианской и мусульманской версиях третейской силой в конфессиональном споре выступают монгольские правители, которые на деле участвуют в междоусобной войне.
Марко Поло
Глава LII. Здесь описывается большой город Санмаркан [Самарканд]
Санмаркан город большой, знатный; живут там христиане и сарацины, подданные племянника великого хана; а племянник во вражде с дядею и много раз воевал с ним. Город на северо-запад.
Вот какое чудо случилось там. Нужно знать, что еще не так давно кровный брат великого хана Жагатай [Чагатай] обратился в христианство и владел и этою страною, и многими другими. Христиане в Самарканде тому, что царь их стал христианином, очень радовались и выстроили большую церковь во имя Иоанна Крестителя, так ее и назвали. Взяли они у сарацин их прекрасный камень, да и положили его под столб, что подпирал крышу посреди церкви.
Случилось, что Жагатай помер, и узнали о том сарацины; уже прежде они злились, что их камень у христиан в церкви, и сговорились они силою отнять его; а было их вдесятеро больше против христиан и нетрудно им было то сделать. Пришли самые знатные из сарацин в церковь Св. Иоанна и говорят христианам, что возьмут свой камень; а те отвечают, что за камень дадут все, что сарацины пожелают, и просили оставить камень; если камень вынуть, так и церковь разрушится. Сарацины на это сказали, что ни злата, ни богатства не хотят, а свой камень.
И случилось вот что: царем стал племянник великого хана; упросили его сарацины приказать христианам, чтобы те через два дня вернули камень сарацинам. Получили тот приказ христиане, разгневались и не знали, что делать. И было тут вот какое чудо: настал тот день, когда камень нужно было вернуть, и столб на нем, по воле Господа нашего Иисуса Христа, сам собою поднялся с камня на три ладони, да и держался так, как будто камень был под ним. С тех пор и до наших дней столб все в том же положении. Это почитали и почитают за самое великое в свете чудо (Марко Поло, с. 77–78).
Легенда о чудесной храмовой опоре зафиксирована и в китайской книге «Описание Чжэнь-цзяна периода Чжи-шунь» (т. е. 1330–1333 гг.). В главе, посвященной монастырям и храмам города, рассказывается о монастыре Дасингосы, построенном в 1281 г. Мар-Саркисом. В посвятительной надписи, выполненной учителем конфуцианского училища Лян Сяном, имевшем смутные представления о христианстве и писавшем со слов несториан, много путаницы. Документ исследован архимандритом Палладием.
В тексте говорится о Мар-Саркисе, несторианине; его упоминает Марко Поло при описании города Чжэнь-цзяна: «Есть тут две христианские церкви несториан. В 1278 г. по Р. X. случилось вот что: не было тут ни христианских монастырей, ни верующих в христианского Бога до 1278 г.; начальствовал тут три года по приказу великого хана Мар-Саркис, был он несторианцем и приказал выстроить две церкви; с тех пор они существуют, а прежде не было тут ни церквей, ни христиан» (Марко Поло, с. 158).
Очевидно, что легенду о самаркандском чуде Марко Поло узнал от несториан, переселившихся из Самарканда в Южный Китай. Услышав легенду из уст столь авторитетного человека, который к тому же был назначен Хубилаем губернатором города, Марко Поло пересказывает ее. Он один из череды рассказчиков. Полагать вслед за Н. В. Котрелевым, что Марко не чуждается чудес, а глава о камне по символической насыщенности исключительна[119], оснований нет. Для несториан эта легенда, несомненно, была значима, но делать вывод о том, что за некатолической церковью признается благодатная сила, ибо несториане торжествуют чудом, излишне. В несторианском предании эпизод о свободно парящей опоре связан с неким древним христианским храмом вне пределов Самарканда. Но родом из Самарканда была семья Мар-Саркиса, собеседника Марко Поло.
«Се-ми-сы-хь (Самарканд) отстоит от Китая на северо-запад более чем на 100 000 ли. Это страна, где господствует вера Е-ли-кэ-унь{46}. Когда я расспрашивал об этой религии, мне рассказывали, что во вселенной существует 12 храмов креста; в одном из них, в главном святилище, стоят четыре столба, вышиною на 40 футов, из цельных огромных деревьев, один из столбов висит на фут слишком от помоста. Основатель веры, Мар Е-ли-я{47} оставил свои чудесные следы назад тому более 1500 лет; ныне Ма Се-ли-ги-сы (Мар Саргис) есть последователь его.
Вера состоит, главным образом, в поклонении на восток и отличается от индийской веры уничтожения (т. е. буддизма). Дело в том, что свет исходит от востока; четыре времени года начинаются от востока; все твари родились на востоке; восток принадлежит дереву; дерево господствует над рождением; посему, со времени рассеяния хаоса, мир существует непрерывно, солнце и луна движутся, люди и животные размножаются, — все по единому закону непрерывного рождения; отселе и называется вечно рождающим небом{48}.
Крест есть подобие человеческого тела, они (христиане) вешают его на своих жилищах, рисуют в храмах, носят на головах, вешают на груди и знаменуют им четыре страны света, верх и низ.
Се-ми-сы-хь (Самарканд) есть название места, Е-ли-кэ-унь название веры. Дед Се-ли-ги-сы именовался Кэ-ли-ги-сы, отец — Me-ли, а дед по матери Чэ-би; все они были медиками. Когда Чингис-хан только что овладел их страной, царевич Еке-наян{49} заболел. Дед Селигисы по матери дал шэлиба (шербет), а общество Ма-ли-ха-сия{50} принесло моления [о здравии] и царевич выздоровел. Он (Чэби) сделан был ханским шэлибачи и талаханем (тарханом, старейшиной) тамошних христиан. В 5-й год правления Чжи юань (1268 г.) император Хубилай вызвал Се-ли-ги-сы к себе [в Пекин], повелев ему ехать на почтовых; он представил государю шэлиба и получил богатые подарки. Шэлиба есть напиток, сваренный на воде из разных душистых плодов с медом; шэлибачи есть название должности. Се-ли-ги-сы, по наследству, был искусен в приготовлении этого снадобья и оно оказалось действительным [как лекарство]; ему пожалована была золотая дщица, с правом исключительно исполнения этого дела{51}. В 9-й год Чжи юань (1272 г.) он ездил вместе с сановником Сай дянь чи в (провинцию) Юньнань; в 12-й год (1275) в [провинцию] Фу-цзянь и Чжэ-цзянь равно для приготовления шэлиба. В 14-й год (1277) государь пожаловал ему тигровую дщицу, с высочайшим повелением, почетный титул 3-й степени и назначил его главноуправляющим областью Чжэнь-цзянь-фу, со званием вице-даругачи.
Хотя он восшел на степень знатности и чести, однако еще усерднее держался своей веры и постоянно имел помышление о распространении оной. В одну ночь он видел во сне, что врата семи кругов небесных отверзлись и два ангела [спустились и] сказали ему: "Ты должен воздвигнуть семь храмов", в знамение чего они дали ему белую вещь. По пробуждении, так и оказалось. Тогда он оставил службу и приложил старание к построению храмов. Прежде всего, он пожертвовал своим домом у [городских] ворот Те-ун-мынь, и построил тут храм [названный по-сирски] Па-ши-ху-му-ла, [а по-китайски] Да-син-го-сы. Потом, приобретши гору Шу-ту-шань, у переправы [через р. Цзянь], построил на ней Та-ши-ху-мула — Юнь-шань-сы и Ду-даур-ху-мула — Цзюй-мин-сы. <…> Эти семь храмов, воздвигнутые усердием Се-ли-ги-сы, выказали его преданность к государю и любовь к царству. Министр Вань цзэ, усмотрев, что Се-ли-ги-сы, с доброю целью (молиться о государе) построил семь храмов, доложил о том государю. Ему дарована была охранная грамота, с ханскою печатью, и пожаловано было из казенных полей в провинции Цзянь-нани 30 цинов земли, да прикуплено в Чжэ-си у крестьян 34 цина земли для содержания семи храмов»[120].
Как отмечает Палладий, два из семи несторианских храмов в 1311 г. были присвоены буддистами, имевшими большее влияние при дворе, а при династии Мин все храмы перешли в руки буддистов. Итак, в Самарканде была несторианская община, которая, по неизвестной причине, скорее всего, из-за конфликта с мусульманами, переселилась в Южный Китай. В коллективной памяти несториан сохранилась легенда о двенадцати храмах креста, в одном из которых несущая опора парит в воздухе.
Теперь изложим версию мусульман.
В 1259 г. почтенный саййид Ашраф-ад-дин прибыл по торговым делам из Самарканда в славную столицу Дели, где нашел радушный прием у единоверцев. Этот саййид изложил благородному собранию рассказ о том, как строго соблюдает мусульманскую веру Берке, правитель Улуса Джучи. Ситуация религиозной терпимости во владениях монголов мусульманским лидерам казалась невыносимой. Они претендовали на исключительность. Миф о благочестии Берке удовлетворял мечту о торжестве ислама. В рассказе Ашраф-ад-дина сквозит тайное желание тотального принуждения к религиозному однообразию, когда государство возьмет на себя функцию защиты истины. Торжество некой истины невозможно без физического устранения инакомыслящих.
По словам Ашраф-ад-дина, мусульмане разрушили церковь. В. В. Бартольд счел рассказ Ашраф-ад-дина, записанный Джузджани, более достоверным, чем рассказ Марко Поло[121].. Разумеется, предание о колонне, лишенной основания в церкви Иоанна Крестителя, выглядит фантастично. Но не менее фантастично, на мой взгляд, и утверждение Джузджани о вмешательстве Берке в религиозный конфликт на стороне мусульман и приказе об умерщвлении христиан. Следует учитывать жанр повествования, который Джузджани обозначил следующим образом: «Рассказ о мусульманском благочестии Берка».
«Говорят так: по словам этого знаменитого саййида один из самаркандских христиан перешел в ислам, и самаркандские мусульмане, твердо держащиеся мусульманской религии, прославляли его и оказывали ему много благодеяний. Вдруг в Самарканд прибыл один из заносчивых монголов и неверных чинов (китайцев), пользовавшийся силою и властью; этот проклятый питал расположение к христианской религии. Самаркандские христиане пришли к этому монголу и пожаловались [говоря]: "Мусульмане обращают наших детей из веры христианской и учения Христа — да будет над ним мир — в религию мусульманскую и приказывают следовать вере Избранника (Мухаммада). Если эта дверь будет открыта, то все последователи наши будут совращены из веры христианской. Силою и властью [своею] устрой наше дело!"
Означенный монгол приказал привести того юношу, который сделался мусульманином, и довести его лаской, обходительностью, подарками и милостями до отречения от религии мусульманской. Но сколько ни уговаривали этого искреннего новообращенного мусульманина отречься от веры мусульманской, он не отпал [от нее] и с сердца и тела своего не совлек покрова, украшенного мусульманской религией. Тогда этот монгол отдал [новое] приказание, перевернув лист нрава [своего], стал произносить слова угрозы и подверг этого юношу всем наказаниям, которые находились в распоряжении власти и силы его (монгола), но он (юноша), по крайнему усердию, ни под каким видом не покидал мусульманской религии, несмотря на удары злобы неверных, не выпускал из рук напитка веры. Так как юноша твердо стоял за веру истинную и не обращал внимания на посулы и обещания этого беспутного народа, то тот проклятый [монгол] отдал приказание казнить означенного юношу. Благодаря силе веры своей, он [спокойно] переселился из мира сего, — да будет им бог доволен и да сделает его довольным! Все мусульмане Самарканда были поражены этим. Составлен был акт (махзар) — так рассказывал Ашраф-ад-дин, — подтвержденный свидетельством людей, заслуживающих доверия, и старшин мусульманских, живших в Самарканде. С этим актом мы отправились в лагерь Берка-хана, доложили ему положение и численность самаркандских христиан и тут же представили акт. В характере этого правоверного царя проявилось усердие к вере Мухаммадовой, и нравом его овладело желание защищать истину. Через несколько дней он оказал почесть этому саййиду (Ашраф-ад-дину), отрядил в Самарканд множество тюрков и доверенных мусульманских старшин и отдал [им] приказание умертвить и отправить в геенну сборище христиан, учинившее то нечестивое беззаконие. Получив такой указ, выждали время, когда эти злосчастные люди собрались в [своей] церкви. Там их разом захватили и всех отправили в преисподнюю, а церковь эту обратили в кирпичи. Это возмездие произошло по благосклонности того царя [Берка] к вере Мухаммада и к исповеданию ханафитскому, — да воздаст ему Аллах за это по заслугам» (Сборник материалов. Т. II. С. 45–47).
По мнению В. В. Бартольда, «нет основания сомневаться в достоверности рассказа Джузджани, по которому вмешательство Беркая решило в пользу самаркандских мусульман борьбу между ними и их согражданами-христианами. Как известно, христианство проникло в Самарканд еще в домусульманский период и удержалось в эпоху Саманидов и Караханидов, хотя о каком-либо участии христиан в политической жизни страны мы за это время не имеем известий. Падение господства ислама и мусульманских династий должно было вызвать в христианах желание отомстить своим притеснителям. Обстоятельства были для них благоприятны; мы видели, что многие Чингизиды, притом не только воспитанные в духе христианства, но и ревнители Ясы, были враждебны исламу; среди правителей Мавераннахра были монголы и китайцы. К тому же мусульмане в это время были главными внешними врагами Монгольской империи»[122].
После смерти каана Менгу в 1260 г., во время смуты междуцарствия, чагатайский царевич Алгуй, действовавший по приказу Ариг-Буки, отправил своего двоюродного брата Никпей-огула с пятитысячным войском для занятия Мавераннахра и изгнания оттуда наместников Берке. «Когда они прибыли в те пределы, то убили всех нукеров Берке и зависимых от него людей, вплоть до потомка шейха-ал-ислама, Бурхан-ад-дина, сына знаменитого шейха Сейф-ад-дина Бухарзи, которого они также зверски умертвили» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 163). В этих сведениях Рашид-ад-дина В. В. Бартольд видит основания достоверности рассказа Джузджани[123]. На мой взгляд, для монголов более характерна агрессия, вызванная подозрением на вредоносную магию. По Вассафу, царевич Алгуй пережил Эргэнэ-хатун (правительницу чагатайского улуса); когда она умерла от родов, Алгуй решил перебить всех мусульман в Самарканде и Бухаре, которым покойная покровительствовала и которые, по его мнению, принесли ей несчастье; Масуд-беку едва удалось отговорить его от этого намерения[124].
Действительное и воображаемое соперничество между христианами и мусульманами происходило во всех контактных зонах мира. Одной из таких зон в Средние века была Палестина. Иоанн Хильдесхаймский рассказывает о том, как Елена в Вифлееме построила прекрасную церковь, где родился Христос. Конфликт с мусульманами случился из-за колонн, и в этот раз провидение было на стороне христиан. Некий лик устрашил неверных. «В сей прекрасной и величественной церкви поставлены мраморные колонны числом около семидесяти, кои поддерживают и несут на себе кровлю, балки и все здание. Но в MCCCLXI году по Рождестве Христовом сарацины вознамерились вынуть самые красивые из сих колонн, дабы поставить их в своем храме. Но в церкви явлен был пред ними ужасный лик, и они не тронули колонн» (Иоанн Хильдесхаймский, XXXVIII).
В 1325 г. Ибн Баттута в окрестностях Иерусалима посетил пограничную крепость Аскалан. И крепость и мечеть лежали в руинах: «На южной стороне этого святилища большая мечеть, известная как мечеть Умара, от нее теперь ничего не осталось, кроме стен. Среди них стоят или лежат великолепные мраморные колонны. Среди них и прекрасная красная колонна, о которой люди рассказывают, что христиане вывезли ее к себе в страну, но потом вдруг она исчезла, и нашли ее опять на старом месте, в Аскалане» (Ибн Баттута, с. 88).
Подведем предварительный итог. Марко Поло пересказывает несторианское предание, которое в его устах обретает черты исторического свидетельства, привязанного к церкви Иоанна Крестителя в Самарканде. Джузджани пересказывает сообщение самаркандского сайида Ашраф-ад-дина, главы ханака Нур-ад-дина А'ма. По его словам, самаркандские мусульмане предали церковь разрушению. Многие исследователи рассматривают рассказ сайида как достоверный. Была ли резня в городе спровоцирована мусульманами или имела иную, «монгольскую», причину?
Обратимся к тексту из «Истории Вассафа», который даст ответ на этот вопрос. Монголы решали споры между собой методами грубыми и прямолинейными, причем гибли люди, не имевшие к конфликту никакого отношения. Так, после военного столкновения Берке с Хулагу, последний приказал казнить всех купцов (уртаков) Берке, занимавшихся в Тебризе торговлей. В отместку Берке умертвил купцов из земель, принадлежавших к владениям ильхана. «Путь для выезда и въезда и для путешествия торговых людей, как дело разумных людей, сразу был прегражден, — пишет Вассаф, — а из сосуда времени вырвались шайтаны смятения{52}. Около этого времени каан отправил посла, который произвел новую перепись (шумаре) Бухары. Из общего числа 16 000 [человек], которые были сосчитаны в самой Бухаре, 5000 [человек] принадлежало [к улусу] Бату, 3000 — Кутуй-беги, матери Хулагу-хана, остальные же назывались "улуг кул", т. е. "великий центр", которым каждый из сыновей Чингис-хана, утвердившись на престоле ханском, мог распоряжаться как [своей] собственностью. Эти пять тысяч, принадлежавшие Бату, вывели в степь и на языке белых клинков, глашатаев красной смерти, прочли им смертный приговор. Не были пощажены ни имущество, ни жены, ни дети их» (Сборник материалов. Т. II. С. 164–165). В. В. Бартольд полагал, что в тексте Вассафа идет речь об убийстве джучидских воинов, а не жителей Бухары[125]. Издатели книги В. В. Бартольда, напротив, склоняются к мысли, что Вассаф говорит о переписи жителей Бухары, а не монгольского гарнизона. «В цитированном тексте Вассафа речь идет, по всей вероятности, о жителях Бухары, в основном ремесленниках, обращенных монгольскими завоевателями в рабство (или в личную зависимость) и разделенных между тремя владельцами — Батыем, Тулуем (наследницей которого была его вдова Сиюркуктени-бики) и улусом великого хана. <…> Истребление зависимых людей Батыя, видимо, было произведено по инициативе Алгуя и Хулагу, желавших причинить ущерб улусу Беркая, наследника Батыя, с которым они были в состоянии войны. Кроме того, общее содержание рассказа Вассафа не позволяет согласиться с толкованием его, данным у В. В. Бартольда. Трудно допустить, чтобы целых 16 тысяч (а с семьями, значит, несколько десятков тысяч) монгольских воинов, т. е. кочевников, в то время никогда не живших в городах, как отметил выше сам В. В. Бартольд, было поселено "в самом [городе] Бухаре". Наконец, невероятно, чтобы пять тысяч монгольских воинов, имея оружие, без сопротивления позволили вывести себя из города в степь и перерезать. Такие избиения нередко практиковались монголами в отношении мирных и давно обезоруженных горожан»[126].
Очевидно, что резня, устроенная монголами в Бухаре и Самарканде, не была связана с религиозными предпочтениями враждующих между собой Чингизидов. А погром, учиненный по приказу Берке в Самарканде Хпо версии Джузджани), соответствует сценариям чингизидской вражды. Невероятно, чтобы монгольский правитель истреблял одну религиозную общину в интересах другой общины.
Глава 6.
Магические запреты и Яса Чингис-хана
§ 1. Монголы и идея джихада
Ибн 'Абд аз-Захир, секретарь египетского султана Байбарса (1260–1277), имел возможность близко ознакомиться с делами дипломатических миссий султана к Берке. Контакты Египта с Улусом Джучи начались со следующего послания:
«В 660 году (26 ноября 1261 — 14 ноября 1262 г.) он (ал-Малик аз-Захир Байбарс) написал Берке, великому царю татарскому, письмо, которое я писал со слов его [и в котором] он подстрекал его против Хулавуна [Хулагу], возбуждая между ними вражду и ненависть да разбирал повод тому, что для него обязательна священная война с татарами, так как получаются одно за другим известия о принятии им ислама, и что этим вменяется ему в долг воевать с неверными, хотя бы они были его родичи. Ведь и Пророк — над ним благословение Аллаха и мир! — сражался со своими соплеменниками родичами и воевал против курайшитов; ему было повелено [Аллахом] биться с людьми до тех пор, пока они скажут: нет божества, кроме Аллаха! Ислам не состоит только в одних словах; священная война есть одна из [главных] опор его. Пришло уже несколько известий о том, что Хулавун ради своей жены и вследствие того, что она христианка, установил [у себя] религию креста и предпочел твоей религии почитание веры жены своей да поселил католикоса неверного в жилищах халифов, ставя жену свою выше тебя. В этом письме было много подстрекательств и изложение того, как султан действует по части священной войны. Письмо это он отправил с одним доверенным лицом из аланских купцов» (Сборник материалов. Т. I. С. 68–69).
Содержание письма поразительно в трех аспектах. В послании мамлюкского султана изложена идея джихада — священной войны с неверными. Для Байбарса, воина-кипчака, проданного в свое время в рабство, и сделавшего карьеру в профессиональной гвардии, сформированной из невольников, идея джихада была, скорее всего, чужда. А монголам идея религиозной войны была абсолютно чужда. Поразительно, что кипчак Байбарс и монгол Берке пытаются заключить военный союз, опираясь на религиозную мифологему, которую не разделяла ни мамлюкская гвардия, ни монгольская аристократия. Спрашивается, в лексике какой группы оформлялся этот союз?
Идея «священной войны» разрабатывалась мусульманскими богословами. Что включало в себя понятие джихад? «В соответствии с теорией джихад служил своеобразной формой общения мусульман с внешним миром, так как весь мир разделяется на "землю ислама" (дар ал-ислам) и "землю войны" (дар ал-харб). "Земля ислама" — всякая страна, находящаяся под властью мусульманского правительства и управления на основе мусульманского права. "Земля войны" — это все страны, находящиеся под властью "неверных» правителей. Некоторые мусульманские правовые школы признают еще третью категорию земель — "землю мира" (дар ал-сульх). Это — немусульманские страны, управляемые мусульманскими государями, признававшими себя вассалами и данниками мусульманского государства. В теории считается, что с немусульманскими государствами "земли войны" мусульмане находятся в состоянии перманентной войны, т. е. они и должны насильственным путем превратить "землю войны" в "землю ислама"»[127]. Вариант, когда «земля ислама» управляется «неверными», как в нашем случае, монголами-буддистами в Иране, в теории даже не рассматривается. Реальная история богаче правовых теорий.
В письме Байбарса ильхан Хулагу представлен как христианский правитель, исполнивший волю своей жены. Действительно, старшая жена Хулагу, из племени кереит, была несторианкой и покровительствовала христианам. Сам же Хулагу отдавал предпочтение своему буддийскому окружению (см.: Киракос Гандзакеци. 65). Сирийский историк Абу-л Фарадж полагал, что Хулагу был христианином. Тайные желания христиан сублимируются у Григора Акнерци в социальные фантазии: «Христиан он (Хулагу) любил более других народов и до такой степени, что вместо годовой подати он востребовал у армян 100 000 свиней. Он отправил во все города мусульманские по 2000 свиней, приказав назначить к ним пастухов из магометан, мыть их каждую субботу мылом и кроме травы кормить их миндалем и финиками. Сверх того он приказал казнить всякого таджика, без различия состояния, если тот отказывался есть свинину. Вот какое уважение он оказывал таджикам! Так поступал Гулаву, желая сделать удовольствие князьям армянским и грузинским, которых он очень любил за их постоянную храбрость в битвах. <…> В то время город Иерусалим и св. гроб со времен султана Саладина находились во власти таджиков. Узнав о том Гулаву-хан, пошел на Иерусалим, взял его, и, войдя в храм св. Воскресенья поклонился св. гробу» (Григор Акнерци, с. 34–35, 38).
В мусульманской и христианской картине мира нет места фигуре правителя, стоящего над религиозными законами и покровительствующего всем общинам. И только в официальной истории монголов ситуация соответствует реальному положению вещей: «Докуз-хатун пользовалась полным уважением и была очень властной. Так как народ кереит в основном исповедует христианство, то она постоянно поддерживала христиан, и эти люди в ее пору стали могущественными. Хулагу-хан уважал ее волю и оказывал тем людям покровительство и благоволение до того, что во всех владениях построил церкви, а при ставке Докуз-хатун постоянно разбивал [походную] церковь и [в ней] били в било» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 18). Резиденция несторианского католикоса Мар Денха, действительно, находилась в Багдаде. Но утверждение Байбарса, что католикос поселился во дворцах багдадского халифа, есть инвектива.
После того как монгольские завоеватели покончили с существованием Багдадского халифата 'Аббасидов, в мусульманском мире не было больше единого, признанного всеми суннитами халифа. По мнению И. П. Петрушевского, эти исторические события отразились на суннитской теории халифата. Законоведы утверждали, что в переживаемое «смутное время», когда нет законно поставленного и всеми признанного халифа, признать власть государя, утвердившегося при помощи силы, можно ради блага мусульманской общины, дабы избавить ее от смут, анархии и междоусобицы. Такого государя, если он управляет на основании шариата, можно считать законным главою мусульманской общины (государства), иначе говоря, халифом; но если он управляет не на основании шариата, то он — тиран[128]. Это суждение принадлежит законоведу Ибн Джама'а, верховному казию в Каире, который мог свободно назвать ильханов тиранами, поскольку находился вне их юрисдикции. Египетский историк Ибн Фадлаллах ал-'Умари, прославляет доблести мамлюков, основную массу которых составляли кипчакские рабы. Для ал-'Умари они были истинным войском Аллаха и их победы над монголами были исполнением воли Аллаха (Сборник материалов. Т. I. С. 172–173).
Мы не знаем, как послание Байбарса было воспринято Берке и его окружением. Скорее всего, сложная идеологическая конструкция идеи джихада осталась непонятой. Напомню, что монголы никогда не объявляли войну исламу, хотя с позиции мусульман война носила религиозный характер; и кажется, нет подтверждений тому, что шел поиск дополнительных опор легитимации в религиозном измерении. Согласно идеологической доктрине монголов, власть Чингис-хану дарована Вечным Небом. Источник же политической власти представителей «золотого рода» — генеалогия, а именно — их принадлежность к прямым потомкам Чингиз-хана по мужской линии[129]. Идеология мирового господства не предполагала какого-либо интереса к религиозной доктрине ислама. Что касается Корана как источника мусульманского права, то очевидно, ему не было места в монгольской системе власти. Полагать, что послание Байбарса нашло в лице Берке адекватного адресата, на мой взгляд, является непростительной ошибкой.
В ставке Берке египетские послы должны были следовать предписаниям, смысл которых остался им неясен. От нас же требуется раскрыть загадочный характер монгольского ритуала, что и является единственной возможностью выяснить истинное положение дел со статусом ислама при дворе Берке.
Итак, рассказ послов: «Когда они приблизились к орде, то их встретил [там] визирь Шараф ад-дин ал-Казвини. Потом их пригласили к царю Берке. Они уже ознакомились с обрядами, которые соблюдались с ним и заключались в том, что входили с левой стороны, а по отобрании у них послания переходили на правую сторону и припадали на оба колена. Никто не входит к нему в шатер ни с мечом, ни с [другим] оружием и не топчет ногами порога шатра его; никто не слагает оружия своего иначе, как по левую сторону, не оставляет лука ни в сайдаке, ни натянутым, не вкладывает стрел в колчан, не ест снегу и не моет одежды своей в орде. Он [Берке] находился в большом шатре, в котором помещается 100 человек; шатер был покрыт белым войлоком, а внутри обит шелковыми материями, китайками, драгоценными камнями и жемчужинами. Он сидел на престоле, а рядом с ним старшая жена, и около него 50 или 60 эмиров на скамьях шатра. Когда они вошли к нему, то он приказал визирю своему прочесть послание, потом заставил их перейти с левой стороны на правую, стал спрашивать их о Ниле и сказал: "Я слышал, что через Нил положена человеческая кость, по которой люди переходят [через реку]". Они ответили: "Мы не видали этого…". Главный кади, находившийся при нем, перевел послание и послал список кану; письмо султана было прочтено по-тюркски [лицам], находившимся при нем [Берке]. Они [татары] обрадовались этому; он [Берке] отпустил послов с ответом своим и отправил с ними своих послов» (Сборник материалов. Т. I. С. 75–76).
Есть основания полагать, что дипломатический церемониал при дворе Берке, воспринятый египетскими послами как система малопонятных запретов, связан с предписаниями Ясы Чингис-хана, то есть выполняет охранительные функции. Заявленная тема должна быть рассмотрена на широком фоне аналогичных известий. Заодно проверим достоверность утверждения Берке в письме Байбарсу, «о том, как он (Берке) действует против йасы Чингисхановой и закона народа своего» (Сборник материалов. Т. I. С. 72).
Отметим еще один аспект. Дипломатический имперский ритуал некоторые исследовали напрямую связывают с шаманскими обрядами. А поскольку им известно (из мусульманских источников), что Берке позиционировал себя настоящим мусульманином, то различные свидетельства входят в противоречие и обесценивают друг друга, то есть возникает, как говорят психологи, когнитивный диссонанс. Так, Ю. В. Сочнев пишет: «Сохранение шаманистических традиций при дворе монгольского правителя было явным нарушением шариата. Широко возвещенное принятие Берке ислама на деле оказалось чисто внешним, совсем не означавшим проявления какой-либо религиозной нетерпимости, хотя симпатии хана, безусловно, изменились, а это также имело немаловажное значение»[130]. Видимо, в таком же недоумении пребывали и египетские послы, услышав перечень запретов. Не стоит сложное имперское явление упрощать до прямолинейных схем мусульманских историков. Монгольский дипломатический ритуал не имел отношения ни к шаманам, ни к шариату. Ритуал призван был расставить акценты в системе властных отношений.
§ 2. Наблюдатели и информаторы
В 1245 г. папа Иннокентий IV отправил первую дипломатическую миссию к великому хану монголов. Миссию возглавил францисканец Иоанн де Плано Карпини, чье донесение хорошо известно в мировой и отечественной науке[131]. Донесение его спутника брата Бенедикта Поляка, сохранившееся в рукописи XV в., опубликовано Г. Д. Пейнтером в 1965 г.[132] В 1967 г. немецкий филолог О. Оннерфорс подготовил второе, исправленное, издание этого текста[133]. Сейчас доступен и перевод донесения брата Бенедикта на русский язык[134].
Брат Бенедикт был переводчиком миссии, и, очевидно, что именно он, в силу своих обязанностей, владел всей полнотой информации. В донесении брата Бенедикта материалы миссии представлены в том виде, в каком они были получены от осведомленных в делах империи людей, тогда как в отчете брата Иоанна сведения обработаны и структурированы в соответствии с запросами западного читателя.
Новый взгляд на историю путешествия миссии предполагает выяснение источников ее информации. Конкретный вопрос звучит так: с представителями каких групп на территории империи францисканцы находились в наиболее тесном общении. Дело в том, что папских посланников интересовала не этнографическая реальность кочевого быта, а тайны Монгольской империи. Поэтому совсем не важно, что они увидели своими глазами, важно то, что они услышали от тех, кто знал эти тайны. Кстати сказать, увидели они не так уж и много, да и это немногое потребовало разъяснений. Подобно тому, как францисканцы путешествовали по дорогам империи в сопровождении двух монгольских вестников, знавших маршрут и обеспечивавших их всем необходимым, так и для постижения скрытых механизмов функционирования империи им понадобился «навигатор», и, скорее всего, не один. Несомненным достоинством участников миссии было умение находить весьма осведомленных людей, и статус личных посланников папы сыграл в этом не последнюю роль. Письмо папы послужило своеобразным «пропуском» в тайные сферы имперской жизни. Донесения запечатлели даже те диалоги, смысл которых до конца не был ясен францисканцам. Это обстоятельство позволяет высказать осторожную гипотезу о том, что послы выступили не столько в роли аналитиков, сколько в качестве посредников между римской курией и ханским двором, и главной их задачей был сбор информации.
Сведения о монгольских запретах, сообщаемые францисканцами, относятся к числу неподдающихся расшифровке известий, и исследователи, как правило, их не комментируют. По крайней мере, в трех последних изданиях книги брата Иоанна (итальянском[135], немецком[136] и польском[137]) этот раздел оставлен без внимания. Насколько мне известно, и рассказ египетских послов не получил должного разъяснения. Все дело в отсутствии кода, с помощью которого можно раскрыть содержание этих сведений. Францисканцы, как и египетские послы, зафиксировали запреты, не обрисовав культурный контекст, что препятствует адекватному восприятию и анализу описанной ими ситуации. Наша задача — восстановить культурный контекст, или, иными словами, ответить на вопрос: почему было запрещено совершать те или иные действия и чьи интересы затрагивало нарушение предписаний. Католики и мусульмане соприкоснулись с неведомым им монгольским мифом, в таком же положении находятся и нынешние исследователи, изучающие отчеты дипломатов.
Деликатность ситуации в том, что сфера магических запретов, в силу понятных причин, была закрыта от обсуждения каких-либо ее нюансов. Монголам же были известны и сами запреты и наказание за их нарушение. Функционировавшая система табу выглядела как сумма предписаний. Сторонним наблюдателям, в роли которых выступают западные и восточные дипломаты, известна именно эта сторона дела. Выглядят запреты загадочно, и на первый взгляд, кажется, не имеют отношения к дипломатическому этикету. Лама Г. Гомбоев, исследовавший в 1859 г. сообщение брата Иоанна, касающееся монгольских обычаев, все запреты отнес к области суеверий[138]. Вполне может быть, что в середине XIX в. многие из описанных францисканцами запретов превратились в бытовые суеверия. Однако, проблема заключается в другом: почему в XIII в. пренебрежение этими «обычаями» влекло наказание смертью и почему иностранных послов, прибывающих ко двору великого хана, строго предупреждали о соблюдении правил, смысл которых не поддается уразумению. На смерть Чагатая поэт Седид А'вар сочинил стихи, в которых содержится иносказательный намек: «Тот, из страха перед которым никто не входил в воду, потонул в необозримом океане [смерти]»[139]. Ниже мы подробно рассмотрим запрет о вхождении в воду. Чагатай, третий сын Чингис-хана, считался истинным хранителем традиций, запечатленных в Ясе. Как видим, речь идет о более серьезных вещах, чем «суеверия».
В донесении брата Бенедикта Поляка, сохранившемся в пересказе брата Ц. де Бридиа, монгольские запреты восприняты как широко известные предписания, следование которым позволяет избежать совершения «грехов». Стройный перечень запретов наводит на мысль, что с францисканцами общался человек из придворного окружения, в чьи обязанности входило предостеречь иноземных послов от тех или иных «ошибок». Обратим внимание, что запреты в основном связаны с поведением внутри жилища. Особый интерес ситуации придает тот факт, что этим жилищем выступает шатер правителя. Вот как выглядел первый контакт францисканской миссии с Куремсой, чей улус располагался в западной части владений Бату. «Взяв дары, они повели нас к орде, или палатке его, и научили нас, чтобы мы трижды преклонили левое колено пред входом в ставку и бережно остереглись ступить ногой на порог входной двери. Мы тщательно исполнили это, так как смертный приговор грозит тем, кто с умыслом попирает порог ставки какого-нибудь вождя»{53}. Спустя два месяца послы прибыли в лагерь Бату в низовьях Волги и ситуация повторилась: «Выслушав причины, нас ввели в ставку, после предварительного преклонения и напоминания о пороге, как о том сказано выше. Войдя же, мы произнесли свою речь, преклонив колена»{54}. Ключевое слово в этой информации instructi 'обучать, разъяснять'. Объяснять обычаи чужеземным послам входило в обязанности специального лица, а случаи нарушения выяснял высокопоставленный царедворец. С одним из товарищей Вильгельма де Рубрука случилась неприятная история: он коснулся порога. Причину происшествия выяснял старший секретарь двора Булгай. «На следующий день пришел Булгай, бывший судьей, и подробно расспросил, внушал ли нам кто-нибудь остерегаться от прикосновения к порогу. Я ответил: "Господин, у нас не было с собой толмача, как могли бы мы понять?" Тогда он простил его. После того ему никогда не позволяли входить ни в один дом хана»{55}. Разумеется, брат Вильгельм схитрил, поскольку ранее, описывая прием у Бату, он поясняет, со слов проводника, что понималось под порогом: Tunc duxit nos ante papilionem, et monebamur ne tangeremus cordas tentorii quas ipsi reputant loco liminis domus 'Затем он отвел нас к шатру, и мы получили внушение не касаться веревок палатки, которые они рассматривают как порог дома' (Itinerarium. XIX. 5).
Ниже приводится выразительное свидетельство Марко Поло о том, что на пирах великого хана Хубилая к гостям, не знающим дворцовых обычаев, приставляли, как он пишет, баронов разводить иноземцев. Делалось это с той целью, чтобы гости не коснулись порога. Мы помним рассказ египетских послов, что входя в шатер, ни в коем случае не наступать на порог. В Орде им нельзя было стирать одежду, а приближаясь к шатру Берке они должны были снять с себя оружие, вынуть лук из сайдака, опустить тетиву и не оставлять в колчане стрел. Точно такие же инструкции были получены и францисканцами, однако, брат Иоанн в своем донесении отнес эти сведения к главе, посвященной богопочитанию, предсказаниям, очищениям и представлению монголов о «грехах». Скорее всего, египетские послы не вступали в «дискуссию» с монгольскими царедворцами по поводу тех или иных странностей церемониала и не искали глубинного смысла запретов, тогда как францисканцы оказались более чувствительны к проявлениям этой сферы кочевой культуры. Однако сам факт фиксации восточными и западными дипломатами неких предписаний сигнализирует о потенциальных конфликтных ситуациях, позволяющих обрисовать контуры загадочного имперского феномена.
Первые папские послы прибыли к монгольским ханам для передачи послания и ведения переговоров, и в силу случайных обстоятельств стали участниками пышного курултая летом 1246 г. На коронации Гуюка их угощали внутри ханских шатров. Тщательный характер инструкций связан с тем, что переговоры должны были проводиться в приемном шатре Бату и золотом шатре великого хана. Вот что было внушено западным послам: «Страх Божий [явился причиной] их утверждений о существовании неких больших грехов. Один [из грехов] — пронзать огонь или каким-либо образом касаться [огня] ножом, также извлекать мясо из котла ножом. Также вблизи огня рубить дрова, потому что, как они утверждают, этим отсекается голова огня. [Запрещено] также садится на конскую плеть (ибо они не используют шпоры), или прикасаться плетью к стрелам, или брать птенцов из гнезда. Также [запрещено] уздой бить коня, также мочиться в юрте. Если [кто-либо] сделает это намеренно, после этого его убивают, если же нет, то необходимо, чтобы он заплатил заклинателю, чтобы тот очистил их, проведя между двух огней, таким образом, чтобы они сами вместе с юртой и с тем, что в ней есть, прошли сквозь [огни]. И прежде чем это произойдет, никто не смеет прикасаться к чему-либо находящемуся в юрте. Также, если кто-либо, положив себе в рот кусок, (или же болус, что означает то же самое), не будет в состоянии его проглотить и выплюнет изо рта, то юрта подкапывается и через это отверстие его вытаскивают и немедленно убивают. Также если кто-либо наступит на порог юрты вождя, то безжалостно лишается жизни; поэтому наши братья научены были не наступать на порог. Также они считают грехом проливать с намерением кобылье молоко на землю. Когда же братья сказали им, что грех — проливать человеческую кровь, напиваться допьяна, присваивать чужое и многое другое в этом духе, то они засмеялись, совершенно ни мало не заботясь об этом. Они также не верят в вечную жизнь святых и не [верят] в вечное проклятие, но [верят] только лишь в то, что после смерти они вновь будут жить, приумножать стада и пожирать [пищу]» (НТ, § 42). Итак, брат Бенедикт не скрывает, что они были тщательно предупреждены и научены соблюдать вещи малопонятные и абсолютно невразумительные. Действительно, почему запрещено под страхом смертного наказания касаться плетью стрел, тем более что у францисканцев не было с собой ни того, ни другого.
Нас интересуют два обстоятельства: какую сферу жизни средневековых монголов регулировали перечисленные братом Бенедиктом предписания; и второе, были ли эти предписания кодифицированы, или, иными словами, переведены из мифологической области в юридическую. В этом случае важно понимать степень осведомленности информатора францисканцев и его готовность обсуждать «теологическую» составляющую монгольских запретов.
В книге брата Иоанна перечень запретов предваряется неясной преамбулой, поскольку термин «грех» используется им в разных значениях: Quamuis de iusticia facienda uel peccato cauendo nullam habeant legem, nichilominus tarnen habent aliquas traditiones quas dicunt esse peccata, quas confixerunt ipsi uel antecessores eorum 'Хотя у них не было закона о вершении правосудия, а также наказания за грехи, тем не менее у них есть некие традиции [хорошо известные поступки?], которые они определяют как грехи, и которые зафиксировали они сами или их предки'. Последний пассаж позволяет предположить, что перечень запретов все же существовал в письменно зафиксированном виде.
Полную цитату из книги брата Иоанна следует привести по следующим причинам. Во-первых, в ней содержатся дополнительные подробности, отсутствующие в копии донесения брата Бенедикта; а, во-вторых, смысл некоторых запретов передан более ясно. В частности, ситуация с куском пищи, выплюнутом изо рта, превратившаяся под пером брата Ц. де Бридиа в абсурд, здесь получает разъяснение. Итак, брат Иоанн продолжает: «Один из [грехов] — втыкать нож в костер или даже каким бы то ни было образом дотрагиваться ножом до огня, или извлекать при помощи ножа куски мяса из котла, [а] также рубить топором дрова около костра; ведь они верят, будто таким образом будет обязательно похищена голова огня. Также [грех] — садиться на плеть, которой погоняют коня (ведь они не пользуются шпорами); также [грех] — касаться плетью стрел; также — убивать птенцов или брать [их в руки]; также — бить коня уздою; также — ломать кость при помощи другой кости; также — проливать молоко или какой-нибудь напиток или [бросать] пищу на землю; [также] — мочиться в жилище. Но если [кто-нибудь] совершает [один из этих грехов] по своей воле, то его убивают, а если иным образом, то надлежит, чтобы он дорого платил заклинателю, который его бы очистил и заставил пронести и жилище и все, что в нем есть, между двух костров. Но до тех пор, пока [оно] не будет таким образом очищено, никто не смеет входить [в него] или что-нибудь из него выносить. Также, если кому-нибудь кладут кусочек [в рот] и он не может [его] проглотить, так что выплевывает его изо рта, то делается яма под [стеной] жилища, и его извлекают через эту яму и убивают без всякого сострадания. Также, если кто-нибудь ступит пяткой на порог жилища какого-нибудь князя, его убивают таким же образом. И у них есть много подобных [запретов], о которых было бы долго рассказывать»{56}.
Как правило, средневековые авторы довольно ясно различали обычное право и кодифицированное право. Например, составитель «Повести временных лет», пишет, со ссылкой на Хронику Георгия Амартола (IX в.): «Говорит Георгий в своем летописании: "Каждый народ имеет либо письменный закон, либо обычай, который люди, не знающие закона, соблюдают как предание отцов. Из них же первые — сирийцы, живущие на краю света. Имеют они законом себе обычаи своих отцов: не заниматься любодеянием и прелюбодеянием, не красть, не клеветать или убивать и, особенно, не делать зло". <…> Мы же, христиане всех стран, веруем во святую Троицу, <…> имеем единый закон»[140]. Можно не сомневаться в том, что францисканцев интересовали письменные законы империи. Брат Иоанн в пятой главе сообщает, что Чингис-хан создал различные законы и постановления (leges et statuta), и называет три из них: закон о престолонаследии, постановление о покорении мира и устройстве армии по десяткам (LT, V. 18). В четвертой главе брат Иоанн подробно останавливается на законах и обычных правилах, касающихся наказания за прелюбодеяние, грабеж или воровство, раскрытие военных замыслов, провинности младших по чину (LT, IV. 9). Однако будучи истинными миссионерами, францисканцы оказались наиболее чувствительны к сведениям о магических запретах, которые они трактуют как религиозные запреты.
Действия, которые по представлениям монголов, могли повлечь за собой несчастья, францисканцы именуют термином peccata 'грех'. В традиционной монгольской культуре не было понятия «грех» в христианском смысле этого слова{57}. Видимо, у францисканцев имелась какая-то важная причина, чтобы воспользоваться специфическим латинским термином для адекватной характеристики полученных сведений. Трудно предполагать, что западные дипломаты в одночасье совершили все из перечисленных ими запретных поступков. Следовательно, имелся некий информатора который подробно описал запреты, с целью предупредить францисканцев от возможного их нарушения. Дело в том, что за каждый из «грехов» полагалось наказание смертью.
Картине, нарисованной западными дипломатами, созвучны сведения китайского источника, где говорится о деятельности Елюй Чу-цая, старшего советника монгольского хана Угедея: «Люди, приезжавшие ко двору из различных государств, часто предавались смерти за нарушение запретов. Его превосходительство сказал [его величеству]: "Ваше величество недавно взошли на императорский трон. Не запятнайте [кровью] белый путь". [Его величество] последовал этому совету, ибо по обычаю страны превыше всего почитался белый [цвет] и считался приносящим счастье» (Сун Цзы-чжэнь, с. 72). Считается, что в 1229 г. Елюй Чу-цай пытался смягчить наказания за нарушения запретов, сходных с теми, что стали известны францисканцам в 1246 г. Отметим, что речь шла не об отмене запретов, а лишь о снисхождении к чужестранцам, и вопрос потребовал вмешательства первого лица государства. Значимость ситуации определялась тем обстоятельством, что Елюй Чу-цай хотел внести коррективы в Ясу Чингис-хана. Вопрос в том, какой из разделов Ясы имелся в виду?
В немецком переводе книги брата Иоанна Ф. Шмидер, безо всяких на то оснований, переводит peccata немецким vergehen — «проступок, провинность»[141], переключая тем самым анализ ситуации из сакральной сферы в профанную. Ф. Шмидер игнорирует одно важное обстоятельство: в случае совершения «греха» никто не смел прикасаться к предметам в юрте до момента их ритуального очищения. Очищение указывает на необходимость снятия порчи, что выводит эти случаи далеко за пределы бытовых происшествий.
То, что речь идет о магических запретах (или в обратном, уже реализованном варианте, о вредоносной магии) можно показать на следующем примере. У средневековых монголов существовало поверье о том, что случайное пролитие на землю кумыса или молока непременно повлечет за собой несчастье: лошадей хозяина юрты, в которой это произошло, поразит молния. Рашид-ад-дин сообщает: «Если прольется на землю вино или кумыс, молоко пресное и кислое, то молния преимущественно падает на четвероногих, в особенности на лошадей. Если же будет пролито вино, то [это] произведет еще большее действие, и молния наверняка попадет в скотину или в их дом. По этой причине [монголы] весьма остерегаются делать все это» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 1. С. 157).
Отметим (необъяснимую пока) связь между пролитием какого-либо напитка и грозовым явлением. Собственно, крайне нежелательным было грозовое явление, расценивавшееся как гнев Неба, а вызвать его можно было пролитием напитка (вина или молока). Напомним также, что возлияние молоком белых кобылиц составляло главную церемонию в жертвоприношении духам земли и воздуха, и в этом случае молоко специально проливалось на землю (Itinerarium. XXXV. 4). Видимо, разница между церемонией возлияния и обозначенным запретом заключается в том, что запрет на пролитие напитка был связан с жилищем, а церемония проводилась вне жилища. Церемония и запрет асимметрично соотносятся друг с другом. Кормление войлочных идолов проходило так: «Во время еды возьмут да помажут жирным куском рот богу, жене и сынам, а сок выливают потом за домовую дверь и говорят, проделав это, что бог со своими поел, и начинают сами есть и пить» (Марко Поло, с. 90). Выливание напитка совершалось за пределами жилища.
Судя по сведениям Рашид-ад-дина, преднамеренное пролитие вина или молока расценивалось монголами как вредоносная магия, направленная против животных и жилища. В таком случае обретают ясность сведения францисканцев, касающиеся наказания смертью за подобные действия. Сведения Рашид-ад-дина о последствиях пролития молока или вина выступают в роли необходимого «комментария» к существовавшему запрету и наказанию за его нарушение, известному только по донесениям францисканцев. Это надежное построение позволяет сделать далеко идущие выводы.
Обозначим контуры проблемы. Перечень «грехов» наводит на мысль, что речь идет о кодифицированной системе магических запретов, связанных с регулирующей функцией священного Неба. Среди прочих запретов францисканцы упоминают и тот, о котором пишет Рашид-ад-дин. Получается следующая картина. С одной стороны, нарушение запрета могло вызвать удар молнии, что расценивалось как крайне нежелательное событие. С другой стороны, (если запрет нарушался) способ очищения юрты и всего в ней находящегося путем проведения между костров, был аналогичен обряду очищения стойбища, когда в нем кто-нибудь поражен громом. Прямое свидетельство Рашид-ад-дина и косвенное свидетельство францисканцев указывают на тему «небесного суда». Это обстоятельство меняет перспективу исследования. В тюрко-монгольской политической мифологии Небу приписывались регулирующая и карающая функции[142], что позволяет ввести тему запретов в контекст мироустроительных законов. Предлагаемые ниже размышления сводятся к следующей композиции: запреты (как один из разделов Ясы) — явление грома и молнии (как проявление воля Неба). Эта условная реконструкция позволит увидеть задачу исследования. Напомню, что из донесений францисканцев и египетских послов мы знаем только перечень запретов. Отмечу также, что не существует ни одного средневекового текста, где эта композиция была бы представлена в полном виде. Существуют лишь отдельные фрагменты, позволяющие, однако, с уверенностью восстановить первоначальную картину. Ниже, в § 4 показана связь между нарушением запретов и появлением молний и соблюдением запретов как выражения почтения Небу. Монгольские царедворцы, призывая францисканцев соблюдать странные предписания, на самом деле, призывали их оказывать почтение священному Небу, которое, как известно, было покровителем монгольских ханов. Если бы по какой-то причине Небо отвергло иностранных посланников, то и правитель не замедлил бы отвергнуть их, исполняя высшую волю.
§ 3. Случай с Абд ар-Рахманом
Как известно, свод монгольских законов (Яса Чингис-хана) сохранился лишь фрагментарно и к тому же в изложении представителей других культур[143]. За большинство нарушений Яса предусматривала наказание смертью. И. Н. Березин считал, что согласно Ясе за осквернение огня, где пребывает божество, полагалась смертная казнь[144]. В связи с этим возникает вопрос, можно ли рассматривать полный перечень запретов, известный только по донесениям францисканцев, как утраченный фрагмент Ясы, регулировавший сферу наказаний за вредоносную магию? Скорее всего, да. Дело в том, что с помощью запретных действий можно было спровоцировать высшие силы. Однако Небо ударом молнии наказывало не нарушителя, а испепеляло место действия, чем наносило урон окружающим. Обратимся к ряду примеров, подтверждающих это предположение. Запреты, о которых пишет Рашид-ад-дин, имеют столь же странный характер, что и приведенные выше сведения францисканцев о монгольских «грехах».
Об 'Абд ар-Рахмане, мусульманском купце, впоследствии могущественном откупщике налогов в Северном Китае, известен следующий анекдот: «Сперва Ао-ду-ла-хэ-мань [Абд ар-Рахман] был бедным человеком. По законам страны за купание весной и летом [виновные] наказывались смертью. Император [Угедей-хан] и старший брат императора Ча-хэ-тай [Чагатай] выехали на охоту и увидели Ао-ду-ла-хэ-маня купающимся. Ча-хэ-тай хотел казнить его. [Но] император сказал: "Он потерял золото, ныряет в воду и ищет его, а не купается!". Тогда он освободил его от смерти и приказал служить при нем»[145]. Обстоятельства этой истории находят объяснение в следующих сведениях Рашид-ад-дина: «Обычай и порядок у монголов таковы, что весной и летом никто не сидит днем в воде, не моет рук в реке, не черпает воду золотой и серебряной посудой{58} и не расстилает в степи вымытой одежды, так как, по их мнению, именно это бывает причиной сильного грома и молнии, а они [этого] очень боятся и обращаются в бегство. Однажды каан шел вместе с Чагатаем с охоты. Они увидели какого-то мусульманина, который совершал омовение в воде. Чагатай, который в делах обычая придерживался [даже] мелочей, хотел убить этого мусульманина» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 49). Далее рассказывается как Угедей спас этого мусульманина от казни, подговорив стражу подбросить в воду, где тот совершал омовение, серебряный балыш. Во время расследования дела балыш был обнаружен и прозвучал знаменательный вопрос каана: «У кого может хватить на то смелости, чтобы преступить великую Ясу? Этот несчастный ведь жертвовал собой ради такого пустяка из крайней нужды и бедности». Итак, омовение в воде запрещалось Ясой и расценивалось как действие, способное вызвать грозу. Молния же могла испепелить императорскую орду. Наказание за нарушение общеизвестного запрета смертью вполне сопоставимо с аналогичным наказанием за «грехи», перечисляемые францисканцами. И в том, и в другом случае, речь идет о предписаниях Великой Ясы и касается наказания за вредоносную магию. Случай с 'Абд ар-Рахманом показателен тем, что участниками разбирательства являются не какие-то «дикие кочевники», а монгольский хан и его брат, хранитель Ясы, и действие разворачивается не на культурной периферии, а в центре империи. Если буквально понимать вопрос Угедея (омовение в воде как игнорирование Ясы), то и другие запреты, названные Рашид-ад-дином (мытье рук в реке, сушение одежд в степи и т. п.), тоже следует рассматривать как предписанные Ясой. Вопрос Угедея мог быть риторическим. Но в любом случае мы можем констатировать, что существовал некий комплекс представлений, возможно, даже кодифицированный, устанавливавший связь между ударом молнии как наказанием со стороны высших сил и целым рядом действий, призванных предотвратить преднамеренное вызывание молнии.
Обратим внимание, что запрет входить в воду ограничен временем года (весна и лето) и временем суток (день). Скорее всего, этот обычай имел древнее происхождение, однако дать какое-либо объяснение этому обычаю трудно. В этой связи лишь напомню о запрете, который согласно Ахмеду ибн Фадлану, должны были соблюдать мусульманские купцы в земле тюрков. «Никто из купцов или кто-либо другой не может совершать омовения после нечистоты в их присутствии, кроме как ночью, когда они его не видят. И это потому, что они гневаются и говорят: "Этот хочет нас околдовать, так как он уставился в воду", — и штрафуют его деньгами» (Ахмед ибн Фадлан, с. 126). Не исключено, что приведенные примеры каким-то образом связаны с темой осквернения водных источников. В этом плане заслуживает внимание свидетельство ал-Бируни, поскольку в нем говорится о молоке, пролитие которого вызывает дождь. Разбирая причины внезапных природных катаклизмов, ал-Бируни спрашивает: «Но в чем же дело с источником в горах Ферганы, о котором известно, что если в него бросают что-либо нечистое, то идет дождь, или с так называемой "скамьей" Сулеймана ибн Дауда в пещере Испехбедан на горе Так в Табаристане? Если ее запачкают какими-либо нечистотами или молоком, небо покрывается тучами и идет дождь, пока скамью не очистят» (ал-Бируни. Хронология, с. 268). Арабский врач и путешественник X в. Абу Дулаф сообщает об этой местности нечто противоположное: «Когда у них льют проливные дожди и жители терпят от них ущерб, они, желая прекращения ливней, льют козье молоко на огонь, и те прекращаются. Я неоднократно проверял достоверность этого утверждения и убедился, что они в этом правы» (Абу Дулаф, с. 56).
Сведения францисканцев о монгольских запретах, взятые сами по себе, не позволяют уверенно говорить о теме «небесного суда». Однако рассмотренные в широком контексте, они обретают свой истинный масштаб.
§ 4. Мифологема грома
Какое место занимало явление небесного грома в мифологических представлениях средневековых монголов? Свидетельства, приводимые ниже, показывают, что отношение к грому не было безразличным ни у простых кочевников, ни у монгольской элиты. Неизвестно ни одного случая, когда гром и удар молнии вызывали бы в их среде положительные ассоциации. В представлениях монголов смерть от удара грома была страшным событием. На это обстоятельство францисканцы должны были обратить внимание по той причине, что случайное нарушение ими некоторых бытовых норм могло восприниматься монголами как вредоносная магия, что имело бы для послов самые печальные последствия.
Опираясь на свидетельство Рашид-ад-дина можно утверждать, что запретные действия, подпадающие под категорию вредоносной магии, имели целью вызвать удар молнии. Соответственно, место, отмеченное ударом молнии, воспринималось как нечистое, то есть отвергнутое Небом. Иначе, трудно объяснить следующие свидетельства современников.
По сведениям брата Иоанна, «если родственники и иже с ними умирают в своих стойбищах, то другие [родственники] должны очиститься огнем. Очищение происходит следующим образом: раскладывают два костра и ставят два шеста возле костров. Между шестами наверху веревка и на эту веревку привязывают несколько обрезков букарана. Под этой веревкой и под тем, что привязано на ней, между огней проходят люди и скот со скарбом. Есть две женщины, одна с этой стороны, другая — с той, разбрызгивающие воду и причитающие. И если какая-нибудь повозка сломается или же с нее упадут какие-либо вещи, то причитательницы их забирают. А если же кто-либо погибает от грома, то им [монгалам] надлежит вышеописанным образом всех тех людей, которые умерли в стойбищах, провести через огонь. Никто не должен дотрагиваться до юрты, ложа, повозки, войлочных одеял и одежды и всего того, что имел умерший, ибо все это отвергается как нечистое» (LT, III. 15). Очевидно, что подобная смерть переводила умершего в разряд сакрально нечистых существ. И далее брат Иоанн сообщает: монголы «верят, что все очищается при помощи огня. Поэтому, когда к ним прибывают послы или принцы или какие Угодно люди, надлежит, чтобы они, вместе с дарами, которые несут, проходили между двух костров, чтобы очищаться, — только бы они не учинили отравлений или не пронесли бы [ядовитого] зелья или какого-нибудь зла. Также, если с неба падает огонь на скот или на людей, что как раз там часто случается, либо происходит с ними что-нибудь такого рода, из-за чего они считают себя нечистыми или несчастливыми», им следует очищаться, пройдя между огней, при посредстве заклинателей (LT, III. 10){59}.
Усложненный вариант обряда прохождения между костров осуществлялся в трех разных случаях: когда человека или скот убивало молнией; когда совершался один из проступков, перечисленных францисканцами; и, наконец, для очищения посольских даров. Общим здесь является магический аспект очищения, то есть нейтрализация внешней угрозы.
Поскольку точно такой же очистительный обряд проводился в случае непроизвольно совершенного «греха», то мы можем смело отнести нарушение запретов к средству, с помощью которого вносился разлад в отношения между людьми и Небом. Удар молнии в стойбище и, к примеру, случайное касание плетью стрел, вызывали одинаковые последствия. В обоих случаях все вещи проносили между очистительных огней. Целью обряда было восстановление нарушенной гармонии. Ряд других примеров рассмотрен Г. Н. Потаниным[146]. В исследовании французского этнографа Ж.-П. Ру[147], посвященном представлениям о смерти у алтайских народов в древности и средние века, нет объяснения обозначенного нами феномена.
Большинство средневековых наблюдателей, подобно францисканцам, фиксируют внешнюю сторону отношения монголов к грому. Персидский историк Джувайни пишет о том, что монголы обходят стороной все, во что ударила молния, и уточняет, что все эти предметы вызывают тревогу и сильный страх. Что касается скрытой причины страха, то мы можем предполагать следующее. Гнев Неба, воплощавшийся в громовых ударах и молниях, был божественным наказанием. Ахмед ибн Фадлан наблюдал у волжских булгаров обычаи, связанные с запретом касаться умершего и вещей, в которые ударила молния. В обоих случаях мотивация запрета совпадает. Ибн Фадлан пишет: «Если молния ударит в дом, то они не приближаются к нему и оставляют его таким, каким он есть, и [также] все, что в нем [находится], — человека и имущество и все прочее, — пока не уничтожит его время. И они говорят: "Это дом [тех], на которых лежит гнев"» (Ахмед ибн Фадлан, с. 137). В легендарной истории крещения гуннов епископом Исраилем армянский писатель Моисей Каганкатваци (X в.) так характеризует «дьявольские заблуждения», то есть верования гуннов: «Они думали, что почитаемый ими бог Куар{60} производил искры громоносных молний и эфирные огни. Когда молния поражала человека или другое существо, они приносили ему жертвы. Также они приносили в жертву жаренных лошадей какому-то чудовищному, громадному герою, называя его богом Тангрихан»[148].
Приведенные ниже примеры рисуют картину необычного страха монголов перед грозовым явлением. Но из этого не следует, что они опасались природного явления как такового. Гром воспринимался как небесный знак или, перефразируя Чжао Хуна, как «голос Неба». По словам брата Иоанна, «свои одежды они также не моют и не дают мыть, а более всего с того времени, когда начинаются удары грома, до того, когда это время кончается»{61}. Наблюдения китайского дипломата Чжао Хуна касаются лишь одной из сторон монгольского быта, и непроизвольно переводят ситуацию из сакральной сферы в нравственную: «По обычаю татары в большинстве случаев не моют рук, и [они] хватают рыбу или мясо [грязными руками]. Когда на руках появляется жир, [они] вытирают [их] об одежду. Они не снимают и не стирают одежду до тех пор, пока [она] не износится» (Мэн-да бэй-лу, с. 75). Сведения Вильгельма де Рубрука объясняют причину последнего обычая, возвращая его в область сакрального: монголы «одежды никогда не стирают, потому что говорят, что тогда гневается Бог и что будет гром, если их повесить сушить. Они даже бичуют тех, кто стирает и у них [одежду] отнимают. Они боятся грома сверх меры, тогда прогоняют всех чужих и закутываются в черные войлоки, в которых прячутся, пока не пройдет гроза»{62}.
Лишь сопоставив все три свидетельства, мы можем получить законченную картину: запрет на мытье одежд актуализировался в определенное время года — сезон гроз, т. е. весной и летом, и диктовался стремлением избежать гнева Неба. Последнее подтверждается сведениями Рашид-ад-дина об обычаях монголов из местности Баргу: «Если кто-нибудь снимет с ноги войлочный чулок и захочет высушить [его] на солнце, то случится та же самая беда [т. е. это вызовет грозу]. Поэтому, когда они сушат [свои] войлочные чулки, то закрывают верхушку шатра и сушат их в шатре. У них эти приметы проверены и [они] исключительно свойственны этой стране. Так как в этих пределах случаются частые грозы, которые для жителей являются огромным бедствием{63}, то последние это происшествие ставят в связь с каким-нибудь дурным явлением» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 1. С. 156–157). «Дурные явления» — это и есть вредоносная магия. По словам Марко Поло, описывающего пиры во дворце Хубилая, «наступать на порог — дурная примета». Иными словами, Марко Поло известно предписание и наказание за его нарушение, но при этом трудно решить, известен ли был ему истинный смысл «приметы». Отметим также, что точно в такой же форме запреты известны францисканцам. Исключение составляют наблюдения брата Вильгельма де Рубрука, стремившегося превзойти в осведомленности своего предшественника, брата Иоанна; известно, что брат Вильгельм, находясь в орде, имел время для выяснения подобных вопросов.
Запрет на мытье одежд действовал весной и летом. Почему мытье одежд вызывает гнев Неба? Пока лишь мы можем отметить, что существовала какая-то не очень ясная связь между громовым явлением и мытьем одежды, купанием, омовением в воде. Смыть жир означало вызвать гром. И, наоборот, все, на чем лежал слой жира, приносило удачу. Следовательно, запрет на мытье одежд является производной от этих представлений. Согласно Марко Поло, монголы жирным куском мазали рот войлочным идолам (именуемым Natigay{64}), и тем самым кормили их (Марко Поло, с. 90). В этом же контексте следует рассматривать обряд окропления знамени, заключавшийся в том, что бунчук смазывали жиром (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 2. С. 40). Красочное описание кормления знамени принадлежит перу Бабура, основателя империи Великих Моголов[149]. В этой церемонии хан и все присутствующие трижды брызгали кумысом в сторону бунчуков. Кормление знамени выступает как жертвоприношение духу — покровителю войска, воплощенному в знамени. В основе всех этих обрядов лежит представление о кормлении духов, с целью заручиться их покровительством.
Наблюдение брата Вильгельма о связи между гневом Неба и мытьем одежд позволяет дать объяснение и следующему, остававшемуся неясным, обычаю древних тюрков. Когда Ибн Фадлан вручил почетные одежды вождю кочевников, тот «снял парчевую одежду, бывшую на нем, чтобы надеть упомянутые нами почетные подарки. И я увидел, — пишет Ибн Фадлан, — бывшую под ней куртку, — она распалась [лохмотьями] от грязи, так как правила их [таковы], что никто не снимает прилегающую к телу одежду, пока она не рассыплется на куски» (Ахмед ибн Фадлан, с. 129). Согласно китайским авторам, такое же отношение к одежде наблюдалось и у чжурчжэней: «Все носят одежду из толстой шерсти. Входя в дом, чжурчжэни не снимают своей одежды, и носят ее до тех пор, пока она постепенно не обветшает и не начнет сваливаться» (Сюй Мэн-синь, с. 273). У монголов подобный обычай зафиксировал Чжао Хун: «Они не снимают и не стирают одежду до тех пор, пока [она] не износится» (Мэн-да бэй-лу, с. 75). Согласно сведениям ал-Макризи у монголов подобная практика регулировалась одним из положений Ясы Чингис-хана: «Он запретил мыть их платье в продолжение ношения, пока совсем не износится»[150].
Описание следующей ситуации вносит ясность в наши построения и позволяет завершить тему запретов. Даосский монах Чань-Чунь в беседе с Чингис-ханом говорил ему, что слышал, будто подданные его летом не моются в реках, не моют платья, боясь вызвать грозу. Любопытно, что и в этой ситуации Чингис-хан задает мудрецу вопрос о громе. «Хан спросил учителя о громе. Он отвечал: "Горный дикарь слышал, что подданные твои, летом, не моются в реках, не моют платья, не делают войлоков и запрещают собирать на полях грибы; — все для того, что боятся небесного гнева; но это не составляет уважения к небу"» (Си ю цзи, с. 333). Чань-Чунь отметил поразительное (с точки зрения китайца) несоответствие между высокой идеей о регулирующей роли Неба и весьма странными бытовыми запретами, поставленными в связь с этой идеей. Кажется очевидным, что даосский мудрец и монгольский император обсуждали не народные мифы, а некие весьма значимые предписания, о соблюдении которых Чань-Чуня, скорее всего, предупредили, также, как и францисканцев. Продолжим примеры.
Египетским послам, прибывшим к Берке на Волгу в 1263 г., среди прочих запретов, было внушено не стирать своей одежды в орде. Ал-Макризи сообщает, однако в совершенно искаженном виде, о запретах вообще касаться воды («он запретил им опускать руку в воду и велел употреблять что-нибудь из посуды для черпания воды») и мытья одежды в воде[151]. Попытка Г. В. Вернадского объяснить мотивы этих указов страхом монголов перед природой и боязнью оскорбить некое Верховное существо, а также весьма практическими соображениями («желание избежать поражения людей молнией в случае, если они соприкоснутся с водой во время грозы»)[152], на самом деле ничего не проясняет. Дело вовсе не в страхе перед природой, а в соблюдении запретов, связанных с проявлением почтения к Небу.
Рашид-ад-дин сообщает, что в 707 г.х. во время пира у султана Улджэйту гром ударил в шатер и убил несколько человек. И султан Улджэйту, восьмой хан иранских монголов (1304–1317), страшно испугался этого злоключения. Ведь этот правитель носил при себе особый камень, предохраняющий от удара молнии. Брат Вильгельм сообщает, что он привез из Азии в подарок королю один из таких камней, вправленных в пояс, который обычно носили для защиты от молнии{65}. В трактате «Минералогия» ал-Бируни описывает «камень, отводящий грозу» (ал-Бируни. Минералогия, с. 474–475)[153].
Среди ценных подарков, посланных византийским императором Михаилом Палеологом темнику Ногаю, находились головные уборы. По свидетельству Георгия Пахимера Ногай «спрашивал принесшего: полезна ли эта калиптра [головной убор] для головы, чтобы она не болела, или эти рассеянные по ней жемчужены и другие камни имеют ли силу защищать голову от молнии и ударов грома, так чтобы человек под такою калиптрою был непоразим?» (Георгий Пахимер. Кн. 5.4). Видимо, не случайно, монгольских правителей так сильно занимал вопрос о смерти от удара грома. Несомненно, что подобные представления уходят своими корнями в глубокую древность.
В каждом из приведенных свидетельств говорится о страхе перед наказанием со стороны Неба в виде грозового удара. Все дело в небесных знаках, которые читались как воля Тенгри. Небо с помощью молний осуществляло наказание. Аналогичные представления о наказании преступных деяний сверхъестественными силами существовали и в средневековом Китае. Речь идет о случаях, когда преступнику удавалось избежать возмездия со стороны людей[154]. По этой причине явление небесного грома занимало в мифологических представлениях средневековых монголов чрезвычайно важное место. В обозначенной перспективе заслуживает особого внимания сообщение брата Бенедикта, сохраненное братом Ц. де Бридиа, со слов некого рассказчика в Орде Гуюка. «Бывают там также молнии, громы и грозы, и [к тому же] вне сезона, ибо говорили они братьям, что несколько лет тому назад климат у них начал удивительным образом меняться. Поэтому часто кажется, что вблизи земли тучи словно сражаются с тучами, и рассказывали они дальше, что незадолго до приезда [наших] братьев к ним сошел огонь с небес и уничтожил лошадей многие тысячи и скота со всеми рабами, пасущими [его], за исключением немногих. А когда братья присутствовали на [церемонии] избрания кана, то есть императора, выпал такой сильный град, что после его внезапного таяния утонуло более ста шестидесяти человек, и [поток] далеко унес вещи вместе с жилищами» (НТ, § 35). Итак, некто поведал францисканцам о небесном огне (молнии), испепелившем табуны лошадей незадолго до интронизации Гуюка. Выше были приведены сведения Рашид-ад-дина о том, как монголы опасались подобной напасти. Самое же занимательное в этих сведениях — их связь с несчастьем, случившемся в день восшествия Гуюка на престол. Выбор счастливого дня для такого события был предметом особой заботы придворных астрологов. Для нашего же исследования важен другой аспект этого события. Информатор францисканцев, скорее всего, был человеком из окружения Бату, и целью его было бросить тень на фигуру вновь избранного хана. Соперничество за лидерство между Бату и Гуюком, известный факт. Сведения о небесном огне намекают на неприятие нового хана со стороны священного Неба[155]. Францисканцы по простоте душевной отнесли эти сведения в раздел о климате Монголии.
§ 5. Очистительная функция огня
Совершение предосудительных поступков влекло необходимость осуществить обряд очищения огнем. Это дает основание говорить о магическом характере предписаний, зафиксированных францисканцами — обстоятельство, не вполне осознававшееся исследователями. Прохождением между кострами нейтрализовались яды и «злые намерения», т. е. блокировалась потенциальная угроза со стороны чужеземцев. Обряд имел силу закона, о чем свидетельствуют многочисленные примеры.
В рассказе брата Бенедикта, записанном кельнским схоластом, мотивация очищения огнем послов и даров воспринята вполне адекватно. «Итак, служители Бату запросили и получили подарки, а именно; 40 шкурок бобров и 80 шкурок барсуков. Эти подарки были пронесены между двумя огнями, которым они поклоняются, и братья были принуждены идти за дарами следом, ибо среди татар существует обычай очищать огнем послов и подарки»{66}. Очевидно, что у нас нет оснований вслед за церковными историкам, писать об унижении послов, участвовавших в очистительных обрядах{67}.
О монгольском обряде очищения огнем посольских даров сообщает египетский историк Ибн ал-Фурат (1333–1404): «В 670 году (9 августа 1271 — 28 июля 1272 г.) отправились к царю Абаге послы ал-Малик аз-Захира (Мубариз ад-дин ат-Тури и Фахр ад-дин ал-Му'иззи) в сообществе ал-Барвана; они прибыли в орду и поднесли царю Абаге подарок его [султана], после того как прошли с ним [с подарком] между двух огней. Этим достигалось у них очищение подарка и [проводилось] испытание, нет ли в нем волшебства или яда» (Сборник материалов. Т. I. С. 263–264). О таком же обряде известно из отчета послов французского короля Филиппа к ильхану Аргуну[156].
В Новгородской летописи довольно ясно говорится, что при дворе Бату соблюдался следующий обычай: каждого, кто пришел поклониться хану, вместе с дарами, волхвы проводят между огнями. Иными словами, сообщается о традиционных очистительных обрядах. А дальше заявляется нечто странное: послы должны были поклониться какому-то загадочному кусту[157] и огню; столь же непонятна фраза о бросании волхвами в огонь части приносимых даров. Дары, как правило, провозились на повозках; упавшая на землю вещь переходила во владение к заклинателю (LT, III. 15; НТ, § 48). «Обычаи же имяше Батый кановъ: аще кто придет поклонится ему, не повеле пред ся вести, нь приказано бяше волхвомъ вести я сквозе огнь и по-клонитися кусту и огневи; аще что съ собою принесоша цесареви, от всего того взимающе волхви, въметают я въ огнь; тоже пред цесаря пущаху с дары. Мнози же князи с бояры своими идяху сквозе огнь и кусту кланяхуся, идоломъ их, славы ради света сего и прошаху коиждо их власти; они же без бранениа давахут, да прельстить я славою света сего» (НПЛ, с. 298). Скорее всего, представление о том, что князья должны были предварительно кланяться огню, связано с тем обстоятельством, что очистительный обряд мыслился (поздними переписчиками летописей) как начало придворных церемоний поклонения хану: «и дошедша места, идеже бяше огнь накладенъ по обе стороны, мнози погании же идяху въсквозе огнь и покланяхуся солнцю и огню и идолом. Волсви же хотеша великаго князя Михаила и Феодора, боярина его, вести въсквозе огнь»[158].
Вернемся к вопросу о бросании волхвами части посольских даров в огонь. П. О. Рыкин обратил мое внимание на сведения из географического труда арабского автора Ибн Шаддада и любезно предоставил перевод отрывка, где говорится о сжигании в огне кусков дорогой материи, предназначенной в дар хану. Ибн Шаддад, посетивший в качестве посла алеппского султана сына Хулагу Йошмута, чьи войска в начале 1259 г. осаждали крепость Маййафарикин, сообщает о первой встрече с монголами следующие подробности: «Группа монголов внезапно приблизилась к нам, и с ними были шаманы (qamat). Они осмотрели всех наших людей и наших животных. Затем они развели с двух сторон костры и прошли через них с нами, при этом колотя нас палками. Осмотрев ткани, они взяли штуку золоченной китайской материи и отрезали от нее кусок длиной в локоть. От него они отрезали болёё мелкие куски, бросили их на землю и сожгли в костре. Затем они сказали: "Ильхан{68} приказывает вам здесь переночевать, а завтра вы пойдете к нему". Когда мы пробудились, к нам пришла какая-то группа и забрала имевшиеся у нас дары. Они несли их перед нами и приказали нам следовать за ними. Когда мы явились к нему, мы вручили ему послание»[159]. Арабское свидетельство проясняет пассаж из русских источников: «аще что съ собою принесоша цесареви, от всего того взимающе волхви, въметают я въ огнь».
§ 6. Предписания: от внешнего к внутреннему
Вернемся к теме запретов из донесений францисканцев. Осквернение домашнего очага, равно как и пролитие какого-либо напитка в юрте, могло повлечь за собой смерть виновного. На первый взгляд, поражает несовместимость случайных, «бытовых» происшествий и наказания за них смертью. Однако, как мы уже убедились, с учетом аналогичных сведений Рашид-ад-дина, единственным приемлемым объяснением может служить тот факт, что подобные действия расценивались как вредоносная магия, способная вызвать гнев Неба, ударом молнии испепеляющего оскверненное место. Поскольку францисканцы говорят лишь о последствиях, касающихся нарушителя запрета, и умалчивают о последствиях для окружающих, то это обстоятельство препятствовало распознаванию истинного смысла сообщаемых ими сведений. Несомненно одно: за бытовыми действиями признавалась особая знаковая сущность, затемненная для нас тем обстоятельством, что не совсем был ясен адресат получения вредоносного «текста». Из донесений францисканцев мы знаем, что случайные или преднамеренные действия, входящие в категорию «грехов», влекли либо наказание виновного смертью, либо требовали для своей нейтрализации проведения сложного обряда очищения. И то, и другое диктовалось необходимостью восстановить нарушенный порядок между миром людей и высшей силой, персонифицированной Небом.
В «Уложении Юаньской династии», законодательном памятнике XIV в., одна из трех ссылок на Ясу касается наказания за изведение людей при помощи колдовства, за что по Ясе полагалась смертная казнь[160]. Из сравнения независимых источников следует, что существовали устойчивые представления, согласно которым нарушение сакральных предписаний неминуемо влекло расплату как со стороны людей, как и со стороны Неба. В картине мира средневековых монголов громовое явление играло не совсем ясную роль регулятора в «диалоге людей и богов». Так понимал ситуацию и брат Бенедикт, писавший: «Страх Божий [явился причиной] их утверждений о существовании неких больших грехов». Южносунский чиновник Чжао Хун, совершивший поездку к монголам в 1221 г., отметил их отношение к грому: «Когда [они] слышат гром, то пугаются и не смеют отправляться в поход. "Небо зовет" — говорят они» (Мэн-да бэй-лу, с. 79). Елюй Чу-цай, начинавший карьеру советника астрологом при особе Чингис-хана, должен был разъяснить скрытый смысл громового явления, имевшего место в неурочный срок (Сун Цзы-чжэнь, с. 70). Интересно, что и само событие, и его трактовка нашли отражение на посмертной стеле Елюй Чу-цая. Раскаты грома воспринимались как грозное и тревожное предзнаменование, обращавшее на себя внимание самого императора.
Система монгольских запретов была воспринята францисканцами как утрированный вариант «истинных» ценностей. Монгольским «грехам» миссионеры противопоставили христианское понимание греховности тех или иных поступков. Очевидно, что взаимопонимания достигнуть не удалось. Скорее всего, францисканцы не поняли до конца связь между незначительностью бытовых проступков и сверхзначимой сущностью, приписываемой нарушениям. С точки зрения монголов с помощью таких действий можно было спровоцировать гнев Неба. Навряд ли кто-либо из окружения францисканцев мог объяснить им связь между бытовыми проступками и темой «небесного суда». Почему, к примеру, считалось страшным преступлением коснуться плетью стрел? Этот вопрос и сегодня неясен. Тот, кто рассказал францисканцам о монгольских «грехах», не смог объяснить глубинного смысла «грехов». Несоответствие норм и установок другой культуры, ориентированной на регулирующую роль Неба, создавало непреодолимые трудности при попытке адекватно описать их. Это обстоятельство западные дипломаты вполне осознавали, о чем и сообщили брату Ц. де Бридиа, который, видимо, проявил интерес к смыслу загадочных запретов. Об этом свидетельствует его реплика: «Согласно некоторым преданиям, Чингис-кан был создателем их [религиозного права], но в большинстве случаев наши братья, будучи среди них достаточно долго, почти ничего не узнали об исполнителях [этих традиций]» (НТ, § 39).
Как мы помним, францисканцы отмечают запреты, связанные с жилищем; кочевников (касаться ножом огня, рубить дрова около огня, проливать молоко или другой напиток, выплевывать что-либо на пол, наступать на порог и запрет мочиться в юрте); запреты, связанные с конём и оружием (нельзя садится на плеть, нельзя бить коня уздою, нельзя касаться плетью стрел) и охотничьи запреты (убивать птенцов, ломать кость при помощи другой кости). В вольном пересказе Н. М. Карамзина известия францисканцев выглядят следующим образом: «Не ведая правил истинной добродетели, они вместо законов имеют какие-то предания, и считают за грех бросить в огонь ножик, опереться на хлыст, умертвить птенца, вылить молоко на землю, выплюнуть изо рта пищу (и многие подобные глупости); но убивать людей и разорять Государства кажется им дозволенною забавою»[161]. К чести францисканцев, в отличие от Н. М. Карамзина, они не считали запреты глупостью. Современник Н. М. Карамзина, французский востоковед К. д'Оссон в своих размышлениях ушел не дальше: «Чингис-хан своими законами освятил некоторые из суеверных представлений татарских народов, которые воображали, что целая куча вещей, безразличных по существу, приносит несчастья или привлекает гром, которого они сильно боялись. Он строжайше запретил мочиться в воду или на пепел, перешагивать через огонь, стол, тарелку; обмакивать руку в текущую воду — ее нужно было черпать каким-нибудь сосудом; мыть одежду — ее нужно было носить до тех пор, пока она совсем не износится. Чингис-хан не желал, чтобы говорили, что какая-нибудь вещь грязная; по его мнению, все было чисто»[162]. С тех пор эти оценочные суждения не претерпели особых изменений. Исследователи, как правило, ограничивались пересказом сведений средневековых наблюдателей, тогда как истинный смысл этих сообщений оставался для них тайной за семью печатями. Обнаружив связь между запретами и темой «небесного суда» мы можем смело отвергнуть научный миф о суеверных монголах.
Кратко остановимся на каждом из запретов.
§ 6.1. Запрет садиться на плеть. Происхождение и смысл запрета неясны. Согласно сведениям китайского компилятора XIII в. Е Лун-ли, кидане, когда встречались с вихрем, закрывали глаза и делали по воздуху 49 ударов плетью (Е Лун-ли, с. 341). Аналогичные представления бытовали у якутов[163]; в мифологии башкир всесокрушающий вихрь представлялся дэвом в образе царя ветров[164]. По поверьям алтайцев, кнутовище, сделанное из тальника (алт. табылгы сапту камчы — досл. 'плеть с рукояткой из тальника') считалось особо отпугивающим злых духов; если же оно было не из таволги, то такой плети злые духи не боялись. У бурят кнут шамана обычно сплетали из кожи налима, а рукоятку делали из сухай — красной ивы, дерева, которое монголоязычные народы почитали как волшебное. Видимо, поэтому плетка представлялась обладающей волшебной силой[165]. В якутском эпосе «Нюргун Боотур Стремительный» герой получает плеть от шаманки, и, в случае надобности, эта плеть могла превращаться в меч или панцирь[166]. В алтайском героическом эпосе Небесная Дева оживляет богатыря, перешагивая через тело погибшего и ударяя его плетью[167]. Плеть выступает в качестве шаманского атрибута. Именно с шаманством связан еще один пласт в функциональном назначении плети. Плеть на шее роженицы защищала ее от албасты[168]. Шаманы у народов Средней Азии использовали плеть в качестве ритуального предмета при исцелении больных, а иногда — просто во время камлания. Это отмечено у киргизов[169], уйгуров, каракалпаков, туркмен-човдуров и других кочевников[170]. Следовательно, запрет садиться на плеть, отмеченный францисканцами, был связан с сакральной силой этого предмета.
§ 6.2. Запрет касаться плетью стрел. Происхождение и смысл запрета неясны. В кочевом обществе, где каждый мужчина был воином, особенное значение приобретала разнообразная символика оружия[171]. С сульдэ — 'жизненной силой', 'душой' — было связано вооружение, в том числе и стрелы. Выходя замуж, девушка привозила с собой в дом жениха лук в налучнике, стрелы в колчане. Стрелы символизировали сульдэ будущего потомства. Прибыв в дом жениха, сопровождающие невесту говорили: «Привезли колчан, полный стрел, привезли меру, полную сульдэ»[172]. По содержанию термин сульдэ однозначен с заяа 'душа-судьба' и хэшэг хутаг 'счастье', 'благо', 'святость'[173]. Стрелы применялись для гадания[174].
§ 6.3. Запрет бить коня уздою. Происхождение и смысл запрета неясны. Скорее всего, речь шла о дурных предзнаменованиях, либо поведенческой инверсии. Так, например, в обряде жертвоприношения предкам в культе Чингис-хана, одно из «перевернутых» действий заключалось в том, что всадники дергали уздечку указательным пальцем[175].
§ 6.4. Запрет убивать птенцов. Аналогичный запрет содержится в китайском сочинении III в. до н. э. «Хроника Люя» и напрямую связан в законами Неба. В первую неделю весны «запрещается и прекращается порубка деревьев. Нельзя разорять гнезда, бить молодняк, самок с телятами, неоперившихся птенцов; уничтожать малых, собирать яйца. Не следует собирать большие толпы, возводить городские стены и валы. Следует закопать скелеты и зарыть трупы. В этой луне нельзя поднимать войско. Поднять войско значит навлечь кару небес. Если чужое войско не поднимает оружия, мы не можем начинать первыми. Нельзя идти против законов Неба, нарушать правила земли, преступать людские порядки. <…> Причину счастья или горя люди заурядные видят в судьбе, но откуда им знать, где их действительный исток. Если разорять гнезда и уничтожать яйца, фениксы не явятся. Если выбивать зверя и питаться молодняком, цилинь не придет. Если спускать водоемы и брать рыбу, не останется ни драконов, ни черепах»[176]. Возможно также, что монгольский запрет убивать птенцов связан с особым отношением к онгонам. Для различения отдельных племен, пишет Рашид-ад-дин в «Огуз-наме», были установлены онгоны-покровители: «Обычай таков, что на сделанного онгоном какого-нибудь племени, так как его назначают ради предзнаменования в благополучии, уже не нападают, не причиняют ему стеснений и мяса его не едят. Этот смысл действует и доныне. Каждое из тех племен знает своего онгона»[177]. Потомки Огуза получили онгоны, прежде всего, в виде хищных птиц: это сокол, кречет, орел, сова, коршун, копчик, беркут и т. д.[178]
§ 6.5. Запрет проливать молоко или другой напиток на землю внутри жилища. Как мы уже выяснили, этот запрет известен и Рашид-ад-дину. Благодаря его описанию, устанавливается виртуальная связь между пролитием напитка и грозовым явлением. Такая же связь существует между остальными запретами и «гневом небес», что ставит окончательный барьер на пути выяснения происхождения всех упоминаемых в этом исследовании запретов. К XIX в. отношение к пролившему кумыс претерпело существенные изменения. Г. Н. Потанин сообщает о следующем запрете у монголов-дюрбютов: «Чиген (кумыс) и вообще цаган иден ("белую еду"), то есть молочное, пролить на землю грех. Пролив, мочат в луже пальцы и вытирают их о правое плечо и правое колено. Если перед кочевкой прольют, собирают смоченную землю, везут с собой и выбрасывают на новой стоянке»[179].
§ 6.6. Запрет мочиться в юрте. Происхождение и смысл запрета неясны. Какие либо соображения этического характера, в данном случае, неуместны. В сочинении египетского историка ал-Макризи (XV в.) сведения об этом запрете сохранились в более ясном виде: «Тот, кто мочится в воду или на пепел (огонь) также предается смерти»[180].
§ 6.7. Запрет ломать кости. У тюрков с костью связывались представления о жизненной силе, передаваемой из поколения в поколение[181]. По поверьям, кости имели силу воскрешать из мертвых, но только в том случае, если кости человека или животного не были разрушены; в противном случае сила пропадает. Это верование широко распространено среди монгольских пастухов, которые, убивая животных, всегда оставляют их кости целыми. Помимо этого среди монгольских пастухов наблюдается практика сжигать кости съеденных животных. Особое отношение к костям отражается и в многочисленных запретах ломать кости при добыче диких зверей, особенно разбивать череп животного. Этот запрет неизменно сохраняется в ритуальной жизни: ни в коем случае не допускалось нарушение целостности костяка жертвенных животных. Все это наводит на мысль, что сакральность костяка была обусловлена представлением о воплощении в них сульдэ — жизненной силы[182]. Францисканцы также отметили, что в обряде почитания идола Чингис-хана кости жертвенных животных сжигались в огне, а не ломались (LT, III. 3; НТ, § 39).
§ 6.8. Запрет, связанный с порогом юрты. Дверь и особенно порог были семантически значимыми объектами жилища кочевника. Дверь отделяет юрту от окружающего пространства; в мифологическом плане дверь — граница двух миров, человеческого и природного. Пересечение этой границы как в ту, так и в другую сторону было сопряжено с соблюдением ряда правил, вошедших в монгольский этикет. Символическая значимость порога не являлась исключительной особенностью только кочевой культуры; тоже самое явление характерно и для оседлых культур Средней Азии[183]. О запрете касаться порога во дворце монгольского правителя было известно уже доминиканцу брату Юлиану, собиравшему сведения о монголах во время странствия по Поволжью в 1238 г. Содержание этих сведений отличается любопытным преувеличением. В донесении брата Юлиана говорится, что дворец хана столь велик, что тысяча всадников, въехав в одни ворота и преклонившись перед ханом, не сходя с коней, выезжает в другие. Сам же правитель восседает на громадном троне, стоящем на золотых колоннах. Врата, через которые проезжают всадники, сделаны из золота. Чужеземные послы, независимо от того, пешими ли они минуют врата или верхом, если коснутся порога, то тут же поражаются мечом, и потому всякому чужестранцу надлежит ступать с наивысшим почтением (Юлиан. Послание о жизни тартар. 2. 9–13). Скорее всего, эти необычные известия были получены братом Юлианом от упоминаемого им монгольского посла. Если искать какой-то реальный прототип сведениям о роскоши, то следует указать на дворец, возведенный ханом Угедеем в Каракоруме. Ср.: «Так как он еще раньше привез с собой из Китая разных ремесленников и мастеров всяких. ремесел и искусств, то приказал построить в [своем] юрте Каракоруме, где он по большей части в благополучии пребывал, дворец с очень высоким основанием и колоннами, как и приличествует высоким помыслам такого государя. Каждая сторона того дворца была длиною в полет стрелы. Посередине воздвигли величественный и высокий кушк и украсили то строение наилучшим образом и разрисовали живописью и изображениями» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 40). Кроме того, у великого хана имелся золотой шатер, вмещавший по мнению Сюй Тина, несколько сот человек (Хэй-да ши-люе, с. 138), а по словам Рашид-ад-дина, тысячу человек (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 41). Въезд тысячи всадников (mille equites) на конях во дворец, странная ошибка брата Юлиана. Лошадей оставляли на расстоянии двух полетов стрелы от ханского шатра и далее шли пешком. Не исключено, что информатор Юлиана на самом деле говорил о тысячнике, т. е. военачальнике, командующем тысячью всадников. Однако, удивительна строгость наказания за нарушение запрета, связанного с касанием порога, не является преувеличением. Считается, что предписание, связанное с порогом, входило в Ясу Чингис-хана[184]. Марко Поло, описывая дворцовые церемонии при дворе великого хана Хубилая, особо отмечает предписания, связанные с порогом жилища правителя. Так, на ханском пиру «приставлено несколько баронов разводить иноземцев, не знающих дворцовых обычаев, по местам, им приличествующим. Бароны ходят туда и сюда по зале, смотрят, кому что нужно, и приказывают слугам подавать вино, молоко, мясо и другое, У каждых дверей с обеих сторон или вернее всюду, где великий хан может быть, стоят два больших человека, словно гиганты, с посохами{69}; они наблюдают, чтобы никто не наступал на порог, а перешагивал через него; а того, кто наступит, они раздевают, а он должен выкупить одежду; или же, не раздевая его, дадут ему несколько ударов по назначению. К иностранцам, не знающим этого, приставляют баронов; они их вводят и предостерегают; наступать на порог — дурная примета, поэтому-то и делают это. При выходе же, так как многие подпили и не могут остерегаться, то на это не обращают внимания» (Марко Поло, с. 285)[185]. Последнее обстоятельство указывает на условный характер предписания не касаться порога, причем условный характер табу вполне осознавался современниками. Замечание Марко Поло о реальной возможности безнаказанно нарушать одно из самых строгих предписаний показывает, что дело было не в нарушении как таковом, а в том, сделано оно сознательно или непроизвольно. Пьяные участники пира могли безо всяких последствий для себя и окружающих пренебречь соблюдением этикета.
§ 6.9. Ритуальная трапеза (запрет выплевывать пищу). Сведения брата Иоанна о поведении и ролевых позициях участников монгольской трапезы не только более точны, но и передают смысл конфликта, полностью утраченный в пересказе брата Ц. де Бридиа. Иначе, кто бы, находясь в здравом уме, стал бы вкладывать себе в рот такой кусок пищи, который он не смог бы проглотить, зная, что за этот проступок его ожидает смерть. Все дело в том, что один из участников трапезы вкладывал кусок пищи в рот другому. Запрет выплевывать пищу приобретает свой истинный смысл в контексте ритуальной трапезы, о которой брат Иоанн сообщает в четвертой главе: «Когда они едят мясо, один из них отрезает кусочки, а другой их подхватывает острием ножика и дает каждому — некоторым меньше, некоторым больше — согласно тому, насколько они жаждут почтить тех — больше и меньше»{70}. Эти сведения брат Ц. де Бридиа не сохранил. Сложнее судить о сакральной стороне запрета выплевывать пищу[186]. Такую ритуальную трапезу, где мясо одного барана, разрезанное на маленькие кусочки, распределялось между 50 или 100 участниками, наблюдал брат Вильгельм (Itinerarium. III. 2). Он отмечает, что участник трапезы обязан был съесть свою часть, не делясь ею ни с кем. Монгольский обычай распределения мяса во время трапезы известен и китайскому дипломату Пэн Да-я (1233 г.). Он пишет: «[Когда садятся за еду], режут мясо на куски и сперва отведывают [его сами], а затем дают есть другим» (Хэй-да ши-люе, с. 139). Наблюдения Пэн Да-я близки сведениям брата Иоанна, однако южнокитайский дипломат не обратил внимания на то, что распределение кусков мяса носит знаковый характер. Обряд распределения мяса между участниками церемонии жертвоприношения предкам — древний монгольский обычай. В «Тайной истории монголов» (§ 70) имеется выражение йекес-юн кесиг. Оно имеет отношение к той части мяса, предлагаемого для жертвоприношения предкам, которая распределяется между участниками церемонии. Известно, что Оэлун, мать будущего Чингис-хана, однажды не была приглашена отведать жертвенной пищи. Следствием исключения Оэлун из очень важного ритуала жертвоприношения предкам были перемены в ее судьбе, приведшие к потере подданных[187]. У кочевников евразийских степей пир в определенных ситуациях являлся важнейшим политическим ритуалом. Ибн Баттута, путешествовавший по Средней Азии в начале XIV в., пишет об этом следующее: «Чингис составил книгу своих постановлений, называемую у них Йасак, а у них положено, что тот, кто не выполняет постановлений этой книги, должен быть свергнут. По его постановлению они должны собираться раз в год на пиршество, которое называется туй, или "день празднества". К тому дню съезжаются со всех концов страны потомки Чингиса — эмиры, хатун и крупные военачальники»[188]. В частности, пир, как политический акт, служил средством установления и воспроизводства политической структуры и иерархии[189]. Политическая элита кочевого общества, составляя закрытую группу, именовала себя корпоративным термином «сотрапезники»; значение этого слова Рашид-ад-дин определяет как «пировать друг с другом» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 13). В этой системе существовала строго определенная иерархия мест сотрапезников. Ритуал подробно описан в сочинении хивинского хана Абу-л-Гази[190]. Обычно структурообразующей частью ритуальной трапезы считается туша животного, чаще всего барана, коня, оленя. При раздаче мяса осуществляется акт, выявляющий иерархию: каждый из участников пира получает определенный кусок, соответствующий его месту в «табели о рангах». В ходе пира сотрапезники, получив свою долю, отрезают от нее кусочки мяса и вкладывают в рот одного или нескольких присутствующих, не допущенных к основной трапезе в силу их более низкого статуса. Возможно, этот момент пира выявляет суть понятия «белая кость», обозначающего политическую элиту у кочевников: в ходе ритуала белая кость жертвы, являясь значимым символом, остается у обладателя части туши. Структурным элементом ритуала является не мясо, а кости, к которым оно крепится. Обладатели костей образуют «скелет» общества. Раздавая куски мяса жертвенного животного, обладатели костей делятся своей долей общей родовой силы (тюрк. суур), сопричастностью к власти, «скелету» государства, создавая таким образом его ткань. Южнокитайский дипломат Сюй Тин пишет об Угедей-хане: «Что касается таких важных дел, как походы, война и другие, то [они] решаются только самим татарским правителем. Однако он еще обдумывает их вместе со своей родней. Китайцы и другце люди не участвуют [в этих обсуждениях]. Правитель обычно называет татар "своей костью"» (Хэй-да ши-люе, с. 142).
§ 6.10. Запреты, связанные с огнем — наиболее исследованная сфера сакральных представлений[191]. Однако этнографические материалы XVIII–XX вв. не позволяют оценить истинную роль культа огня в картине мира средневековых кочевников, поскольку в традиционной культуре Нового времени утрачены представления о связи между «земным» и «небесным» огнем. К тому же имперская культура насыщала древние символы особой энергией, переводя их в имперский масштаб и придавая им гипертрофированный характер.
В заключение упомянем некоторые современные поверья, бытующие у монголов, по характеру совпадающие с тем, что сообщают францисканцы, и столь же трудно объяснимые: «В бабки (шагай) играют только осенью и зимой. Эта игра вызывает дождь, гром и молнию, поэтому летом и весной опасна»[192]. Согласно Рашид-ад-дину, основные запреты также приходились на весну и лето.
В современной традиционной монгольской культуре существует система запретов, охраняющая «счастье-благодать» (монг. буян-хишиг, буян-хутаг, хишиг-хутаг). Каждый из этих терминов, (употребленный в ед. числе), обозначал счастье в понимании кочевника-монгола: хорошая погода (без бурь, ураганов, гололеда), хороший приплод скота, много здоровых детей. Парный термин приобретал оттенок не столько земного счастья, сколько благодати, предопределенной Небом. Многие из названных францисканцами запретов встречаются по сей день в повседневном быту монголов. Они образуют прочный барьер, охраняющий «счастье-благодать» от намеренных или случайных на него посягательств. Основная их часть так или иначе связана с юртой, семьей и имуществом кочевника, т. е. средой, в которой он живет. Вот лишь некоторые из них: нельзя лить воду в очаг, плевать в него, перешагивать через огонь, сидеть вытянув ноги в сторону очага — это может оскорбить «хозяйку» домашнего очага и она перестанет оберегать благополучие семьи. Нельзя пролить молоко и наступить на него — «белая» пища священна. Нельзя выплескивать остатки чая, выбрасывать необглоданную кость, отдавать что-либо левой рукой — достаток может уйти из семьи. Нельзя мочиться в юрте, ругаться в присутствии старших, сидеть на пороге — это оскорбляет духов предков семьи и рода. Живы и запреты, связанные с конем и конским снаряжением (нельзя бить коня уздой, нельзя перешагивать через узду, нельзя опираться на плеть, нельзя входить с плетью в юрту и др.), хотя объяснить их значение сегодня практически невозможно[193].
При дворе Берке исполнялся монгольский имперский дипломатический ритуал, не имевший ни малейших признаков влияния ислама. Предписания, которым должны были следовать египетские послы, продиктованы Ясой Чингис-хана. Мусульмане в кочевой ставке Берке служили переводчиками и осуществляли дипломатическую переписку.
Наряду с мусульманами при монгольском дворе в роли переводчиков находились русские, кипчаки, армяне, греки. Все они без исключения знали о магических запретах, и, видимо, догадывались на страже какой имперской мифологемы стоят предписания Ясы. Речь идет о небесном мандате, согласно которому власть принадлежит прямым потомкам Чингис-хана. Отменить предписания Ясы Берке не мог, собственно, он их и не отменял: все магические запреты были в силе. На страже Ясы стояли представления кочевой аристократии о механизмах власти и уклад орды. Отказ от ритуала был бы равнозначен отказу от власти. Имперская мифологема исключала идею джихада.
Однако мусульманские историки настаивают на обратном. Возможен ли исторически такой вариант, что при Берке без противоречия сочетались Коран и Яса? В энциклопедии ан-Нувайри (1279–1333), несомненно, изображена идеальная ситуация (Коран полностью затмил Ясу): «Этот Берке сделался мусульманином, и ислам его был прекрасный. Он воздвиг маяк веры и установил обряды мусульманские, оказывал почет правоведам, приблизил их к себе, держал их вблизи от себя, сдружился с ними и построил в пределах своего государства мечети и школы. Он первый из потомков Чингис-хана принял религию ислама; [по крайней мере] нам не передавали, чтобы кто-нибудь из них сделался мусульманином до него. Когда он стал мусульманином, то и большая часть его народа приняла ислам. Жена его Джиджек-хатун [также] сделалась мусульманкой; она устроила себе из шатров мечеть, которую возила с собой» (Сборник материалов. Т. I. С. 122–123). Ан-Нувайри ни слова не говорит о «вопрошателях демонов» и прочих магах, о которых повествуют францисканцы, китайские и армянские историки. Очевидно, что информаторы ан-Нувайри игнорируют важные проявления монгольской жизни и дают основания нынешним историкам реальную картину заменять идеальной.
Кочевое монгольское государство — это сложно устроенное сообщество, сформированное вне рамок ислама[194]. В следующей главе речь специально пойдет о предсказателях, заклинателях и шаманах, а также о различных техниках гаданий. Сомневаться в том, что магическая матрица пронизывала все страты кочевого мира, не приходится. Вопрос, который меня смущает, звучит так: как эти группы магов сосуществовали с большинством, принявшим ислам? При Берке структуры повседневности Большой Орды остались неизменными, о чем свидетельствовал дворцовый ритуал. Что в таком случае означают слова ан-Нувайри? Видимо, то же самое, что и слова Джузджани, видевшего в покровительстве Бату мусульманам нечто исключительное: «Он (Бату) был человек весьма справедливый и друг мусульман; под его покровительством мусульмане проводили жизнь привольно. В лагере и у племен его были устроены мечети с общиной молящихся, имамом и муаззином. В продолжение его царствования и в течение его жизни странам ислама не приключилось ни одной беды, ни по его [собственной] воле, ни от подчиненных его, ни от войска его. Мусульмане туркестанские [хорезмийцы] под сенью его защиты пользовались большим спокойствием и чрезвычайною безопасностью» (Сборник материалов. Т. II. С. 41). Суть ситуации объяснил современник Бату, папский посланник Андре де Лонжюмо: «Король тартар домогается только власти над всеми и даже монархии над всем миром и не жаждет чьей-нибудь смерти, но дозволяет каждому пребывать в своем вероисповедании, после того как [человек] проявил к нему повиновение, и никого не принуждает [совершать] противоположное его вероисповеданию» (Английские источники, с. 133).
Глава 7.
Предсказания (дивинация)
«Установка исследователей на то, что феномен религиозно-мифологических представлений монголов обозначается термином "шаманизм", вызвала поиски шаманов, которые бы определяли жизнь страны, народа, и выводы о том, что наличие шаманов при дворе (хотя единственное упоминание их связано с лечением Угедея) маркирует их высокий социальный статус. По мнению этих исследователей, они обязательно составляют значительную оппозицию власти хагана (это тоже штамп: по материалам у них были разные сферы деятельности), а Тэб-Тэнгри называется небесным шаманом и основным противником Чингис-хана. На самом деле картина, вероятно, была следующей: с одной стороны — светский лидер (правитель — старик — богатырь) с присущими ему сакральными функциями, обозначаемый мною здесь как правитель/жрец; с другой — шаман, для которого характерна только ритуальная деятельность в сфере сакральной периферии»[195]. Прояснить тему, обозначенную Т. Д. Скрынниковой, без привлечения сведений францисканских миссий к монголам, невозможно.
§ 1. Общающиеся с демонами
«Attendunt eciam ueneficia et incantationes. Responsa uero demonis credunt dei, quem deum appellant Iuga, sed Comani Codar» — 'Обращаются они также к изготовлению зелий и заклинаниям и верят, что ответы демона — это [ответы] бога, коего бога называют Иуга, а команы — [называют] Кодар' (НТ, § 42). Брат Ц. де Бридиа, переписывая донесение Бенедикта, подверг текст сокращениям, опустив, в данном случае, слово дивинации. Сведения брата Иоанна о священнодействиях монголов существенно шире: «Они много обращаются к предсказаниям, авгуриям{71}, [х]аруспикиям{72}, приготовлениям зелья, заклинаниям, а когда им приходит ответ от демонов, они верят, что с ними говорит Бог. Этого Бога они именуют Итога, но команы его же называют кам; его они удивительным образом боятся и почитают, а также приносят ему многочисленные жертвы и [в том числе] первины всякой еды и питья, и все вообще, делают согласно его ответу»{73}. Интерес францисканцев к практике монгольских предсказаний связан со стремлением выяснить механизм принятия решений правящей элитой. Эта мотивация вполне осознавалась как самими дипломатами, так, например, и Роджером Бэконом, который использовал сведения из отчетов миссии для описания методов управления в Монгольской империи. Поскольку практика предсказаний играла важную роль в системе государственного управления, следует выяснить, что же на самом деле скрывалось за словом дивинация[196].
Мы переводим слово divinationes как 'предсказания', однако такое решение не может считаться окончательным, так как семантическое поле этого слова у брата Иоанна нуждается в дополнительном изучении. Мы сталкиваемся здесь с двумя вопросами, которые следует различать между собой: 1) значение слова divinatio в классической латыни и современных европейских языках и 2) характер деятельности самих монгольских divinatores.
В классической латыни, если отвлечься от побочных оттенков, слово divinatio означало две взаимосвязанных, но разных вещи: с одной стороны, нечто, относящееся к внутреннему миру человека ('предчувствие, наитие'), с другой — экстериоризацию этого чувства, как правило, в вербальной форме ('предсказание'). Такое двойственное значение mutatis mutandi сохраняется дериватами этого слова в современных языках.
Уже М. Туллий Цицерон в специальном сочинении «О дивинации» отмечал универсальное распространение этого феномена: «Существует древнее мнение, ведущее свое начало еще с самих героических времен, и оно подкрепляется согласием, как римского народа, так и всех племен, о том, что встречается среди людей некая дивинация, которую греки называют μαντικη, то есть предчувствие и знание о будущих делах. Это — вещь великолепная и спасительная (если только в каком-либо виде существует), и благодаря ей смертная природа могла бы приблизиться к силе богов» (О дивинации. I. 1)[197]. Далее Цицерон определяет дивинацию как «предсказание и также предчувствие тех обстоятельств, которые считаются случайными» (1.9). Говоря об истории дивинации, он, начав с ассирийцев, переходит к халдеям, которые, «как полагают, посредством ежедневного наблюдения звезд, создали науку о том, каким образом может-де быть предсказанным то, что должно случиться с каждым и для какой судьбы каждый рожден. Полагают, что египтяне также научились тому же самому искусству за промежуток времени, состоявший из столетий почти неисчислимых» (1.2). Не оставляет в стороне Цицерон народы Малой Азии, греков, римлян… И, наконец, разделив дивинацию на два вида, один из которых принадлежит искусству, а другой — природе, задает вопрос: «Какой же существует народ или какое государство, которые не были бы движимы предсказанием будь-то гадателя по внутренностям жертвенного животного, будь-то толкователя чудес или молний, будь-то астролога, будь-то жеребьевых дощечек — ведь эти способы почти являются искусствами; будь-то снам, будь-то пророчествам — ведь эти два способа считаются естественными? Я, во всяком случае, считаю, что надлежит, чтобы скорее были исследуемы проявления таких обстоятельств, чем [их] причины. Ведь существуют некие сила и природа, которые предвещают будущие обстоятельства, как посредством долговременного наблюдения знамений, так и некого инстинкта, вдохновенного и божественного» (О дивинации. 1.12).
Трудно сказать, в какой мере Иоанн де Плано Карпини мог пользоваться словом divinatio в цицероновском смысле. Может оказаться существенным то, что он употребляет его во множественном числе, хотя это не было противопоказано и классической латыни. Нам все же представляется, что брат Иоанн употребил его в крайне нейтральном значении, приближаясь к современному фр. divination, которое означает все-таки, в первую очередь, 'гадания'. Что же касается функций монгольских дивинаторов, латиноязычные источники представляют их весьма полно. Сам брат Иоанн сообщает, что они занимались ауспициями и харуспициями, кроме того он упоминает, что при обрядах очищения участвовали заклинатели (incantatores) в единственном и множественном числе (LT, III. 7, 10), а также заклинательницы (LT, III. 15). В кыпчакском словаре «Codex Cumanicus» определение qam qatum передано латинским словом incantatrix.
Подробную картину деятельности дивинаторов дает Вильгельм де Рубрук (который называет их также divini) в XXXV главе своей книги. Так, дивинаторы, знающие астрономию, предсказывают затмения солнца и луны, в момент затмения они бьют в барабаны, производя большой грохот; в их обязанности входит указание на благоприятные и неблагоприятные дни для тех или иных начинаний; они же определяют время для сбора войска и начала военных действий{74}. См. также у него: VIII. 2 (о прорицательницах — sortilege); XVII. 1: «Omnes enim divinatores vocant Chan. Unde principes dicuntur Chan, quia penes eos spectat regimen populi per divinationem»; XXXII. 6 (фигурирует «капитан» дивинаторов). Следует привлечь и монгольский материал[198].
В качестве примера дивинаторов, знающих астрономию и определяющих начало военных действий, приведу эпизод из летописи Рашид-ад-дина, связанный с военным противостоянием между ильханом Текудером (Ахмедом) и царевичем Аргуном летом 1284 г. Конфликт между дядей и племянником за трон грозил вылиться в междоусобную войну, но нойоны выступили за переговоры. В ситуации неопределенности одна из сторон обратилась к астрологам. «Ходжи Садр-ад-дин и Асиль-ад-дин, сыновья покойного ходжи Насир-ад-дина Туей, доложили, что по предзнаменованию светил в походе не будет добра. [Ахмед] очень разгневался и выбранил их» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 106). В этом случае в роли дивинаторов выступают мусульманские астрологи, сыновья Насир-ад-дина ат-Туси (1201–1274), знаменитого персидского философа, математика и астронома. И другой пример. Чагатайский царевич Борак вторгся во владения ильхана Абага. На военном совете мнения нойонов Борака разделились. Йисур полагал, что лучше мирным путем выпросить земли у Абага. А Джалаиртай заявил: «Мы пришли воевать, коли хочешь мириться, то лучше было это сделать в Мавераннахре». Борак согласился дать бой. «Сопровождал его некий звездочет по имени Джелаль. Он у него попросил открыть, какое выбрать время. Он промолвил: "Ежели ты повременишь с месяц, то для тебя будет лучше". Бораку не понравилось слово о промедлении, а Джалаиртай вскипел от гнева и вскричал: "Чего там еще придавать значение счастью звезд, особливо в такой час, когда сильный враг подошел близко". Маргаул тоже выразился в таком смысле и покончили на том, чтобы дать бой, а раньше выслать лазутчиков, чтобы они разведали, взаправду ли пришел Абага-хан или нет» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 78). Прогноз звездочета оказался верным. В 1307 г. ильхан Улджейту отправил Данишманда Бахадура с приказом захватить Герат, правитель которого, Малик Фахр-ад-дин, вышел из повиновения. Советникам Данишманда удалось уговорить Малик Фахр-ад-дина покинуть город и уйти в соседнюю крепость, однако в цитадели (хасар) города заперлись несогласные, задумавшие хитростью заманить Данишманда и убить его. Данишманд обратился к индийскому астроному, который гадал на песке, с просьбой: «"Погадай [мне], посмотри и скажи: целесообразно ли нам пойти и увидеть (т. е. осадить) хасар или нет". Индийский астроном погадал и сказал: "О великий, необходимо отменить поход к хасару, потому что [результаты] гадания не к добру. Знаки, которые указывают на стрелы и кровь, повторяются два-три раза и установлены в утроенной форме". Данишманд Бахадур от этих слов призадумался, решил направиться в сторону своей родины и отложить дело с хасаром. [Но] маулана Ваджих-ад-дин сказал: "О эмир, не расстраивай [свои] дела, согласно [словам] этого колдуна, потому что он не хочет войны и не ведает о востребованности [слов]: "во истину только Аллах знает время Судного дня…" поэтому Он (Бог) не раскрыл тайное пророкам. Вера в [гадание] по звездам есть богохульство. Доказательства этому очевидные: все, что они (кудесники) говорят — случается наоборот"» (Хафиз Абру, с. 49). Прогноз астронома сбылся.
Поразительно, насколько монголы оказались открыты к восприятию чужого опыта. Магический универсум соответствовал имперскому универсуму.
Между Вильгельмом де Рубруком и буддистами произошел занимательный диалог о назначении скульптурных изображений людей в буддийском храме. Выяснилось, что скульптуры означают не богов, а знатных умерших, и призваны хранить память о них. Из рассказа францисканца следует, что имеется некая связь между стационарными фигурами в буддийских храмах и войлочными изображениями умерших Чингизидов. Ни один чужестранец не смел поклоняться этим онгонам. Войлочные идолы перевозились на специальных повозках под охраной дивинаторов. В этом случае дивинаторы — буддийские предсказатели. «Они верят лишь в единого Бога, однако делают из войлока фигуры умерших своих, облачают их в самые дорогие одеяния и помещают их на одну или две повозки. И к этим повозкам никто не осмеливается прикоснуться. И находятся они под охраной предсказателей, которые являются их священнослужителями, о которых я вам в дальнейшем расскажу. Эти предсказатели всегда находятся перед двором самого Мангу и других богатых; бедные же не имеют их, если только они не из рода Чингиса. И в походе словно колесница, запряженная парой, они следуют впереди, как столп света пред сынами Израиля, и именно они выбирают место, где разбить лагерь и первыми ставят дома свои и после них весь двор. А в день праздника и в календы они извлекают вышеупомянутые фигуры и располагают по кругу в доме своем. Затем входят сами моалы и войдя в дом сей, преклоняются и воздают почести. И в этот дом никто чужой не смеет войти. Однажды я, попробовав войти в этот дом, был наказан жестоко»{75}. Предсказатели, сопровождающие повозки с особыми онгонами, и движущиеся впереди ханской орды, видимо, занимались магическим обезвреживанием пространства. Сходный сюжет имеется в Новгородской Первой летописи. «В лето 6746 (1237 г.)… придоша иноплеменьници, глаголемии Татарове, на землю Рязаньскую, множьство бещисла, акы прузи; и первое пришедшее и сташе о Нузле, и взяша ю, и сташа станом ту. И оттоле послаша послы своя, жену чародеицю и два мужа с нею, къ князем рязаньскымъ, просяче у нихъ десятины во всемь»[199]. Кем была эта чародейка? Исследователи сошлись на предположении, что это шаманка. Ю. В. Кривошеев полагает, что монгольские послы были жрецами-прорицателями: «Татары, вступая в неизвестные, чужие, таящие множество опасностей, земли, безусловно, попытались уберечься от возможных несчастий… "Жена чародеица и два мужа с нею" вовсе не были "послами безделными", а скорее наоборот. Прежде, чем предстать перед Батыем и предсказать приемлемый ход событий, они должны были расколдовать эту чужую неведомую для них и их сородичей страну»[200]. Существует также убедительная гипотеза, что войлочные изображения предков, высоко чтимые Чингизидами, превратились у правящих династий в Персии и Китае в живописные портреты предков[201].
В целом, монгольские divinatores могут быть отнесены к широкому разряду неспециализированных магов, хотя прогностические функции в их деятельности, по всей видимости, преобладали. Этнолог К. Йохансен, анализируя сведения брата Вильгельма, справедливо полагает, что предсказателей не следует относить к категории шаманов, поскольку речь идет о разных магических техниках[202]. При этом, существовали и маги-специалисты — такие, как, например, sortilege. Наконец, как способностью предчувствия, так и правом истолкования знамения, т. е. предсказания, могли быть наделены и личности, стоящие вне сферы профессиональной магии (см. ниже эпизод с выпадением снега летом 1219 г.). Может быть, монголоведы смогут прояснить загадочную фразу брата Вильгельма, из которой, как будто, следует, что монголы называли злых духов и злые ветры тем же словом, что и дивинаторов (перевод этой фразы у А. И. Малеина[203] не имеет ничего общего с подлинником{76}).
Iuga брата Бенедикта и Ytoga брата Иоанна де Плано Карпини соответствуют Natigay у Марко Поло[204] и Eke Etügen 'великая мать-земля' «Тайной истории монголов» (§ 113). Монг. Этуген (Ätügän, Itügän или Ütükän) обозначало божество земли или обожествленную землю[205]. Марко Поло сообщает о традиционных верованиях монголов следующее: «А вера у них вот какая: есть у них бог, зовут они его Начигай и говорят, что то бог земной; бережет он их сыновей и их скот да хлеб. Почитают его и молятся ему много; у каждого он в доме. Выделывают его из войлока и сукна и держат по своим домам; делают они еще жену того бога и сынов. Жену ставят по его левую сторону, а сынов перед ним; и им также молятся. Во время еды возьмут да помажут жирным куском рот богу, жене и сынам, а сок выливают потом за домовую дверь и говорят, проделав это, что бог со своими поел, и начинают сами есть и пить» (Марко Поло, с. 90).
Марко Поло было известно, что монголы, оставшиеся на родовых территориях, придерживались древних языческих верований. И потому Поло, привыкший к утонченным и пышным церемониям при дворе великого хана в Ханбалыке, считал их веру «дикой». Монголы, соблюдавшие традиции предков, точно так же как их, по словам Марко Поло, соблюдал Чингис-хан, делают «своего бога из войлока и называют его Начигай; делают ему и жену <…>, говорят, что они боги земные и охраняют их скот, хлеба и все их земное добро. Они им молятся; когда едят что-нибудь вкусное, 'так мажут своим богам рты. Живут они, как звери» (Марко Поло, с. 225).
Термин Ötükän встречается в малой надписи памятника в честь Кюль-Тегина и в надписи памятника в честь Тоньюкука[206]. Владимирцов Б. Я. указывает на соответствие названия Ötükän древнетюркскому орхонскому ötüken в монгольском языке в форме монг.-письм. etügen, ötügen 'Земля, земля-владычица, божество земли'[207]. Он отмечает, что «слово это известно и некоторым живым монгольским наречиям, напр. халх.-вост. etyгyn'id», и считает, что монг. etügen ~ ötügen является шаманским божеством, которое «обозначало божество земли и землю, саму землю, рассматриваемую как божественную»[208]. В «Тайной истории монголов» (§ 113) термин Ätügän переведен китайским словом 'земля'. Ср. также эпизод, где Чингис-хан в словах, обращенных к Чжамухе, употребил эпитет «Земля-мать Этуген». В якутской мифологии утугэн — 'пропасть, бездна, преисподняя, подземный мир'[209], место обитания демонических богатырей абаасы[210].
Согласно сведениям брата Бенедикта, божество, именуемое монголами Этуген, команы называют Кодар. По мнению большинства исследователей, Кодар (Codar, точнее Codai) в тюркском языке является заимствованием из перс. Khudä 'Бог'. В словаре «Codex Cumanicus» латинское слово Deus передано пер. Ghoda и тюрк. Tengri[211].
К какой группе следует отнести вопрошателей «демонов»? Скорее всего, речь идет о шаманах. На это, в частности, указывает любопытная ошибка брата Иоанна, перепутавшего термины Codar и Кат: «Когда им приходит ответ от демонов, они верят, что с ними говорит бог. Этого бога они именуют Итога, но команы его же называют Кам». Винцент из Бове, цитируя этот пассаж, окончательно запутывает смысл, превращая Кат в Chaam (хан, каан): «quem scilicet deum Ythoga nominant, sed ipsum Comani Chaam appellant» (Simon de Saint-Quentin. XXX. 74).
Принято считать, что термин кам обозначает фигуру шамана. По мнению Ала ад-дина Джувайни, «причина идолопоклонства уйгур в том, что в те времена они знали науку магии, специалистов в искусстве которой они называли кам. И сейчас среди монголов есть люди, которые одержимы ubna и говорят бессмысленные вещи, и заявляют, что они обладают демонами, которые их обо всем осведомляют. Мы расспрашивали определенных людей, почитающих этих камов, и они говорят: "Мы можем слышать как демоны опускаются в их юрты через дымовое отверстие и разговаривают с ними. И, может быть, злые духи близки с некоторыми из них и имеют с ними сношения. Их сила достигает вершины сразу после того, как они удовлетворят свои желания противоестественным путем (az manfaz-i-biraz)"»[212]. Рашид-ад-дин пишет, что у монголов области Баргуджин «безмерное количество шаманов (кам), — общеизвестно, что джинны с ними разговаривают» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 1. С. 157)[213].
У кочевников Центральной Азии термин арамса (от древнетюркского irg — предсказание, пророчество, гадание[214]) употреблялся в значении 'вещий, волшебник, заклинатель' и обозначал людей, обладавших приемами пророчества и волшебства. Шаманы у древних тюрков имели дар пророчества и владели искусством гадания. «Своими жрецами ставят тех, которые, по их мнению, могут дать им предсказание о будущем» — писал Феофилакт Симокатта о древних тюрках (Феофилакт Симокатта, с. 161). Из сообщений византийских послов VI в. известно, что шаманы «предсказывали» судьбу, произнося особое заклинание arvas. Этот термин в значении 'творить, произносить заклинания' зафиксирован в Словаре Махмуда Кашгарского, а ныне бытует в языке алтайцев[215]. По материалам XIX в. прорицатели у сибирских народов, которые гадали при помощи топора, ножа, с помощь ветки горящей ели или глядя в небо, в отношении предвидения и разгадывания причин различных событий считались стоящими выше шаманов[216]. Как пишет Е. С. Новик, «грани между шаманами различных категорий и провидцами, гадателями, предсказателями в ряде случаев весьма зыбки, как зыбки и границы между простыми гаданиями и камланиями, целью которых было получение информации от духов»[217].
§ 2. Жребий прорицателей
Практика монгольских предсказаний была известна и европейским авторам, непосредственно не контактировавшим с монголами, и воспринималась она крайне негативно. Вот ее изложение в хронике Фомы Сплитского: «Видя, что судьба приносит ему удачу во всех войнах, [Чингис-хан] стал чрезвычайно надменным и превознесся гордостью. И, полагая, что в целом свете нет народа или страны, которое могли бы противиться его власти, он задумал получить от всех народов трофеи славы. Он желал доказать всему миру великую силу своей власти, доверясь бесовским пророчествам, к которым он имел обыкновение обращаться. И потому, призвав двух своих сыновей, Бата и Кайдэна, он предоставил им лучшую часть своего войска, наказав им выступить для завоевания провинций всего мира. И, таким образом, они выступили и почти за тридцать лет прошли по всем восточным и северным странам, пока не дошли до земли рутенов и не спустились, наконец, к Венгрии» (Фома Сплитский. XXXVII)[218]. В восприятии Фомы Сплитского образы Чингис-хана и Угедея слиты в одну фигуру. Основатель империи и его преемник составляют единое имперское тело. Фома говорит о двух сыновьях Цекаркана: Бату и Кадане. На самом деле Кадан был шестым сыном Угедея, а Бату — вторым сыном Джучи, т. е. оба они внуки Чингис-хана. Под «трофеями славы», видимо, следует понимать послания с требованием покорности Сыну Неба. Оформление этой доктрины приходится на время царствования Угедея и связано с культом обожествленного Чингис-хана. Трофеи славы Чингис-хану добывали его внуки. Как выглядело распространение доктрины на практике, показывает ситуация, описанная магистром тамплиеров Понсом де Обоном: «И если к ним посылают какого-либо гонца, его берут передовые в войске, завязывают ему глаза, и ведут его к своему государю, который, по их словам, должен быть владыкой всего мира» (Понс де Обон, с. 6).
Утверждению Фомы Сплитского о том, что Чингис-хан доверился бесовским пророчествам (demonum fretus auspiciis) имеется любопытная параллель в сочинении персидского писателя Джузджани (которая позволяет оценить всю степень «достоверности» сообщаемых им сведений). Чингис-хан «был сведущим в волшебстве и обмане, и многие бесы были его друзьями. Он имел обыкновение время от времени впадать в транс, и в таком обморочном состоянии вещал о многих предметах, и это состояние транса было подобным тому, в которое он впал в пору своего возвышения, когда бесы, помогавшие ему, предсказали его победы. Халат и другие одежды, бывшие на нем во время первого транса, лежали в сундуке, и этот сундук был всегда с ним. Всякий раз, когда вдохновение овладевало им, все, что он ни пожелал бы — победы, соглашения, выступление врагов, завоевание и покорение стран — все изрекалось им вслух. Специальный служитель записывал все слова, прятал запись в ларец и запечатывал его, а когда Чингис-хан вновь приходил в чувство, они перечитывали все произнесенное им по порядку, одно за другим; и согласно этому он начинал действовать, и в большей или меньшей степени, но в целом, все, действительно, имело обыкновение сбываться»[219]. Если рассматривать этот рассказ как мифологический сюжет, то самой загадочной деталью следует признать бережно хранимый халат.
Средневековые историки должны были найти объяснение и оправдание бедствий, связанных с проявлением неизвестной и враждебной силы. Поэтому все, что было написано о монголах в Европе XIII в., является сакральной хроникой событий. В изложении Винцента из Бове мнимые гадания Бату обретают апокалиптический характер. Автор «Исторического зерцала» Винцент из Бове утверждал: когда Батый «вторгся в Венгрию, то принес жертву демонам, спрашивая их о том, хватит ли у него смелости пройти по этой земле. И демон, живущий внутри идола, дал такой ответ: "Иди беззаботно, ибо посылаю трех духов впереди деяний твоих, благодаря действиям которых противники твои противостоять тебе будут не в силах" — что и произошло. Духи же эти суть: дух раздора, дух недоверия и дух страха — это три нечистых духа, подобных жабам, о которых сказано в Апокалипсисе» (Simon de Saint-Quentin. XXXI. 149).
Напротив, в сочинении «Opus majus» ученого-францисканца Роджера Бэкона, опиравшегося на донесение Вильгельма де Рубрука, практика предсказаний выглядит как занятие астрономией. Дело в том, что брат Вильгельм перепутал слова qam 'шаман' и qan 'хан', в результате, он утверждает, что дивинаторов зовут cham и монгольских князей зовут cham. Вслед за ним ошибку повторяет Роджер Бэкон: «…хам (cham) — титул, и означает то же, что прорицатель. Ведь предводители там управляют народом с помощью прорицаний и наук, которые сообщают людям о будущем, или являются частями философии, как астрономия и наука об опыте, магическими искусствами, которым предан и которыми пропитан весь восток. И все татарские властители называются "хам", как у нас они именуются императорами и королями. <…>. Ведь известно, что тартары более других занимаются астрономией, так что, хотя у многих народов есть ученые астрономы, однако правители государства не управляют только с их [помощью]. Но те, которые у тартар выполняют [роль] как бы наших прелатов, являются астрономами. Мангу-хам, император тартарский, живший в год от Рождества Христова 1253, когда государь король Франции Людовик послал брата Вильгельма из ордена миноритов к тартарам, сказал христианам, собравшимся пред ним, в присутствии упомянутого брата: "Мы имеем закон от бога через мудрецов наших и делаем все, что они говорят. А вы, христиане, имеете закон от бога через пророков, но не соблюдаете его". Он сказал это, потому что на востоке есть плохие христиане, как несториане и многие другие, которые не живут достойно, по закону Христа. И этот брат написал государю королю, что, если бы он знал немного о звездах, его бы хорошо приняли у них; но так как он не знал понятий астрономии, они презрительно к нему относились. И потому тартары во всем следуют по пути астрономии — ив предвидении будущего, и в трудах философии» (Английские источники, с. 216–219).
В августе 2008 г. в Улан-Баторе на Международном конгрессе монголоведов медиевист из Финляндии Антти Руотсалла прочитал доклад о Роджере Бэконе, который видел причину монгольских побед в умении применять астрологические прогнозы[220]. Кратко тезисы доклада таковы. Монголы покорили множество земель, и если бы Господь не сеял среди них взаимную вражду, то, полагает Роджер Бэкон, они бы опустошили также Египет и Африку и окружили бы латинян со всех сторон. Вероятно, они смогли бы захватить весь мир. И дело вовсе не в мощи монгольской армии, пишет францисканец. Они тщедушные люди, вооруженные только стрелами. Роджер Бэкон, единственный из средневековых ученых Запада, объясняет триумф монголов их познаниями в астрономии и астрологии. Он делит астрономию на три категории: первая имеет дело с математическими принципами, применяемыми в теории движения небесных тел, вторая обращена к использованию канонов, астрономических таблиц и инструментов, третий компонент — астрология. Он был убежден в том, что планетарные или небесные сущности являются не только универсальными, но также частными причинами всего происходящего на земле[221]. В этом отношении монгольская жажда власти, главенство над другими народами и воинственность также были астрологически связаны с передвижениями семи планет, и, в первую очередь, Юпитера и Марса[222]. Кроме того, у монголов не было духовенства, место которого занимали ориентированные на философию мудрецы, занимавшиеся наблюдением за светилами. Эти мудрые философы были единственными советниками монгольских императоров, направлявшими их своими астрологическими предсказаниями и научными познаниями по пути расширения и управления их империей (что по сути верно, при дворах Чингизидов служили и астрономы, и астрологи и иные предсказатели[223]. В известном смысле система управления в Монгольской империи опиралась на магические практики. Это обстоятельство редко учитывается в позитивистских исследованиях[224]). На взгляд францисканца, монголы в целом были склонны к философии, экспериментальной науке и магическому искусству. Своим успехом монголы полностью обязаны своей чудесной науке[225]. Бэкон подкрепил этот тезис с помощью аналогии из древней истории: завоеваний Александра Великого. Бэкон считал, что победы Александра основывались на использовании экспериментальной науки или, собственно, науки опыта (scientia experimentalis). Александра сопровождал не только Аристотель, но и другие великие греческие философы, которые научили его, как завоевать мир с армией меньше чем сорок тысяч человек. «Sed constat eum non posse hoc fecisse potentia corporali, sed magna sapientiae virtute» 'Очевидно, что Александр не мог бы сделать это физической силой, но только великой силой мудрости' — заключает Роджер Бэкон. Ср. с загадочной репликой Рашид-ад-дина о племени йисут: «Когда род Чингис-хана производит устройство [государственных] дел (йасал йасамиши микунанд), а оно у них состоит в правильном применении их правил и обычаев, то за всем тем, что относится до сего порядка, обращаются к сему племени, и [его] шаманы [каман], как у них принято, осуществляют [это] исправление» (Рашид-ад-дин, Т. I. Кн. 1. С. 193–194).
При желании можно найти объяснение пристрастию монгольских ханов, окружавших себя предсказателями и астрологами. Их политические противники, будь то хорезмшах или китайский император, также прибегали к услугам предсказателей. По свидетельству Джувайни, после первого столкновения хорезмшаха с монголами, «астрологи сказали, что положение благоприятных планет находилось ниже зенита, а также ощущалось присутствие десятого дома и неблагоприятных планет; и пока не произойдет переход [влияния] к Темному дому, благоразумнее будет не начинать никаких дел, предполагающих встречу с противником. Это обстоятельство повергло его в еще большее смятение, и он решил повернуть назад и поспешить в другое место» (Джувайни. II. 105). Звездочеты играли важную роль и при дворе хорезмийского султана Джалал-ад-дина. Так, перед битвой с монголами у стен Исфахана «звездочеты советовали султану воздерживаться [от выступления] в течение трех дней и только на четвертый день вступить в сражение, и он оставался на месте, ожидая указанного дня и назначенного времени» (ан-Насави. 61).
Армянский историк Киракос, побывавший в монгольском плену в качестве писца и переводчика, пишет о монгольских прорицателях: «Женщины их были колдуньи и гадали обо всем; без повеления своих колдунов и кудесников [монголы] не пускались в путь — [делали это] только с их разрешения» (Киракос Гандзакеци. 32). Жребий прорицателей влиял даже на выбор и назначение высших военачальников. Так, в 1242 г. командующим всеми войсками на Востоке был избран Бачу-хурчи: «Ему выпала доля быть предводителем, поскольку [монголы] руководствовались указаниями волхователей» (Киракос Гандзакеци. 34).
§ 3. Знамения
Биография Елюй Чу-цая, советника Чингис-хана, изложенная в «Юань ши», раскрывает причины обстоятельств, в которых требовались предсказания. Одна из них была связана с выпадением снега в день окропления знамени, последнее вполне могло расцениваться как злокозненная магия{77}. «В [году] цзи-мао летом в 6-ю луну (13 июля — 11 августа 1219 г.) император [Чингис-хан] выступил в карательный поход на запад против мусульманского государства, и в день окропления знамени выпал мокрый снег [толщиной] в три чи. Император заподозрил в этом недобрый знак, а [Елюй] Чу-цай сказал [ему]: "Дыхание [божества зимы] Сюань-мина в разгар лета — это предзнаменование победы над врагом". Когда в [году] гэн-чэнь (6 февраля 1220 г. — 24 января 1221 г.) зимой прогремел гром большой силы и [император] снова обратился к нему с вопросом [об этом явлении], [он] ответил: "Умрет в дикой местности правитель [мусульманского] государства!". Впоследствии подтвердилось все. <…> В 8-ю луну [года] жэнь-у (7 сентября — 6 октября 1222 г.) в западной стороне наблюдалась комета с длинным хвостом. [Елюй] Чу-цай сказал [императору]: "У чжурчжэней (нюйчжи) сменится правитель!". Действительно, в следующем году умер [император династии] Цзинь Сюань-цзун. Перед каждым карательным походом император непременно приказывал [Елюй] Чу-цаю погадать [об исходе похода]. Император сам также обжигал баранью лопатку для сличения результатов [гадания]. <…> В [году] цзя-шэнь (22 января 1224 г. — 8 февраля 1225 г.) император, достигнув Восточной Индии, остановился у горного прохода Железные ворота. Какой-то однорогий дикий зверь, по виду похожий на оленя, но с лошадиным хвостом и зеленой масти, произносящий слова, как человек, сказал телохранителю: "Пусть твой правитель побыстрее возвращается обратно!". Когда император спросил о нем у [Елюй] Чу-цая, [он] ответил: "Это благовещий зверь. Имя его цзюе-дуань[226]. [Он] умеет говорить на всех языках, любит жизнь и ненавидит убийства. Небо ниспосылает этот знак, чтобы предостеречь Ваше величество. Ваше величество — старший сын неба, а все люди Поднебесной — сыновья Вашего величества. Внемлите воле Неба и сохраните жизнь народам!". Император в тот же день повернул войска обратно» («Юань-ши». Гл. 146, с. 2а–2б; цит. по: Сун Цзы-чжэнь, с. 186–187).
Мне кажется, что в диалогах между Чингис-ханом и Елюй Чу-цаем речь шла о человеческих усилиях, а небесные знамения послужили лишь поводом для вопросов и ответов. Задача Елюй Чу-цая заключалась в правильном истолковании недобрых знаков. Император и его астролог понимали, что ни снег посреди лета, ни зимний гром не имеют отношения к судьбе хорезмшаха. Судьба хорезмшаха зависела от усилий Чингис-хана и его полководцев. Ситуация с принятием решений выглядела так, как ее описывает южносунский посол Сюй Тин, прибывший с дипломатической миссией ко двору наследника Чингис-хана, Угедея: «Что касается таких важных дел, как походы, война и другие, то [они] решаются только самим татарским правителем. Однако он еще обдумывает их вместе со своей родней. Китайцы и другие люди не участвуют [в этих обсуждениях]. Правитель обычно называет татар "своей костью"» (Хэй-да ши-люе, с. 142).
Сведения Сюй Тина из области разведывательной информации. В обязанности же официальных историков входило создание мифов. Так, согласно «Юань ши», Чингис-хан в последние годы своей жизни подчинял свои устремления космическим ритмам: «В шестой луне Цзинь прислало Ваньянь Хэчжоу и Аотунь Аху просить мира. Император обратился ко всем сановникам и сказал так: "Мы с прошлой зимы, когда пять планет соединились, приказывали не убивать и не грабить, но находились пренебрегавшие отданными повелениями. Ныне немедленно объявить, здесь и всюду, что приказываем тем, кто будет так делать, чтобы узнали о нашей воле"»[227].
§ 4. Придворные звездочеты
Марко Поло терминологически не различает придворных предсказателей и уличных астрологов. По сведениям Марко Поло, великий хан Хубилай перед битвой с соперниками за трон обратился к звездочетам с вопросом: «Победит ли своих врагов и все ли для него кончится по добру» (Марко Поло, с. 100). Получив утвердительный ответ, великий хан выступил в поход. Марко Поло сообщает о многочисленных уличных астрологах в Ханбалыке в правление Хубилая: «между христианами, сарацинами и катайцами около 5000 астрологов и гадателей, которых великий хан ежегодно снабжает пищей и одеждой <…> и которые постоянно занимаются своим искусством в городе. У них есть астролябия, на которой написаны знаки, часы и критические пункты целого года. Ежегодно упомянутые христиане, сарацины и катайские астрологи, каждые отдельно, рассматривают по этой астролябии ход и характер каждого года, сообразно положению каждой луны, чтобы рассмотреть и определить, какая должна быть погода по естественному ходу вещей и по расположению планет и знаков, и какие особенности произведет каждая луна того года, например, что в такой-то луне будут грозы и бури, в такой-то землетрясения, в такой-то дожди, в такой-то болезни, [большая] смертность, война, раздоры и заговоры. Они объявляют обстоятельства каждой луны сообразно тому, что нашли, прибавляя, что Бог может сделать больше или меньше, по своей воле. Они пишут на особых небольших квадратных табличках все, что должно свершиться в том году; эти таблички они называют такуини{78} и продают их по [венецианскому] грошу за штуку всем, кто желает узнать будущее. Те, чьи предсказания более всего оправдываются, считаются наиболее совершенными знатоками своего искусства и достигают самого большого почета» (Марко Поло, с. 124). Правительство от имени Сына Неба ежегодно выпускало такие календари с расписанием добрых и дурных дней. Они выходили в огромном количестве: имеются сведения, что в 1328 г. было напечатано и пущено в продажу 3 123 185 экземпляров календаря; кроме того, 5267 экземпляров было издано специально для мусульманского населения империи[228]. Т. Оллсен гадателей относит к группе актеров, акробатов и танцоров[229].
Так выглядела ситуация на улицах столицы, в дворцовом «Управлении астрономии Западных краев» все выглядело иначе, хотя вопросы к астрологам были те же самые. При Хубилае, и его преемнике, Тимуре (1295–1307), управление возглавлял сановник Ай-сюэ. Ему приходилось решать деликатные проблемы.
«[В год] гуй-мао [эры правления] Да-дэ{79} император был неспокоен, выходя [из дворца] по государственным делам, [он был вынужден] пользоваться второстепенными боковыми воротами и боковыми дверями, [опасаясь мятежников]. В восьмом месяце, осенью{80}, в столичном округе было землетрясение. Императрица (букв.: Средний Дворец), пригласила гуна и сказала: "Вы знаете небесные знамения, это [землетрясение] не вызвано ли [недовольством] подданных?". Гун ответил: "Боги неба и земли предостерегают [правителей]. При чем [здесь] народ? [Впрочем,] я бы хотел хорошо обдумать эту [проблему]". [Императрица] сказала: "Почему Вы не сказали этого раньше?". Гун сказал: "Когда [я], раб, служил Ши-цзу{81}, [то когда бы] я [ни] пришел к императору, даже если [он] был в постели или ел, [все равно] никогда не отказывал [мне] в аудиенции. А теперь я [напрасно] провожу дни и месяцы без малейшей возможности прийти [во дворец], чтобы служить [Его Величеству]. Как же [мои] слова могли бы достичь [Вас]?" В течение нескольких следующих лет изо дня в день было все больше бедствий, [но] силы гуна [таяли] от старости, слабость изменила его, а справедливые слова, слишком прямо порицающие [действия правителей], не были приняты [к сведению]. [В год] дин-вэй{82} император покинул своих сановников и подданных. В это время гун в секретных архивах изучал гороскопы, [причем] только предназначенные [исключительно] для высочайшего пользования. В середине [изысканий гуну] было велено поднести [результаты работы] императрице, [причем] было приказано поторопиться и захватить [их] с собой. Гун с гневом отказался сделать это» (Чэн Цзю-фу, с. 85). Считается, что Ай-сюэ проявил характер, не позволив обращаться с собой столь бесцеремонно.
Сила и живучесть гаданий определяется давностью традиций и стремлением человека избежать возможных несчастий. В известные эпохи гадание становилось государственным ритуалом, в другие времена оно низводилось до уровня частных, семейных обрядов, но при этом неизменным оставался смысл гадания: заглянуть в неизвестное будущее. В магическом плане эпоха Монгольской империи отличалась от иных веков, когда при дворе ценилась рациональность. Китайскому философу III в. до н. э. Сюнь-цзы приписывают такие суждения: «Спрашивают: когда возносят молитвы о дожде и он приходит — что это значит? Отвечаю: ничего не значит. Это значит то же самое, когда идет дождь, о приходе которого не просили [в молитвах]. То, что при затмениях солнца и луны люди стремятся спастись от них, при засухе молят о дожде и решения по важным делам принимают только после гадания, — все это совсем не говорит о том, что, вознося [молитвы /# гадая], действительно можно добиться [цели]. Это всего лишь внешние украшения [дел правителя]. Поэтому совершенный человек считает это украшением, а для простых людей в этом заключено "божественное"»[230].
Возникает вопрос, насколько христианские авторы различали тюркских шаманов, придворных астрологов и буддийских «предсказателей». Последние занимались предсказаниями, в том числе по внутренностям животных и по полету птиц, готовили зелья, творили заклинания, объясняли последствия природных катаклизмов и предсказывали счастливые и несчастливые дни. Что же касается общения с «демонами», то это, скорее всего, связано с шаманскими практиками.
Вот портрет одного из знаменитых хорезмийских астрологов Сирадж-ад-дина Йа'куба ас-Саккаки: он «был одним из достойнейших мужей Хорезма, обладавшим разнообразными искусствами, и знатоком высоких наук — они [хорезмийцы] были убеждены в том, что упомянутый заколдовывал некоторые звезды, отклоняя их с орбит, и преграждал путь водным потокам одним своим дуновением: таково было их мнение о его совершенстве. Он был автором сочинений по всем областям знания, считавшихся знамениями искусства и чудесами творения, и занимал почетное место при великом султане и его матери благодаря знанию астрологии» (ан-Насави. 66).
Согласно Низами Арузи, «наука предсказания — ответвление науки о природе, и суть ее — предугадывание. И цель ее — на основании путей светил в сравнении одних с другими и соотношений градусов и знаков Зодиака предсказать возникновение тех событий, которые возникают в соответствии с их движением в круговращении мира, царств, стран, городов, животного, растительного и минерального царства, в перемещениях, взаимовлияниях, определениях благоприятного часа и прочее. <…> Подобает затем, чтобы астролог был человеком благочестивого духа и благочестивого нрава, и можно добавить, пожалуй, что одержимость и ясновидение — одно из условий этого дела и непременных требований этого искусства»[231].
Рашид-ад-дин пишет о мусульманине-звездочете, занимавшем высокое положение при ильхане: когда Хулагу планировал осаду Багдада, он «призвал звездочета Хусам-ад-дина, который сопутствовал ему по указу каана, чтобы избирать [час] выступления в путь и привала, и приказал ему: "Расскажи без лести все то, что видно в звездах"» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 39). Интересно, что именно хан Мунке рекомендовал своему брату Хулагу звездочета Хусам-ад-дина. Возникает вопрос, к мнению каких предсказателей и жрецов прислушивался сам Менгу, на которых он ссылался в разговоре с Вильгельмом де Рубруком?
§ 5. Гадание на бараньей лопатке
Гадание по трещинам от огня на бараньей лопатке было весьма распространено у средневековых монголов и сохранилось до наших дней[232]. Монгольские ханы лично гадали об исходе своих предприятий, хотя при них всегда находились шаманы и китайские астрологи. О гадании Чингис-хана сообщается в надписи стелы на могиле Елюй Чу-цая: «[Чингис-хан] каждый раз перед выступлением в карательный поход непременно приказывал его превосходительству [своему советнику Елюй Чу-цаю] заранее погадать о счастье и бедствии. Император также сжигал баранью бедренную кость, чтобы сличить с ним [результаты]» (Сун Цзы-чжэнь, с. 187).
Южносунский дипломат Чжао Хун (1221 г.) отмечает: «При гадании о счастье и несчастье, наступлении и отступлении, резне и походе каждый раз берут баранью лопатку, разламывают ее в огне железным молотком и смотрят трещины на ней, чтобы решить важное дело. [Это] похоже на [китайское] гадание на черепашьих панцирях{83}» (Мэн-да бэй-лу, с. 79).
Южносунский посол Пэн Да-я, побывавший при дворе хана Угедея в 1233 г., сообщает в своем отчете: «Что касается их гадания, то [татары] обжигают баранью лопатку и определяют счастье или несчастье, смотря по тому, проходят ли трещины на ней [по направлению] туда или обратно. Этим [гаданием] решается все — откажет Небо [в желаемом] или даст [его]. [Татары] сильно верят в это [гадание]. Оно называется "обжиганием пи-па"{84}. Не существует никаких грубых или тонких дел, о которых не производилось бы гадание. Гадание [по какому-либо случаю] непременно повторяется неоднократно. Когда [я, Сюй] Тин вместе со своей партией прибыл в степи с миссией, то татарский правитель несколько раз обжигал пи-па, чтобы погадать, отправлять [ему] обратно или задержать [нашу] миссию. Надо полагать, что [показания] пи-па говорили о том, что следует возвратить [нас] домой, и поэтому [он] должен был отправить [нас] на родину. "Обжигание im-na" — не что иное, как "сверление черепаховых щитков" [у китайцев]» (Хэй-да ши-люе, с. 142–143). Сюй Тин, дополнивший своими наблюдениями отчет Пэн Да-я, говорит о гадании Угедей-хана в 1236 г. О том, что Чингис-хан гадал на бараньей лопатке, пишет Сун Цзы-чжэнь. О гадании, которое совершал хан Мунке, сообщает Вильгельм де Рубрук. В ответственный момент гадал и иль-хан Хулагу. Согласно Рашид-ад-дину, Хулагу и царевичи, готовясь к окружению и штурму Багдада, поступили следующим образом: «по своему обычаю они погадали на бараньих лопатках, повернули и двинулись к западной [стороне] Багдада» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 40). Отметим, что монгольские ханы самостоятельно гадали с помощью бараньей лопатки; Чингис-хан для сличения результатов приказывал также гадать придворному астрологу, буддисту Елюй Чу-цаю. Другими словами, монгольские ханы сами выступали в роли дивинаторов. С учетом практики ханских гаданий возникает вопрос: Берке и его окружение перед началом важных дел гадали на бараньей лопатке или они всецело полагались на Коран? Если же гадания и молитвы каким-то образом сочетались, что не исключено, то мусульманские наблюдатели, скорее всего, отредактировали историю Берке{85}. Ни один Чингизид не в силах был отменить практику гаданий, завещанную предками. В противном случае, придется признать Берке культурным героем, изменившим структуры повседневности кочевой орды.
Таким он и предстает в описании Джузджани, собиравшем слухи о монголах, пребывая в Индии. Рассказ о Берке отрицает ту имперскую и магическую реальность, с которой соприкасались европейские, китайские и армянские наблюдатели. Этот рассказ не подлежит ни проверке, ни критике. Он существует вне времени и пространства.
«Выросши, Берка-хан, чтобы посетить оставшихся в живых и умерших мусульманских святых и ученых, поехал из земли Кипчакской в город Бухару, посетил их, вернулся восвояси и отправил доверенных лиц к халифу. Некоторые заслуживающие доверия люди рассказывают, что он дважды или более облачался в почетные одежды, [присланные ему от] халифа{86} еще при жизни брата его Бату-хана. Все войско его состояло из 30 000 мусульман, и в войске его была установлена пятничная молитва. Люди, заслуживающие доверия, говорят, что во всем войске его такой порядок: каждый всадник должен иметь при себе молитвенный коврик с тем, чтобы при наступлении времени намаза заняться совершением его [намаза]. Во всем войске его никто не пьет вина, и при нем [Берка] постоянно находятся великие ученые из [числа] толкователей [Корана], изъяснителей хадисов, законоведов и догматиков. У него много богословских книг, и большая часть его собраний и собеседований происходит с учеными. Во дворце его постоянно происходят диспуты относительно науки шариата. В делах мусульманства он чрезвычайно тверд и усерден» (Сборник материалов. Т. I. С. 44–45).
Истинная цель хранителей таких сведений заключается в отрицании истории. Отмена или обесценивание истории ведет к созданию утопий. Это защитная реакция на исторические события, полагает Мирча Элиаде. «Для нас важен лишь один вопрос: как можно вынести "ужас истории", стоя на точке зрения историцизма? Оправдывая историческое событие тем простым фактом, что оно так произошло, нелегко будет освободить человечество от ужаса, который это событие внушает. Уточним, что речь идет не о проблеме зла, которая — под каким углом зрения ее ни рассматривай — остается проблемой философской и религиозной, речь идет о проблеме истории как таковой, о "зле", связанном не с природой человека, а с его деятельностью. Хотелось бы, например, знать, как можно выносить и оправдывать мучения и исчезновение стольких народов, страдающих и исчезающих по одной простой причине — что они оказались на пути истории, что они являются соседями империй, переживающих процесс постоянной экспансии и т. д.»[233].
Глава 8.
Чингизид как ученик шейха
С именем суфийского шейха Сайф-ад-дина Бахарзи (1190–1261) в мусульманских источниках связано обращение Берке. По словам придворного чагатайского историка Джамала Карши, «Берке-хан ибн Тубини-хан — мусульманин, опора мира и религии. Он прибыл в Бухару для совершения паломничества и получения благодати, служа шейху шейхов, полюсу полюсов, тайне Аллаха на земле Сайф ал-Хакк ва-д-дин Са'ид ибн ал-Мутаххар ал-Бахарзи, да освятит Аллах его дух и гробницу» (Джамал ал-Карши, с. 120).
Этой короткой справкой исчерпываются сведения о Берке в главе «Упоминание о монгольских хаканах и изложение их истории». На деле же речь идет о месте Берке не в монгольской, а в мусульманской истории. Берке удостоен высшей похвалы, поскольку стал учеником шейха.
В «Книге назидательных примеров» арабского историка Ибн Халдуна (ум. в 1406 г.) есть небольшой эпизод, героем которого является Берке. Эпизод поражает отсутствием какой бы то ни было логики, бытовой или исторической.
«Ал-Му'аййад сообщает, как он [Берке] принял ислам от Шамс ад-дина ал-Бахарзи, ученика из [числа] последователей Наджм ад-дина Кубра, что ал-Бахарзи жил в Бухаре и послал к Берке предложение принять ислам. Он [Берке] сделался мусульманином и отправил к нему грамоту с предоставлением ему полной свободы делать в прочих его владениях все, что пожелает. Но он [ал-Бахарзи] отказался от этого. Берке отправился в путь для свидания с ним, но он [ал-Бахарзи] не позволил ему войти к нему до тех пор, пока его не попросили об этом его приближенные. Они выхлопотали Берке позволение [войти]; он вошел, снова повторил обет ислама, и шейх обязал его открыто проповедовать его [ислам]. Он [Берке] распространил его между всем народом своим, стал строить мечети и училища (мадраса) во всех своих владениях, приблизил к себе ученых и законоведов и сдружился с ними» (Сборник материалов. Т. I. С. 269–270). Вот такой назидательный пример уничижительного поведения правителя перед лицом святости приводит Ибн Халдун. То же самое произошло в Египте с Байбарсом. Рассказывают, султан отправился в Александрию, чтобы повидать шейха ал-Кыбари. Султану не разрешали войти в дом шейха, и он подчинился. В конце концов шейх согласился благословить Байбарса[234].
Весь эпизод выполнен в жанре благочестивой новеллы. Однако этот литературный фантом рассматривают как реальный факт. Такое насилие над текстом возможно при отказе от исторической критики источника. Как правило, вместо исследований корпуса мусульманских известий о статусе ислама в Золотой Орде мы обычно видим ту или иную интерпретацию цитат из сочинений средневековых авторов. Жанр толкований не позволит выйти из тупика. В первую очередь, это относится к марксистским интерпретациям, которые являются зеркальным отражением теологического дискурса. Грезы ислама переводятся на язык политической необходимости. Одна маска сменяет другую. В этих упражнениях интересны не смыслы, а методы.
Обратимся к публикации А. Ю. Якубовского 1950 года. Имеют ли размышления востоковеда над рассказом Ибн Халдуна хоть какое-либо отношение к историческим реалиям Золотой Орды? Вопрос неуместен, поскольку у автора особая задача, мало связанная с событиями XIII века. А. Ю. Якубовский вершит суд над расчетливым политиком Берке на фоне поразительных декораций. Согласно новой директиве, всю недвижимость в Золотой Орде захватили мусульмане, а кочевая орда исчезла за ненадобностью.
«Несколько подробностей в рассказах мусульманских авторов об обращении Берке-хана в ислам характеризуют его как расчетливого политика. Мусульманское духовенство, держа в своих руках не только религиозный авторитет, но и огромные богатства, состоящие в доходах как 9 поместий, так и с недвижимого имущества в городах, стремилось захватить в свои руки побольше власти, для чего старалось всеми способами подчеркнуть свое превосходство в некоторых случаях над светской властью. Особенно это проявлялось в отношении к новообращенным. Арабские историки, как Ибн Халдун, ал-Айни и другие, рассказывают, что известный бухарский шейх ал-Бархази, который обратил Берке-хана в мусульманство, заставил его, приехавшего специально для свидания с шейхом, простоять у ворот своей ханаки три дня, прежде чем принял его. Могущественный правитель (тогда еще, правда, влиятельный царевич), каким был Берке-хан, сумел подавить в себе чувство униженного ханского достоинства и этим подчеркнуть перед всем мусульманским миром свой пиетет и преклонение перед авторитетом ислама. Если этот рассказ верен, — а у нас нет оснований ему не доверять, — то он подчеркивает, что Берке-хан был настолько умен и дальновиден, что был способен подавить в себе из политического расчета личное и ханское самолюбие, а ведь не надо забывать, что в это время Золотая Орда была фактически распорядителем всей политической жизни в областях между Амударьей и Сырдарьей, да и дальше. Судя по русским летописям, Берке-хан был суровым правителем, требовавшим беспрекословного себе повиновения»[235].
А. Ю. Якубовскому удалось разоблачить суть благочестивой новеллы и вывести на суд истории расчетливого политика Берке. Что мог поделать монгольский царевич перед лицом могущественного духовенства, — разве что продемонстрировать свою суровость русским князьям.
По мнению же Г. Г. Галиахметовой в рассказе о том, как Берке принял ислам от Шамс ад-дина ал-Бахарзи, заключены глубокие смыслы, причем настолько глубокие, что озаботиться критикой источника не представляется возможным. Средневековый фантом породил достойное продолжение. По очевидной причине я не берусь комментировать аналитику, приведенную ниже.
«Совершенный Берке ханом религиозно-политический акт, по-видимому, может быть объяснен как психологическими факторами, так и практическими соображениями. Один из психологических факторов может быть сведен к относительной близости совершения ритуальной процессии у шаманов и у суфиев-практиков (членов братств) с применением различных средств для достижения трансперсонального состояния. Практические же соображения заключались, видимо, в том, что Берке хан, демонстрируя позицию "центриста", пытался соединить и приумножить идеологическое единство империи, унаследованной от Чингис-хана, с традициями ислама. Полагаем, что принятие ханами Золотой Орды ислама у его мюрида стало возможным не столько из-за известного авторитета эпонима и внутреннего озарения Берке хана (хотя этот момент нельзя исключать, поскольку источники боготворят его праведность), сколько из-за проводимого Берке ханом курса внутренней и внешней политики Улуса Джучи. Поход Берке хана к ученику Наджм ад-дина Кубра Сайфетдину Бахарзи для получения благословения от него на правление Золотой Ордой был безотлагательным в силу значимости его для той реальности, которая существовала в этом огромном регионе еще задолго до прихода монголов, и тем более для ее дальнейшего укрепления и развития, создавая тем самым временной коридор баланса между этими реальностями за счет встречи близких друг другу традиций»[236]. После того как укреплена реальность, можно перейти к более простым вещам.
В большинстве нынешних исследований вопрос о ментальных характеристиках мусульманских историков обычно не задается. Сообщаемые ими сведения принимаются за исторические факты, которые подлежат лишь толкованию в реалистичном ключе. В качестве примера приведу отрывок из статьи А. Н. Иванова «К вопросу о причинах принятия ислама золотоордынским ханом Берке». Обратим внимание на то, какие «события» автор обозначает словом «факт». И вновь звучит мотив унижения Берке. Независимо от того, имела ли место в действительности встреча Берке с шейхом или это благочестивый вымысел, уничижительного умысла в поступке шейха нет. Трехдневное ожидание ученика перед обителью учителя было испытанием веры, инициацией перед следующей ступенью на духовном пути к Абсолюту{87}. Вопрос в другом: был ли Берке таким учеником?
«Все противоречия в известиях мусульманских авторов носят частный характер, — полагает А. Н. Иванов, — В целом же сообщение Ибн Халдуна, с некоторой корректировкой, может быть признано достоверным. Однако Ибн Халдун (как и другие упоминавшиеся нами средневековые историки) так и не дает ответа на вопрос о мотивах принятия ислама Берке: хотя проповедь ал-Бахарзи и оказала серьезное влияние на Берке как мусульманина, побудительным мотивом его обращения в ислам она не была. О том, что царевич был предрасположен к, исламу еще до контактов с ал-Бахарзи, говорит целый ряд фактов. Во-первых, сам факт обращения шейха именно к Берке говорит об изначальной предрасположенности к исламу золотоордынского царевича. Об, этом же свидетельствует та быстрота, с которой Берке согласился на предложение шейха. Весьма показательно в этом отношении поведение Берке во время посещения ал-Бахарзи. Готовность хана пойти на достаточно унизительную процедуру ожидания приглашения войти в ханаку совершенно нетипична для представителя правящего рода Монгольской империи и красноречиво свидетельствует об искренности и зрелости его религиозных убеждений. В связи с этим определенный интерес представляет сообщение Джузджани, ранее практически не использовавшееся. В его сочинении "Табакат-и Насири" ("Насировы разряды"), работа над которым была завершена еще при жизни Берке, в 658 г. хиджры (1260 г.), по интересующему нас вопросу говорится следующее: "Люди заслуживающие доверия, рассказывали, что этот Берка родился во время завоевания земель мусульманских. Когда мать родила Берка, то Туши, отец его, сказал: "Сына этого отдайте мусульманской кормилице, пусть мусульманин обрежет пуповину его, пусть он сосет молоко мусульманское, чтобы сделаться мусульманином, ибо я сына своего сделал мусульманином". Отсутствие интереса к данному известию, по-видимому, объясняется несовпадением указанной даты рождения Берке с общепринятой версией, согласно которой он, будучи третьим сыном Джучи, не мог быть много младше второго сына — Бату»[237].
Вопреки утверждению А. Н. Иванова, интерес к этому эпизоду проявили И. Вашари и Д. ДеВииз, а, во-вторых, остался без разъяснения вопрос: имели ли слухи о желании Джучи видеть своего сына мусульманином место в действительности? Как показано в исследовании И. Вашари эпизод с мусульманской кормилицей является фольклорным сюжетом. Поскольку статья И. Вашари игнорируется в отечественной историографии, предлагаю восполнить этот досадный пробел и привожу полный перевод этой статьи.
«История и легенда» в обращении в ислам хана Берке (И. Вашари){88}
История как устное и письменное предание всегда была подвержена толкованию современниками, так и последующими поколениями. В результате лишь незначительное число фактов (если вообще таковые имеются) можно понять без представлений о той эпохе, когда они были записаны. Если поместить историческую традицию в соответствующий культурный контекст, каждый ее уровень может получить должное смысловое значение. Легендарное отображение событий свойственно как христианской, так и мусульманской средневековой историографии, но это не означает, что попытки извлечь из этих источников важные исторические сведения, обречены на провал. Эпоха позитивизма обычно недооценивала и преуменьшала значимость легендарных представлений, поскольку основывалась на вере в существование голых фактов, не зависимых от времени и места. Выдающийся ученый В. В. Бартольд писал: «До понимания различия между историей и легендой из всех тюркских народов дошли только османы; уйгуры, по-видимому, не имели исторических сочинений в настоящем смысле слова. Естественно, что сведения об истории монголов, заимствованные историками из монгольских и уйгурских источников, имеют чисто легендарный характер»[238]. Легенды — также часть истории, и я бы воздержался от столь суровой оценки их исторической значимости; их следует принимать как факты, увиденные через призму своей эпохи, а не как ложь, противопоставленную правде, что часто случалось в трудах позитивистского направления «Geschichte und Sage», т. е. «история и вымысел»[239], где это был излюбленный девиз, словно бы легенда не является частью исторической правды; на деле это «правда», но другого уровня.
В этой статье я попытаюсь проследить фактологическое и легендарное отображение одного исторического события, а именно — обращение в ислам Берке, четвертого хана Золотой Орды. Обращение Берке часто упоминается в трудах по общей истории[240], но подробно рассматривается лишь в двух исследованиях. Жан Ришар представил обзор источников и оценку этого события[241]; важные материалы по этому предмету добавил Девин ДеВииз[242]. Как уже сказано, свою главную задачу я вижу в различении уровней исторической традиции.
Берке, младший брат Бату-хана, стал четвертым ханом Золотой Орды в 1257 г., после недолгих правлений Сартака и Улагчи. Давно установленный факт, что Берке был первым из всех монгольских правителей, кто принял ислам и начал насаждать мусульманство в Золотой Орде. И хотя ислам занял прочные позиции в Золотой Орде только при Узбеке (1312–1342), обращение Берке имело важнейшее историческое значение и расценивалось как таковое его современниками[243]. Неслучайно, крайний энтузиазм в связи с обращением Берке выражен в источниках мамлюкского Египта, поскольку этот шаг позволял Египту создать политический союз с Золотой Ордой против персидских ильханов. Об обращении Берке сообщает большинство арабских египетских историков, и это драгоценные свидетельства современников. Персидские историки, с другой стороны, не имевшие оснований восторгаться Берке, не приводят сколь-нибудь существенных данных относительно его обращения (Рашид-ад-дин, Вассаф, Хамдаллах Казвини, «Та'рих-и Шайх Увайса»[244], Му'ин ад-дин Натанзи и другие). Два важных исключения из этого ряда составляют Джузджани и анонимный труд «Шаджарат ал-атрак» («Родословие тюрков»). Джузджани жил в Индии, где и завершил свою знаменитую всемирную историю, «Табакат-и Насири», в 658 г.х. (1259–1260 гг.). Он был единственным персидским писателем, не состоявшим на монгольской службе и, соответственно, отличавшимся резким анти-монгольским настроем. Современник Берке и ревностный мусульманин, он записал крайне ценные сведения о вере Берке, которых нет ни в одном другом источнике[245].
Анонимное произведение «Шаджарат ал-атрак» представляет собой позднее сокращение утраченного труда «Та'рих-и арба улус», долгое время приписывавшегося самому Улугбеку, но, вероятно, написанному просто при его дворе. «Шаджарат ал-атрак», скорее всего, был создан в начале XVI в., в эпоху узбеков, поскольку в нем мы видим откровенно тенденциозное отношение к Джучидам. В любом случае, здесь содержится интересная информация, почерпнутая из местных тюркских хроник, написанных уйгурским письмом в эпоху Тимуридов[246].
Наконец, следует упомянуть еще два тюркских источника. «Чингис-наме» Утемиш-хаджи было написано в 1558 г. в Хорезме. Автор опирался на устную традицию Джучидов и сохранил интересные подробности, отсутствующие в других источниках[247]. Многое из хроники Утемиш-хаджи было включено в крымскую хронику XVIII в. «Умдат ат-таварих», которую написал Абд ал-Гаффар Кирими[248]. Эти четыре источника (два персидских, один чагатайский и один османский) особенно богаты материалом, относящимся к мусульманской традиции, повествующей об обращении Берке.
Все мусульманские источники (арабские, персидские и тюркские) единодушно сходятся в том, что Берке был настоящим мусульманином. Но как только речь заходит о дате его обращения, начинается неопределенность. Разброс мнений значителен, по одним данным, это произошло еще в детстве, а по другим — после его воцарения в 1257 г. Последнее мнение, высказанное Абу-л-Гази, можно сразу же отвергнуть; он единственный и, к тому же, поздний автор (XVII в.), который относит обращение Берке к 1257 г.[249] Этой дате противоречат все остальные источники. Убедительное свидетельство содержится в книге Вильгельма де Рубрука, который 12 апреля 1252 г. отправился из Константинополя в путь к Сартаку, Бату и великому хану Мунке и вернулся на Кипр 16 июня 1255 г. При дворе Бату брат Вильгельм был в 1253 г. Он пишет, что Берке, брат Бату, имеет кочевья у Железных Ворот на Кавказе, через которые мусульмане из Турции и Персии направляются к Бату. Берке выдает себя за мусульманина и не позволяет при своем дворе есть свинину. На обратном пути брат Вильгельм узнал, что Бату приказал Берке передвинуться на восток за Волгу (Etilia), так как хан не. хотел, чтобы мусульманские послы проходили по землям Берке. Очевидно, к тому времени Берке чересчур далеко зашел в своем общении с мусульманами и стал забирать себе лучшую часть даров, предназначавшихся Бату{89}. В любом случае, Берке, судя по всему, уже был мусульманином к 1253 г., и эту дату нужно считать terminus ante quem его обращения.
Что касается дальнейших подробностей, то ал-Умари утверждает, что Берке принял ислам после воцарения Мунке, то есть после 1251 г. Известно какую важную роль сыграл Берке при восшествии на трон его племянника Мунке. По сведениям ал-Умари, на обратном пути из Монголии, после интронизации Мунке, Берке оказался в Бухаре, где и стал мусульманином[250]. Ал-Умари заимствовал эти сведения у некоего шейха Шамс ад-дина ал-Исфахани, который рассказал ему историю Чингизидов. Этот же рассказ повторяет ал-Калкашанди[251]. (К роли, которую играет в этом рассказе Бухара, мы вернемся позже.) В противоположность ал-Умари и ал-Калкашанди, аз-Захаби относит это событие, посещение Берке Бухары и его обращение в ислам, к сороковым годам XIII века (sana nayyif wa arba'in)[252]. Какая из этих временных привязок верна, определить с уверенностью невозможно. Таким образом, мы получаем большой временной промежуток с 1240 по 1253 г. Кроме того, известен рассказ о послах Берке, прибывших ко двору Шамс ад-дина Ильтутмиша, султана Дели, в 631 г.х. (1233–1234 г.). По словам Джузджани, послы не были приняты государем, которыйчотправил их в Каливар. В конце концов, в царствование султанши Разийи их направили в Каннудж (634–637 г.х. = 1236–1240 гг.), где они и умерли. По свидетельству Джузджани, эти послы были мусульманами[253]. Хотя этот рассказ содержит интересные подробности о внешней политике Берке в 1230-х годах, из него нельзя извлечь непосредственных данных о его мусульманстве. Мы можем заключить лишь то, что мусульманские симпатии Берке и его ориентация на мусульманские державы, должно быть, зародились уже в юности, в довольно раннее время. На этом заканчивается обзор исторических материалов, а то, что последует далее, очевидно, относится к области мусульманских легенд. От исторических фактов мы переходим к фактам легендарным.
Мусульманское сознание не довольствовалось тем обстоятельством, что Берке принял ислам будучи взрослым, и перенесло принятие ислама на его юность и даже детство. Джузджани снова предлагает нам интересные сведения. Он ссылается на людей, достойных доверия (tiqаt), которые сообщили, что Берке родился во время завоевания мусульманских стран. В другом месте Джузджани утверждает, что Берке родился в Китае или в Кипчакских землях или в Туркестане, когда его отец Джучи (Tüshi) завоевывал Хорезм, и войско находилось в землях саксинов, булгар и саклабов. В данном случае Джузджани или его информанты, пытаясь отнести рождение Берке ко времени монгольского завоевания Хорезма, грубо ошиблись. По сведениям ал-Муфадцаля, в 1264 г. Берке было 56 лет, так что он родился, скорее всего, в 1208 г., задолго до монгольского завоевания Хорезма в 1219–1221 гг. После рождения Берке — продолжает свое повествование Джузджани — его отец Джучи приказал передать ребенка мусульманской кормилице, чтобы она обрезала его пуповину и вскармливала его мусульманским молоком. Джучи поступил так, чтобы его сын стал мусульманином. Если этот рассказ верен — замечает Джузджани с легким налетом скепсиса — то пусть Аллах облегчит его страдания в аду.
В анонимном сочинении «Шаджарат ал-атрак» изложена близка версия этой легенды. «Берке-хан был мусульманин. В некоторых историях упоминается, что Берке-хан родился от матери уже мусульманином, так что в момент рождения, сколько ни хотели дать ему молоко, он не брал молоко своей матери, пока одна из женщин-мусульманок не дала ему молоко и не вскормила»[254]. Чудесные события в младенчестве будущего святого или героя характерны для агиографических сочинений. Мотив чудесного происшествия в момент вскармливания младенца часто встречается как в мусульманской, так и в христианской агиографии. Известный прототип этого мотива у тюрков обнаруживается в легенде об Огуз-кагане, эпонимическом герое огузских племен. Младенец Огуз отказывался брать материнскую грудь три дня и три ночи. Затем он явился матери во сне и сказал, что она сможет его кормить, если она искренне обратится в ислам{90}. Стоит отметить, что в варианте Джузджани положительным героем является не ребенок, а его отец, который удостаивается высших похвал, тогда как вариант, представленный в «Шаджарат ал-атрак», носит отчетливые следы влияния легенды об Огуз-кагане. Вообще говоря, это сочинение и в других отношениях несет печать тюркского фольклора, распространенного среди племен, живших на землях Джучидов.
Хотя в источниках содержатся противоречивые указания о времени обращения Берке, в то же время видим удивительное единодушие в том, что касается места этого события. Аз-Захаби, ал-Умари, ал-Калкашанди, ал-Джузджани, «Шаджарат ал-атрак» и Джамал ал-Карши единодушно утверждают, что Берке отправился в Бухару, чтобы встретиться с великим шейхом того времени Сайф-ад-дином ал-Бахарзи, учеником знаменитого Наджм-ад-дина Кубра[255]. Согласно аз-Захаби, Берке отправился в Бухару из Саксина близ Волги. Слова ал-Бахарзи произвели на Берке огромное впечатление, и он обратился в ислам. Ал-Калкашанди и ал-Джузджани утверждают, что Берке принял ислам из рук ал-Бахарзи{91}. В рассказе Абд ал-Гаффара Кирими Берке сначала приезжает в Сыгнак, так как он был вынужден бежать от своих родственников и эмиров, считавших его глупцом из-за его мусульманских симпатий{92}. На общем фоне выделяется Абу-л-Гази, поскольку он единственный, кто утверждает, что Берке познакомился с исламом в Сарайчике при помощи двух людей, пришедших из Бухары. Наконец, ал-Джузджани замечает, что в детстве Берке обучение Корану происходило в Ходженте, у одного из имамов этого города[256]. Как бы то ни было, считать ли туманные сообщения о Сыгнаке, Сарайчике и Ходженте исторически верными или нет, Бухара сыграла исключительную роль в обращении Берке. В двух серьезных источниках упоминается, что инициатором его обращения был ал-Бахарзи, и эти утверждения кажутся заслуживающими доверия. Ибн Халдун и Бадр-ад-дин ал-'Айни сообщают, что именно ал-Бахарзи первым послал одного из своих учеников к Берке с проповедью ислама, который хан и принял[257]. Последующая поездка Берке в Бухару, вероятно, явилась прямым следствием этой успешной проповеди. Что касается обстоятельств поездки Берке к ал-Бахарзи, до нас дошла смесь из легендарных фрагментов и достоверных исторических подробностей. После обращения Берке отправил ал-Бахарзи ярлык, в котором подтверждал право шейха на собственность. Повествование ал-'Айни содержит вымышленный диалог, призванный подчеркнуть аскетичность великого суфия. Посланник Берке передал ал-Бахарзи от своего господина верительную бирку (пайцзу). Бахарзи спросил: «Что это такое?» Тот ответил: «Это будет в руках шейха служить для охранения всякого, на ком оно будет находиться». Тогда шейх сказал: «Привяжи это к ослу и затем пошли его (осла) в степь; если оно охранит его от погибели (или волков?), то я приму его; но если оно не защитит его, то нет в нем никакого прока для меня», и отказался принять его. Услышав об отказе, Берке решил лично повидать шейха. Однако ал-Бахарзи подверг его новому испытанию, заставив прождать три дня перед воротами. Наконец, поддавшись на уговоры учеников, шейх согласился принять татарского князя. Далее в рассказе появляется следующий легендарный эпизод, указывающий на мистицизм ал-Бахарзи. Шейх был полностью скрыт под покрывалом и не раскрыл своего лица. Берке вложил ему в руки пищу, и тот съел ее. Тогда Берке повторил перед ним свой ислам и вернулся домой. Эти два рассказа дополняют друг друга. Я полагаю, что Берке мог питать симпатии к исламу с самого раннего возраста, но окончательное его обращение и переход в ислам, вероятно, связаны с Бухарой и Сайф-ад-дином ал-Бахарзи[258].
Скажем несколько слов об ученом шейхе ал-Бахарзи[259]. Он пришел, как показывает его нисба, из Бахарза в современном Афганистане. Он отправился в Хорезм, чтобы учиться у знаменитого мистика Наджм ад-дина Кубра, который позднее отправил его в качестве одного из своих заместителей (khalifas) в Бухару. Его пребывание в Хорезме дало повод для гордости хорезмийцам, ибо Абд ал-Гаффар Кирими, опиравшийся на хорезмийскую традицию, именует его Сайф-ад-дином Хорезми[260]. Ал-Умари и Ибн Халдун называют его Шамс ад-дином, что не подтверждается другими источниками, поэтому, вероятно, это ошибка двух этих авторов. В Бухаре Сайф-ад-дин ал-Бахарзи стал известнейшим суфием. Его слава дошла и до монгольских правителей. Соркуктани-беги, мать каана Мунке, как сообщают, поддерживала мусульманских имамов и шейхов, несмотря на то, что сама была христианкой. Она пожертвовала тысячу балышей на строительство медресе в Бухаре и назначила Сайф-ад-дина ал-Бахарзи мутавалли вакфа, приписанного к медресе. Эти события произошли не позднее 1252 г., года смерти Соркуктани-беги[261]. По сведениям самого надежного источника, Ашджар ва асмар Али-шаха Хорезми, этот выдающийся шейх ал-ислам умер 24 дулкада 659 г. хиджры (20 октября 1261 г.).
По-видимому, Сайф-ад-дин Бахарзи оказал на Берке чрезвычайно сильное влияние. По сведениям некоторых источников, он побудил Берке заявить о своих притязаниях на право наследования трона Золотой Орды и поддерживал его в этих устремлениях. Ибн Халдун, опираясь на утраченный труд Абу-л Фиды, утверждает, что Туда-Менгу, сын Бату (так!), был готов унаследовать престол, но вместо него ханом стал Берке. Затем мать Туда-Менгу обратилась к Хулагу, царствовавшему в Иране, но ее схватили и убили, вероятнее всего, сторонники Берке. Больше материала об этих событиях мы находим у ан-Нувайри. Он приводит имя жены Тогана (матери Туда-Менгу) — Боракшин и добавляет, что темники отказались признавать ханом ее сына. Тогда Боракшин написала письмо Хулагу, в котором предлагала трон Золотой Орды монгольскому правителю Ирана и Ирака. Передавая детали этого эпизода, ан-Нувайри излагает любопытный фрагмент монгольского фольклора. К письму Боракшин были приложены стрела без оперения и кафтан без пояса, что означало: в колчане не осталось стрел, а налучье осталось без лука; приходи, чтобы принять царство. От версии ан-Нувайри ненамного отличаются варианты, рассказанные Утемиш-хаджи и Абд ал-Гаффаром: беки Дешт-и Кипчака послали Хулагу-хану символические дары: ножны без сабли (у Абд ал-Гаффара сабля без ножен) и рубашку без ворота{93}. Точная интерпретация этих символов, несомненно, является интересной задачей для исследователей тюркского и монгольского фольклора, однако она не будет рассматриваться в рамках данной статьи. Достаточно сказать, что, по мнению П. Пелльо, смысл этих символов определенно связан с подчинением[262]. Если отвлечься от этих фольклорных мотивов, можно заметить, что в сообщениях источников много неясностей, и потому неудивительно, что Б. Шпулер сомневался в историчности этой традиции, полагая, что обращаться к Хулагу, который в то время как раз готовился захватить Багдад, было бы крайне неблагоразумно[263]. Единственный факт, за которым он признает историческую достоверность, заключается в том, что некая женщина по имени Боракшин сыграла важную роль в событиях, разворачивавшихся перед воцарением Берке. П. Пелльо также высказывал серьезные сомнения в подлинности этих сведений. С его точки зрения, на это указывают ошибочная генеалогия (Боракчин была главной женой не Тугана, а Бату), неприемлемая хронология (враждебность между Хулагу и Золотой Ордой вспыхнула только после захвата Багдада в 1258 г., соответственно, после воцарения Берке в 1257 г.) и легендарные детали. Таким образом, остается лишь сама фигура Боракчин, главной жены Бату, которая, возможно, играла ключевую роль в событиях после смерти Сартака в 1256 г. Должно быть, она поддержала Улагчи, своего сына (или внука), в борьбе за престол. Наши источники не дают никаких прямых указаний на обстоятельства, сопутствовавшие восшествию на престол Берке, но П. Пелльо, вероятно, был прав, предположив, что Берке не проявлял особой щепетильности в борьбе со своими соперниками, в данном случае, с вдовой Бату Боракчин и, возможно, с сыном или внуком Бату Улагчи. Хроника событий, предшествовавших и сопутствовавших воцарению Берке, окутана туманом; источники донесли лишь слабые воспоминания о вражде между партией Боракчин-Сартака-Улагчи и сторонниками Берке. По всей вероятности, вражда Хулагу и Берке неверно отнесена к слишком раннему периоду.
Все последующее, нужно признать, по большей части относится к области легенд. Два источника, оба с явными джучидскими симпатиями и ориентацией на Среднюю Азию, приписывают главную роль в этих событиях Сайф ад-дину Бахарзи, наставнику Берке в исламе, который якобы убедил своего ученика-Чингизида взойти на трон Дешт-и Кипчака. По сведениям «Шаджарат ал-атрак», Берке отправился воевать с Хулагу и сражаться за трон кипчакского ханства по прямому приказу великого шейха. Утемиш-хаджи и Абд ал-Гаффар Кирими красочно излагают версии диалога между Берке и Сайф ад-дином. Мусульманские симпатии и легендарный характер этих рассказов несомненны. Берке ведет себя как скромный верующий мусульманин; он плачет у ног Бахарзи и отказывается занимать трон, ссылаясь на пример Ибрахима Эдема, легендарной мусульманской фигуры, как и Будда, отказавшейся от трона и короны. Однако шейх убеждает его отправиться в путь, говоря, что единственной целью его царствования будет возвещение божественных тайн и чудес пророка Мухаммеда. Наконец, Берке соглашается и выступает против Хулагу. Шейх лично провожает его до местечка Кара-Куль под Бухарой, но, как подчеркивается, Берке следует за конным святым пешком. По словам Хаджи. Нийаза, на которого ссылается Утемиш-хаджи и вслед за ним Абд ал-Гаффар Кирими, Берке вернулся в кипчакские земли через Хорезм и Сарайчик с маленькой свитой из восьми человек. Этот астраханский сказитель, о котором больше ничего неизвестно, возможно, сохранил местную традицию, повествующую о пути Берке в Золотую Орду. С середины XIII в. самый известный международный караванный путь проходил через Хорезм — Сарайчик — Хаджи-Тархан (Астрахань). С другой стороны, нет прямых свидетельств, указывающих на существование Сарайчика и Хаджи-Тархана в XIII в. Золотая пора этих городов приходится на XIV–XV вв., поэтому нельзя исключать, что их упоминание в связи с возвращением Берке из Бухары является поздней традицией.
Несмотря на легендарный характер этих рассказов и их явную мусульманскую ориентацию, они несут в себе историческое зерно. Сайф-ад-дин Бахарзи имел большое влияние на Берке и поддержал его вступление на трон. Иметь правителя-мусульманина во главе Улуса Джучи было в интересах мусульманского духовенства Мавераннахра, тем более что в 1251 г., со вступлением Мунке на престол великого хана, Мавераннахр попал под власть ханов улуса Джучи. После захвата власти Мунке все взрослые сыновья и внуки Чагатая были казнены вследствие их заговора против Мунке, поэтому улус Чагатая, частью которого был Мавераннахр, был отдан в удел потомкам Джучи. Почти на десятилетие великая Монгольская империя оказалась в руках Толуидов и Джучидов, тогда как потомки Чагатая и Угедея на время лишились власти[264]. Именно на этот период приходится воцарение Берке (1257 г.), и, должно быть, оно было с радостью и энтузиазмом воспринято мусульманами Мавераннахра. Однако правление Берке в Бухаре оказалось недолговечным. В ходе мятежей, последовавших за смертью Мунке (1259 г.), сторонники Берке пали жертвой вражды между Ариг-Букой и Хубилаем, провозглашенных великими ханами. Алгу, внук Чагатая, со своим войском пришел в Бухару и перебил всех нукеров Берке и их сторонников. Его жертвой пал и сын Сайф-ад-дина Бахарзи Бурхан-ад-дин.
Мусульманское население Бухары было благодарно своему правителю-мусульманину Берке, который всегда милостиво относился к своим подданным-мусульманам. В сочинении Джузджани сохранились два заслуживающие внимания мусульманских предания, восходящих к свидетельствам очевидца и современника тех событий. Этим достойным доверия свидетелем был Саид Ашраф ад-дин, самаркандский торговец, который приехал в Дели в 657 г.х. (29 декабря 1258 — 17 декабря 1259 г.) и был радушно принят при дворе Насир-ад-дина Махмуд-шаха (1246–1265). Ашраф ад-дин был сыном саййида Джалал ад-дина Суфи, которому принадлежала ханака Нур ад-дина Слепого. Ашраф ад-дин сообщил две истории (хадиса) о мусульманстве Берке. Его рассказы близки по времени к описываемым событиям; он встречался с Джузджани в 1259 г., а сами события происходили между 1257 и 1259 гг. Следовательно, истории ученого саййида, полученные из первых рук, заслуживают особого внимания.
Первый рассказ Ашраф ад-дина переносит нас в Самарканд между 1257 и 1259 гг. В то время город был охвачен спорами и враждой между мусульманами и христианами-несторианами. Христианская община пожаловалась монгольскому начальнику на то, что молодой христианин принял ислам. Монголы попытались убедить его отречься, но юноша проявил упорство и принял мученическую смерть за ислам. Тогда мусульманская община, шокированная и встревоженная его смертью, решила записать свои показания и послала их ко двору Берке. Ашраф ад-дин был в составе делегации, которая одержала полную победу. Воины Берке отомстили самаркандским христианам, устроив резню в церкви. Это нанесло смертельный удар по несторианству в Самарканде, от которого христианская община уже не оправилась.
В другой истории Ашраф ад-дин рассказывает об отношениях между Сартаком и его дядей Берке. Этот рассказ носит яркую мусульманскую окраску и имеет вполне легендарный характер. Мусульманская традиция возводит вражду между Сартаком и Берке к христианству и мусульманству этих правителей. Возвращаясь от великого хана Мунке, который утвердил Сартака правителем Золотой Орды, Сартак не навестил своего дядю Берке под предлогом того, что встреча с мусульманином приносит неудачу христианам. Берке был огорчен и, проведя три ночи и три дня в молитвах и стенаниях, навлек на Сартака проклятие: Аллах поразил Сартака болезнью желудка, и тот вскоре умер. Единственное зерно исторической правды в этом рассказе заключается во враждебных отношениях Сартака и Берке, которые могли быть в лучшем случае окрашены, но уж никак не вызваны их религиозными предпочтениями. Антагонизм Сартака и Берке, вероятно, был известен широкому кругу современников, которые не особо верили в то, что Сартак умер естественной смертью. Армянин Киракос Гандзакеци передает те же слухи, вариант которых нашел отражение в пересказанном выше отрывке из труда Джузджани. Он утверждает, что Сартак был отравлен Берке и его братом Беркечером. Имеют ли эти обвинения современников в адрес Берке под собцй прочную основу или же являются клеветническими, в данный момент определить невозможно. Джузджани, чьи симпатии к Берке вне сомнений, зафиксировал вариант, в котором Берке имеет лишь косвенное отношение к смерти Сартака. Эта отретушированная и проникнутая мусульманским духом версия слухов, очевидно, должна была скрыть истинную роль Берке и отвести от него подозрения в причастности к смерти Сартака.
Обращение Берке в ислам было его личным выбором, обусловленным политическими и религиозными мотивами, но последствия этого поступка коснулись не только его одного. С 1257 г. он действовал уже не как частное лицо, а как важная политическая фигура, хан Золотой орды. Родственники и ближайшее окружение последовали его примеру, приняв религию пророка. Сообщают, что мусульманами стали два его брата: Тог-Тимур (по рассказу Абу-л-Гази) и Беркечер (по сообщению Киракоса Гандзакеци). Ислам приняла и его жена Чичек-хатун, которая приказала построить переносную шатровую мечеть, которую собирали каждый раз в местах стоянок. Это описание является интересным примером сочетания новой мусульманской и старой кочевнической практики. Согласно ал-Муфаддалю, эмиры Берке также стали мусульманами, и при каждом из них состоял муэдззин и имам. Более того, свои муэдззины и имамы были и у жен эмиров. Ислам приняла не только семья Берке и часть аристократии, но и значительное число его соплеменников, составлявших ядро его войска. Рукн-ад-дин Байбарс сообщает интересную подробность, касающуюся посольства Берке в Египет в 661 г.х. (1262–1263 гг.). Два татарских посла прибыли от Берке, чтобы объявить мамлюкскому двору об обращении их господина в ислам. В послании Берке, обращенном к мамлюкскому султану, содержался список с именами татарских семейств, принявших ислам, с перечислением по племенам и родам. При Берке появились и улемы с саййидами, которые начали проповедовать ислам в ханафитском изводе. Несмотря на некоторые преувеличения, которые допускают мусульманские источники относительно размеров влияние ислама в государстве Берке, невозможно отрицать сам факт. Воля монгольского хана открыла мусульманской идеологии и учреждениям дорогу в кипчакские степи.
Наконец, я хотел бы завершить статью замечанием общего характера. Я давно занимаюсь изучением различных аспектов истории Золотой Орды, и со временем у меня складывается все более ясное впечатление, что, несмотря на несколько монографий и необозримое множество статей, исследования в этой области находятся на начальной стадии. При попытке найти ответ на какой-либо конкретный вопрос, работы общего характера часто приводят к фиаско, а большая часть подробностей до сих пор окутана туманом. Особенно ощутимо отсутствие добротных критических изданий арабских, персидских и тюркских текстов. В своей статье я попытался осветить один из эпизодов истории Золотой Орды, и я убежден, что сотни подобных сюжетов еще ожидают достойного изучения. Только обладая такими исследованиями, опирающихся на историческую критику, можно задумываться о написании монографий по различным аспектам самого западного татарского государства — Золотой Орды.
Ислам и улус Джучи (Д. ДеВииз){94}
Политической структурой, в рамках которой разворачивались социальные и религиозные перемены, задействованные в «новой исламизации» западной части Внутренней Азии[265], был улус Джучи[266], который возник, по крайней мере, номинально, после того, как Чингис-хан роздал земли, завоеванные монголами, в удел своим сыновьям, уже в 1218 г., но который на самом деле оформился после похода 1236–1241 гг. в Восточную Европу{95}; в результате этого похода во главе с сыном Джучи Вату, были завоеваны государство булгар и русские княжества; монголы также покорили кочевников-кипчаков и продвинулись вглубь Центральной Европы. Подлинную организацию Золотой Орды обычно относят ко времени вслед за этими походами, то есть до смерти Бату в 653 г.х. (1255 г.).
Как и в случае с другими частями исламского мира, попавшими в XIII в. под власть монголов, монгольское завоевание поначалу нанесло серьезный удар по позициям ислама в западной части Внутренней Азии. Государство булгар было уничтожено, пусть его культурное наследие и сохранилось, а разрушение империи хорезмшахов — которая развивала интенсивные торговые и политические, а также культурные и религиозные связи между кочевниками-тюрками из Дешт-и Кипчак и городской мусульманской цивилизацией Центральной Азии[267] — устранило, пусть и временно, важный источник «исламизации» для западных степей. Было прервано и привычное течение жизни самих кочевников-тюрков, а их этническая идентичность подверглась переориентации в связи с административными переделами племен и территорий между монгольскими принцами крови, крупными военачальниками и ранними приверженцами; однако именно эти неурядицы, возможно, в конечном итоге способствовали возникновению социальных условий, в которых мог быть принят ислам, воспринятый как потенциальный объединяющий фактор для общественной идентичности и политической правопреемственности.
Отсутствие государственного покровительства исламским институтам не принесло большого ущерба позициям ислама в Золотой Орде, по сравнению с Ираном и Центральной Азией, возможно, потому что это покровительство здесь никогда не было столь глубоким и всеобъемлющим. Впрочем, в то же время монголами западной Внутренней Азии{96} живо интересовались европейские государства, готовые вступить с ними в союз против мусульман, а улус Джучи стал местом оживленной христианской миссионерской деятельности, которая не утихала и в XIV в.[268] Для Золотой Орды мы располагаем значительно меньшим количеством свидетельств буддистской активности; буддизм был серьезным соперником ислама в ильханском Иране, по крайней мере, в придворных кругах, однако у нас нет оснований полагать, что присутствие буддистов в улусе Джучи, подразумеваемое наличием там хорошо засвидетельствованной уйгурской прослойки, доставляло исламу какие-либо особые неприятности, сравнимые с теми, что причиняло христианство{97}.
Тем не менее, общий вес культурных и торговых связей между Золотой Ордой и различными частями мусульманского мира — от Хорезма до Кавказа и Ближнего Востока — способствовал тому, что именно здесь, раньше, чем в любой другой ветви Чингизидов, со вступлением на престол Берке в 1257 г. произошло первое «царское обращение» в ислам. С этих пор монетным чеканом и дипломатией Золотая Орда обозначила свою принадлежность к мусульманскому миру, несмотря на «необращенный» статус большинства преемников Берке вплоть до Узбек-хана.
Обращение Берке привлекло относительно больше внимания, чем обращение Узбека, вероятнее всего, потому что Берке был первым Чингизидом, о котором мы знаем, что он принял ислам, и, несомненно, стал первым монгольским ханом{98}, который правил как мусульманский монарх. Нам нет нужды вдаваться в рассмотрение вопросов, когда и как Берке стал мусульманином[269]; отметим лишь почти единодушное мнение, что важнейшую роль в этих событиях сыграл бухарский суфийский шейх Сейф-ад-дин Бахарзи[270], а также раннее свидетельство современника Берке, историка Джузджани, о том, что Берке начал обучаться исламу еще в раннем детстве. Слова Вильгельма де Рубрука часто цитируют в подтверждение того, что обращение Берке определенно предшествовало его восшествию на престол, в противовес мамлюкским источникам, которые, по-видимому, по крайней мере, предполагают, что обращение сопровождало его приход к власти. Вероятнее всего, на самом деле здесь нет никаких разногласий, поскольку послания Берке, отправленные в Египет, несомненно, имели двойную цель: возвестить о его воцарении и провозгласить его приверженность исламу, тем самым подразумевая политические и дипломатические перемены.
Воздействие принятия религии Берке на его правление было, по-видимому, достаточно существенным. Не впадая в переоценку религиозной подоплеки его вражды с Хулагу, которая привела к затяжной борьбе за Кавказ между ильханами и правителями улуса Джучи, тем не менее, вряд ли можно отрицать, что разграбление, которому Хулагу подверг Багдад, вызвало раздражение у Берке и обострило нарастающее напряжение между двумя монгольскими государствами. Конечно, нам сложно оценить, насколько «подлинным» было принятие ислама, однако арабские источники сообщают, что вслед за Берке мусульманами стало «большинство его народа» и «большая часть его войска»[271], а в одном из важных отчетов, приводимых в труде ал-Муфаддала, говорится, что эмиры Берке обратились в ислам и при каждом из них на службе состояли му'аззин, и имам[272]. В подробном отчете Рукн ад-дина Байбарса цитируется письмо от нового хана, в котором перечисляются «татарские» дома, принявшие ислам, и приводятся имена родственников и эмиров Берке, ставших мусульманами[273]. Известная история, впервые рассказанная ан-Нувайри, повествует о том, что жена Берке, Чичек-хатун (Jijak-khätün), также перешла в ислам и возила шатровую мечеть для своей свиты[274]; а один знаменитый ханафитский факих, по некоторым сведениям, посвятил хану Берке трактат{99}. Ислам Берке продолжал играть роль в дипломатических отношениях с мамлюкским двором; в этом плане, несомненно, показательно сообщение о том, что по заданию одного из таких посольств, были отправлены гонцы в Мекку и Медину, с приказанием, чтобы там молились за Берке[275].
В связи с Берке для нас более интересен тот факт, что легендарные рассказы, повествующие о его обращении, начали ходить, очевидно, вскоре после его восшествия на престол. Самый ранний отголосок этих легенд мы находим в рассказах, вошедших в «Табакат-и Насири» Джузджани (около 1260 г.)[276], включая сообщение о том, что новорожденный Берке вскармливался, по указанию его отца, кормилицей-мусульманкой, чтобы сделать из него истинного мусульманина{100}. Ко времени написания «Шаджарат ал-атрак» («Родословие тюрок»), многие сведения в котором восходят к источникам середины XV в., этот сюжет претерпел некоторые изменения: младенец Берке отказался от молока родной матери, пока к нему не приставили кормилицу-мусульманку; этот же вариант представлен в сочинении Утемиш-хаджи (XVI в.), где содержится рассказ об обращении Берке, имеющий для нас первостепенную важность[277]. Как было отмечено[278], мотив отказа от молока не-мусульманки имеет разительное сходство с рассказом из «исламизированного» «Огуз-наме», известного по трудам Рашид-ад-дина{101}, Абу-л-Гази и другим историческим сочинениям, в котором младенец Огуз-хан отказывается от материнского молока, пока она не соглашается принять ислам. Таким образом, мы видим, что сюжеты, ассоциируемые с такими легендарными героями, как Огуз-хан, были уже перенесены на Берке как на «первого обращенного» в ислам из монгольских правителей[279].
Сходным образом, среди «легендарных» рассказов, возникших вокруг обращения Берке, мы находим сведения о его связи с суфийским шейхом Сейф ад-дином Бахарзи; в частности, Бахарзи фигурирует в искусно выполненном легендарном эпизоде об обращении и восшествии Берке на престол в труде Утемиш-хаджи[280]; его роль также подчеркивается, с соответствующими агиографическими диалогами и мотивами, в арабских исторических сочинениях Ибн Халдуна и ал-Айни[281]. Таким образом, повествовательные отражения событий, связанных с обращением Берке, начиная с пост-монгольской эпохи, являются важными примерами устойчивой парадигмы царского обращения, которая приписывает главную роль в обращении хана суфийскому шейху; сколь бы важным ни было влияние Бахарзи, при дворе Золотой Орды чаще отмечалось присутствие правоведов и богословов, чем дервишей, и вполне возможно, что роль суфиев в «царском обращении», о которой сообщают поздние источники, несколько преувеличена и отражает социальное положение суфиев во время написания этих источников, а не в ту эпоху, когда произошло обращение Берке. Тем не менее, кажется вполне вероятным, что суфийские шейхи действительно играли все более важную роль в исламизации западной Внутренней Азии, оказавшейся под властью монголов, и обращение Берке дает нам, вероятно, самый ранний пример подлинной роли суфиев, как и литературной обработки этой истории.
Меньше внимания уделяют рассказу об обращении в ислам второго преемника Берке Туда-Менгу (1280–1287), что содержится в ряде исторических трудов, где уже говорилось об обращении Берке. В труде «Ташриф ал-аййам ва-л-'усур фи сират ал-Малик ал-Мансур» («Прославление дней и веков по жизнеописанию ал-Малика ал-Мансура»), биографии мамлюкского султана Калавуна, приписываемой историку Ибн 'Абд аз-Захиру (ум. 692/1292–1293 гг.), мы находим самое раннее сообщение об обращении Туда-Менгу[282], которое в развернутом виде представлено во всемирной истории «Зубдат ал-фикра фи та'рих ал-хиджра» («Сливки размышления по части летописания хиджры») Рукн-ад-дина Байбарса ал-Мансури (ум. 725 г.х./1325 г.), чиновника высокого ранга при ал-Малике ал-Насире и авторитетного источника по истории Золотой Орды[283]; на ее основе этот рассказ воспроизведен в энциклопедическом труде ан-Нувайри (ум. 732 или 733 г.х. /1331–1333 гг.)[284] и летописи Ибн ал-Фурата (ум. 807 г.х./1404–1405 гг.)[285]. В этих известиях говорится о прибытии в 682 г.х./1283–1284 гг. посольства, известившего о принятии ислама Туда-Менгу, который вступил на «трон Берке»; посольство состояло из двух кипчакских правоведов (fuqaha al-Qifjaq): это были Маджд-ад-дин Ата (очевидно, отражение тюркского почетного прозвища ата «отец») и Нур-ад-дин; они привезли с собой письмо, написанное «по-монгольски». Когда письмо перевели, выяснилось, что оно содержит сообщение о воцарении хана и «вступлении» (dukhul) его в веру ислама; далее в нем возвещалось, что хан установил законы мусульманские, и, кроме того, он просил мамлюкского султана посодействовать их паломничеству в Мекку. Далее послы передали требование хана, чтобы султан прислал ему знамена, подобающие халифу и султану, под которыми он мог бы сражаться против врагов ислама.
О последствиях этого заявления об обращении в ислам, которое, очевидно, подразумевало и официальное «установление» ислама, больше ничего не известно. Насколько мы знаем, Туда-Менгу так и не стал ассоциироваться с исламизацией, возможно, не столько из-за относительной краткости своего правления (семь лет), сколько из-за междоусобиц, которые вспыхнули после его смерти. Возможно, в этих неурядицах играли свою роль и исламские симпатии, и в любом случае, просьба, переданная кипчакскими факихами, прислать мусульманские религиозно-политические символы, чтобы использовать их в борьбе с «врагами религии», подразумевает, что религиозные вопросы и в целом напряжение между сторонниками и противниками исламизации уже имели немалое значение в противостоянии приверженцев и противников Туда-Менгу.
Таким образом, сообщения об обращении этого хана свидетельствуют о существовании еще не разрешенных конфликтов внутри улуса Джучи, проистекавших из первоначального решения Берке объявить себя приверженцем исламизации, какие бы последствия ни повлекло за собой это решение. Ибо, по всей видимости, обращение Берке ознаменовало собой наступление периода напряженности между растущими силами, стремившимися к «официальной» исламизации, с одной стороны, и приверженцами местных традиций; эта напряженность, несомненно, часто использовалась в политической борьбе за престол между соперниками, а также между этими претендентами и главными племенными вождями и «военачальниками». Несомненно, оправданно предположение, что принятие ислама часто вдохновлялось или обусловливалось надеждой на достижение преимущества (вероятно, в международных отношениях, но также и во внутренних делах) в подобных междоусобицах; в конце концов, именно такую ситуацию рисуют большинство рассказов об «окончательном» принятии ислама в Золотой Орде при Узбеке, как мы увидим ниже.
В отношении этой вражды и ее политической подоплеки показателен пример знаменитого Ногая, могущественного вельможи, который служил при Берке главным военачальником и поддержка которого имела решающее значение при вступлении на престол всех последующих ханов вплоть до Токты, предшественника Узбека. Уже Рашид-ад-дин, писавший при жизни этого хана, изображает вражду между Токтой и его бывшим наставником Ногаем, подпитываемую религиозными разногласиями. На самом деле, религиозные конфликты, нередкие в улусе Джучи того времени, можно проиллюстрировать на примере семьи самого Ногая. Согласно францисканскому источнику, в Крыму в 1286 или 1287 г. была крещена некая «Яйлак», которую отождествляют с женой Ногая. Она обратилась в христианство после посещения францисканского монастыря в Солхате[286]. Однако сам Ногай, очевидно, принял ислам; вскоре после смерти Берке, в 669 г.х./1270–1271 г. Ногай отправил письмо мамлюкскому султану ал-Малику аз-Захиру, заявляя о своей верности новой религии и, по-видимому, стремясь заручиться поддержкой правителя Египта[287]. Несомненно, в этом мы должны видеть косвенное обращение Ногая к «происламской» партии в улусе Джучи, которую, несомненно, активно обхаживал Берке, и которая сохраняла свою силу и во второй половине XIII века. По сведениям Рашид-ад-дина о падении Ногая, тесть Токты, глава племени кунгиратов Салджидай-гургэн, владения которого располагались близ Хорезма, сватал за своего сына дочь Ногая{102}, но после того, как договоренность о браке была достигнута, невеста перешла в ислам; однако ее муж был «уйгуром», что скорее всего указывает на буддистские симпатии (поскольку племя, к которому он принадлежал, уже было названо — кунгират), и плохо обращался с дочерью Ногая, вынудив того пожаловаться Токте. Хан отказал Ногаю в требовании удовлетворения от Салджидая и его сына, и этот конфликт вылился в открытое военное противостояние, закончившееся поражением и смертью Ногая в 1299 г.[288]
Это объяснение вражды между Ногаем и его бывшим подопечным, конечно, оставляет без внимания прочие политические и военные расчеты, а также конфликты, проистекающие из родового, племенного и регионального соперничества; тем не менее, рассказ Рашид-ад-дина показывает вероятность того, что выражения политических антипатий уже могли быть формализованы и узаконены в глазах определенного круга лиц в терминах религиозных различий.
Если напряженные отношения между мусульманами при дворе и среди членов правящей династии, с одной стороны, и приверженцами монгольских традиций, с другой, продолжались и после царствования Берке, то, по-видимому, значение обращения Берке для Золотой Орды получило определенное признание. Поздние мусульманские историки часто называют улус Джучи державой Берке, говоря, например, о владельцах «трона Берке» спустя долгое время после его смерти; еще более показательно то, что географический термин Дешт-и Кипчак (то есть, Кипчакская степь), обычно использовавшийся мусульманскими историками и географами как синонимическое обозначение улуса Джучи, иногда заменялся термином «Дешт-и Берке», строившимся на игре слов, приравнивавшей монгольское имя «Берке» к арабскому слову барака («благословение», «духовная благодать»), писавшегося точно так же.
Впрочем, не совсем ясно, до какой степени это наименование отражает взгляды ученых сторонних наблюдателей, а не внутреннюю оценку значения Берке; несомненно, в господствующей «внутриордынской» традиции, насколько мы ее знаем, Берке был оттеснен на второй план Узбеком; и в самом деле, источник, который содержит главное повествование об обращении, сочинение Утемиш-хаджи, занимает уникальное место среди источников, отражающих местные традиции, изображая всеобщее «отступничество» вслед за обращением Берке, которое потребовало обращения Узбека в качестве решающего события в исламизации Золотой Орды.
Глава 9.
Чеканил ли Берке монеты с титулом «Падишах ислама»?
В летописи сирийского историка XIV в. аз-Захаби имеются краткие заметки о Золотой Орде. Со ссылкой на Кутб-ад-дина, он пишет следующее: «Берке был расположен к мусульманам; у него [были] большие войска и государство, превосходившее царство Хулаку в некоторых отношениях. Он уважал ученых и благочестивых, которым у него [оказывался] почет. Одной из главных причин возникновения войны, произошедшей между ним и Хулаку, было умерщвление [последним] халифа. Он (Берке) был расположен к государю Египетскому, величал послов его и оказывал им почет. Отправились к нему [однажды] множество людей из Хиджаза; он принял их и оказал им чрезвычайный почет. Он и большая часть войска его сделались мусульманами. Мечети свои, состоящие из шатров, они возят с собой. Есть у них имамы и му'аззины, и совершаются у них [все] пять молитв [мусульманских]» (Сборник материалов. Т. I. С. 165).
Соответствует ли имперским структурам повседневности картина, нарисованная аз-Захаби? Куда исчезло мусульманское войско после смерти Берке? И как объяснить, что такой могущественный правитель как Берке, имея мусульманскую армию, не чеканил монет с мусульманским символом веры? Собственно, Берке вообще никаких монет не выпускал от своего имени. В это время монеты чеканились только от имени каана. Берке следовал имперским предписаниям и чтил Ясу. Прием каких бы то ни было послов, равно как и покровительство мусульманам, не являются чем то особенным для монгольской политики.
Тем не менее, крымский анонимный чекан был приписан Берке. Тамга на монете считалась тамгой Берке. На обратной стороне монеты был титул:
Падшах ал-ислам нусрат ад-дунйа ва-д-дин
Падишах ислама победа мира и веры
Мог ли этот титул принадлежать Берке, — задает вопрос П. Н. Петров, и предлагает доводы в защиту своего предположения. Из них я приведу только третий и пятый по счету: «Персидский титул падшах не редко использовался Хулагуидами. Титул падшах ал-ислам имел мусульманин Газан-хан, до него титул падшах 'алия (просвещенный) по монетным данным был у Ильханов: Абаги, Ахмада, Кейхату. Можно лишь предполагать, что титул падшах, встречаемый иногда на монетах с именем Хулагу, также принадлежал этому ильхану, а не его вассалу, чеканившему монету. У Аргуна встречен персидский титул — падшах 'адил{103}. То есть, сам титул "падишах" использовался и мусульманскими (Ахмад) и не мусульманскими ханами (Абага, Аргун), но титул падшах ал-ислам характерен только для правителей мусульман. <…> Берке был мусульманином, принявшим ислам в Бухаре от суфийского шейха кубравийского толка Сайф ад-дина Бахарзи. Если же учесть действия Берке по возведению на престол Халифа ал-Хакима в Алеппо в период, когда войско Хулагу захватило Багдад, то возможность появления такого мусульманского титула и лакаба у мусульманина Берке перестает вызывать удивление. Мало того, их помещение на монеты могло носить явно выраженный антиильханский политико-религиозный характер»[289].
М. Г. Крамаровский на основании анонимных дирхемов с тамгой Берке размышляет о формировании исламской общины Солхата-Крыма. «На трех вариантах йармаков, битых Берке (1255–1265) в Крыму, хан присваивает себе титул "Падишах/ислама, защита/Мира и Веры". В Крыму недавно обнаружена и фракция (¼ часть) основного серебряного номинала середины XIII в. с титулом и тамгой Берке с легендой на аверсе: "Защитник/мира и/веры"; йармак отчеканен монетным двором Крыма. Надписи благочестивого содержания повсеместно декларировали основной догмат ислама — исповедание единобожия и поддерживали авторитет хана в мусульманской среде. По-видимому, время около середины XIII в., когда в Солхате монетный двор "Крым" чеканит серебряный дирхем от имени Берке с титулом "Падишах ислама, защита Мира и Веры", и есть начальный период жизни исламской общины города: без опоры на общину чеканка дирхема с символом веры едва ли возможна. Очевидно, исламская община уже в 1260-е гг. сформировалась настолько, что готова была принять, отстаивать и следовать за символом веры первого лица, если даже и решение о чеканке дирхема принималось не в Солхате»[290].
На сегодняшний день существует новая интерпретация этих монет. Тамга, ранее приписываемая Берке с опорой только на анонимную легенду, принадлежит, как показало изучение монетных находок, сделанных в районе Дженда (Сырдарья), Уран-Тимуру, сыну Тукай-Тимура, внуку Джучи, правнуку Чингиз-хана. Если разъяснение Е. Ю. Гончарова принимается, то единственное свидетельство о мусульманстве Берке, независимое от сирийских и египетских хроник, утрачивает основания. Отсюда следуют далеко идущие выводы. Мусульманская община Крыма готова была наградить пышным титулом «Падишах ислама» любого Чингизида, дабы продемонстрировать ему всю глубину своей лояльности. За комлиментарностью скрыт политический расчет.
«Стремявидная» тамга — тамга Берке? (Е. Ю. Гончаров)
У Джучи, старшего сына Чингиз-хана, было четырнадцать сыновей. Согласно кочевой традиции все они должны были иметь тамги, как личные, так и родовые. В российской историографии хорошо изучены только тамги потомков Бату, менее изучены тамги потомков Шибана. Знаки же других одиннадцати сыновей Джучи остались без внимания.
При знакомстве с находками восточных монет (из частных коллекций) на городище Джан-кала, находящегося недалеко от берега р. Кувандарья (Кызылординская область, Казахстан), мною были выявлены несколько экземпляров пулов нового типа, чеканенных в г. Дженд (рис. 1).
Аверс — двойной линейный ободок
Реверс — ободки те же
Обратим внимание на так называемую «стремявидную» тамгу и легенду на другой стороне пула.
Тамга такого вида хорошо известна исследователям. До сих пор она встречалась на серебряных и медных денежных знаках, чеканенных на монетном дворе Крым. На дирхемах{104} тамга сопровождается легендой с титулом «Падишах ал-ислам нусрат ад-дунья ва ад-дин» — «Падишах ислама, защитник мира и веры». Впервые они опубликованы в 1905 г. А. К. Марковым[291], а в 1964 г. С. А. Янина идентифицировала «стремявидную» тамгу как знак правителя Улуса Джучидов Берке (656–665/1256–1266 гг.)[292]. Такая персонификация опиралась на анализ титула. При этом кольцевая легенда, помещенная на стороне с тамгой, до сих пор остается непрочитанной (рис. 2).
Идентификация правителя-эмитента, предложенная С. А. Яниной, стала общепринятой и утвердилась в историографии[293]. Новые нумизматические материалы позволяют пересмотреть вопросы: когда и кем чеканены дирхемы и пулы с тамгой такой формы.
П. Н. Петров, изучавший клад дирхемов XIII в. из Хорезма, пришел к выводу о появлении двуногой тамги (так называемой «тамги Дома Бату») в 660-х г.х., при хане Менгу-Тимуре (665–681/1266–1282 гг.); отсюда следует, что двуногая тамга является знаком Менгу-Тимура, а не Бату[294]. С этим заключением следует согласиться. Подтверждают его и монеты Крыма (665 г.х.) и Дженда (667 г.х.)[295] на которых помещена такая тамга. Неизвестно более ранних монет, имеющих выраженные признаки для атрибуции их как джучидских. Замечу только, что самые ранние датированные монеты с тамгой Менгу-Тимура чеканены в Сарае в 671, а в Булгаре в 673 гг.х. Каких-либо критериев для датировки других эмиссий этих дворов (имеющих двуногую тамгу, но не имеющих даты) годами раннее 665 г.х. у нас нет.
Использование других тамг, великих каанов Менгу (649–658 гг.х./1251–1260 гг.) и Ариг-Буги (658–662 гг.х./1260–1264 гг.) известно (в пределах территорий вошедших чуть позже в Золотую Орду[296]) в Булгаре. Тамга каана Гуюка (644–647 г.х./1246–1250 гг.) чеканилась на дирхемах[297], находимых также в Приаралье. Имя Менгу есть на серебряных денежных знаках Хорезма и Булгара (вместе с тамгой), а Ариг-Буги (с его же тамгой) — только Булгара. Анализ монетного материала джучидских улусов (Крыма, Булгара, Сарая, Хорезма, Дженда) позволяет утверждать, что до Менгу-Тимура собственно джучидского чекана не было, а выпуски монет маркировались тамгами или именами каанов, чья администрация находилась в Каракоруме. Такой же ситуация была и в Чагатайском улусе. Чагатайская тамга (одна, без сопровождения угедеидской) появляется на дирхемах хана Борака, чеканенных в Алмалыке в 668 г.х.[298] Появление тамг на джучидских и чагатаидских монетах в первой половине 660-х гг.х. было следствием разрушительных событий в Еке Монгол улус. Весной 1269 г. на берегу р. Талас состоялся курултай, на котором было создано в Средней Азии полностью независимое от великого хана государство под владычеством Хайду. Интересы Менгу-Тимур на курултае представлял его двоюродный дед Беркечар, возглавлявший крупное военное соединение, отправленное в помощь Кайду[299]. И именно в этом году на серебряных монетах пограничного Дженда появляется двуногая тамга Менгу-Тимура. Хотя в письменных источниках прямо не говорится о выходе Улуса Джучи из некогда единой империи, но события 1250–1260 гг., появление тамг местных владетелей, решения Таласского курултая, позволяют считать, что в течении 665–667 гг.х. этот улус также стал самостоятельным государством. Двуногая тамга Менгу-Тимура обрела статус «главной, великой тамгой», как она отмечена на монетах, чеканенных в Булгаре[300].
Таким образом, предшествующая атрибуция «стремявидной» тамги как знака джучида Берке, основанная на анализе титула на безымянной монетной легенде, ставится под сомнение выявленной датой начала джучидской чеканки и находкой джендских пулов. Если эта тамга принимается за джучидскую{105}, то чеканка монет с ней началась с 665 г.х., то есть после смерти Берке. Именно с этого времени в Улусе Джучидов появляются знаки местных правителей. Считать же «стремявидную» тамгу каанской и датировать монеты раннее указанной даты не позволяют известные тамги каанов, имеющие другие формы.
Легенды джендских пулов также свидетельствуют о чеканке их во второй половине XIII в. Легенда на фарси «Высочайшее спокойствие вечно» характерна для группы монетных девизов, читаемых на пулах Крыма и дирхемах Булгара. На медных монетах Крыма имеются следующие персоязычные «девизы»:
— «Счастье и успех»
— «Твое благополучие да будет вечным»
— «Счастье да будет непреходящим»[301]
Эти легенды не имеют аналогий в мусульманской нумизматике домонгольского и раннемонгольского (до конца XIII в.) периода. Проверка сочетаемости их с датами, тамгами, анализ художественного оформления показывают, что самым вероятным периодом для эмиссии подобных монет являются годы правления золотоордынских ханов Менгу-Тимура, Туда-Менгу, Тулабуги, то есть с 665 по 690 гг.х. По содержанию легенды джучидских монет близки к девизам правлений китайских императоров (няньхао), также помещавшимся на монетах. Можно говорить и о влиянии буддийских и даосских доктрин[302]. Появление на джучидских монетах девизов, аналогичных китайским няньхао, скорее закономерность, чем случайное совпадение. Они зафиксированы почти на двух десятках монетных типов, чеканенных в двух улусах государства. В их число входят теперь и пулы Дженда, третьего улуса.
Оформление джендских пулов близко к оформлению крымских: на одной стороне тамга и указание места чеканки; на другой только девиз. Разница в расположении элементов легенды. На крымских пулах указание на место чеканки расположено обычно по сторонам тамги, на джендских — под ней. В джучидской нумизматике только на крымских и джендских медных монетах использовано отглагольное существительное бисиккат (чеканка)[303]. Особо выделю, что как и в Крыму, в Дженде «девиз» чеканится на пулах как со «стремя-видной» тамгой, так позже и без нее. Серебряные же монеты обоих дворов имеют другое оформление и формуляры легенд. Очевидно, что оформление денежных знаков, выпущенных в столь удаленных друг от друга дворах, подчинялось сходным принципам.
Таким образом, наблюдения и сравнения показывают, что известные нам три типа монет со «стремявидной» тамгой (один серебряный и два медных) выпущены после 665 г.х. и к джучиду Берке отношения не имеют. Тем не менее, «родственность» их очевидна и подтверждается наличием тамги одного типа. Каково их происхождение?
Несмотря на надежные сообщения источников о разделе земель западнее р. Иртыш между сыновьями Джучи, прежде всего Бату, Орду-ичена и Шибана, границы их улусов были условными. При необходимости, правитель Улуса Джучи мог наделить (и наделял!) оглана из одного семейного клана владениями на территории другой семьи. Примером тому может быть наделение Шибанидов владениями в Крыму, которое было произведено Берке[304]. Напомню, что коренные юрты Шибана находились на восток от р. Урал, до Сырдарьи, севернее и северо-восточнее Аральского моря. После избрания Менгу-Тимура в 665 г.х. вилайеты Крым и Кафа были переданы Уран-Тимуру[305], сыну Тука-Тимура, тринадцатого сына Джучи.
История восточного Приаралья этого времени в письменных источниках не отражена. Джамаль Карши, побывавший в Дженде в 1270-х гг., оставил исторически малоинформативную заметку об этом городе (Джамал ал-Карши, с. 156). В течение следующих ста лет, до рубежа шестого и седьмого десятилетий XIV в., отсутствуют каких-либо надежные сведения по истории и сюзеренным владениям в нижнем течении Сырдарьи. В это время власть в Сыгнаке захватил тукатимурид Мубарек-ходжа. После него в 1370-х гг. правит его родственник выдающийся Урус-хан. А в 1379 г. у потомков последнего город и область отнимает Токтамыш, также из рода Тука-Тимура. Чем объяснить такую настойчивость тукайтимуридов из разных колен к подчинению себе Сыгнакского вилайета? По-видимому, тем, что у них были права на владения этой территорией. Насколько обширным было это владение, и в какие годы вилайет находился под тамгой тукайтимуридов сказать трудно{106}. Фактически, для реконструкции исторических событий у нас есть «стремявидная» тамга и фрагментарные сообщения письменных источников.
Поскольку тамги на монетах Улуса Джучи, как самостоятельного государства, появляются, как уже сказано, только в 665 г.х., то датировать крымские дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой годами правления Берке, у нас нет оснований. Напомню, что при Берке Крымским улусом управляли наместники из рода Шибана. В 665 г.х. Менгу-Тимур приходит к власти и передает Крым тукатимуриду Уран-Тимуру. И тогда же начинается чеканка датированных дирхемов с двуногой тамгой Менгу-Тимура. Часть этих дирхемов перечеканена из серебряных монет со «стремявидной» тамгой, что указывает на их хронологическую близость и, вероятно, последовательность эмиссий, но не отвечает на вопрос о том, сколько лет чеканились монеты с датой «665». Ведь смена типа и даты произошла только в 673 г.х.[306] Количество известных монет и штемпельных разновидностей[307] позволяет предполагать, что они чеканились не один, 665, год, но эмиссия была более продолжительна. Это значит, что перечеканка ранних монет велась несколько лет[308]. В течение этого срока могли быть выпущены и дирхемы со «стремявидной» тамгой.
Во второй половине шестидесятых годов XIII в. власть над Крымским улусом принадлежала двум джучидам. Это батуид Менгу-Тимур, чья двуногая тамга хорошо известна, и тукатимурид Уран-Тимур, чья тамга до сих пор была нам незнакома. Следует полагать, что «стремявидная» тамга могла принадлежать только последнему, ибо других чингизидов, имевших право помещения тамги в Крыму в это время не было.
Но возможна ли чеканка монет с двумя разными тамгами в пределах одного улуса? Возможна. В нумизматике Чагатайского улуса есть примеры, когда разные тамги, угедеида Кайду и чагатаидов, чеканились на монетах разных городов одного улуса в годы правления названного хана[309]. Потомок старшего рода каана Угедея, Кайду, назначал наместников из чагатаидов в разные области государства и те выпускали денежные знаки со своей тамгой. Эти монеты были анонимными, как и дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой. В Улусе Джучи во второй половине 680-х гг.х. в Крыму, Булгаре, Хорезме, Сарае выпускались монеты с тамгами разных видов, в том числе с совершенно отличной от двуногих тамг «трехногой тамгой с ушками у головки». Существует предположение, что это знак батуида Кунчека, сына Тарбу, брата хана Тулабуги[310].
Таким образом, с большой степенью вероятности можно полагать, что во второй половине шестидесятых годов XIII в. в Крыму чеканятся и обращаются именные с двуногой тамгой дирхемы батуида Менгу-Тимура, правителя Улуса Джучи, и анонимные дирхемы и пулы со «стремявидной» тамгой тукатимурида Уран-Тимура. Одновременно Уран-Тимура или его родственнику подчинялся Джендский улус, где в этот же период (согласно анализу легенды на одной из сторон) выпускаются пулы с тамгой такого же типа.
Часть 3.
Халиф ан-Насир ли-д-Дин и Чингис-хан
Монгольский вызов породил в разных культурах серию фантомов, которые сегодня воспринимаются как отражения неких реалий Монгольской империи. Загадочно выглядит государственный культ поклонения статуе Чингис-хана, о котором сообщают только чужестранцы[311]. Пожалуй, самым любопытным из фантомов является выпуск золотых динаров в Газне в 1221 г. с легендой: «ал-Хакан/справедливый/великий/Чингиз хан». Это произошло в разгар войны с хорезмшахом. Сам Чингис-хан, скорее всего, не имел отношения к выпуску этих монет. На обратной стороне динаров значилось имя багдадского халифа ан-Насира: «нет Бога кроме Аллаха/Мухаммад посланник Аллаха/ан-Насир ад-дин Аллах/повелитель правоверных». Несет ли этот чекан религиозную составляющую? С позиции монголов, которые, видимо, не инициировали этот чекан, вопрос лишен содержания. С позиции мусульман, поместивших на монете имя Чингис-хана, это была демонстрация лояльности, а имя халифа размещалось в полном соответствии с мусульманским законом. Необычным выглядит сочетание имен.
Халиф ан-Насир, страшась хорезмшаха, когда тот вознамерился захватить Багдад в 1217 г., подстрекал монголов к нападению. На это обстоятельство Ибн ал-Асир сначала намекает, а в другом месте говорит яснее: «И если правда то, что приписывают ему (халифу ан-Насиру) аджамы (неарабы), а именно, что он побудил татар напасть на мусульманские страны и что с этой целью он посылал к ним людей, то он совершил деяние, которое превосходит великие преступления»[312].
Современник событий епископ Акры Жак де Витри сообщает, что халиф ан-Насир отправил послов к «царю Давиду», который под влиянием послов халифа начал войну с хорезмшахом[313].
В символическом плане действия двух фигур — монгольского хана и халифа были направлены на устранение хаоса, который воплощала фигура хорезмшаха. Эта странная на первый взгляд гипотеза имеет документальное подтверждение. Известны золотые динары, на одной стороне которых читается титул «Чингиз-хан», на другой — имя халифа ан-Насира. Кто и с какой целью чеканил такие монеты? Известны золотые динары с титулом "Чингиз-хан", битые в Газне, Самарканде, Бухаре.
Газна, 618 г.х., вес 2,23 г.
Л.с. В поле: ал-хакан/ал-адил/ал-а'зам/Чингиз хан. т. е.
ал-Хакан (Хан ханов)/справедливый/великий/Чингиз хан
Круговая легенда — выпускные сведения, сохраняется, как правило, фрагментарно.
О.с. В поле — калима и имя багдадского халифа ан-Насира:
нет Бога кроме Аллаха/Мухаммад посланник Аллаха/ан-Насир ад-Дин Аллах/повелитель правоверных
Круговая легенда, как правило, видна фрагментарно — Коран IX, 33.
Бухара, [6]20 г.х.
Л.с. В поле: Чингиз хан/справедливый/великий.
Круговая легенда — выпускные данные фрагментарно.
О.с. В поле: Бухара/Нет Бога кроме/Аллаха Мухаммад/посланник Аллаха.
Круговая — неясно.
Комбинация имени монгольского хана и халифа мне кажется знаменательной, поскольку удостоверяет признание новой ситуации. Чингис-хан назван высшим правителем, при этом и речи не могло идти о подтверждении властных полномочий Чингис-хана аббасидским халифом. Для мусульманского сознания фигура халифа воплощала духовную власть, а фигура монгольского хана — светскую. Парадокс в том, что власть Чингис-хана не нуждалась в признании со стороны духовного авторитета наместника Пророка. Чингис-хан был избранником Вечного Неба, а не Аллаха. «Справедливый и великий Чингиз-хан» и «повелитель правоверных. ан-Насир» воплощали взаимоисключающие принципы устройства общества. Источником мусульманского права был Коран, источником политической власти представителей «золотого рода» Чингис-хана была генеалогия.
Считается, что испытанным способом исламской пропаганды в джучидской среде, а также у потомков Чагатая и Хулагу после принятия ислама правителями этих государств стали монетные формуляры с арабскими легендами[314]. Особенностью булгарской монетной чеканки Улуса Джучи времени правления Бату и Берке является отсутствие дат имен джучидов (Бату и Берке) и помещение имен и тамги каанов Менгу и Ариг-Буги. В этот же период чеканятся монеты с именем покойного халифа ан-Насира (ум. 1225) и ведется перечеканка медных монет ан-Насира новыми штемпелями с именем и тамгой каана Менгу[315]. После монгольского завоевания имя халифа ан-Насира неоднократно помещалось на монетах, чеканенных в разные годы в различных областях Монгольской империи, например, на медных посеребренных монетах Бухары 628–629 г.х. (1230–1231), Самарканда 617 г.х. (1220), Отрара 649–662 г.х. (1251–1263), Ходжента 663 г.х. (1264), Алмалыка 638–654 г.х. (1240–1256). В 1290-е гг. имя халифа ан-Насира помещали на серебряных и медных монетах Волжской Булгарии и Сарая, но без титула «эмир правоверных». Монетные надписи с символом веры и тронным именем халифа ан-Насира (или без имени халифа) чеканились в Алмалыке и Пуладе, городах Чагатайского Улуса. Это обстоятельство мне кажется удивительным. По какой причине имя покойного халифа остается на монетах разных монгольских улусов?
Г. А. Федоров-Давыдов оставляет вопрос без объяснения: «Исламизацию Золотой Орды отражают монеты с арабскими легендами. Уже при Берке в Волжской Болгарии чеканились монеты с именем покойного почитаемого халифа Насир ад-Дина (с ошибочным написанием имени как Насир ад-Дин) и некоторые из них имели религиозную сентенцию: "Жизнь есть час, употребляй ее на дела благочестия"»[316].
Е. А. Давидович так объясняет присутствие имени покойного халифа на чагатайских монетах: «Имя халифа Насира есть на золотых, серебряных, медных посеребренных и просто медных среднеазиатских монетах, но его появление или исчезновение никак не связано с 1258 г. — годом гибели последнего халифа и отнюдь не является демонстрацией отношений разных монгольских государей к Хулагу-хану и факту уничтожения им халифата. Имя халифа Насира на среднеазиатских монетах — такая же дань традиции, как и все прочие мусульманские надписи»[317]. То же самое говорилось в ранней статье Е. А. Давидович: «Имя Насира сохранилось по традиции от последних илеков и хорезмшахов, когда оно имело реальный смысл, тем более что и сам тип крупных медных монет заимствован был также из предшествующего чекана. Большое значение имеет то обстоятельство, что эти монеты относятся к группе безымянных, чеканенных без проставления имени соответствующего джагатайского хана, что по себе требовало помещения на большом поле монетного кружка каких-то иных легенд. Для этой цели весьма годилась заимствованная и традиционно сохранившаяся легенда с именем умершего халифа, выглядевшая поэтому достаточно нейтрально»[318].
Это объяснение ровным счетом ничего не проясняет. О какой традиции идет речь, когда на монетах чеканят имя давно почившего халифа? Такого не было в мусульманской практике. Упоминание имени в хутбе и на монетах было прерогативой живого халифа. Почему хранится память о покойном халифе в течение пятидесяти лет? Очевидно, что этот феномен имперский (монгольский), а не мусульманский.
Интригующе выглядит сочетание имен живущих и покойных халифов на монетах ширваншаха Ферибурза III (1225–1255/6): «Монеты ширваншаха Ферибурза III можно разделить на три типа, — пишет нумизмат М. А. Сейфедцини, — На всех монетах, наряду с именами халифов ал-Мустансира и ал-Мустасима, чеканилось и имя ан-Насира, хотя он умер в 622 г.х. (1225 г.). С чем это связано, мы объяснить не можем, так как никакими сведениями о конкретных исторических событиях не располагаем»[319].
Зададим вопрос правильно: почему имя халифа ан-Насира оказалось столь востребованным при монетном чекане на мусульманских территориях, подвластных монголам? Действительный или мнимый союз халифа с Чингис-ханом позволял мусульманской общине найти компромисс с монголами. В таком случае монетные надписи с символом веры скорее демонстрируют лояльность этой общины, чем преследуют цели религиозной пропаганды. В символическом плане ситуация, когда при здравствующих халифах (до 1258 г.) на чекане стоит имя покойного ан-Насира, в высшей степени любопытна: новые монеты указывают на разрыв пространства и времени, изъятых из дар ал-ислама, воцарением Ясы. Этот феномен является особенностью регионов, завоеванных монголами. В этих регионах мусульмане были выведены из-под юрисдикции халифа. Но соблюдать правила оформления денежных знаков они были обязаны, поэтому чеканили имя халифа, последнего, кому они были вверены Аллахом.
Часть 4.
Трудности перевода
Современные историки реконструируют внешний ход событий, полагая, что в этом и заключается смысл истории. Война Чингисхана с мусульманским миром не сводима только к битвам людей, — сталкивались мифологемы. Средневековые описания этих событий, как правило, воспроизводят ту мифологему, что придает событиям смысл.
Несторианскому сюжету о небесном воинстве Чингис-хана соответствует персидский вариант, где Чингис-хан ожидает помощи от ангелов и дивов. В изложении Рашид ад-дина, Чингис-хан, поднявшись на холм (символ Мировой горы), обращается к космическим силам исламской мифологии. Когда такие тексты используют для иллюстрации харизматической роли монгольского лидера[320], возникает вопрос: какой картине мира они соответствуют — персидской или монгольской? Очевидно, что картина сшита из двух ментальных фрагментов и ключевая нагрузка приходится на мусульманский фрагмент. В этом и есть предмет исторической географии политического мифа. Поскольку миф конструируется персами-мусульманами, Чингис-хан с неизбежностью ищет поддержку у пери и дивов. Ментальная достоверность этого сообщения равна достоверности несторианской легенды, согласно которой Чингис-хану помог Владыка неба и земли.
«В то время когда Чингис-хан предпринял поход на владения Хитая и выступил на войну против Алтан-хана, он один, согласно своему обыкновению, поднялся на вершину холма, развязал пояс и набросил его на шею, развязал завязки кафтана [каба], встал на колени и сказал: "О господь извечный, ты знаешь и ведаешь, что ветром, [раздувшим] смуту, был Алтан-хан и начало распре положил он. Он безвинно умертвил Укин-Баркака и Хамбакай-каана, которых племена татар, захватив, отправили к нему, а те были старшими родичами отца моего и деда, я же домогаюсь их крови, лишь мстя [им]. Если ты считаешь, что мое мнение справедливо, ниспошли мне свыше в помощь силу и [божественное] вспоможение и повели, чтобы с высот ангелы и люди, пери и дивы стали моими помощниками и оказывали мне поддержку!" С полнейшим смирением он вознес это моление; затем сел на коня и выступил. Благодаря [своей] правоте и верному намерению, он одержал победу над Алтан-ханом, который был столь могущественным и великим государем, многочисленности войска, обширности страны, неприступным крепостям которого нет предела, и его владения и его дети очутились во власти [Чингис-хана]!» (Рашид ад-дин. Т. I. Кн. 2. С. 263). Чингис-хан надеется на помощь воинства пери и дивов. Он ведет себя как древний персидский царь доисламской эпохи. Он предстает великим язычником, который не слышал имени Аллаха. Для расшифровки этого сюжета я отсылаю к исследованию П. В. Башарина о войнах в мусульманской демонологии (см. ниже). Это исследование дает важные контексты для уяснения особенностей того культурного пространства, в которое вторглись монголы со своими преданиями, обычаями и священнодействиями. Вопрос ставится так: передает ли персидский текст монгольскую реальность без тотальных искажений?
Один из сыновей Кабул-хана, третьего предка Чингис-хана, гонцам, которые приехали с вызовом на сражение, заявил следующее: «У меня на левом крыле находится [мой] старший брат бахадур, по имени Кутула-каан, из земли Гуркутас, обители дивов; по сравнению с силой его голоса, эхо тех высоких гор покажется слабым, от силы руки его слабеет лапа трехгодовалого медведя, от стремительности его нападения вода трех рек начинает волноваться, и от раны, [нанесенной] его ударом, дети трех матерей начинают плакать. А на левом крыле у меня находится сват, по имени Ариг-чинэ; когда он охотится в дремучем лесу, он хватает серого волка за лапу и ударяет [его] оземь, он отгрызает голову и лапы леопарда и проламывает голову и переламывает шею тигра, а родом он из земли Адар-джубур, которая тоже обитель дивов» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 2. С. 39).
Е. Э. Бертельс показывает как изменялось значение слова пари (заимствовано в русский как пери) в персидском литературном языке X–XV вв. Начиная с эпохи «Шахнаме» в персидской поэзии и фольклоре пари — эфирная женщина, очень красивая, необыкновенно привлекательная, во всем противоположная дэвам. В арабско-персидском словаре Замахшари (ум. 1143) «Мукадцимат ал-адаб» против арабского слова джинни стоит перевод пари, а арабское слово шайтан передано персидским див, т. е. «дэв», иблис переведен словом михтар-и парийан 'глава пери'[321]. В персидском романе XIII–XIV вв. «Пол и Санаубар» описана сказочная страна Шабистан, где правит Прекрасная Гул-пери, царица пери[322].
Область представлений средневековых монголов о шаманах остается недоступной для адекватного понимания, поскольку все известия на эту тему принадлежат авторам, имеющим иную культурную и религиозную ориентацию. Вот, например, сведения Рашид-ад-дина о правителе найманов, доившем дивов: «У большинства государей найманов титулом было кушлук-хан, либо буюрук-хан. Смысл [слова] кушлук — "весьма сильный" и "владыка". Найманы твердо убеждены в том, что Кушлук обладал такой властью над дивами и пери, что выдаивал их молоко и приготовлял из него кумыс, такую же [власть] он [имел] и над прочими дикими животными. Впоследствии эмиры найманов сказали: "Суть сего греховна", — и запретили [доение]. По этой причине он перестал их доить» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 2. С. 112).
Содержание этого сообщения абсолютно загадочно. О. М. Муродов полагает, что здесь воспроизводится образ могущественного государя из тюрко-монгольского эпоса с использованием элементов персидской мифологии (дивы и пери), а также наличествует идея греховности контактов с воображаемыми духами[323]. На мой взгляд, в сообщении Рашид-ад-дина воспроизводится совершенно чуждый наблюдателю мир, с трудом адаптируемый в рамках иного сакрального опыта. Вопреки О. М. Муродову, это не сочетание тюркских и персидских элементов, а полное искажение смыслов.
Согласно поздним преданиям, герой, столкнувшись с женщиной-дэвом, знает как себя вести. Он сосет молоко из ее грудей и таким, символическим, образом между ними устанавливается родство: дэв-женщина волей-неволей должна уже помогать своему «названному сыну»[324]. В якутском олонхо герой сосет молоко из груди старухи (существа нижнего мира), явившейся ему во сне, что удесятеряет его силы[325], и, наоборот, у горных таджиков, считалось, что если ал-масти дает пососать свою длинную грудь младенцу, то он умирает[326]. Сосание груди входило в цикл испытаний, связанных с получением шаманского дара. Посвящаемый находился в состоянии галлюцинаций: «Его били веревками и ремнями, в тело его впивались гады. Его обмакивали в кровяные сгустки, он захлебывался в крови, должен был сосать грудь ужасной старухи, ему выкололи глаза, просверлили уши, тело его разрезывали на куски и укладывали в железную люльку»[327]. В русских волшебных сказках яга рисуется женщиной с гипертрофированными грудями. Как показал В. Я. Пропп, яга является матерью и хозяйкой лесных зверей и имеет над ними неограниченную власть[328].
В дополнение к найманскому сюжету в изложении Рашид-ад-дина приведу еще один пример. В средневековой персидской космографии отражены магические практики горцев Болора — ныне Нуристан (сев.-вост. часть современного Афганистана)[329]. Они связаны с представлением о благодетельном женском божестве, которое наделяет все живое молоком жизни. С позиции мусульманских наблюдателей женское божество выглядит как идол. «В пределах Булура есть местность, где три месяца в году видят солнце, [в течение] девяти месяцев сверкает молния и гремит гром. Климат умеренный. Там есть капище, а в нем — идол в образе женщины. У идола сделаны огромные соски. Больных, которые бывают в той местности, везут туда. Руку больного подставляют к соску идола, и в нее стекает две-три капли молока. Их смешивают с водой и дают больному выпить. Ему сразу становится лучше. Если же больной должен умереть, он умрет» (Чудеса мира. 29).
Идея греховности присуща не найманскому преданию о Кушлуке, а мусульманскому интерпретатору. Мне кажется, что сюжет о Кушлуке, доившем пери и приготовлявшем кумыс, таит в себе иронию.
Согласно ал-Бируни, «[существование] джиннов и шайтанов признавало большинство мудрецов, как, [скажем], Аристотель, который приписывает им воздушность и огненность и называет их человеческими существами, или, например, Яхья-грамматик, который признавал [джиннов]» (ал-Бируни. Хронология, с. 258; Яхья-грамматик — яковитский епископ и переводчик VII в).
Вассаф описывает битву между войском Берке и Хулагу в образах войны джиннов, дэвов и пери в иранской мусульманской традиции, «…войско монгольское [которое было] отвратительнее злых духов и бесов да многочисленнее дождевых капель, по приказанию Берке-огула точно огонь и ветер прошло по этой замерзшей реке. От ржания быстроногих [коней] и от бряцания [оружия] воинов поверхность равнины земли наполнилась грохотом ударов грома и сверканием молнии. Распалив огонь гнева, они дошли до берега реки Куры. Для отражения искр злобы их Хулагу-хан выступил навстречу со сняряженным войском» (Сборник материалов. Т. II. С. 163).
В описании коронации Менгу есть эпизод, который, на мой взгляд, не соответствует монгольским представлениям о мире. Где и в какой традиции правитель выказывает заботу о минералах, проточной воде и диких животных и птицах? На мой взгляд, речь идет о комбинации различных элементов персидских праздников, о которых можно судить по трактату ал-Бируни «Памятники минувших поколений».
«В год кака-ил, который является годом свиньи, павший на месяц зу-л-када 648 г.х. (25 января — 23 февраля 1251 г.), в Каракоруме, что был столицей Чингис-хана, Менгу-каана посадили на престол верховной власти и трон царствования. Эмиры и войска, [стоявшие] вне ставки, также вместе с царевичами девять раз преклонили колени. Когда он счастливо воссел на государственный трон, то от полноты высоких благородных помыслов [своих] захотел, чтобы в тот день был отдых всем людям и тварям. Он издал указ, чтобы в этот счастливый день ни одно создание никоим образом не вступало на путь спора и ссоры, а [все] бы занимались развлечениями и удовольствиями, и так же, как разных чинов люди справедливо требуют от судьбы наслаждения и удовольствия, чтобы и все виды тварей и минералов не были в том обездоленными. Домашних животных — верховых и вьючных — не позволять изнурять верховой ездой, грузом, путами и охотой; не проливать крови тех [животных], кои согласно справедливому шариату могут быть употреблены в пищу, дичь — пернатая и четвероногая, водоплавающая и степная — дабы была в безопасности от стрел и силков охотников и вольно летала и паслась; земной поверхности не беспокоить ударами кольев и подков, проточную воду не осквернять грязью и нечистотами» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 132).
Акт коронации Менгу приравнивается к акту рождения мира. «Ученые персы говорят, что в день Науруза есть час, когда духи движут сферу Фируза ради создания тварей <…> К числу обычаев Хосроев, [которые соблюдались] в эти пять дней [принадлежало такое установление]: в день Науруза царь начинал [празднество] и объявлял [простым] людям, что будет сидеть для них и окажет им милость. Во второй день он принимал тех, кто стоял ступенью выше, то есть дихканов и членов [знатных] семей; в третий день царь сидел для всадников и для высших мобедов <…> Ардибахишт — ангел огня и света, и эти два [элемента] однородны с ним. Аллах поручил ему [наблюдать] за этими элементами, а также устранять недуги и болезни при помощи лекарств <…>. Харуза — это ангел, на которого возложено попечение о тварях, деревьях и растениях и удалении нечистот от воды. <…> Шахривар-Мах. В четвертый день этого месяца, то есть в день Руз-и-Шахривар — праздник. Он называется Шахриваратаи, вследствие совпадения названий, и это означает: "семя" и "любовь". Шахривар — это ангел, которому поручены семь драгоценных металлов, то есть золото, серебро, а также другие металлы, благодаря которым существуют ремесла, мир и его обитатели. <…> Бахмаи-Мах. Во второй день этого месяца, то есть Руз-и Бахман — праздник, называемый Бахманджане вследствие совпадения наименований. Таково имя ангела, которому поручена [охрана] животных, необходимых людям для земледелия и для использования ради своих нужд» (ал-Бируни. Хронология, с. 225, 229, 233, 242).
«Сакральные войны» в рамках мусульманской демонологии (П. В. Башарин){107}
С расширением границ арабского халифата трансформации подвергалась вся система миросозерцания раннего ислама. Выйдя за пределы Аравии, арабы столкнулись с большим числом религий и религиозных традиций, чья древность превосходила ислам (христианством, зороастризмом, манихейской доктриной, с религиями Индии, главным образом, индуизмом и буддизмом, утвердившемся в Восточном Иране и Трансоксании, разнообразными формами шаманизма на Переднем Востоке и Средней Азии). Укорененность многовековой традиции в сознании народов новых покоренных территорий делала весьма затруднительным для молодой религии идейную борьбу с автохтонными религиозными идеями. Силовое искоренение местных религиозных практик, особенно путем уничтожения письменных текстов и предметов, связанных с религиозной практикой, не всегда совершалось с умыслом. Так, переплавка предметов из драгоценных металлов и уничтожение памятников искусства при дележе добычи не была сознательной попыткой элиминирования автохтонной религиозной традиции, в отличие, например, от уничтожения местных книг в Хорезме и репрессивных мер по отношению к тамошней интеллектуальной элите. Включив в территорию халифата земли, заселенные различными народами, ислам, продемонстрировал удивительную пластичность, рано начав синтезировать чуждые элементы в свою идеологию. Самым ярким примером такого синтеза является создание Сунны, включившей ответы на большинство правовых, юридических и повседневных вопросов, на которые не в силах был ответить корпус коранических сур. В результате такого синтеза в халифате сформировались историография, право, экономика, литература, философия, искусство и т. д. В религиозную мусульманскую практику было введено огромное количество новых идей, с одной стороны, изменивших облик аравийского ислама, с другой стороны, породивших в различных регионах, покоренный мусульманами, особые региональные разновидности ислама.
Этот синтез представляет собой весьма сложный предмет для исследования в плане выявления и точного атрибутирования заимствований. Это касается анализа любой из вышеперечисленных сфер. Довольно сложный феномен представляет мусульманская демонология. Сейчас мы сосредоточимся на развитии одного любопытного концепта демонологии в мусульманском Иране. Речь пойдет о таком малоизученном вопросе, как войны потусторонних существ. Этот феномен можно назвать сакральными войнами. Сложные механизмы трансформаций образов в наибольшей степени прослеживаются в жанрах изящной литературы и, в особенности, в фольклоре.
В аравийской традиции сверхъестественные создания практически никогда не объединяются в общественные ассоциации. Согласно до-мусульманскому мировоззрению арабов, окружающее пространство, преимущественно пустыня, населено помимо диких зверей, демоническими существами. Главными демонами пустыни являются гули, принимающие различные образы для заманивания злосчастных путников, которых затем они убивают. К ним примыкают в более поздней традиции си'лат (преимущественно женские особи гулей, но иногда фигурируют как отдельный вид), кутрубы (мужские особи гулей), 'узары (демоны мужского пола, которые обожают насиловать путников, после чего те умирают), а также 'удруты (демоны-оборотни, духи убитых[330])[331]. Гули всегда выходят на охоту поодиночке и никогда не объединяются в стаи. Иллюстративным примером описания встречи человека с гулем (женского рода) в доисламской арабской поэзии являются стихи Та'аббаты Шаррана.
Второй класс аравийских демонических существ — джинны, часто враждебные человеку, обитают в пустынях, горах, камнях и деревьях, представляя собой известный всем демонологическим традициям тип имперсональных духов отдельной вещи. К ним обращались за помощью и приносили жертвы (Коран. 72:6). Поэты-прорицатели, произносившие стихи или речения ритмизованной прозой (saj') в состоянии экстаза были одержимы джиннами (majnun). Считалось, что у каждого поэта был свой индивидуальный джинн. Таким образом, «специализация» аравийских джиннов также исключает возможность их совместного обитания[332].
Подобная характеристика вступает в противоречие с более поздними сообщениями о джиннах, ведущих жизнь бедуинов. В хадисе, переданном 'Алкамой ибн Кайсом ал-Хамадани (ум. 681), говорится о джиннах, обладающих племенной организацией и такими атрибутами кочевой жизни, как ночной лагерь, разведение костров, выпас скота. Один из джиннов (dа'l) находит Мухаммада и приводит его к своему племени, дабы он почитал им Коран. За это посланник Божий обещает, что отныне голые кости, над которыми будет упомянуто имя Бога, покроются мясом, а навоз превратится в пищу для скота. Таким образом, он навсегда избавляет это племя от голода. То есть, угроза голода, животрепещущая для бедуинов, сближает здесь джиннов со смертными людьми[333]. Однако подобные описания общественного устройства у джиннов единичны. В самом Коране упоминание «сонма» (букв, «нескольких» — nafar) джиннов не указывает на наличие у них общественного устройства. Приведенный хадис является комментарием к суре Джинны. Скорее всего, здесь мы имеем дело не с традиционным представлением доисламских арабов, а с нарочитым нововведением, призванным показать тождество людей и джиннов[334]. Облик имперсональных духов и «внушителей» откровений явно противостоит приведенному бытовому описанию.
Поэты и прорицатели (кахины) получали сведения еще от одного вида демонических существ — шайтанов. Это злые духи. По аналогии с джиннами, у каждого великого поэта был свой шайтан. Слово шайтан также обозначало змею и в этом значении встречалось как имя человека. Характерно, что в Коране всегда упоминается множество шайтанов (в значении дьяволы, буквально «сатаны»), что следует объяснять иудео-христианским влиянием[335]. Однако в Коране присутствуют реминисценции, связанные с домусульманским восприятием шайтанов, где они выступают не поодиночке, а группами. Самое известное место — описание попытки нечестивых демонов подслушать ангелов, которые швыряют в них падающие звезды (Коран. 15:16–18). Однако предположение, что шайтаны были способны сбиваться в стаи, не свидетельствует о наличии у них социальной организации.
Если мы обратимся к иранской мусульманской традиции, то увидим совсем иную картину: иранским сверхъестественным созданиям предписывают способность сорганизоваться и даже конфликтовать между собой. В персидской народной традиции социальная иерархия присуща не только обществу людей, но и другим живым существам: животным и потусторонним существам.
Далее рассмотрим примеры войн джиннов, дэвов (дивов) и пери. Самым ранним пластом в арабской мифологии, касающимся сакральных войн, необходимо признать распространенный в фольклоре сюжет о битве джиннов с людьми. Часто, особенно в арабских народных романах, посвященных жизнеописанию героев времен джахилиййи (времени предшествовавшему исламу), на помощь арабам в их битвах с неверными приходят сверхъестественные существа из числа обращенных в ислам джиннов[336]. Как правило, их не больше двух, однако этого вполне достаточно, чтобы разбить полчища врагов. Обычный способ сражения у джиннов — забрасывание противника огненными стрелами и раскаленными камнями, а также битва особыми мечами, испускающими огненные молнии, в более поздних сюжетах встречается выдыхание огня изо рта и ноздрей (Жизнеописание 'Антары, Жизнеописание Зат ал-Химмы, Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Йазана, Рассказ об 'Аджйбе и Гарибе из цикла сказок «Тысяча и одна ночь»)[337]. В волшебных сказках характерный способ ведения боя у джиннов — выпускание пламени[338]. Перед большими сражениями они бьют в барабаны, которые гремят подобно грому.
В «Жизнеописании Сайфа, сына царя Зу Йазана», которое является ярким образчиком постепенной трансформации героического эпоса в волшебную сказку, сюжет, соответственно, усложняется. Героям не просто помогают сверхъестественные существа. На стороне отрицательных персонажей также сражаются джинны и колдуны. В результате, сражения происходят не только между людьми и сверхъестественными существами, но и между добрыми и злыми волшебниками и джиннами. В этом произведении красочные описания битв и осад демонических существ достигают апогея, реализованного в особой повествовательной эстетике: «… да спасет нас Аллах от боя джиннов! Ведь их битвы и сражения лишают рассудка и разума. Когда джинны бьются, их голоса рокочут подобно грому, приводя душу в содрогание и трепет»[339]. В народных романах дикие вопли и страшные крики сражающихся джиннов, от которых у людей встают дыбом волосы, являются обязательным атрибутом жарких битв. Устрашение противника криками не является специфическим приемом сверхъестественных существ, а копирует военную тактику бедуинов.
В арабо-мусульманском фольклоре можно встретить многочисленные примеры битв войск джиннов. Самый распространенный мотив — сражение джиннов, принявших ислам, с неверными джиннами. В интеллектуальной арабской традиции джинны часто сближаются с людьми, отсюда кораническое выражение «сонм людей и джиннов», что подразумевает наличие у них свободы выбора. Способностью осознавать различие между добром и злом они отличаются от таких существ, как гули. Коранический текст утверждает, что пророки, начиная с Моисея, были посланы не только к людям, но и к джиннам. Во время проповеди Мухаммада некоторые из них уверовали, другие продолжили совершать злые деяния и примкнули к шайтанам, составляющим войско Сатаны (Иблиса), сбивая людей с верного пути. Их участь — загробные муки в аду (Коран. 46:28–31; 71:1–17; 6:112, 128–130; 7:36, 178; 11:120).
Сражения праведных и неверных джиннов происходят, согласно народной традиции, также часто, как походы мусульман на священную войну (gazawаt). Битвы джиннов разворачиваются в особом мире, лежащем за пределами освоенного человеком пространства. Герой попадает туда, как правило, в результате долгих странствий.
Обильный материал на тему битв джиннов предоставляет нам корпус сказок «Тысяча и одна ночь»[340]. Знаменитая история о Булукии, вошедшая в рассказ о Хасибе и царице змей, — источник многочисленных вариантов в иранском и тюркском фольклоре — содержит подробное описание такой битвы. Герой, странствуя по волшебным краям, наблюдает битву двух конных воинств: «Их голоса были точно гром, и в руках у них были копья, мечи, железные дубины, луки и стрелы, и они сражались великим боем»[341]. Выясняется, что сражаются два войска джиннов: правоверные и неверные. Первые живут в белой земле за горой Каф под владычеством царя Сахра и ежегодно ходят священной войной на неверных джиннов. Булукийа попадает к этому царю и узнает из его уст любопытную историю (которая несет неизгладимую печать манихейского влияния) о происхождении джиннов от двух демонических существ. Утверждается, что изначально все племя джиннов было правоверным. Неверные джинны — потомки Сатаны (Иблиса)[342].
В турецком варианте этой истории герой наблюдает битву двух войск дивов. Дивы-мусульмане сражаются с неверными дивами Магриба (согласно арабским представлениям, Магриб — родина самых могущественных колдунов). Битва описана в гротескных красках, дабы подчеркнуть демоническую природу этих воинов: «Белькия с изумлением и ужасом смотрел, как дивы ростом с минарет на конях с человеческими головами метали огромные ножи»[343].
Описание волшебных коней джиннов — отдельный мотив в арабском фольклоре. Например, в сказке о Хасане Басрийском джинны на просьбу героя доставить его и его спутников в Багдад из волшебной страны, дают своих коней, ссылаясь на запрет Соломона возить на себе детей Адама[344].
У фольклорных джиннов, в отличие от джиннов доисламских и коранических, существуют государства, управляемые царями. Персидская литература и фольклор содержат сведения о наличии государств также у таких демонических существ, как дивы, с которыми иранцы стали соотносить арабских джиннов. Устройство этих государств неизвестно, их обитатели живут разбоями и грабежами людей и добрых существ. Персидская литература, как классическая, так и фольклорная, наполнена описаниями банд гулей и дивов. Обычно гули, как и в арабской традиции, встречаются по одному или попарно. Но замороченные путники иногда попадают в места их скоплений, как, например герой Низамй Махан, где «гул на гуле… дивов тысячи на дивах»[345].
Между тем, в том, что дивы властвуют над целыми странами, нет ничего удивительного. Иранская традиция с древнейших времен описывает края, где господствуют эти существа. Еще в «Авесте» упоминаются знаменитые мазанские дэвы (mäzainya daeva)[346] (край Мазан часто отождествляют с более поздним Мазандараном). В восточном Иране с древности был известен героический «систанский» цикл о подвигах богатырей, наместниках Систана (Сакастана). Одним из самых знаменитых персонажей был Рустам. Видимо, мотив битвы Рустама с дэвами возник в древности. В подобных битвах участвуют многие иранские герои и мифические цари Кайанидов, они упоминаются еще в «Авесте». Сам Рустам, согласно «Шах-нама» Фирдауси, сражается с дэвами на протяжении всей своей жизни. Но сейчас нас интересует история его похода в страну дэвов и битва с многочисленным войском демонов. Самой ранней ее фиксацией является согдийский текст из Дуньхуана, являющийся, по-видимому, переводом с недошедшего до нас среднеперсидского оригинала[347]. Рустам, на своем коне Рахше, разгромив войско дэвов и убив их царей, преследует их до ворот их города, о чем становится известно из разговора запершихся в городских стенах дэвов: «Это было великое зло, великий позор для нас, что мы бежали в город от одного-единственного всадника. Почему бы нам не сразиться? Или мы все умрем и будем уничтожены, или отомстим за [наших][348] царей»[349].
Дэвы выходят на битву, собрав все свои силы. Вот описание войска демонов: «Множество лучников, множество колесничих, многие верхом на слонах, многие верхом на yyn'ych[350], многие верхом на свиньях, многие — на лисицах, многие — на собаках, многие на змеях и ящерицах, многие пешком, многие летели, как коршуны и как летучие мыши[351], многие [шли] головою вниз и ногами кверху <…> Они издавали рев. На долгое время они подняли дождь, снег, град и сильный гром; они распахнули пасти и испускали огонь, пламя и дым»[352]. Во втором отрывке меньшего объема описывается хитрый маневр Рустама, когда он отступает, а затем обрушивается на врагов «как свирепый лев на жертву, как гиена на стадо, как сокол на зайца (?), как дикобраз на змею и начал уничтожать их»[353]. Таким образом, способ боя у дэвов из согдийского текста сходен с атакой джиннов (рев, устрашающий врагов, огонь и дым изо рта).
В «Шах-нама», содержащей наиболее полную компиляцию жизни и подвигов Рустама, герой выступает в поход на дивов Мазандарана. Сюжет этой истории таков: царь Кай-Кавус восседает на троне и восхваляет свои доблести. На пир проникает див-музыкант и начинает воспевать красоты Мазандарана. Кай-Кавус, услышав песню, воспламенился идеей похода на Мазандаран. Он дает наставления бойцам: убивать старых и молодых, жечь места обитания, дабы день для них стал ночью, очистить от дивов мир, пока весть о походе иранцев не дошла до них. Войско идет по земле Мазандарана, убивая на своем пути всех, включая женщин, детей и стариков, сжигая и грабя страну. Царь страны дивов Санджа обращается за помощью к Белому диву (Див-и сапид). Тот выступает в поход с бесчисленным войском и пленяет Кай-Кавуса и его воинов. Чтобы спасти своего злосчастного государя, на Мазандаран выступает богатырь Рустам. Он совершает различные подвиги, сражаясь с силами зла.
Край дивов Мазандаран, согласно «Шах-нама», лежит за скалистой пустыней, за рекой шириной в два фарсанга. За ней следует край козлоухих (buzgus) и ремненогих (букв. «мягконогих» — narmpаy). Рустам побеждает дйва Аржанга и обращает в бегство его войско, одолевает в единоборстве Белого дива, живущего в пещере. Освободив Кай-Кавуса с войском, Рустам вступает в Мазандаран и бьется с войском дивов. Битва двух войск лишена сверхъестественных описаний. Он£ не отличается от остальных битв, описаниями которых богата «Шах-нама». Перед генеральным сражением бьются поединщики (Рустам и див Джуйа), а затем вступают в битву армии. Войско дивов сражается на конях и боевых слонах точно так же, как и войско людей (12. 315–378)[354].
Характерно, что одним из положительных героев в арабском народном романе о Сайфе Зу Йазане выступает Белый царь джиннов, отец молочной сестры Сайфа, джиннии Акисы. Он владычествует над семью царями джиннов, будучи, таким образом, самым могущественным джинном. Мы рассматриваем его как аналог Белого дива. Мотивировка такой трансформации следующая: персидские владыки, для арабов воплощенные в образе нечестивых тиранов Хосроев, были врагами мусульман. Следовательно, в картине мира, построенной на дихотомии мусульмане-неверные, враги персов могли стать друзьями, т. е. однозначно перейти в разряд мусульман.
Мотив о войнах дэвов не только продолжает свое существование в Иране после арабского завоевания, но и через фольклор в трансформированном виде усваивается арабами. В результате образ дэвов переносится на джиннов. Описание войск царей джиннов — один из излюбленных сюжетов арабского фольклора. Например, в сказке о Хасане Басрийском при помощи волшебной палочки герой призывает семерых ифритов[355]. Они оказываются царями джиннов. Каждый из царей правит семью племенами сверхъестественных существ («джиннов, шайтанов, маридов, отрядов и духов летающих, и ныряющих, в горах, пустынях и степях обитающих и моря населяющих», существами без тел, без голов, имеющих обличив зверей и львов)[356]. Это войско вступает в битву с войском острова Бак. В этой же истории есть еще одно описание войска могущественного царя джиннов, куда входят шайтаны, мариды и колдуны[357].
Сходная картина в «Жизнеописании 'Антары»: «там были туловища без головы, и головы без тел, иные из этих существ имели обличие птиц разного вида и разного цвета, а иные — обличие верблюдов, коней, мулов или буйволов. У некоторых из них было четыре головы, а у других — две, некоторые имели вид кошек, а другие были похожи на змей, а целые ряды джиннов в образе собак двигались на полчище львов»[358].
Необходимо отметить еще одну характерную черту повествования: в обеих историях войско джиннов скрыто от глаз героев. В первом случае цари джиннов отказываются показать Хасану и его спутникам войска, мотивируя тем, что люди не могут вынести такого страшного зрелища. Приведенные выше описания даются со слов джиннов. В романе об 'Антаре герои также не видят войск, но слышат ужасные вопли и душераздирающие крики. Однако в этом случае царь джиннов позволяет людям увидеть полчища демонов, помазав им глаза насурьмленной палочкой[359]. Все логично: простой человек Хасан не обладает качествами 'Антары и его сподвижников, возвышающих их над остальными смертными. Соответственно, смерть от страха перед увиденным грозит только первому.
В рассказе о Хасибе и царице змей повествуется о сражении войска народа обезьян с гулями, их исконными врагами. При этом, гули не составляют отдельного войска, как дивы и джинны. В арабо-мусульманской литературе описание сражения гулей встречается не часто. Гули сражаются верхом, на конях, некоторые из них имеют коровьи головы, некоторые верблюжьи. Сражаясь, они закидывают противника каменными палицами («камнями, имевшими вид дубин»)[360]. Следует отметить, что в рассказе о Синдбаде обезьяны, сражающиеся против гулей, не являются положительными персонажами. Они берут в плен людей, а после того, как те совершают побег, преследуют их. В рамках классической дихотомии мусульмане-неверные они рассматриваются как неверные. В сражении обезьян и гулей можно видеть прямые параллели войн иранцев (неверных) с дивами. Так этот сюжет совершает еще одну трансформацию.
Отметим сходство вышеприведенных перечней с согдийским списком дэвов. Можно утверждать, что на мотив описания полчищ демонов в арабском фольклоре напрямую повлияла иранская демонология. Изначально этот мотив фиксируется в описании полчищ злых существ, обитающих на востоке от халифата. В индийской литературе также часто встречается описание земель демонов (ракшасов). Аналогом острова Вак является южный остров Ланка, так как именно на юге наблюдается наибольшая концентрация этих существ. Например, классическое описание царства ракшасов, управляемых царем Раваной, приводится в «Рамаяне». Исходя из этого, можно надежно атрибутировать анализируемый мотив как индо-иранский.
В арабском фольклоре также встречается сюжет о городе демонов (ифритов). В рассказе об Абу Мухаммаде-лентяе он называется «медным городом, над которым не восходит солнце»[361]. Сам Медный город хорошо, известен в арабской литературе. Его описания содержатся в большом количестве исторических и географических сочинений[362], а также в фольклоре. В некоторых из сообщений упоминается связь этого места с демонами. Самое раннее свидетельство, согласно исследованиям М. Герхард, обнаруживается в «Та'рих» Ибн Хабиба, его датируют IX в. и относят к андалузской традиции. Полководец Муса ибн Нусайр обнаруживает в городе медные сундуки, в которых со времени пророка Соломона заточены демоны. Ат-Табари, приводит другую историю о Медном городе: Муса приказывает подняться по стене своим людям, обещая награду. Трое смельчаков, взобравшись на стену один за другим, с радостным смехом перескакивают через нее и исчезают[363]. В надписи на стене люди находят табличку, где сообщается, что этот город построен дивами и джиннами по приказу Соломона на месте источника, бьющего жидкой медью. Абу Хамид ал-Андалуси объясняет поступок людей, бросившихся со стены, демоническим наваждением: из-за стены раздавались жуткие крики (джиннов). Ибн ал-Факих в «Китаб ал-булдан» приводит рассказ, близкий к рассказу ат-Табари, и дополняет его: после того, как люди прочли надпись, они продолжили свой путь, пока не достигли озера. На берегу озера они обнаружили джинна, вышедшего из воды. Ныряльщики по приказу Мусы отправляются на дно озера и возвращаются с кувшином. Когда с кувшина снимают медную крышку, появляется джинн с копьем в руке и взмывает ввысь[364]. Таким образом, Медный город, как город населенный джиннами — сюжет достаточно поздний, возникший из первоначальной истории города, построенного Соломоном при помощи сверхъестественных существ. Следует считать этот поздний вариант трансформацией иранского сюжета о городе дэвов[365].
Еще одна группа сверхъестественных созданий — иранские пери (pari). Для исследователей иранской демонологии мусульманского периода образ традиционных пери является одним из самых сложных. В зороастризме пери — пайрики — это демонические существа, которые многократно упоминаются в «Авесте» наряду с колдунами. Это уродливые ведьмы, враждебные людям, которые часто персонифицируют природные катаклизмы (засуху, неурожай, звездопад, кометы) и выступают как олицетворение вредных животных (храфстра). Б. Саркарати предложил теорию, согласно которой негативный образ пайрик сформировался в результате проповеди Заратуштры, точнее его борьбы с дозороастрийскими верованиями. До этого они были не злобными ведьмами, вредившими людям, но богинями — хранительницами домашнего очага[366]. Эта гипотеза подтверждается материалами о верованиях некоторых народов Средней Азии и Гиндукуша. Например, на Гиндукуше, пери является, в основном, хозяйкой охоты. В шаманской практике некоторых народов Средней Азии фигурируют пери как духи-покровители, которых призывают во время камлания[367]. Изредка зороастрийские пайрики предстают в образе прекрасных сладкоречивых женщин, совращающих людей с праведного пути. В зороастрийской среднеперсидской литературе они упоминаются в паре с дэвами[368].
В классической персидской литературе, начиная с «Шах-нама», особенно в фольклоре, пери становятся прекрасными девами-волшебницами, они способны обернуться любым животным и перемещаются по воздуху[369]. Уже на этом этапе, хотя и крайне редко, постулируется существование пери мужского пола. В эпосе пери входят, наряду с дэвами, зверями и птицами, в войска первых царей Ирана.
Наряду с этим фольклорным мотивом в ученой литературе продолжается развитие образа пери, как чертовки. Аз-Замахшарй в «Мукаддимат ал-адаб» первым соотнес с ними джиннов женского пола. Видимо, отсюда возникли джинны женского рода (джиннии) фольклорной традиции. А в поздней персидской лексикографической традиции возвращаются к соположению пери с дэвами (кл.-перс. дивами). Пери могут поразить человека чарами и сделать его одержимым[370]. Одержимый пери называется паризада, аналогично — дивзада (одержимый дивом).
Совсем другие мотивы развивает фольклорная традиция, представленная в волшебных сказках. В сказках пери выглядят добрыми существами, встреча с ними, как правило, влечет благие последствия для добродетельных и заслуженную кару для злодеев. Пери живут дольше людей, они не бессмертны. Их врагами являются дивы и колдуны. Отсюда сочетание «пери и люди». Иногда человек вступает с ней в брак или половую связь. Причем, такой союз всегда удачен. Этим он типологически отличается от союза со сверхъестественными существами в европейской традиции. Яркий пример — мотив союза человека и феи, бытовавший в Европе. Жизнерадостное веселье, которым супруга дарит своего мужа, гаснет в земном браке, к которому сверхъестественные существа не приспособлены. В итоге, фея практически всегда бросает человека, а если рождается ребенок, то забирает его с собой[371].
Традиционным иранским сюжетом является история любви земного юноши (чаще царевича) и дочери царя пери. Как правило, царевич каким-то образом узнает о существовании прекрасной царевны и по рассказу или, реже, по изображению влюбляется в нее. При этом рассказ о красавице часто скрывается, и царевич тратит немало усилий, дабы уговорить рассказчика поведать его, либо найти рассказчика. Затем, несмотря на уговоры, он отправляется в путь на поиски возлюбленной[372]. С этого момента начинаются приключения. Главной их особенностью является отсутствие представления о маршруте странствия. Царевич объезжает большое число стран, встречая со стороны тамошних владык теплый прием, пока не попадает в кораблекрушение, в ходе которого осуществляется переход из земного пространства в мир, населенный сверхъестественными существами.
Средневековая мусульманская география маркировала сакральное пространство, как одно из частей пространства земного. В географии мусульманского средневековья постулировалось, что ойкумена (т. е. пространство населенное людьми) составляет ровно одну треть. Остальные области либо лишены условий для человеческого проживания, либо населены совсем иными существами.
В фольклоре истории о странствиях обнаруживают определенное знакомство с интеллектуальной традицией[373], однако, никогда не локализуют чудесные края согласно картине мира мусульманских средневековых географов. Фольклорная традиция в большей степени восходит к так называемыми «моряцким рассказам». В этой традиции границы сакрального пространства проницаемы.
Переход никогда не совершается обычным путем — по земле, либо по морю. Герой попадает в пограничную ситуацию, например терпит кораблекрушение и по воле волн оказывается на неизвестном берегу, либо его уносит гигантская птица (Рухх, Симург). Птица является единственным средством попасть за пределы ойкумены, поскольку ее гнездо находится в особом мире[374].
В сказке время и пространство объединены в целостный мифологический «хронотоп». В мире с иными законами, странствуя на протяжении бесчисленного количества земных лет, герой обнаруживает след возлюбленной. Параллельно на его пути часто возникает сестра царевны, которая испытывает стойкость юноши. Впоследствии она же уговаривает сестру проявить сострадание к верному влюбленному. Преодолевая ряд злоключений, герой, наконец, достигает цели и соединяется с царевной.
Герой находит свою возлюбленную в краю, где живут пери. Это волшебная страна, локализуемая иногда около горы Каф. В сказке о Хасане Басрийском влюбленный вначале попадает в замок, населенный девушками-сестрами (предположительно, пери) и уже там видит возлюбленную, прилетевшую из другой волшебной страны. Вследствие этого, он оставляет замок и летит в ее страну.
Социум пери — зеркальное отражение земного социума. Есть мужские и женские пери. Воины, однако, чаще всего женщины. Войско царя джиннов (идентичных по описанию пери) островов Вак в истории о Хасане Басрийском состоит из невинных девушек, ими правит старшая дочь царя, которой он передал бразды правления, а ее многочисленные сестры становятся советникам[375]. В народном романе о Сайфе Зу Йазане повествуется о повелительнице Города девушек. Социум пери напоминает социум амазонок[376]. Однако никаких подробностей о том, как устроена власть и быт Города девушек мы не узнаем. Упоминаются следующие сословия: воины (аристократия) и слуги (простолюдины). Государство управляется справедливым царем, окруженным мудрыми советниками. Следует признать, что на картину этого государства никак не повлияла богатейшая традиция мусульманской политической и философской мысли. Книжная культура в этом случае оказалась неведомой устной традиции. В обратном случае стоило бы ожидать от повествователя более подробных рассуждений. Можно полагать, что государство пери — проекция справедливого государства, размышления о котором — типологическая черта для подавляющего числа культур земного шара.
Пери — бесстрашные воины. Мы располагаем отрывочными упоминаниями о военном деле этих созданий. Тактика ведения войны у пери копирует земную практику: перед началом боевых действий царь советуется со своими советниками (вазирами). Прежде, чем войско вступает на вражескую территорию, высылаются лазутчики. Воины пери сражаются в сияющих доспехах. Все войско, или его элитную часть составляют конники. Главным оружием служит меч и копье (у всадников).
В известной иранской сказке «Семь приключений Хатйма» главный герой встречает юношу-пери, сына Афраса, царя Сирии. Сын царя-пери хочет покорить при помощи воинов некий край, и для этой цели истребить всех людей, населяющих его. Но Бог не допускает этого — у воинов-пери выпадают перья, а царевич превращается в змея. Это зеркальная проекция сверхъестественного мира на мир земной.
В этом повествовании заходит речь и о войне пери против дивов. На отряд пери нападают дивы-людоеды и уводят их в плен. В ответ царь пери приказывает своим вазирам снарядить войско в поход. Афрас высылает лазутчиков, которые доносят, что царь дивов находится на охоте со своими приближенными. Воины пери разбивают дивов и пленяют их царя Макраса[377].
Гораздо более сложным является вопрос о трансформации пери в иранском фольклоре. Как уже упоминалось, в предыдущей традиции пери никогда не отождествлялись с «воинами света». Однако образ таких воинов был знаком иранцам с древности. Это сверхъестественные существа зороастрийской мифологии — фраваши. Фраваши (авест. fravasay-, ср.-перс. fravard, fravahr, frоhar, frava(x)s) в зороастрийской мифологии являются душами предков. Их образ, видимо, восходит к общей индо-иранской мифологии, где их аналогами являются древнеиндийские питары — «предки», оказывающие покровительство своему роду. Согласно общепринятой реконструированной дозороастрийской иранской мифологии своих фраваши имеют горы, леса и озера. Реформатор Заратуштра выступил против этого культа. Однако по ходу распространения зороастризма, их почитание не пресеклось, но, наоборот, официально закрепилось в зороастрийском каноне. Фраваши посвящен Яшт 13 (Фравардин-яшт) Авесты, согласно которому, эти создания аналогичны христианским ангелам хранителям. Они предсуществуют появлению на свет человека. После его рождения фраваши соединяется с телом, а после смерти — улетает ввысь. Там они пребывают до Дня Воскресения. Фраваши являются помощниками Ахура-Мазды, поддерживая мировую гармонию, обороняя творение от злых созданий Ангро-Майниу (Ахримана). Дозороастрийский мотив фраваши, как хозяев гор, рощ и водных источников сохранился в поверни, что они заставляют течь воды — источник жизни. Наибольшей силой обладают фраваши праведников. Своя фраваши есть у Ахура-Мазда. Поклонение им обеспечивает процветание и покровительство просящему обилие дождей для своего края. В конце «Фравардин-яшта» (85–158) приводится «Мемориальный список» — прославление фраваши легендарных иранских царей и героев (от Гайамарта до Заратуштры). Кроме того, в тексте встречаются имена божеств-покровителей, почитаемых как Фраваши (Нманийа — покровитель домашнего очага, Висйа — деревень, Зантума — поселений, Дахйума — стран). Фраваши посвящен первый месяц зороастрийского календаря — Фравардин (кл. перс, фарвардин) (21 марта — 20 апреля), а также последняя декада в году (10–20 марта), включая пять дополнительных дней — праздник (гаханбар) Хамаспатмаэдайа.
Сложным вопросом является разграничение статуса фраваши и обычных душ (урван). В двух отрывках «Фравардин-яшта» (49–52, 96–144) они полностью идентифицируются с душами. В другом месте (149, 155) фраваши и душа определяются как разные составляющие загробного существования. Такую же мысль содержит ряд пассажей в пехлевийских текстах. В литургических текстах фраваши всегда упоминаются наряду с душами, а иногда полностью отождествляются с ними.
В «Авесте» фраваши описаны как крылатые существа женского пола в доспехах и с оружием. Именно этим, как подчеркивается в среднеперсидских текстах, они отличаются от душ. В зороастрийских пехлевийских текстах фраваши упоминаются именно как воины Ахура-Мазды, защищающие его творения от нападения ахримановских существ (Задспрам 3.2–3). Правда, и души-урван (руван) героев участвуют в битвах наряду с ними. В «Бундахишне» фраваши описываются восседающими на конях, с копьями в руках (Индийский Бундахишн 6.3). 99 999 мириад их охраняет от дэвов род Заратуштры, откуда, согласно зороастрийской сотериологии, должны появиться три спасителя (Индийский Бундахишн 32.9). Ровно 99 999 фраваши с Большой Медведицей сторожат ворота ада, удерживая 99 999 дэвов, демонов и колдунов (Дадестан-и мёног-и храд, 49.15–18). Такое же количество охраняет тело спящего богатыря Сама от дэвов и демонов и священное растение Хом в океане Варкаш (авест. Воурукаша) (Дадестан-и мёног-и храд, 62. 20–26). Противоречивы сведения о месте пребывания фраваши. Согласно пехлевийской традиции, они пребывают вместе с Ормуздом (Ахура-Маздой), в отличие от душ, живущих в телах (Бундахишн 3.13) и в силу этого, на них не распространяется загробное воздаяние (Денкард 2.10–13)[378]. Однако, согласно народным верованиям, фраваши населяют рай и ад, куда они возвращаются после праздника Хамаспатмаэдайа (ал-Бируни). Это свидетельствует о том, что, видимо, во времена до Заратуштры культ душ усопших и собственно фраваши, как умерших героев различался. После прихода зороастризма оба культа совпали[379]. Позже выступившая на первый план роль фраваши, как доблестных воинов, вероятно, отразилась в институте джаванмарди («удальцов» — иранского «рыцарства»)[380].
После исламского завоевания Ирана образ фраваши был предан забвению. Одновременно с этим появляется образ воинов-пери, мужчин и женщин, бесстрашных борцов с силами зла. Можно утверждать, что образ фраваши был замещен образом пери, переняв его характернее черты, чуждые образу зороастрийских пери.
В арабской традиции мотив о стране пери и войске пери претерпел изменения. Иранский образ пери замещается привычным образом джиннов (наиболее ранние повести — повесть о Хасане Басрийском, повесть о Джахнаше и Ситт аш-Шамс, вошедшая в «Историю о Хасибе и царице» змей в сказках «Тысяча и одна ночь»). Иногда образы пери, ставших арабскими джиннами, тесно переплетены с характерными чертами дивов-джиннов (описание войск царства джиннов-пери в сказке о Хасане Басрийском).
Параллели в поведении воинов-пери и воинов фраваши напрашиваются сами собой: дивы и пери, согласно фольклорной иранской традиции — это два рода существ, ведущих друг с другом беспощадную войну, как и фраваши — с порождениями Ахримана. Заклятыми врагами пери являются дэвы и колдуны. В истории о Хатиме царь пери Афрас грозит расправой всякому, кто проявит жалость к врагу. После окончания битвы с дивами следует беспощадное истребление всех пленных. Согласно зороастрийской традиции всякое порождение Ахримана должно быть умерщвлено, а акт умерщвления вредных тварей рассматривается как благое дело. Эта черта проявляется в умерщвлении т. н. храфстра (животных, созданных Ахриманом — муравьев, саранчи, скорпионов, жаб, ящериц, змей, черепах, волков) как мифическими созданиями (трехногий осел, рыба Кар)[381], так и простыми верующими.
Мотивация беспощадного умерщвления дивов в истории о Хатиме была уже малопонятна современникам, поскольку шла вразрез с тогдашней военной тактикой. Согласно объяснению рассказчика, царь дивов дал клятву Соломону, что не станет чинить людям зла, и был умерщвлен именно как клятвопреступник. При этом, царь дивов Макрас притворяется, что съел Хатима, но под угрозой страшной смерти сознается, где спрятал человека. Царь пери Афрас клянется именем Соломона, что не причинит Макрасу вреда, поскольку они с ним одного рода. Однако когда Макрас рассказывает, куда спрятал Хатима и пленных пери, Афрас нарушает свою клятву, т. е. сам оказывается клятвопреступником. Дивов бросают в костер, а в их владения царь пери назначает наместника из пери[382]. Казнь в огне — зороастрийская реминисценция.
Этот же мотив мы видим в описании похода иранцев на Мазандаран в «Шах-нама», когда войско Кай Кавуса убивает старых и молодых, сжигая жилища дивов. Напомним, что для рассказчика мотивация подобной резни (по объяснению самого Кай Кавуса) состоит в том, чтобы не оставить в живых ни одного свидетеля, который мог бы донести весть о походе иранцев до главных сил врага. Однако тут же Кай Кавус заявляет о необходимости очистить мир от дивов.
Интересна реминисценция ненависти пери к колдунам в сказке о Хасане Басрийском. Царевны-пери (джиннии) мечтают умертвить огнепоклонника-мага. С их помощью его убивает главный герой. Мотивация этой ненависти малопонятна: маг ненавидит царевен, говоря о них как о гулях, джиннах и шайтанах. Регулярно он посылает юношей собирать хворост около их замка для своих опытов с золотом[383].
Таким образом, в арабо-персидской литературе зафиксированы следующие виды войн: джиннов друг с другом, битвы пери с дивами, дивов с пери и людьми, а также экзотический случай схватки с войском гулей. В результате можно говорить о следующих изменениях образов: джинны и гули смешиваются с дивами, пери — с фраваши, а также с джиннами.
Ведение войн предполагает наличие социальной организации у сверхъестественных существ, которую, в целом можно рассматривать как след иранского влияния. Эти войны могут быть охарактеризованы как сакральные не только в связи с принадлежностью бойцов к сверхъестественным существам. Войны ведутся не за богатство или политическое господство. Они представляют борьбу двух извечных начал — добра и зла. Люди, преследующие те же высокие цели, вступают в сражение с противником, воплощая космический принцип функционирования мира. В таком случае они могут надеяться на помощь небесных воинств[384].
Часть 5.
Монгольский имперский ритуал в восприятии церковников
Глава 1.
Русский князь на монгольском пиру (Даниил Галицкий и Бату)
Зимой 1246 г. князь Даниил Галицкий был участником монгольского пира. В событийном ряду встречи русского князя с Бату, владетелем Улуса Джучи, лишь на первый взгляд все ясно и понятно. Дело в том, что сохранился единственный источник, где описано это событие — Галицко-Волынская летопись[385]. Это означает, что мы видим ситуацию с позиции только одного наблюдателя. Речь идет о митрополите Кирилле, лице заинтересованном и к тому же далеком от симпатий к монголам. Интерпретацией, обреченной на признание, явилось бы такое объяснение события, которое укладывалось бы в культурный и эмоциональный контекст древнерусского источника. Единственным отрицательным моментом такой интерпретации будет ее поверхностный характер и полное несоответствие исторической реальности XIII века.
Обозначим место и время события, а также имена действующих лиц и наблюдателей, чьи свидетельства помогут взглянуть на ситуацию шире. Поскольку хронология Галицко-Волынской летописи условна, то воспользуемся другим источником, а именно «Книгой о тартарах» Иоанна де Плано Карпини, папского дипломата, который пишет о первой поездке Даниила к Бату[386]. Хронология «Книги о тартарах» надежна, поскольку брат Иоанн, в отличие от Даниила, отчет о своей поездке писал сам.
Князь Даниил выехал в лагерь Бату на Волге 26 октября 1245 г. (на праздник святого Дмитрия Солунского)[387]. В это время участники францисканской миссии к монголам находились в Польше у князя Конрада. 4 февраля 1246 г. францисканское посольство выехало из Киева и в последние дни февраля прибыло в стойбище Куремсы, чей улус располагался в западной части владений Бату, соприкасаясь с территорией русских княжеств. Куремса (монг. Qurumsi) был третьим сыном Орду, старшего сына Джучи (иными словами, Куремса был правнуком Чингис-хана)[388]. В первых числах апреля францисканцы достигли кочевой ставки Бату. Путь от Киева до низовий Волги занял у них два месяца. Даниил Галицкий, пробыв в Орде 25 дней, в апреле 1246 г. возвращался домой. Францисканец Иоанн де Плано Карпини встретился с Даниилом, возвращавшимся на Русь, вблизи лагеря монгольского князя Картана, кочевавшего вдоль Дона. Сангор (Соногур), крещеный половец, находился при сыне Ярослава в ставке Бату в качестве переводчика с русского языка на монгольский. Царица Баракчиновна — Боракчин-хатун, старшая из жен Бату{108}; по сведениям Вильгельма де Рубрука, у Бату было двадцать шесть жен (Itinerarium. II.4). Поездка Даниила началась, когда пришло требование от Моуцы, второго сына Чагатая, внука Чингис-хана (в русской летописи он назван Могучей).
Согласно сведениям Иоанна де Плано Карпини, галицкие князья предварительно отправили к Бату своих послов, чтобы те привезли охранную грамоту для Даниила{109}. В обязанности послов входило также выяснить тонкости придворных церемоний и сообщить о них своему господину во избежание недоразумений. Иными словами, Даниил знал, куда он едет и что его там ждет. Если же доверять летописному отчету, то получается, что для Даниила все придворные монгольские требования явились новостью. Таков риторический прием митрополита Кирилла, с позиции которого монголами владеет дьявол. Монгольский мир описывается им как изнанка христианского мира, дьявольское соблазнение языческими искушениями: здесь христианских царей, князей и вельмож водят вокруг куста для поклонения солнцу, луне, земле и дьяволу. Само собой разумеется, здесь торжествуют кудеснические пустословия, Чингисхановы наваждения, скверное кровопийство и прочие волшебства. Злобная риторика митрополита Кирилла не имеет отношения к монгольской реальности. Доказательство от противного: нынешние историки, буквально воспринявшие текст Галицко-Волынской летописи, потратили немало сил, чтобы выяснить, о каком кусте идет речь, но безрезультатно. Замечу, что в кочевой культуре, а двор Бату совершал четыре перекочевки в год, поклонение при дворе какому-то кусту (в ботаническом смысле) исключено.
Церковный взгляд на мир исключал какой-либо интерес к реальным проявлениям чужой культуры. Так, в русской летописи нет ни слова ни об охранной грамоте, ни о ритуалах, сопровождавших ее вручение. Для князя же это были жизненно важные сведения. Несовпадение церковных и светских стереотипов поведения увидим на следующем примере. Грузинские князья, как и русские, вынуждены были отправляться на поклон к монгольским нойонам. Грузинских князей также заботил вопрос о безопасности. Согласно грузинскому Хронографу, амирспасалар Аваг отправил своего посланника к нойону Чармагуну «с просьбой о мире, и говорил [о желании] придти к ним и свидеться и служить и платить харадж и отдать им свои земли и просил о твердой клятве. Те же возликовали и с радостью приняли посланника Авага и клятвенно удостоверились. Была у них вера в единого бога и поутру при восходе солнца трижды [лицом] к востоку преклоняли колена и более ничего. А для твердости клятвы чистое золото трижды окунали в воду и [затем] вынимали его, а воду выпивали[389]. Давшего клятву обласкивали. И утвердив клятву, не преступали ее. <…> Сим клятвенным золотом подтвердили они, дали клятву посланнику Авага, ввиду чего он и стал уверен, что не было у них лжи и не было вероломства в их клятве» (Хронограф, с. 42).
Если хронология Иоанна де Плано Карпини верна, то князь Даниил находился в Орде в дни празднования монгольского Нового года. Праздник Нового года отмечался в первый день китайского года, то есть в конце января или в первые дни февраля[390]. Эта дата следует из отчета китайского чиновника Чжан-дэ-хоя. Зиму 1247 г. он провел в кочевой ставке князя Хубилая (Чжан-дэ-хой, с. 585). Новогодние церемонии были обязательным имперским праздником. В лагерь Бату съезжалась кочевая аристократия и правители подвластных монголам территорий. Пиршественная церемония, где каждый участник занимал место согласно своему статусу, наглядно демонстрировала иерархический порядок{110}. Исключено, что подобного рода церемонии имели целью унизить их участников.
Чаша с кумысом была вручена Даниилу не во время частной аудиенции с Бату, а на монгольском пиру. И фраза Бату: «Ты уже наш, татарин. Пей наше питье!» адресована участникам пира, потому что говорит о включении князя Даниила в систему монгольской иерархии, где этническое происхождение не имело никакого значения, и монголом становился каждый, кто обретал место в новой социальной группе. Термин «монгол» был имперским политонимом, видеть в «превращении» русского князя в татарина некий этнический аспект, насильственную смену стереотипа поведения — просто не понимать суть вопроса. Монгольская империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. Быть монголом означало подчиняться императивам «Великого монгольского государства».
После знакомства с древнерусским текстом, мы должны будем ответить на несколько вопросов: 1) как выглядела ритуальная часть встречи; 2) какой статус Даниил приобрел после аудиенции с владетелем Улуса Джучи, и, наконец, 3) что вызвало негодование летописца? Вот как описывается в Галицко-Волынской летописи поездка Даниила к Бату.
«Когда Могучей прислал своего посла к Даниилу и Васильку, бывшим в Дороговске, говоря: "Дай Галич!", Даниил сильно опечалился, потому что не укрепил городов своей земли. И, посоветовавшись с братом своим, сам поехал к Батыю, сказав: "Не отдам половину своей отчины, поеду к Батыю сам". Помолившись Богу, он выехал в день праздника святого Димитрия и приехал в Киев, где княжил Ярослав через своего боярина Дмитра Ейковича. Даниил приехал в дом архангела Михаила в Выдубицкий монастырь, созвал калугеров и монахов и сказал игумену и всей братии, чтобы они помолились о нем. И они молились, чтобы он получил милость от Бога. И так было, что он, поклонившись святому архистратигу Михаилу, выехал из монастыря на лодке, предвидя беду страшную и грозную. Он пришел в Переяславль, и тут его встретили татары. Оттуда он поехал к Куремсе и увидел, что нет у них хорошего. После этого он стал еще сильнее болеть душой, видя, что ими обладает дьявол: мерзкие их кудеснические пустословия, Чингисхановы наваждения, его скверное кровопийство, многое волшебство. Приходившим к ним царей, князей и вельмож водили вокруг куста для поклонения солнцу, луне, земле, дьяволу и умершим и находящимся в аду их отцам, дедам и матерям. О, гнусное их обольщение! Услыхав про все это, он очень скорбел. Оттуда он прибыл к Батыю на Волгу. Когда он хотел идти на поклон к нему, пришел человек Ярослава Соногур и сказал: "Твой брат Ярослав кланялся кусту, и тебе придется поклониться". Даниил сказал: "Дьявол говорит твоими устами. Пусть Бог заградит уста твои, чтобы слово твое не было слышно". В это время его позвали к Батыю, и он был избавлен Богом от злого их волшебства и кудесничания. Он поклонился по обычаю их и вошел в шатер Батыя. И сказал ему Батый: "Даниил, почему ты раньше не приходил? А сейчас пришел — это хорошо. Пьешь ли черное молоко, наше питье, кобылий кумыс?" Даниил сказал: "До сих пор не пил. Сейчас, раз велишь, выпью". Тот сказал: "Ты уже наш, татарин. Пей наше питье!" Даниил выпил, поклонился по обычаю их, проговорил положенные слова и сказал: "Иду поклониться царице Баракчиновне". Батый сказал: "Иди!". Он пришел и поклонился по обычаю. И прислал ему Батый ковш вина, говоря: "Не привыкли вы пить кумыс, пей вино!". О, злее зла честь татарская! Даниил Романович, великий князь, владел вместе со своим братом всею Русской землей: Киевом, Владимиром и Галичем и другими областями, а ныне стоит на коленях и называет себя холопом! Татары хотят дани, а он на жизнь не надеется. Надвигаются грозы. О злая честь татарская! Его отец был царь в Русской земле, он покорил Половецкую землю и повоевал иные области. Сын его не удостоился чести. <…>. Пробыл князь у них двадцать пять дней, был отпущен, и поручена была ему земля, которая у него была. Он пришел в землю свою, и встретил его брат и сыновья его, и был плачь об обиде его и большая радость о здравии его»[391].
Ситуация встречи Даниила с Бату в том виде, как она описана в Галицко-Волынской летописи, содержит, как минимум, три неясных момента. Во-первых, что с монгольской точки зрения означало угощение черным кумысом? Преклонял ли Даниил оба колена, приветствуя Бату, как того требовал монгольский придворный этикет? И, наконец, в чем заключалась «честь татарская»? Но сначала разберемся с обрядами, названными волъжбой («волшебством») и мечтаниями («наваждением»).
Требование поклониться огню не соответствует реальности — послы должны были пройти между двух очистительных огней. Об этом имеется ясное свидетельство францисканца Бенедикта Поляка: «Каким бы то ни было послам с дарами, которые они приносят их владыкам, надлежит пройти между двух огней, чтобы яд, если они его принесли, или же дурное намерение очистилось» (НТ, § 43). Представление же о том, что князья должны были предварительно кланяться огню, связано с тем, что очистительный обряд по ошибке мыслился участниками как начало придворных церемоний приветствия монгольского предводителя. Вот малоизвестное свидетельство из географического труда арабского автора Ибн Шаддада, где говорится о сжигании в огне кусков дорогой материи, предназначенной в дар хану. Ибн Шаддад, посетивший в качестве посла алеппского султана сына Хулагу Йошмута, чьи войска в начале 1259 г. осаждали крепость Маййафарикин, сообщает о первой встрече с монголами следующие подробности: «Группа монголов внезапно приблизилась к нам, и с ними были шаманы. Они осмотрели всех наших людей и наших животных. Затем они развели с двух сторон костры и прошли через них с нами, при этом колотя нас палками. Осмотрев ткани, они взяли штуку золоченной китайской материи и отрезали от нее кусок длиной в локоть. От него они отрезали более мелкие куски, бросили их на землю и сожгли в костре. Затем они сказали: "Ильхан приказывает вам здесь переночевать, а завтра вы пойдете к нему". Когда мы пробудились, к нам пришла какая-то группа и забрала имевшиеся у нас дары. Они несли их перед нами и приказали нам следовать за ними. Когда мы явились к нему, мы вручили ему послание»[392]. Арабское свидетельство проясняет пассаж из русских источников: «аще что съ собою принесоша цесареви, от всего того взимающе волхви, въметают я въ огнь».
Что означает поклонение умершим отцам? Речь идет о золотом идоле Чингис-хана. По словам брата Бенедикта, «этому идолу кланяются на юг, словно Богу, и к этому же многих принуждают, в особенности покоренную знать» (НТ, § 39). То обстоятельство, что францисканцы должны были преклонить оба колена перед идолом Чингис-хана, позволило им уподобить изображение Богу. Элемент имперского культа, встроенный в придворный церемониал, был спроецирован ими на систему христианского мироздания. Сведения о монгольской веротерпимости блекли на фоне воображаемого всемирного поклонения идолу. Введенная в 1229 г. при монгольском дворе китайская церемония приветствия великого хана предусматривала опускание на оба колена и не таила в себе ничего уничижительного (Сун Цзы-чжэнь, с. 72). Для послов и правителей христианского мира эта церемония окажется неприемлемой: преклонение на оба колена было исполнено для них глубокого религиозного смысла, что практически исключало перевод сакрального жеста в сферу придворного этикета[393]. Мысль об унижении русских князей в Орде представлена в большинстве отечественных исследований. Какие основания есть у нынешних историков оставаться в рамках церковного мифа?
Описание встречи и диалога русского князя и монгольского владетеля является ярким примером несовместимости религиозных и поведенческих стереотипов, сформированных в разных культурных традициях. За поклонение по монгольским обычаям «кусту» на христиан по русским церковным законам налагалась епитимья[394]. Смысл поклонения «кусту» остается загадкой.
У монголов же предписания, связанные с личностью хана, ханскими шатрами и т. д., приобретают гиперболизированный характер. Так, например, касание порога ханского шатра наказывалось смертью. Впрочем, во избежание недоразумений к каждому послу был приставлен человек двора, в чьи обязанности входило объяснять смысл церемоний. В древнерусских описаниях происходит совмещение в единую картину требований придворного этикета, очистительных обрядов и соблюдения запретов, связанных в представлениях монголов с сохранением счастья и удачи. Таким образом возникают литературные фантомы, которым не было место в реальности: поклонение огню, кусту, идолам. Как правило, это обстоятельство не осознается историками[395].
Важные сведения о посольских обычаях, принятых при дворе Бату, сообщают Вильгельм де Рубрук и египетские послы, отправленные к Берке в 1263 г. Эти свидетельства позволяют нарисовать картину придворных церемоний. Князь Даниил, прибыв в Орду Бату, должен был выполнить следующие требования дипломатического характера: став на оба колена поклониться на юг изображению Чингис-хана; трижды преклонить колено перед шатром Бату; во время аудиенции с монгольским правителем стоять на коленях. В посольский церемониал входил и магический обряд очищения огнем подарков и самих дарителей. У нас нет оснований доверять летописному тексту и полагать, что Даниил каким-то образом избежал исполнения общепринятых обрядов.
Князь Даниил согласился и на принятие высшей монгольской чести — питье кумыса с Чингизидом, хотя, по мнению христианских писателей, это было уж вовсе недопустимым поступком. В глазах церковников питье кумыса расценивалось как отказ от веры. Францисканец Вильгельм де Рубрук сообщает, что находящиеся среди монголов христиане — русские, греки и аланы — стремясь сохранить свою веру, не пьют кумыс, и даже перестают считать себя христианами, когда выпьют кумыс, и их священники примиряют их тогда с Христом. Так обычно подают этот пассаж. На самом деле, у брата Вильгельма говорится о том, что монгольский предводитель Скатай заранее поинтересовался у францисканца, будет ли он пить кумыс, ибо те из христиан, кто хранят свой закон, не пьют этот напиток{111}. Сам францисканец от кумыса никогда не отказывался, считая его вкусным и полезным напитком. Об армянах-христианах, находящихся в плену у монголов, Киракос Гандзакеци горестно пишет, что «те, кто раньше приобщались пречистой плоти и крови Сына Божьего, ели мясо нечистых и придушенных животных и пили молоко гнусных кобыл» (Киракос Гандзакеци. 27). Христианских церковных деятелей объединяет интерес к эсхатологическому аспекту питания монголов «нечистой» пищей. «Нечистая» пища превращает монголов в «нечистые» племена Гога и Магога. Таким образом срабатывает стереотип неприятия «чужого» образа жизни и монголы оказываются вне рамок «человеческого» образа жизни.
Вернемся к вопросу об угощении Даниила «черным молоком». Широко представлена точка зрения, что разбираемый сюжет есть «выразительная картина покорности и унижения князя могучего Галицкого княжества перед ордынским ханом». Черным молоко названо в смысле «позорное, мрачное, горестное»; более того, словосочетание «черное молоко» выражает презрение к поработителям — все это изложено в учебнике для студентов, изучающих историю русской литературы[396].
Стало быть, Бату, предложив Даниилу черного кумысу, унизил русского князя. Не странно ли, что напиток, который пьет хозяин пира и которым он угощает гостя, может выступать символом унижения. Как справедливо заметил И. Г. Добродомов, без обращения к тюрко-монгольскому историческому и языковому материалу XIII в. (и добавим, этнографическому) едва ли будет возможным правильно толковать тексты русских литературных памятников эпохи, связанной с монгольской тематикой[397]. Летописное выражение «черное молоко» было точным переводом монг. кара кумыс и означало лучший сорт кумыса. По свидетельству брата Вильгельма, высший сорт кумыса назывался черным кумысом (caracosmos) и употреблялся исключительно знатью{112}. Любопытно, что этот напиток был прозрачным.
Китайский дипломат Чжао Хун писал в 1221 г.: «У татар земли изобилуют водой и травой и благоприятны для овец и лошадей. Это является [их] средством к существованию. Для утоления голода и жажды [они] пьют только кобылье молоко. Обычно молока от одной кобылицы достаточно для насыщения трех человек. Дома или вне дома пьют лишь кобылье молоко или режут овцу на продовольствие» (Мэн-да бэй-лу, с. 69).
Монголы кобылье молоко пили только в заквашенном (кислом) виде. Всему миру этот напиток известен под тюркским термином кумыс. Разные группы монголов называли его по разному: айраг, цэгээн, чигэн, гууний айраг. Он славится не только как питательный, но и как целебный напиток. Его алкогольность невелика — 1,5–3°, однако, всем кочевникам, изготовлявшим кумыс, были издавно известны способы усиления его крепости с помощью различных растений (корня аконита, ветки можжевельника, ягод облепихи, зерен синего ячменя). Заквашивали кумыс в больших кожаных бурдюках, сделанных из цельноснятой шкуры быка. Использовали специальную закваску — самой лучшей считается небольшое количество старого кумыса. В зависимости от степени жирности молока для его окончательной готовности к употреблению требуется разное время: от нескольких часов до 3–5 дней.
Вильгельм де Рубрук приводит подробное описание приготовления кумыса (перебродившего кобыльего молока), а также масла и сушеного творога, или gruit (тюрк. qurut), которые заготовляли на зиму. Он также упоминает напиток под названием aira, сделанный из кислого коровьего молока (тюрк. airan или монг. airag). То, что говорит брат Вильгельм, в основном совпадает с описанием путешественников XVIII и XIX вв., причем самое заметное отличие — это полное отсутствие явного упоминания о получении из кумыса крепкого спиртного напитка (тюрк. araki, монг. araki). Не совсем ясен способ приготовления «черного кумыса» (nigrum cosmos) высшего качества, который пили господа. Вот что сообщает францисканец: «Тогда они сбивают молоко до тех пор, пока густая часть не опустится на дно как винная гуща, а чистая часть не останется наверху, и она подобна сыворотке или белому виноградному суслу. Гуща чисто белая по цвету и ее дают рабам и она возбуждает глубокий сон. Чистый напиток пьют господа, и он, несомненно, самое приятное питье и самое действенное»{113}. По сведениям П. С. Палласа, эта гуща у калмыков именуется bossa[398]. Bossa — это осадок после перегонки во время приготовления araki, но в процессе, описанном Вильгельмом де Рубруком, нет ничего, что предполагало бы дистилляцию. Это, по-видимому, какой-то другой способ удаления свернувшихся частиц молока из перебродившего кобыльего молока. Во всяком случае, именно около этого времени как на восток, так и на запад от арабского мира распространились сведения об изобретении дистилляции. Ли Шичжэнь, автор большой минской фармокопеи «Бэнь-цао ган-му», говорит о шао-цзю 'водка': «Это не старинный способ. Этот способ впервые применили при династии Юань». Он также приводит название а-ла-цзи, т. е. araki из «Инь-шань чжэн-яо». Эта книга была составлена Ведомством пищи и лекарств при юаньском дворе и представлена императору в 1331 г. Она содержит следующий рецепт приготовления вина а-ла-цзи: «Его вкус сладкий и острый. Это хорошее средство, чтобы уменьшить озноб, усилить сопротивление и изгнать холодные пары. Возьми испорченное вино и вскипяти его. Собери росу и она составит а-ла-цзи». Так как дистилляция впервые начала применяться в арабском мире, легко принять обычно предлагаемую этимологию для слова araki, а именно, что оно происходит от арабского 'araq' что первоначально значило 'сок'[399].
В 1926 г. этнограф Ф. А. Фиельструп высказал сомнения в достоверности сведений Вильгельма де Рубрука о черном кумысе: «Как известно, чем дольше сбивают кумыс, тем равномернее происходит брожение, тем лучше сам напиток и тем меньше дает он творожистого осадка. У тюрков-кочевников хозяйку оценивают по тому, много ли такого осадка в кумысе, которым она потчует гостя. Если прилить в сабу новый удой и не взболтать жидкость по крайней мере несколькими ударами ботала (пшкек), то свежее молоко сразу створожится и осядет на дно, и кумыс испорчен. Что касается свежего кобыльего молока, то, по мнению всех моих собеседников-киргизов, с которыми я вел разговор на эту тему, сбивание его не может привести к результату, описанному Рубруком»[400]. Поэтому Ф. А. Фиельструп сравнивает кара-кумыс с двумя напитками кочевников. «Мы имеем в виду, во-первых, водку, которую кочевники выгоняют из кислого молока. В настоящее время мы чаще встречаем перегонку айрана (у минусинских татар, калмыков), т. е. кислого коровьего молока. У семиреченских киргизов и у некоторых алтайских племен недавно употребляли для этой цели кумыс. Получаемый продукт очень похож на хлебную самогонку, т. е. прозрачен и может быть сравним с сывороткой или белым виноградным соком. Крепость водки находится в обратной зависимости от количества ее, понятно. Айран минусинцев дает им к каждому празднику очень значительное количество водки. О кумысе у меня нет точных данных, но, принимая во внимание большую крепость кумысной водки, мы вправе предполагать, что количество ее у ее потребителей было также значительно. Гуща, остающаяся в котле после перегонки у саяно-алтайской группы племен, идет на приготовление сырков, киргизы же выбрасывают ее, считая негодной к употреблению. Как творожистый осадок в кумысе, так и эта гуща — пьяные, причем больше алкоголя содержит последняя. Другим кандидатом на родство с кара-космос является тундурма-кумыс (тундурган-, тунук-, кустурма-кумыс), который еще знают старики киргизы Семиречья. Чтобы получить тундурма-кумыс, нужно большое количество кумыса, для чего его собирали в течение нескольких дней, не распивая, и тогда он пропорционально набирался силы. После вечернего удоя доливают сабу свежим молоком, взбалтывают как следует и затем оставляют кумыс стоять до утра. С подготовленного таким собиранием кумыса утром, не взбалтывая, осторожно сливают сверху жидкость, которая отстоялась за ночь (дав в осадке творожистый порошок уруп) и стала гораздо прозрачнее обыкновенного кумыса. На большое количество кумыса получается очень незначительный верхний слой этой жидкости. Тундурма-кумыс крепче белого и ценился выше его, и только богачи могли иметь его немного. Чтобы угостить ближайший круг»[401]. Этнограф склонен признать холодный способ приготовления тундурма-кумыса близким к изготовлению монгольского кара-кумыса. Способ приготовления араки (водки), как мы выяснили, более позднего происхождения.
Доводы Ф. А. Фиельструпа, при всей значимости наблюдений этнографа, не могут быть приняты, поскольку рассказ Вильгельма де Рубрука подтверждается независимым китайским свидетельством.
Исчерпывающий комментарий на тему «черного кумыса» содержится в отчете южносунского дипломата Сюй Тина, который прибыл ко двору великого хана Угедея в 1235 г. «[Я, Сюй] Тин, часто видел, как они в середине дня доили кобылье молоко. Также спрашивал их: [они] с [самого] начала [при дойке кобылиц] не были связаны [временем] — дневным или вечерним. Способ доения их: сперва позволяют жеребенку подсосать и вызвать молоко [в вымени], но, отогнав жеребенка, человек сам рукой выдаивает [молоко] в кожаное ведро. Однако [надоенное молоко] еще переливают в кожаный мешок и бьют его. Обычные люди пьют [его] лишь через несколько суток. Когда [мы] впервые прибыли в золотой шатер, татарский владетель угощал нас кобыльим молоком. [Это молоко] по цвету было светлым, а на вкус сладким, и значительно отличалось от обычного, по цвету белого и мутного, на вкус кислого и вонючего. [Оно] называется "черным кобыльим молоком" (хэй ма-най). Ибо раз [это молоко] светлое, то оно кажется черным. Когда [я] спрашивал их [т. е. татар], то [они] говорили: "Это [молоко] фактически бьют в течение семи-восьми дней. Чем больше бьют [его], [оно] становится тем светлее. Когда [оно] светлеет, то запах перестает быть вонючим". Только один этот раз [мне] удалось выпить [этого кумыса]. В других местах [я] больше никогда не видел, чтобы подносили такую прекрасную пищу»[402].
«Чистый кумыс» назывался «черным», но никак не позорным. Таким образом, приведенные выше интерпретации филологов-руссистов могут быть отвергнуты как несостоятельные в научном и культурологическом плане; они больше напоминают пропагандистские клише и продлевают жизнь церковного мифа.
Угощая гостя благородным напитком, монголы оказывали ему почет. Марроканский путешественник Ибн Баттута описывает прием, оказанный ему старшей женой хана Узбека: «Затем она приказала принести кумысу. Его принесли в красивых, легких деревянных чашах. Она собственноручно взяла чашу и подала мне ее. Это у них крайняя любезность. Прежде этого я [никогда] не пивал кумысу, но мне нельзя было иначе [поступить], как взять его. Отведал я его, но в нем нет [ничего] хорошего, и я отодвинул его к одному из моих спутников» (Сборник материалов. Т. I. С. 220). У многих кочевых народов обычай угощать гостя прежде всего кумысом сохранялся и в недавнем, прошлом. В. В. Радлов отмечал в середине XIX в., что у казахов «подать важному гостю иной напиток, а не кумыс — значит оскорбить гостя»[403].
Чингис-хан принимая с почетом даосского мудреца Чань-Чуня, после церемонии приветствия, «пожаловал учителю кумысу; но учитель решительно отказался пить» (Си ю цзи, с. 330). Марко Поло, находясь много лет при дворе хана Хубилая, с удовольствием пил этот напиток: «Пьют они, знайте, кобылье молоко; пьют его, скажу вам, таким, словно как бы белое вино, и очень оно вкусно, зовется шемиус (кумыс)» (Марко Поло, с. 90). По свидетельству брата Иоанна, в дни великого курултая летом 1246 г. многочисленным послам предлагался кумыс; если гость отказывался от этого непривычного напитка ему в замен давали вино или пиво. Так и Даниилу после угощения кумысом, Бату послал ковш с вином. Даниил удостоился лучшего приема. Более того, совместное питье «черного молока» означало признание высокого статуса русского князя в монгольской иерархии.
На монгольском пиру кумыс считался почетным напитком. Однако при необходимости, как мы уже знаем, чужеземному гостю подавали другой напиток. Эта практика находит подтверждение в свидетельствах современников. Киракос Гандзакеци описывает пиршество, устроенное монголами в честь грузинского князя Авага, сдавшегося на милость победителям: «Принесли и подали очень много кусков разделанного и сваренного мяса как чистых, так и нечистых тварей и, как принято у них, много бурдюков кумыса из кобыльего молока и начали есть и пить. А Аваг и его спутники не ели и не пили. И сказал ему военачальник: "Почему вы не едите и не пьете?" Аваг ответил ему: "У христиан не принято есть такую пищу и пить это питье. Мы едим мясо чистых животных, нами же закланных, и пьем вино". И [военачальник] приказал подать им то, что они просят» (Киракос Гандзакеци. 26).
Марко Поло описывает ежегодную церемонию возлияния молоком в конце августа в окрестностях летней столицы Шанду: «Всегда в этот день, великий хан уезжает из того города и из того дворца, и вот почему: есть у него порода белых коней и белых кобыл, белых как снег, без всяких пятен, и многое их множество, более десяти тысяч кобыл. Молоко этих кобыл никто не смеет пить, только те, кто императорского роду, то есть роду великого хана» (Марко Поло, с. 96).
В династийной истории «Юань ши» есть глава «Управление конюшнями», где можно найти дополнительные сведения о кумысных церемониях и черном кумысе. Существовало четырнадцать пастбищ, обеспечивавших Двор кобыльим молоком. Территория одного из них включала две столицы — Шанду и Пекин. Ухаживающие за кобылами были известны как хачи-карачи и их функции передавались по наследству. Согласно, «Юань ши», император, принцы крови и чиновники ставили особые войлочные ковры в «расширенных юртах», чтобы подготовить внутренность юрты для питья кумыса. Когда император вернулся в Пекин, кобылицы были собраны вместе и 50 ритуальных сосудов из бересты были привезены обратно в зимнюю столицу. Там, в свою очередь, хачи-карачи, управляющий при Дворе, должен был кормить кобылиц собственноручно и каждый день для императора готовил «черное» кобылье молоко, которое называлось «превосходный кумыс». Для каждого берестяного сосуда существовало 40 кобылиц. Принцы крови и чиновники так же получали свою долю кумыса, но количество кобылиц для сосуда было меньше на четверть, и этот кумыс был известен как «грубый»[404].
Согласно этому отрывку, «черный» кумыс был более качественным сортом, предназначавшимся для императора и, возможно, для его семьи и непосредственного окружения. Употребление термина «черный» для обозначения кумыса лучшего качества и «белый» — для худшего подтверждается еще в ряде мест. В биографии Тутухи говорится, что кумыс с «чистым» цветом и богатым вкусом именовался «черным». Таким образом, вопрос о символическом значении черного кумыса можно считать окончательно решенным.
В идеальном мире семиотических конструкций нет места для вышеописанных реалий XIII в. Н. Л. Жуковская в пищевой традиции монголов в «белых» напитках видит сакральную антитезу «черным» напиткам. «С черным цветом у монголов ассоциируется все негативное, темное, злое, жестокое, бедное. В пищевых традициях это проявляется в противопоставлении понятий "белая пища" (цагаан идээ) и "черная пища" (хар идээ). К черной пище относятся и черные напитки: хар цай (чай, не заправленный молоком), хар ус (простая вода, подаваемая человеку в ответ на его просьбу напиться, если в доме/юрте нет никакого молочного напитка) — все они выступают как символы нищеты, несчастья, профанного мира, противостоящего сакральному. Из белых напитков самым значимым является кумыс — символ сакрализации любого события, действия, обряда, в котором он используется»[405]. В таком случае, выражение «черный кумыс» выглядит парадоксом. Поскольку реальность черного кумыса как напитка монгольских ханов неопровержима, то следует полагать, что область оппозиции «черное — белое» как «профанное — сакральное» охватывала крайне узкую сферу жизни средневековых монголов.
Остается неясным вопрос о чести: связана ли она с придворным церемониалом, в частности, с преклонением колен, или же речь идет о наделении правами на владение княжеством. Что заставило автора дважды восклицать: «О, злее зла честь татарская!». Заметим, что речь не идет о бесчестии. Даниил Галицкий удостоился от Вату чести, которая воспринимается злее зла. По мнению Ю. М. Лотмана, древнерусское феодально-светское понятие чести было выражением достоинства в виде материальной награды, имеющей знаковый характер, что указывало на определенное положение принимающего дар в иерархической системе власти[406]. «Честь» подразумевала награду или подарок, являющийся знаком определенных отношений. «Честь» — атрибут младшего феодала. Ее получают от старшего на иерархической лестнице. Напомню обычное летописное выражение: «И отпустиша я с дары велики и съ честью». Сюда же относится противопоставление князя и дружины в «Слове о полку Игореве»: князь ищет славы, дружина — чести («Сами скачють, акы серый влъци въ поле, ищучи себе чти, а князю славе»). «Слава» в текстах раннефеодального периода неадекватна «чести». По мнению Ю. М. Лотмана, славу можно принять от потомков, далеких предков, купить ценой героической смерти; особый знаковый характер славы подчеркивается тем, что ее может добиться феодал любой степени, доведший бескорыстие в следовании нормам рыцарского поведения до высшей степени — гибели. На мой взгляд, летописец противопоставляет славу князя Романа, отца Даниила, («его отец был царь в Русской земле, он покорил Половецкую землю»), чести Даниила. В этом слышится намек на «перевернутую» ситуацию: отцу Даниила была покорна Половецкая земля, т. е. та земля, которая ныне принадлежит Бату. Бату ныне принадлежит и слава. Если славу Даниил мог принять от отца, то честь — лишь от современников, в данном случае, от Бату. То, чем владели Даниил Галицкий с братом Васильком по праву рождения и наследования отцовского имения, теперь вручалось им как «честь» из рук более могущественного правителя. Однако это не проясняет того факта, что все остальные князья, ездившие на поклон к Бату, возвращались на Русь с честью, (которая не оценивалась «злее зла»). Обратимся за примерами к Лаврентьевской летописи. В 1243 г. великий князь Ярослав поехал к Батыю, а сына своего Константина послал к великому хану; «Батый же почтил Ярослава великою честью, и мужей его, и отпустил их, сказав ему: "Ярославе. Будь ты старшим над всеми князьями в Русской земле". Ярослав же возвратился в свою землю, с великою честью». В следующем году князья Владимир Константинович, Борис Василькович, Василий Всеволодович поехали к Батыю просить свои отчины; «Батый же почтив их честью достойною и отпустив, рассудил так, что каждый получил свою отчину, и вернулись с честью на свою землю». Во всех случаях честь означает получение прав собственности на отчины. Целью поездки Даниила к Батыю, было сохранение собственной отчины. Вопреки мнению Ю. В. Кривошеева, честь это вовсе не почести, воздаваемые ханами князьям[407].
В «Житии Александра Невского» противопоставление царства Вату и земли, которую он вручает русскому князю по праву сильнейшего, выглядит особенно ярко. В уста Вату вкладываются слова: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидешь славу царства моего» (на самом деле, в тексте последняя фраза звучит так: «и видиши честь царства моего»)[408]. Та же самая ситуация в отношении грузинской царицы Русудан описана историком Киракосом Гандзакеци: «К ней прибывали послы с двух сторон: из татарского стана от ближайшего родственника хана великого военачальника Вату, находившегося на севере, который властвовал над всеми, так что без его воли даже хан не вступал на престол, и от другого военачальника, по имени Бачу, находившегося в Армении; оба они предлагали ей явиться к ним с миром и дружбой и уже с их позволения править царством своим» (Киракос Гандзакеци. 45).
В культурно-историческом плане участие князя Даниила в монгольском пиру вполне сопоставимо с ситуацией, в которой оказался армянский князь Аваг, долго не решавшийся явиться на пир к нойону Чармагуну, который управлял Закавказьем. «Военачальник сказал ему: "В пословице говорится: подошел я к ердику{114} ты не вышел ко мне, подошел я к двери — тогда ты только вышел ко мне". Велел ему сесть ниже всех вельмож, сидевших при нем, и приказал устроить великий пир в честь [Авага]. <…> Назавтра он посадил [Авага] выше многих вельмож. И так изо дня в день он оказывал ему больше почестей, пока не посадил его вместе с вельможами по рождению. И велел всем войскам своим не осаждать крепости и города, принадлежащие ему. И страна его вздохнула спокойнее, множество пленных ради него было отпущено на свободу. [Чармагун] возвратил [Авагу] всю его страну и даже, более того, утвердил нерасторжимую дружбу с ним» (Киракос Гандзакеци. 26). Расположение участников монгольского пира отражает, имперскую систему власти. Исполненное прозрачного смысла перемещение князя Авага с низкой позиции к высокой, регламентируемое нойоном, видимо, сопровождалось и вручением князю более роскошной пиршественной посуды.
М. Г. Крамаровский предложил необычный взгляд на тему джучидского праздничного застолья сквозь призму своего интереса к парадной посуде из золота и серебра. Пиршественная посуда — значимая часть монгольского этикета. «Место на пиру, очередность получения пиршественной чаши, право на угощение чарой-оток (монг. otok — угощение вином), очередность произнесения здравицы определялись общественным положением участника застолья. <…> Золотая Орда не только унаследовала пиршественный церемониал, установленный при жизни основателя империи, но и трансформировала его, обострив как раз те черты этикета, которые касались укрепления личного авторитета улусного хана, его положения внутри правящего дома, а также собственно правящего дома — в среде высших слоев воинской знати государства»[409]. По наблюдению М. Г. Крамаровского, ханское парадное застолье ко времени правления хана Узбека (1313–1341) теряет обаяние непосредственности, приобретает черты жесткой режиссуры.
Для середины XIII в., если судить по русскому и армянскому известиям, на монгольских пирах еще сохранялась живая импровизация. Театральное унижение князя Авага с последующим возвышением, шутка Бату в адрес Даниила, при том, что черный кумыс подавался князю, скорее всего, в золотой ханской чаше, показывают, что празднество выполняло некую важную функцию. Несомненно, участие в пире наглядно отражает место в политической иерархии. Однако во времена Бату, монгольская иерархическая модель была крайне подвижной, поскольку была связана с экспансией, то есть включением новых территорий и новых групп в состав империи. Регулярные пиршественные церемонии противопоставляли обновленный порядок смуте и беззаконию. Благодаря ритуалу князья Аваг и Даниил обрели прежний статус правителей в новой системе координат. В эпоху Узбека ни о каких радикальных переменах в составе элит не было и речи.
Концепция Ю. М. Лотмана была недавно пересмотрена П. С. Стефанович. Стефанович размывает проблему, сглаживая оппозицию «честь — слава», когда пишет следующее: «Связи понятия "честь" с какими-нибудь вассальными обязательствами мне найти не удалось ни в летописях, ни в других памятниках литературы домонгольской Руси. Едва ли можно увидеть и что-то "феодальное" в тех значениях, которые имеет древнерусское слово "честь". Его основное значение — "почет, почести, уважение"»[410]. Само собой разумеется, в церковных текстах невозможно найти что-либо о феодальной чести. Другое дело, когда церковный писатель вынужден говорить о реальной жизни князя. Случай с Даниилом Галицким на пиру у Бату П. С. Стефанович не рассматривает, ограничившись периодом домонгольской Руси. При таких ограничениях можно построить любую воображаемую конструкцию.
Насколько мне известно, тему участия русского князя в монгольском пиру никто не рассматривал в евразийском аспекте. Равным образом, никто не исследовал типологию этого явления. В таком случае, у меня есть основания краткий историографический обзор темы дать после того, как выяснена суть событий. Речь пойдет об интерпретациях, которые укладываются в культурный и эмоциональный контекст древнерусского источника.
Вот позиция М. Д. Полубояриновой: «От всех русских князей, прибывших к Батыю, требовалось, чтобы они прошли к хану между кострами (очищение огнем), поклонились кусту (?), идолам, огню, солнцу. Большинство русских князей исполняли этот ритуал. Князья и послы должны были стоять на коленях перед ханом во время приема. Под 1250 г. Ипатьевская летопись сообщает о посещении Батыя Даниилом Галицким и подробно описывает, как Даниилу, избавленному от прочих глумлений "злого их бешения и кудейства", пришлось все же кланяться "по обычаю их", пить кумыс по приказанию Батыя. Покорностью Даниил завоевал расположение Батыя, и по этому случаю летописец произносит фразу, ставшую знаменательной для всего периода ига: "О, злее зла честь татарская". Кумыс вызывал особенное отвращение русских и считался греховным напитком»[411].
Каким образом русские князья могли исполнять ритуал поклонения огню и солнцу, если такого ритуала не было в монгольском обиходе? Что же касается утверждения, о должном поклонении идолам, т. е. онгонам, то наоборот, монголы жестко пресекали любую попытку чужестранца приблизиться к священному пространству. По свидетельству Вильгельма де Рубрука, ни один чужестранец не смел поклоняться онгонам: «Они верят лишь в единого Бога, однако делают из войлока фигуры умерших своих, облачают их в самые дорогие одеяния и помещают их на одну или две повозки. И к этим повозкам никто не осмеливается прикоснуться. И находятся они под охраной прорицателей, которые являются их священнослужителями, о которых я вам в дальнейшем расскажу. <…> А в день праздника и в календы они извлекают вышеупомянутые фигуры и располагают по кругу в доме своем. Затем входят сами моалы и войдя в дом сей, преклоняются и воздают почести. И в этот дом никто чужой не смеет войти. Однажды я, попробовав войти в этот дом, был наказан жестоко» (Itinerarium. XXV. 9–10).
Понятие «честь» рассматривается М. Д. Полубояриновой в нынешнем смысле слова, хотя статья Ю. М. Лотмана была опубликована в 1967 г., и, видимо, при желании была доступна.
Позиция А. В. Майорова: «В 1245 г. отведать "татарской чести" пришлось Даниилу Галицкому. Причиной, понудившей этого князя отправиться в Орду, стало требование татар: "Дай Галич!" Кому? Исследователи справедливо полагают, что Даниил, поначалу стремившийся избегать контактов с татарами, стал объектом интриг со стороны русских князей, уже успевших войти в доверие к хану и теперь с его помощью бывших не прочь взять то, что прежде было им не под силу. Следы заговора против Даниила ведут в Северо-Восточную Русь, скорее всего, прямо к Ярославу Всеволодовичу. Так, перед решающей встречей с Батыем к Даниилу явился "человек Ярослава", некий Сонгур. Смысл его речей к галицкому князю с очевидностью обнаруживает намерение спровоцировать его на отказ от выполнения унизительного для христианина религиозного церемониала монголов, обязательного для всех ищущих милости хана. О том, чем чревата такая провокация, без лишних слов свидетельствует трагическая гибель другого южно-русского князя — Михаила Черниговского, отказавшегося исполнить монгольский обряд»[412].
У монголов не было религиозного церемониала, обязательного для всех ищущих милости хана. В империи царил принцип толерантности. Напомню свидетельство доминиканца, папского посла к монголам Андре де Лонжюмо, выступившего на Лионском соборе 1245 г. «Ведь король тартаров домогается только власти над всеми и даже монархии над всем миром и не жаждет чьей-нибудь смерти, но дозволяет каждому пребывать в своем вероисповедании, после того как [человек] проявил к нему повиновение, и никого не принуждает [совершать] противоположное его вероисповеданию» (Английские источники, с. 133). В обязанности тех, кто служил при дворе Бату, входило объяснять смысл ритуалов, но никак не организовывать провокации.
В комментариях к Галицко-Волынской летописи повторяется мысль о поклонении кусту, огню, солнцу, и вновь говорится о нехитрой провокации со стороны Сонгура, а в остальном царит высокий стиль: «Повествователь взволнованно рассказывает о поездке князя через степи, где хозяйничали татары, подробно описывает его пребывание в Сарае. С гордостью за своего героя книжник превозносит его мудрое, исполненное достоинства поведение перед всемогущим ханом. Ценой личного унижения Даниил сохранил целостность своего княжества ("и поручена быстъ земля его ему…"), не впустил ордынских баскаков на родную землю, получил передышку для подготовки вооруженного выступления против Орды, наконец, развязал себе руки в проведении активной западной политики, которую под давлением обстоятельств отодвинул было на второй план»[413]. Во-первых, в 1246 г. Сарая не существовало[414]; во-вторых, подробное описание ограничивается, как мы уже выяснили, указанием на монгольские беснования и кудесничания. Далее, авторы уточняют: «Батый дал Даниилу ярлык на Галицко-Волынское княжество. Ценой унижения, признания себя "холопом" Батыя и уплаты дани, вероятно, единовременной, Даниил Романович сумел сохранить целостность государства и укрепить свою власть и международный авторитет. Однако ему пришлось отказаться от претензий на киевский престол»[415]. Я не понимаю логики авторов комментария: как ценой унижения князь мог поднять свой международный авторитет?
«Средневековый человек не видел никакого смысла в свободе в ее современном понимании», — пишет Жак ле Гофф в книге «Цивилизация средневекового Запада», — «свобода — это гарантированный статус <…>. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав»[416]. Принимая этот взгляд, мы по иному оценим новый статус Даниила. Отношения господства и подчинения были нормой средневековой жизни и право господства принадлежало сильнейшему. В этом не было и грана уничижения. Выше свободы стояло истинное служение, подчинение своей воли Богу, королю либо иному сильному правителю. Не случайно русские книжники именовали монгольских ханов «царями», присвоив им титул правителей некогда могущественной Византийской империи[417].
Подведем итог. К середине XIII века геополитическая ситуация в Евразии определялась новой силой в лице Чингизидов. Большинство русских князей было вынуждено искать свое место в новой иерархии власти. Обрести статус и закрепить его можно было лишь участвуя в церемониях и демонстрируя лояльность по отношению к тому или иному монгольскому правителю. Даниил Галицкий исполнил требования придворного этикета, признал право сильного за великим ханом, и в ответ обрел значимый статус в новой системе отношений. Вопреки летописцу, Бату не ограничился ковшом вина, Даниил и его ближайшее окружение получили в дар монгольские кожаные доспехи, что было знаком высшего признания. Согласно Ипатьевской летописи, Даниил Романович во время торжественной встречи с венгерским королем Белой IV предстал в монгольских доспехах[418]. Речь идет о пластинчатом панцире, чешуйки которого покрывались лаком, что и объясняет сверкание снаряжения. А. А. Пауткин исправляет ошибку в переводе О. П. Лихачевой, которая фразу «людье во ярыцехъ» переводит как «люди в кольчугах»[419]; древнетюркское «ярык», «ярак» следует толковать как пластинчатый панцирь[420]. Для сравнения приведу церемониальный акт поставления на великое княжение Ярослава в 1264 г. (содержащееся только у В. Н. Татищева): «Егда прииде Ярослав во Орду, и хан прият его с честию, даде ему доспех и повеле обвестити его по чину на великое княжение. Коня же его повеле вести Володимеру Резанскому да Ивану Стародубскому, бывшим тогда во Орде[421]. И августа месяца [1264 г.] отпусти его с послом своим Жанибеком и с ярлыком на великое княжение»[422].
Глава 2.
Казнь Михаила Черниговского
Любая империя есть сумма парадоксов, поскольку на едином политическом пространстве соприкасаются разные культурные традиции. В Монгольской империи одним из самых ярких примеров войны символических жестов был обряд коленопреклонения. Введенная Елюй Чу-цаем в 1230 г. при монгольском дворе китайская церемония приветствия великого хана предусматривала опускание на оба колена (Сун Цзы-чжэнь, с. 72). Эта церемония окажется неприемлемой для дипломатов и правителей христианского мира, вынужденных по тем или иным причинам встречаться и вести переговоры с монгольскими ханами и нойонами. Для христиан преклонение на оба колена было исполнено глубокого религиозного смысла, что практически исключало перевод сакрального жеста в сферу придворного этикета. Средневековый итальянский художник, иллюстрировавший книгу Марко Поло, изобразил венецианцев, преклонивших перед великим ханом одно колено, тогда как Марко Поло говорит о преклонении на оба колена (Марко Поло, с. 111, 113)[423].
Конфликт, обусловленный несовпадением культурных и прочих стереотипов, был повседневностью имперской реальности. Так, например, все военнообязанные мужчины империи обязаны были носить одинаковую прическу, запахивать халат на правую сторону. Нарушение этих требований приравнивалось к измене[424]. Левый запах одежды ― признак, отличающий тюркский костюм. Тюрки, поступившие на монгольскую службу, должны были запахивать халаты по-монгольски, что в семиотическом плане означало ношение одежды подобно существам иного мира. Имперскими предписаниями запрещалось весной и летом входить в воду. Мусульман, совершающих ритуальное омовение в это время года, могли обвинить в злокозненной магии, что по монгольским законам наказывалось смертью (см.: Глава 6, § 3).
Что же касается вероисповедания представителей разных конфессий, то в империи был провозглашен и действовал принцип толерантности, т. е. веротерпимость была возведена в ранг закона[425]. Этот факт отмечен в XIII в. представителями всех мировых религий. Как писал Марко Поло, каждый может свободно распоряжаться своей душой, ибо монголы не заботятся о том, какому Богу поклоняются в подвластных им землях, лишь бы сохранялась верность и покорность хану[426].
Может показаться, что прагматизм монгольской политики не оставлял места для сакральной практики на государственном уровне, поскольку, согласно Ясе Чингис-хана, все конфессии были поставлены в равные условия. Их соперничество между собой ни при каких условиях не породило бы некий универсальный культ. И следовательно, поиск каких-либо святилищ общеимперского характера, не имеет оснований. Однако реальность середины XIII в. была сложнее. Благодаря сведениям из донесений францисканской миссии 1245 г., побывавшей в лагере Бату на Волге и в кочевой столице империи близ Каракорума, мы располагаем подробным описанием загадочного феномена. Речь идет о золотой статуе Чингис-хана, установленной в закрытой повозке перед юртой правящего хана. Жертвы этому изображению приносили сами монголы, а кланяться должны были и знатные иноземцы и послы в знак покорности здравствующему великому хану. На первый взгляд ситуация парадоксальная, ибо предназначение статуи Чингис-хана, кажется, совмещает несовместимые функции. Если для монголов в этом сакральном изображении была сосредоточена жизненная сила (сульде), которая выступала охранителем всего народа и войска, то в таком случае трудно объяснить, зачем к этому сакральному источнику приобщали чужестранцев. Если же статуя воплощала божество, которому должны были поклонятся все, кто бы ни прибыл ко двору великого хана, то это обстоятельство вступает в противоречие с провозглашенным принципом свободы вероисповедания. Последнее вполне осознавалось францисканцами. Они поклонились «идолу» Чингис-хана, отметив, что у монголов вообще нет обрядов почитания Бога, а чтут они лишь семейных идолов из войлока или шелка.
Каково же было назначение статуи? Приемлемый ответ выглядит так: поклонение статуе было знаком покорности великому хану. Вечное Небо отдало все земли мира в управление Чингис-хану и его роду. С позиции этой идеологемы независимые правители и их послы мыслились как подданные хана, которые наконец-то прибыли засвидетельствовать свою покорность.
Происхождение изображения Чингис-хана связано с традицией онгонов (вотивных знаков, которым приписывалась функция охраны семейного и родового благополучия), поэтому «идолу» приносят многочисленные жертвы в виде еды и питья, ему же жертвуют коней, на которых никто не смеет садиться. На первых порах государственный культ Чингис-хана вызвал к жизни новые функции, которые отчасти реализовались в старых формах. Странная комбинация языческих по форме, но имперских по сути элементов, воплощенных в статуе Чингис-хана, сигнализирует о поиске приемлемой конфигурации нового культа.
О реальном существовании этого культа мы можем судить по конфликтам, зафиксированным наблюдателями и участниками мировой драмы. Наиболее неприемлемой для христиан окажется языческая составляющая имперского культа, поскольку поклонение статуе Чингис-хана будет восприниматься ими как идолопоклонство. С точки зрения монголов, ситуация выглядела иначе. Поклоняясь фигуре Чингис-хана, знатные чужеземцы подчинялись императивам «Великого монгольского государства» и тем самым приобщались к новой социальной среде.
Если мы вспомним, что двор великого хана совершал регулярные сезонные перекочевки[427], а статуя Чингис-хана находилась на повозке, то можем высказать осторожную гипотезу о наличии «мобильного» святилища, отвечавшего потребностям имперской сакральной практики. Фигуру реального правителя всегда сопровождала фигура основателя империи. Четыре ежегодные перекочевки в символическом плане манифестировали установление господства над четырьмя сторонами света, а одна из доктрин провозглашала право на владение родом Чингис-хана всеми землями, над которыми простирается Вечное Небо.
Становление империи проявлялось на всех уровнях бытия, в частности, для ежегодных курултаев в эпоху Угедея был разработан сложный и яркий церемониал, связанный с переодеванием одежд в первые четыре дня середины лунного года. Каждому из четырех дней соответствовал свой цвет одежд, причем в последний день все участники церемонии облачались в халаты, шитые золотыми нитями. Комбинация из четырех цветов одежд, маркирующих четыре стороны света, сопрягалась с архаическим представлением о земле как квадрате[428]. Таким образом, «мобильное» святилище, в центре которого находится золотая статуя Чингис-хана, имело типологическое соответствие в сценарии празднования середины лунного года. В обоих случаях золотой цвет «наделял» участников ритуала признаками обновленного статуса.
Есть основания полагать, что подобное «мобильное» святилище находилось и в лагере Бату на Волге. О нем в неясной форме сообщают русские летописи (ПСРЛ. Т. II, стб. 795). Суздальская летопись по Лаврентьевскому списку содержит следующие подробности: Михаилу Черниговскому велят поклониться огню и каким-то изображениям: «Того же лета (1246) Михаило князь Черниговьскый со внукомъ своимъ Борисомъ поехаша въ татары и бывшимъ имъ въ станехъ. Посла Батый къ Михаилу князю веля ему поклонитися огневи и болваном ихъ. Михайло же князь не повинуся веленью их, но укори и и глухыя его кумиры и тако безъ милости от нечестивыхъ заколенъ бысть» (ПСРЛ. Т. I, стб. 471).
Требование поклониться огню не соответствует реальности — послы должны были пройти между двух очистительных огней. Об этом имеется ясное свидетельство участников францисканской миссии 1245 г.: «Каким бы то ни было послам с дарами, которые они приносят их владыкам, надлежит пройти между двух огней, чтобы яд, если они его принесли, или же дурное намерение, очистились. По этой причине даже наши братья прошли между огней, [перед тем, как были допущены ко двору]» (НТ, § 43). О монгольском обряде очищения огнем посольских даров сообщает египетский историк Ибн ал-Фурат (Сборник материалов. Т. I. С. 264; см.: Глава. 6. § 5).
Представление о том, что князья должны были предварительно кланяться огню, связано с тем обстоятельством, что очистительный обряд мыслился (поздними переписчиками летописей) как начало придворных церемоний поклонения хану. И уж совсем удивительно выглядят утверждения современных исследователей о том, что Михаил Черниговский был казнен за отказ пройти между очистительных огней[429].
Что означало повеление «поклониться болванам»? Согласно исследованию Д. В. Айналова, в русских источниках статуи константинопольские, монгольские, индийские называются «болванами», а для пояснения этого слова — «кумирами»[430]. В данном же случае речь идет о статуе Чингис-хана. Отметим, что, согласно сведениям брата Иоанна, полученным от черниговского посла, с которым он возвращался в Киев из ставки Бату, князь Михаил прошел между очистительных огней, но отказался поклониться изображению Чингис-хана. Может вызвать некоторые сомнения то обстоятельство, что францисканцы видели подобную статую и при дворе Гуюка, и в ставке Бату. Казалось бы, такой символический знак, как статуя Чингис-хана, должен был существовать в единственном числе и только в кочевой столице великого хана. Наличие двух статуй, видимо, связано с рядом причин, где не последнюю роль сыграл высокий личный статус Бату, на тот момент самого старшего представителя из рода Чингизидов. Заканчивался период междуцарствия, когда в течение пяти лет после смерти Угедея различные семейные группы соперничали за право выдвинуть своего претендента на наследство Чингис-хана.
Приведем дополнительные аргументы в защиту высказанной гипотезы о существовании имперского «мобильного» святилища и заодно рассмотрим ряд частных вопросов. Воспринимали ли христиане изображение Чингис-хана как образ чуждого им божества, т. е. идола? Латинские тексты позволяют на этот вопрос ответить утвердительно. Содержание древнерусских известий на этот счет неясно[431]. В сообщениях средневековых авторов при описании ими чужой религиозной традиции следует различать два аспекта: 1) общее сравнение своей традиции с предписаниями и положениями иного религиозного опыта, 2) описание конкретных обрядов. Заметим, что и сравнение, и наблюдение фиксировались в терминах собственной религиозной традиции и были адресованы представителям собственной культуры. Таким образом, мы имеем дело с оценочным сравнением. Последнее обстоятельство лишает объективности тексты, в которых сакральный мир одной культуры воспринимается через призму символов другой культуры. Так, например, брат Иоанн де Плано Карпини пишет о вере монголов в «единого Бога», что было весьма актуально для средневековых христиан. Но в монгольском пантеоне не было места для Бога, тождественного латинскому Оеиз[432]. Несторианские информаторы брата Иоанна легко убедили его в том, что монголы веруют в «единого Бога», хотя речь должна идти о центральноазиатском культе Вечного Неба.
Современник брата Иоанна, армянский историк Киракос Гандзакеци передает суждения монголов относительно Бога: «У них нет богослужения, они не поклоняются [никому], но божье имя упоминают часто, при любом случае. И мы не знаем, воссылают ли они хвалу Богу сущему или призывают другое божество, да и они тоже не знают. Но обычно они рассказывают вот что: государь их — родственник бога, взявшего себе в удел небо и отдавшего землю хакану. <…> Язык их дик и непонятен нам, ибо Бога они называют Тангри» (Киракос Гандзакеци. 32). Слово «тенгри» означало Вечное Небо. Древнетюркский термин tngri не имеет точек соприкосновения с христианским понятием Бога, о чем свидетельствуют сомнения Киракоса Гандзакеци. Монгольская формула о покровительстве Вечного Неба деяниям великого хана: möngke tengri-yin jarliq qan переводилась на латынь под несомненным несторианским влиянием: Cingischam filius Dei dulcis et venerabilis 'Чингис-хан сын Бога, сладостный и досточтимый'. Средневековые европейские дипломаты были уверены в адекватности перевода[433], однако интеллектуалами в христианской Европе эта формула воспринималась крайне негативно.
Насколько ситуация со статуей Чингис-хана выглядит непросто, показывает позиция Ф. Шмидер, которая выказывает полное недоверие к сведениям францисканцев и выдвигает версию о неком буддийском изображении, хотя в тексте ясно говорится об идоле императора[434]. Большинство исследователей, вплотную занимавшихся донесениями францисканской миссии 1245 г., не сомневаются в том, что речь идет именно о статуе Чингис-хана[435].
Говоря об идоле Чингис-хана, переводчик францисканской миссии брат Бенедикт Поляк пользуется только словом ydolum, а брат Иоанн говорит и об ymago hominis mortui, т. е. «изображении умершего человека». Слово ydolum, некогда заимствованное в латынь из греческого, нерасторжимо связано именно со зрительным образом человека. Латинское слово imago в не меньшей степени, чем idolum, ассоциируется с визуальным (хотя бы даже и мысленным) образом. Можно было бы, правда, колебаться относительно характера изображения: было ли оно плоскостным, рельефным или трехмерным. В. В. Бартольд склонен был признать это изображение изображением Чингис-хана и считал, что «монголы под влиянием китайской культуры научились выделывать более совершенные статуи, чем прежние войлочные куклы»[436]. Брат Бенедикт в рассказе, записанном уже по возвращении в Европу неким схоластом из Кёльна, говорит о золотой статуе и именно в ставке Бату: «За кострами стояла повозка, содержавшая золотую статую императора» (Relatio Fr. Benedicti Poloni, 5). Вопрос о достоверности этого сообщения осложняется тем, что сведения брата Бенедикта при записи испытали влияние изысканного литературного стиля классически образованного схоласта. Для целей нашего исследования важно, однако, другое, а именно что францисканцы ясно выразились по поводу как рядовых идолов, так и идола Чингис-хана, выполненных наподобие человека. Говоря о войлочных идолах в юртах кочевников, брат Бенедикт использует в качестве синонима ymagines hominum 'изображения людей', а брат Иоанн указывает, что они делались ad ymaginem hominis 'по образу человека'.
В новом переводе (исправляющем ошибку перевода А. И. Малеина{115}) сведения брата Иоанна выглядят так: «Они [в свое время] также изготовили для первого императора [его] идол, который [и теперь] помещают на почетную повозку перед жилищем [императора], как мы [это] видели перед Ордой нынешнего императора; они приносят ему [идолу] многочисленные жертвы. Ему также жертвуют коней, на которых никто не смеет садится вплоть до [их] смерти. Ему же также жертвуют других животных; если [их] убивают для еды, не ломают ни одной кости от них, но сжигают [эти кости] огнем. Ему также кланяются на юг, подобно тому как Богу, и заставляют кланяться некоторых [иноземных] знатных людей, покоряющихся им»{116}.
В донесении брата Бенедикта, сохранившемся в пересказе брата Ц. де Бридиа, параллельный пассаж звучит так: «Когда-то они сделали идол Чингис-кана, который они устанавливают перед юртой всякого [правящего] кана и приносят ему дары. Кони же, принесенные ему в дар, в дальнейшем не используются для езды. Также животных, которых они убивают для употребления в пищу, сначала предлагают ему, т. е. идолу, [и] кости животного не ломают. Этому же идолу кланяются на юг, словно Богу, и к этому же многих принуждают, в особенности покоренную знать» (НТ, § 39). То обстоятельство, что францисканцы должны были преклонить оба. колена перед изображением Чингис-хана, позволило им уподобить «идола» Богу. Из четырех сторон света особым сакральным смыслом для монголов обладала южная сторона (LT, IX. 32; Марко Поло, с. 88, 1 17)[437].
Согласно древнерусской церковной легенде, князь Михаил Черниговский, прибыв в сентябре 1246 г. в лагерь Бату, отказался исполнить монгольское требование поклониться какому-то неясному предмету и был казнен. В речи Бату звучит приказ поклониться «отцу законов наших» (ПЛДР, с. 304–305). С известной оговоркой эту фигуру можно признать статуей Чингис-хана. Трудно предположить, что князю Михаилу могло быть предъявлено какое-либо особое требование, принципиально отличное от того, что сообщают западные дипломаты. Вопрос, на который мы никогда не получим ответ, звучит так: действительно ли Михаил отказался преклонить колени перед статуей и был убит именно за это? Во-первых, при дворе Бату был человек, который объяснял последовательность всех церемоний, равно как и их смысл; монголы не искали повода для расправы над христианами. Во-вторых, обычно князья предварительно посылали свое доверенное лицо к Бату и заранее знали о предстоящем церемониале. В-третьих, отказ следовать монгольским предписаниям закрыл бы путь к аудиенции с Бату, и не более. Вот если бы Михаил наступил на порог юрты, или с намерением пролил кобылье молоко, или, не дай бог, подавился во время пира, тогда ему не миновать смерти. Но за недеяние казнить его не могли. Смерть князя является загадкой[438]. Прислушаемся к словам Бенедикта Поляка: «Они никого не принуждают оставлять свою веру, только бы повиновался во всем их приказам. В противном случае они принуждают [к подчинению] насильно или же убивают. Так, они принудили младшего брата князя Андрея в Русии (убитого ими по ложному обвинению) взять в жены вдову брата, уложив их на одно ложе в присутствии других людей» (НТ, § 42).
В сентябре 1246 г. францисканцы находились в Монголии, поэтому узнать подробности трагедии, постигшей князя Михаила, они смогли лишь спустя восемь месяцев. Об этом событии они узнали от русских. Францисканцы возвращались от Батыя на Русь вместе с послом черниговского князя. Другими словами, францисканцы передают самую раннюю русскую версию гибели Михаила. В ней уже содержатся в зачатке те элементы «Сказания о князе», которые впоследствии будут обработаны в агиографическом ключе. Вместе с тем в ней четко обозначены действующие лица: черниговский посол не скрывает, что в этой истории участвовали люди князя Ярослава Всеволодовича. Брат Иоанн, в свою очередь, лишь добросовестно передает то, что услышал. Согласно этим сведениям, Михаил, когда он пришел на поклон к Батыю, должен был поклониться на юг Чингис-хану. Князь отказался кланяться статуе, изображающей мертвого человека. Пересказав эту историю, брат Иоанн отмечает ее исключительный характер{117}. Значимость его сведений для прояснения летописной версии сюжета очевидна, поэтому приведем их полностью (к тому же известный перевод А. И. Малеина изобилует неточностями, полностью меняющими картину событий).
«Михаила, который был одним из великих князей Руссии, когда он пришел покориться Баты, заставили сперва пройти между двух костров. После этого ему было сказано, чтобы он поклонился на юг Чингис-кану; он отвечал, что охотно бы поклонился Баты и рабам его, но не образу мертвого человека, потому что это не дозволено делать христианам. И, так как ему много раз повторяли, чтобы он поклонился, а он не хотел, вышеупомянутый князь передал ему через сына [великого князя] Ярослава, что он будет убит, если не станет кланяться, [а] тот отвечал, что предпочитает умереть, чем делать то, что не дозволено. И тогда он (Батый) послал одного приближенного [Ярослава], который, вопреки [своему] желанию, так долго бил его пяткой в живот, пока он не умер. Между тем один из его воинов, который [при этом] присутствовал, ободрял его, говоря: "Будь тверд, так как это мучение недолго продлится для тебя и тотчас последует вечная радость". После этого ему отрезали голову ножом. Упомянутому воину также отсекли голову ножом»{118}.
Согласно рассказу Софийской Первой летописи, расправа над князем выглядела так: «Тогда же убиици те окааннии приспеша и скочиша с коней, и яша святого великаго князя Млхаила и преподобнаго, и растягоша за руце и за нози и начата его бита руками по сердцю. И посемь повергоша его ниць на землю и бьяхуть его пятами. И сему же не долзе бывшу, некто же бывъ преже крестьянинъ, последи же бысть поганъ, отвергъся веры крестьяньския, законопреступникъ, именемъ Доманъ, Северянинъ родом, и огорчися, отреза ножемъ главу святому мученику, великому князю Михаилу и отверже ю прочъ» (ПСРЛ. Т. 5, с. 234–235). С Михаилом расправились с поразительной жестокостью.
Все русские князья, побывавшие в Орде, никогда не отказывались от выполнения установленных монголами ритуалов: «Мнози же князи с бояры своими идяху сквозе огнь и кусту[439] кланяхуся, идоломъ их, славы ради света сего и прошаху коиждо их власти; они же без бранениа давахут, да прельстить я славою света сего» (НПЛ, с. 298).
Касаясь трагической судьбы князя Михаила, брат Иоанн для подтверждения исключительности этого события еще раз возвращается к теме государственного культа в Монгольской империи и утверждает, что «так как они не соблюдают никакого закона относительно почитания Бога, они до сих пор никого не принуждали, как мы узнали, отрекаться от своей веры или закона, за исключением Михаила, о чем сказано выше. Мы не знаем, что они будут делать впоследствии, однако некоторые предполагают, что если бы они обрели единовластие [над миром] (что Бог отвратит), то они сделали бы так, чтобы все кланялись этому идолу» (LT, III. 5). Фраза о предполагаемом всемирном поклонении идолу Чингис-хана знаменательна. Скорее всего, эта тема обсуждалась между францисканцами и русскими священниками. Элемент имперского культа, встроенный в придворный церемониал, был спроецирован ими на систему христианского мироздания. Сведения о монгольской толерантности блекли на фоне воображаемого всемирного идолопоклонства. Напряжение нашло выход в создании легенды о мученической смерти князя Михаила. Независимо от того, по какой реальной причине был казнен черниговский князь, в агиографической легенде он неизбежно должен был стать мучеником.
Князь Михаил, прибыв в Орду Батыя, должен был выполнить следующие требования дипломатического характера: став на оба колена, поклониться на юг Чингис-хану; трижды преклонить колено перед шатром Батыя; во время приветствия хана стоять на коленях. В посольский церемониал входил и магический обряд очищения огнем подарков, предназначенных для хана, и самих дарителей. Согласно известию Ипатьевской летописи, Михаил, видимо, не отказывался исполнить последние два требования. Если бы он отказался поклониться изображению Чингис-хана, то конфликт, скорее всего, развивался бы по тому же сценарию, что и конфликт между доминиканцами и Бачу-нойоном. С точки зрения монголов, ритуал поклонения статуе не был религиозным актом, тогда как с христианской точки зрения он выглядел идолопоклонством. Трудно отрицать (впрочем, трудно и доказать), что князь Михаил отказался поклониться «идолу», однако именно на этом факте строится сюжет о его мученической смерти.
Отказ от тех или иных требований посольского церемониала не мог повлечь за собой позорную смерть князя. У нас нет оснований, вслед за церковными историками, занижать жизненные ценности кочевой культуры[440]. Исследования подобного рода имеют целью продлить жизнь церковного мифа и никак не способствуют прояснению истинной картины событий. Отказ Михаила исполнить «языческий» обряд делал его в глазах православных мучеником за веру. Если мы принимаем мотивировку события в соответствии с агиографической легендой, то должны признать случай с Михаилом единственным в своем роде фактом религиозного принуждения. Не кажется ли странным, что другие русские князья (Даниил Галицкий, Александр Невский) участвовали в церемониях для послов, т. е. поклонились идолу? Скорее всего, русская версия трагической истории князя Михаила является от начала до конца вымышленной; в противном случае она имела бы повторы.
А. А. Горский высказал сомнение в правильности моего перевода[441]. Если в переводе А. И. Малеина Бату посылает для расправы своего телохранителя, то я полагаю, что Бату послал одного из приближенных князя Ярослава{119}. Ярослав был ставленником Бату, при дворе находились люди Ярослава, в том числе его сын, который передал Михаилу монгольское предупреждение. Отрезал голову князю некий Доман путивлец. В смерти князя просматривается русский след. Большего прочтение текста не дает. Ситуация с латинским текстом брата Иоанна такова, что перевод спорного эпизода зависит от выбранного исторического контекста. Брат Иоанн передает чужой рассказ — черниговскую версию события, которая впоследствии была оформлена как церковная легенда о мученической смерти князя за веру. Францисканец зафиксировал самый ранний вариант этой легенды. При этом брат Иоанн выразил резонные сомнения относительно религиозной мотивации убийства князя. Сам папский дипломат поклонился идолу Чингис-хана, поскольку это был просто церемониал. Я склонен, вслед за францисканцем, сомневаться, что Михаилу вообще угрожали расправой за отказ кланяться статуе. Церковная легенда — это фантом, принявший литературную форму и напрочь заслонивший прозаическую реальность политического убийства{120}. Церковная легенда интересна лишь потому, что в ней говорится о статуе Чингис-хана. У нас есть только один факт, который не был искажен легендой: Михаила убили не по-монгольски, а обезглавили труп по-монгольски.
Сила влияния контекста такова, что А. А. Горский, например, склонен доверять летописному тексту, где говорится, что Доман отступил от христианства и стал язычником. Напомню, что монгольских ханов абсолютно не интересовало вероисповедание их подданных. Доман становится язычником по воле летописца, поскольку убивает христианского князя. Мысль А. А. Горского о том, что хан решил произвести «тест на лояльность» и потребовал у Михаила исполнить особый вариант поклонения, — это поиск других контекстов. Дело в том, что Бату вообще не занимался такими мелочами. По статусу Бату был вторым человеком в Монгольской империи. Приписывать Бату коварные планы означает занижать статус этого могущественного правителя до уровня рядового князя. Произошло загадочное убийство, мотивация которого скрыта за церковной легендой. Если моему критику кажется более верным перевод А. И. Малеина, тогда он должен принять религиозный контекст за достоверный и объявить Михаила святым мучеником, что и сделано. И последнее, фраза «бил его пяткой в живот против сердца» выглядит нелепо в любом контексте.
Буквальное прочтение источника, заряженного религиозным пафосом, иногда приводит к любопытным интерпретациям: воображаемое препирательство Михаила оборачивается ни больше ни меньше как угрозой монгольскому миру. «Способ убийства напрямую связан со взглядом монголов на череп как на вместилище харизмы. Действия Домана коннотируют изъятие харизмы из своего социума и трансмиссию ее в чужой, чьим хранителем она отныне становилась. А владения Михаила, лишенные сакральной благодати, обрекались на коллапс. Своим отказом князь открыл поле действия для вредоносной силы, наносящей удар по самой основе бытия монгольского общества, по культу Чингис-хан. С убийством Михаила эта магическая сила была обращена против самого князя и его земель»[442].
В исследовательской литературе принято считать, что черниговский князь был убит по повелению хана Батыя, и лишь спустя какое-то время гибель Михаила была истолкована как мученическая смерть за христианскую веру[443]. На самом деле коллизия была значительно сложнее: в борьбе киевский престол черниговский князь проиграл своему сопернику великому князю Ярославу Всеволодовичу[444]. Согласно рассказу в Ипатьевской летописи, приказ Батыя о наказании князя был исполнен нечестивым Доманом путивльцем, отнюдь не монголом (ПСРЛ. Т. II, стб. 795). Однако пролитие крови в Орде — событие из ряда вон выходящее (обычно монголы прибегали к отравлению). Не подлежащий сомнению факт — обезглавливание князя — указывает на то, что Михаил игнорировал какое-то весьма существенное монгольское предписание, но оно лежит вне сферы придворных церемоний. Например, князю могли припомнить убийство монгольских послов. С точки зрения монгольской практики наказаний отрубание головы было верхом бесчестия.
По свидетельству ан-Насави сыновья хорезмшаха, приказавшего в свое время убить монгольских послов, были взяты в плен и обезглавлены: «Татары вернулись с головами их обоих, насаженными на копья. Назло благородным и на досаду тем, кто это видел, они носили их по стране, и жители, увидев эти две головы, были в смятении» (ан-Насави. 29). Столь же трагической была судьба Генриха Силезского, который попал в плен к монголам в битве при Лигнице. Согласно версии польской рукописи (Hedwigs-Codex 1353 г. fol. 12r.), монголы демонстрировали голову Генриха, насаженную на копье, жителям осажденной Лигницы[445]. Францисканцы, в свою очередь, сообщают, что голова Генриха была отправлена к Бату и брошена среди других голов (НТ, § 28). Испанскому послу Руи Гонсалесу де Клавихо, побывавшему при дворе Тимура, была известна разница в наказаниях: «У них в обычае, что когда казнят знатного человека, то его вешают, а когда человека низкого происхождения, то отрубают голову. А если кому-нибудь отрубают голову, то [это] считается большим злом и бесчестием» (Руи Гонсалес де Клавихо, с. 122). См. также выразительное свидетельство ан-Насави: когда султан Джалал ад-дин приказал убить своего взбунтовавшегося вазира Шараф ал-Мулка, то гибель последнего, по словам ан-Насави, была смертью, достойной знатного человека. Слуги султана спросили вазира: «Что ты предпочитаешь — удушение или меч?» Он ответил: «Меч лучше!» Они сказали: «Владык не убивают мечами, и удушение для тебя легче!» Вазира задушили, а затем отрубили ему голову и отнесли ее султану (ан-Насави. 102). И другой пример. В 1501 г. войско кочевых узбеков Шейбани-хана было разбито войском шаха Исмаила I. Шейбани-хану отрубили голову, с нее была снята кожа, набита соломой и послана его союзнику турецкому султану Баязиду II. Череп же хана шах приказал оправить в золото и употреблял его как кубок для вина на своих пирах[446].
Для целей нашего исследования важно отметить, что древнерусский сочинитель легенды о мученической смерти князя Михаила построил сюжет на отказе князя поклониться идолу. Реальность христианского мифа отражает глубинный конфликт с реальностью монгольского имперского мифа. Драма православного князя истолкована как война символов. Значение агиографической легенды — не в изложении события, а в демонстрации интенсивного переживания угрозы, направленной против высших христианских ценностей (о чем свидетельствует трехсотлетний интерес к легенде{121}). Вызов, брошенный культом обожествленного Чингис-хана, и был истинной причиной, породившей высокую легенду. Автора Сказания не смущал тот факт, что монголы не убивали своих противников по религиозным мотивам.
В Монгольской империи сферы влияния Церкви и Государства были четко разграничены, однако это обстоятельство не осознавалось древнерусскими книжниками.
Существует зазор между имперским и церковным мифом, куда рискует провалиться исследовательская мысль. Вопрос о причинах убийства князя Михаила на материале церковных произведений имеет однозначное решение. Следуя дискурсу житий, И. В. Белозёров монгольский дипломатический ритуал воспринимает как языческий обряд, и с неизбежностью приходит к выводу о конфликте на религиозной почве: князь Михаил отказался исполнить языческий обряд и пострадал за свои убеждения[447].
Исторический анализ показывает, что убийство Михаила Черниговского в ставке Бату было политическим. И напротив, литературный анализ житий, без обращения к историческим контекстам, предложенный В. Н. Рудаковым, сводит ситуацию к духоподъемной риторике: «По мнению Ефрема Сирина, антихрист во времена, когда "исполнится нечестие мира", "духом лести" будет искушать людей и "обольщать мир своими знамениями и чудесами по попущению Божию". И поэтому "великий подвиг нужен для верных, чтобы устоять против" совершаемых обольщений. Именно этот "великий подвиг" и совершают Михаил и Федор, противостоя "лести" татарской. Однако если основной пафос краткой Ростовской проложной редакции сводился к прославлению мученической гибели благоверного князя Михаила и его боярина Федора (отвергших "славу сию временную", пострадавших "Христа ради" и тем самым снискавшим себе "спасение" и "память"), то рассказы (так называемой "редакции отца Андрея" и Пространной проложной редакции) посвящены более широкой теме отказа от "славы света сего", гибели "за православную веру" во имя избавления всех православных христиан от "прельщения поганых"»[448].
Так история людей превращается в историю церкви. Пред лицом вечности земные мотивы утрачивают смыслы. Пожалуй, церковная маска — самая непрозрачная маска. Агиографическое описание события герметично замкнуто, не подлежит анализу и критике и ни при каких условиях не переводимо в реальность. В церковном обрамлении, в рамках жития трагедия князя выглядит мученическим подвигом; если же эту церковную легенду изложить как историю человека, то она предстанет во всей своей удручающей бессмысленности.
Известно еще одно историческое свидетельство о требовании монголов к знатному чужестранцу поклониться, по обычаю, их «царю». Киракос Гандзакеци вместе со своим учителем Ванаканом оказался в плену у монголов. Монголы ошибочно приняли вардапета Ванакана за одного из светских властителей Армении, поэтому, когда священники «приблизились к военачальнику, проводники их приказали им трижды поклониться, встав на колена, подобно верблюдам, преклонившим колена, ибо таков был их обычай. И когда они предстали перед ним, тот приказал поклониться на восток хакану, царю их» (Киракос Гандзакеци. 24).
Доминиканская миссия 1246 г., согласно донесению Симона де Сент-Квентина, отвергла официальную формулу культа Чингис-хана, устроив с монголами религиозный диспут о «сыне Бога». Доминиканцам следовало доложить нойону Байджу о своей миссии, стоя на коленях. Требование монголов заключалось в следующем:
«Если вы хотите лицезреть нашего господина и представить ему послание вашего господина, то нужно, чтобы вы ему поклонились как сыну Бога, царящему на земле, прежде перед ним трижды преклонив колено. Ибо приказал нам хан, царящий на земле, сын Бога, дабы мы сделали так, чтобы поставленные им предводители, нойон Байот и Баты, были почитаемы всеми сюда прибывающими так же, как если бы то был он сам. Так мы и делали вплоть до сих пор и обещаем это всегда твердо соблюдать».
Тогда тем из братьев, кто сомневался и сокрушался между собой о том, не будет ли поклонение, оказанное нойону Байоту, означать идолопоклонство или что-нибудь иное, отвечал брат Гвихард Кремонский, знакомый с нравами и обычаями тартар по рассказам, слышанным им от грузин, среди которых он даже прожил в их городе Тифлис, в доме собратьев по ордену, в течение семи лет; так вот он, возражая, ответил: «Бояться следует не того, чтобы перед нойоном Байотом совершить идолопоклонство, ибо не этого он для себя хочет добиться от вас, но бойтесь выказать такое, как вы слышали, вошедшее в обычай у всех прибывающих к нему послов почитание, которое будет сочтено знаком покорности господина Папы и всей Римской церкви, которая по приказу хана должна быть покорена».
Вследствие этого все братья, поразмыслив над такого рода притязанием, порешили единодушно, чем как бы в знак благоговения преклонить колени перед нойоном Байотом, лучше уж им быть обезглавленными, — как для поддержания чести Вселенской церкви, так и для того, чтобы не ввести во искушение грузин и армян, греков, а также персов, и турок, и все народы Востока, а именно, чтобы о выказанном такого рода почитании как будто о знаке покорности, а также дани, которая когда-либо должна быть выплачена христианами тартарам, не расславили по странам Востока все враги церкви как о поводе и предмете своей гордости, и чтобы христиане, завоеванные и покоренные ими, не потеряли совершенно надежду на свое освобождение, которое когда-нибудь придет от Господа через Римскую церковь. И чтобы не могли и мыслить, видя изъявление покорности нойону Байоту со стороны верных Христу, будто бы священная Церковь может когда-либо обречь себя на позор или запятнать себя изменой постоянству и страхом перед смертью (Simon de Saint-Quentin. XXXII. 42). ч
Участник миссии, брат Гвихард Кремонский, ясно высказал мысль, что монгольский церемониальный жест — преклонение на оба колена — есть знак покорности и повиновения монгольскому правителю как божеству. Интересно, что проблема «несовпадения смыслов» жестов, принятых в разных культурах, осознавалась теми людьми XIII столетия, чей жизненный опыт включал знакомство с чужими традициями. Так, Гвихард Кремонский, знакомый с обычаями монголов, смог правильно поставить эту проблему перед другими участниками посольства: следует опасаться не самого языческого жеста преклонения, куда важнее другие последствия — исполнение требований церемонии могло быть «сочтено знаком покорности господина Папы и всей Римской церкви». В конце концов, дипломатический конфликт был улажен, хотя послы так и не преклонили колен перед нойоном. Спустя 50 лет после этих событий Марко Поло без тени смущения пишет о том, что перед великим ханом Хубилаем «все преклоняются челом до земли» как перед Богом: «Возьмет великий хан чарку в руки, все князья и все, кто там, становятся на колени и низко кланяются. <…> славословят и молятся великому хану, как богу» (Марко Поло, с. 111, ИЗ). Как показывает опыт Марко Поло, компромисс был достижим, поскольку монгольский император, действительно был божеством, но не в христианском смысле этого слова[449].
О «статуе» Чингис-хана не говорят ни монгольские, ни китайские средневековые источники. Ее не упоминают ни Марко Поло, ни армянский царь Хетум, побывавший при дворе Менгу-хана в 1254 г. В то же время брат Вильгельм де Рубрук, возвращавшийся вместе с Хетумом из Монголии, сообщает о главе прорицателей, под чьей охраной находились повозки с идолами. Согласно брату Вильгельму, в обязанности монгольских прорицателей входило двигаться во время перекочевок впереди двора того или иного чингизида («прорицатели предшествуют им, как облачный столб сынам Израиля», Itinerarium. XXVII). Красочная метафора возвращает нас к теме «мобильных» святилищ империи. Видимо, христианские миссионеры, в отличие от других дипломатов, были более чувствительны к такого рода явлениям.
В заключение приведу несколько примеров типологического характера. У киданей, чье влияние на монголов в других областях было несомненным, изготавливалась из золота объемная фигура умершего правителя: «Когда правитель умирает, устанавливается большая юрта, а из золота отливается его изображение, перед которым в дни новолуния и полнолуния, в дни праздников и в дни кончины императоров и императриц приносятся жертвы. Для этого сооружается возвышение высотой более одного чжана, на котором в тазах сжигаются вино и пища. Это называется сожжением пищи» (Е Лун-ли, с. 315). Согласно сведениям францисканцев, статуе Чингис-хана также приносились напитки и пища. В рассказе о наследнике Хубилай-хана, его сыне Тимур-каане, Рашид-ад-дин сообщает следующую историю, в которой фигурируют изображения Чингис-хана и других его предков: «Своему старшему брату Камале он выдал полную долю из унаследованного от отца имущества, послал его в Каракорум, в пределах которого находятся юрты и станы Чингис-хана, и подчинил ему войска той страны. Областями Каракорум… Онон, Керулен, Кем-Кемджиют, Селенга, Баялык, до границ киргизов и великого заповедника Чингисхана, называемого Бурхан-Халдун, всеми он ведает и он охраняет великие станы Чингис-хана, которые по-прежнему находятся там. Их там всего девять: четыре больших стана и [еще] пять. И никому туда нет пути, так как вблизи находится заповедник. Он сделал их [покойных предков] изображения, там жгут постоянно фимиам и благовония» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 207). Таким образом, можно предположить, что «мобильное» святилище Чингис-хана к началу XIV в. утратило свою актуальность и естественным образом обрело форму закрытого культа.
Исследуя иконографию объекта почитания в культе Чингис-хана по более поздним материалам, Т. Д. Скрынникова пишет о трех видах образов: антропоморфном, орнитоморфном и знамени[450]. Антропоморфный облик присущ божеству Сулдэ-тенгри; божество излучало свет и было украшено прочным шлемом, а на его тело был надет драгоценный золотой панцирь. Не исключено, что эта культовая фигура имеет глубинную связь с золотой статуей Чингис-хана.
Обратимся также к любопытным сведениям английского дипломата Джильса Флетчера о крымских татарах (1591 г.): «У них есть изображение их государя или Великого [хана], в огромном размере, которое они выставляют в походах на каждой стоянке и перед которым должен преклоняться каждый, мимо него проходящий, будь он [татарин] или иностранец» (Флетчер, с. 79) Эти сведения не находят подтверждения в других источниках XVI в. и, скорее всего, свидетельствуют о начитанности английского посланника, заимствовавшего эпизод об изображении хана из «Книги о Тартарах» брата Иоанна. Сочинение брата Иоанна было широко известно в Западной Европе, благодаря тому, что оно почти целиком вошло в историческую энциклопедию «Зерцало истории» Винцента из Бове (1265 г.), которая печаталась много раз с конца XV в. С. М. Середонин, указавший на ряд источников Флетчера, подтверждающих литературные интересы последнего[451], на пассаж об изображении хана внимания не обратил.
Фазлаллах ибн Рузбихан, объясняя причины войны Шейбани-хана (1509 г.) с казахами, указывает на отказ казахов от ранее принятого ими ислама и приводит какие-то неясные сведения о поклонении кочевников идолу: «Как рассказывали надежные люди, среди них существует изображение идола, которому они земно кланяются. Нет сомнения, что земные поклоны идолу — есть деяние, суть которого — язычество, ибо это есть настоящее глумление над верой и божественным законом» (Фазлаллах ибн Рузбихан. XXV). Поскольку целью факихов-ханифитов было представить казахов вероотступниками для оправдания войны с ними, то возможно, что «поклоны идолу» — всего лишь литературная формула. Признать идола онгоном мешает то обстоятельство, что перед онгонами не совершали земных поклонов.
Завершая тему «мобильного святилища», связанного с культом Чингис-хана, приведем важные наблюдения К. В. Вяткиной, полученные ею в одной из экспедиций по Монголии. Вот ее свидетельство о встрече у узумчин двухколесной телеги, на которой помещалась небольшая войлочная юрточка, не круглой, а квадратной формы, завершающаяся золотым шаром. «Это была племенная "святыня", где, по разъяснению ее хранителя старика-узумчина, находились остатки предметов, принадлежавших будто бы Чингису. При беглом ознакомлении с предметами, хранящимися в юрточке, мы могли заметить отдельные куски тканей, части знамен, в том числе и маньчжурского, отдельные предметы буддийского культа. Относилась ли часть предметов действительно к XIII веку, мы не можем судить, так как предметы показывались на одно мгновение, считалось вообще кощунством кому-либо их показывать и подходить на близкое расстояние к юрточке. "Святыня" в течение 30 поколений хранилась родом "бурят", и характерно, что она находилась не в руках лам, а родовых представителей. В 1945 г. узумчины пришли в МНР из Северного Китая (Внутренней Монголии) всем племенем, впереди которого везли и эту юрточку. Мы можем здесь констатировать древнюю традицию — установку кибитки (в данном случае уже как святыни) на двухколесной телеге. Завершение ее шаром, возможно, отражает тип древних монгольских юрт, которые имели наверху шейку»[452].
Глава 3.
Казнь князя Романа Рязанского
Рассказ о казни в Орде князя Романа Рязанского приводится в русских летописях под 1270 г. Рассказ сохранился в двух редакциях: краткой и пространной. В пространной редакции драма князя представлена как мученичество за веру, и потому представляет интерес только для истории культуры. Мы же обратимся к краткой версии.
«Того же лета (6778) убиен бысть князь Роман Олговичь резаньскыи от поганых татар. И бысть сице убиение его: ибо заткоша уста его убрусом и начата резати его по ставом и метати разно, и яко и розоимаша, и остася труп един. Они же одраша главу ему и на копие възоткнуша. Сеи новый мученик есть подобен страстью Иякову Перьскому. <…> Убиен же бысть месяця июля в 19 день»[453].
Как видим, казнь была изощренной.
Сюжет о казни князя стал предметом исследования П. О Рыкина[454]. Его интересуют два вопроса: о причинах казни и о характере казни с позиции монголов. В поисках причин казни П. О. Рыкин для анализа реального события принимает за исходный материал церковную мотивировку XVI в. Согласно пространной редакции, князя наказывают за хулу на «великого царя» и поношение «поганой татарской веры», и за отказ перейти в «веру бесерменскую». Первые два пункта обвинений рассматриваются П. О. Рыкиным, вслед за историком церкви Е. Е. Голубинским{122}, как стоящие доверия. На мой взгляд, рассматривать поздний литературный сюжет как исторический, оснований нет. К тому же совершенно неясно, что следует понимать под «татарской верой», ибо ничего сходного с религиозной доктриной христианства или ислама у монголов не было.
В той же стилистике, в какой описан случай с князем Романом, излагается драма ишхана Гасан Джалала[455]. В свое время ишхан Джалал покорился монголам, они же «воздав ему почести, вернули ему его владения и даже добавили кое-что, затем приказали ему выходить год за годом вслед за ними на войну и спокойно жить под их властью» (Киракос Гандзакеци. 30). Соучастие в монгольских военных акциях — первейшее условие для чужеземных правителей, включенных в имперскую систему власти. При монгольском дворе Джалал выполнял посреднические функции. Монголы казнили князя Джалала с особой жестокостью, однако армянские источники скрывают истинную причину казни. Для анализа у нас есть только легендарный рассказ в жанре жития святого. Как известно, житийное повествование игнорирует реальность. Драма разворачивается как столкновение христианского благочестия с мусульманским нечестием. По словам Киракоса, монгольский наместник Аргун, собрав войско, пытался захватить царя Давида, но пленил других князей и грузинскую царицу Гонцу. «А благочестивого и добродетельного ишхана Джалала он мучил неимоверными пытками, требуя у него податей свыше всяких возможностей. На шею ему продели деревянную колодку, а ноги заковали в железо. И делал он это из-за чрезмерного христианского усердия его (Джалала), поскольку все мусульмане ненавидели его и подговаривали Аргуна убить его, твердя: "Он — самый главный враг нашей религии и веры". Ибо Аргун тоже был мусульманской веры. Он взял с собой [Джалала] в Казвин. А тот с благодарностью на устах переносил все, ибо прекрасно знал божественные книги, придерживался поста, постоянно молился, был воздержан в пище и питье и жаждал мученической смерти. Дочь же Джалала по имени Рузукан, которая стала женою Бора-нойона, сына Чармагуна, первого начальника татар, пошла к жене Хулагу Тохуз-хатун, дабы выручить отца своего из рук Аргуна. И нечестивый правитель, узнав об этом, быстро послал палачей и приказал убить ночью святого и праведного мужа сего. И нечестивые палачи растерзали его, подобно святому мученику Иакову{123}, на куски, предали его тем же мукам; и да сподобится он его же венца у Бога нашего Христа. Так скончался святой и набожный человек тот, завершив свой жизненный путь и сохранив веру, в 701 (1261) году армянского летосчисления» (Киракос Гандзакеци. 63). Киракосу вторит историк Вардан: «Князь князей царственный Джалал, ложно оклеветанный таджиками и выданный Аргуну, после жестоких истязаний сделался соучастником Христа и его мучеников. Его увезли в Тачкастан, в город Хазвин, и там темною ночью предали смерти, разсекши предварительно члены его по суставам. Причиною его гибели была его христианская вера…» (Вардан Аревелци, с. 15). Если Джалала ложно оклеветали, то причина гибели должна быть иной, поскольку князь не скрывал свою веру. Наместники не обладали правом казнить высокопоставленных подозреваемых, не поставив в известность ильхана. Житийный текст не дает ни малейшего шанса выяснить суть дела. Парадокс в том, что армянские историки знали, что монголы не преследуют за вероисповедание. Однако жанр жития существует по своим законам. Герой рассказа, презрев земные дела, обретает высшую истину. Киракос и Вардан пишут о том, что ишхан Джалал жаждал мученической смерти. Далее выясняется, что козни строили мусульмане, монголов же интересовали только подати. Напомню, за неуплату податей смертью не карали.
Приведя четыре примера казни расчленением[456], П. О. Рыкин пишет: «Джамука (по Рашид-ад-дину) и Александр Тверской были признаны виновными в мятеже против законной власти дома Чингис-хана; Закарэ, сын Шахиншаха, — в поддержке мятежников; князь Джалал нарушил монгольский принцип веротерпимости; князь Роман Рязанский совершил оскорбление власти и религии. Сходство этих преступлений заключалось в том, что они представляли угрозу политическому или религиозному порядку, который монголы стремились установить на завоеванных территориях». Казни расчленением имели место в юридической практике монгольских дворов, и перечень таких казней можно существенно дополнить. Что же касается мотивировки таких казней, то она не выдерживает критики. За оскорбительный выпад в адрес хана обидчику набивали рот камнями или землей и таким образом умерщвляли его. Так, например, был наказан Куркуз, управитель Хорасана, за заносчивые слова, оскорбительные для Чагатая (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 48). За притеснение иноверцев кровавая казнь не полагалась. Казнили через расчленение только за измену. И эту тему мы обсудим ниже.
Проведенный П. О. Рыкиным анализ характера казни заслуживает большего внимания. «Кроме юридического, казнь через расчленение имела ярко выраженный символический подтекст, который, по нашему мнению, также соотносился с монгольскими представлениями о жизненной силе sülde. Вместилищем sülde могла быть не только голова, но и все тело в целом; точнее, нужно говорить о костяке, скелете человека и животного. Согласно Г. Р. Галдановой, у бурят "сакральность костяка была обусловлена представлением о воплощении в нем сулдэ после смерти человека"[457]. Это представление широко известно и другим монгольским народам, у которых, правда, оно встречается с некоторыми вариациями. Так, халкасы верили в существование т. н. "души костей" (yasun-u sünesün) и "души плоти" (migan-u sünesün), которые оберегают местопребывание sülde (тело человека или животного) вплоть до смерти его обладателя и полного разложения трупа. <…> Учитывая сказанное, получает объяснение чрезвычайно уважительное отношение к костным останкам живых существ, которое было присуще традиционной монгольской культуре. В частности, монголы старались не нарушать целостности костяков жертвенных животных, ибо считали ее необходимой для того, чтобы обеспечить последующее возрождение животного[458]. "По поверьям, кости имели силу воскрешать из мертвых, но только в том случае, если кости человека или животного не были разрушены; в противном случае сила пропадает"[459]. Напротив, разрушение костей производилось тогда, когда требовалось уничтожить опасного врага и лишить его жизненной энергии, которая могла бы привести к его возрождению. Можно полагать, что именно эта идея определяла символическую основу казни через расчленение, неизбежным результатом которой было нарушение сакральной целостности скелета. Монголы верили, что sülde пребывает одновременно в каждом органе и каждой части тела человека и животного; следовательно, с целью в коре исключить возможность регенерации (по принципу pars pro toto), нужно было полностью расчленить костяк вплоть до его мельчайших составляющих. Таким образом, вполне очевидно, что казнь князя Романа Рязанского являлась по сути своей ритуальным актом, смысл которого проясняется только из контекста традиционной культуры монголов. Назначение данного ритуала заключалось в том, чтобы с помощью расчленения обеспечить как физическую, так и (что важнее) символическую смерть нарушителя фундаментальных устоев бытия через уничтожение одушевлявшей его сакральной субстанции sülde»[460].
Если П. О. Рыкин объяснил мифологию казни, то мне осталось разъяснить социологию казни.
Монгольская империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. «Монголами» становились все, кто обрел свое место в новой иерархии власти. Оборотной стороной включения в элиту были казни. Сложной иерархии власти соответствовала иерархия казней. За измену казнили особо изощренным способом через расчленение. Судя по большинству источников, мотивация монгольских казней современниками событий не осознавалась. Чудовищная казнь нескольких русских князей в Орде была расценена как мученичество за веру. На деле же, речь идет о наказании «своих», нарушивших правила политической игры. Представители монгольской элиты расценивали измену государю как тяжкое преступление, поскольку заговорщик стремился к насильственному изменению сложившейся иерархии власти, будучи сам важной фигурой в иерархии. Казнь через. расчленение знаменовала «выход» из группы. Покинуть элитарное сообщество иным другим способом было невозможно. Преступник подлежал распылению, а его род уничтожению. Высокий статус сановника снимался путем утраты социальной и физической целостности. В известном смысле, расчленение было магическим актом, направленным на сохранение единства элиты путем изъятия из жизненного цикла вредоносного звена.
Если при исследовании казней русских князей в Орде, принимается во внимание только церковный дискурс и игнорируется имперский контекст, то с неизбежностью все сводится к обличению некой силы, чье лицо не проявлено. Исторически мыслящий исследователь должен сопоставить два мифа: церковный и имперский. Эти мифы конкурировали между собой, выстраивая особые реальности. Наша задача — обозначить это противостояние. Поскольку церковные летописцы скрывают истинные причины казней, подменяя историю агиографией, то первым делом следует доказать, что казнь через расчленение ждала тех, кто нарушив клятву хану, совершил измену.
Существует еще один дискурс — фольклорный. Наказание неверных жен и слуг четвертованием с помощью лошадей или разрубанием их тел на части, о чем повествуется в монгольском эпосе, является традиционным видом казни за такого рода оскорбления, принятым во всей Евразии и Китае, где, например, такой вид наказания за измену, как линг-чи, предусматривал расчленение тела заживо. В монгольском эпосе встречается упоминание о семидесяти ножах, используемых в этих целях. Интересно, что до конца XIX в. оруженосцы имели набор различных видов ножей для осуществления казни за такие проступки[461].
Далее мы рассмотрим два примера. Первый случай имел место в ильханате в правление Абаги (1265–1282), то есть по периоду совпадает с казнью князя Романа Рязанского при джучидском хане Менгу-Тимуре (1266–1281). В это время и в Ильханате и в Золотой Орде действовала Яса Чингис-хана, что исключает преследование за религиозные верования.
Ильхан Хулагу румские (сельджукские) владения пожаловал Му'ин-ад-дину Перванэ, тем самым наместник Рума вошел в высшую элиту ильханата. Вот ее представительный состав: Хулагу «пожаловал владения Ирак, Хорасан и Мазандеран до устья Джейхуна царевичу Абага-хану, который был его старшим и лучшим сыном. Арран и Азербайджан до [оборонительного] вала он передал Юшумуту. Диярраби'а до берегов Евфрата поручил эмиру Тудауну, Румские владения Му'ин-ад-дину Перванэ, Тебриз — мелику Садр-ад-дину, Керман — Туркан-хатун, а Фарс — эмиру Вангияну» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 61).
Наместник Рума искушал судьбу, когда, по сведениям Рашид-ад-дина, отправил своего сына в Сирию, побуждая правителя Египта к походу на Рум. Тайная переписка с мамлюками означала измену монголам, и в случае разоблачения грозила страшной смертью. В 1276 г. мамлюкский султан аз-Захир Рукн-ад-дин Байбарс ал-Бундукдари вторгся в Киликийскую Армению, разбил пограничное монгольское войско в Каппадокии и был торжественно возведен на сельджукский престол в Кайсарии. Байбарс пригласил на торжества Му'ин-ад-дина Перванэ, но тот приглашение не принял. Со стороны Байбарса это был демонстративный жест, поскольку все происходило на землях, подвластных монголам. Узнав о приближении монгольского войска во главе с ильханом Абага, Байбарс покинул Рум. Ситуация показала, что сельджуки Рума не собирались сражаться с единоверцами под знаменами монголов.
Происшествие не осталось без последствий. Абага приказал казнить часть туркмен, возбудивших смуту, и толпу румских сановников. Му'ин-ад-дина Перванэ монголы обвинили в измене. Казни предшествовал суд (йаргу). Дело было так. «Абага-хан препоручил Рум царевичу Конкуртай-огулу с полночисленным войском, чтобы он оборонял его от врагов и разрушил крепость Токат и замок Куганийю, который был жилищем Му'ин-ад-дина Перванэ. В году быка, соответствующем лету 676, он вернулся обратно в Аладаг. В страхе и ужасе в ставку приехал Перванэ. Эмиры сказали: "С него-де взыскивается за три вины: во-первых, он бежал от врага, во-вторых, он не донес тотчас же о приходе Бундукдара, в-третьих, не поспешил прибыть на служение к [Абага-хану]". В конце концов вышел указ, чтобы его взяли под стражу. Когда вернулись гонцы от Бундукдара, [они рассказали, что Бундукдар] говорил: "Я-де пришел по просьбе Перванэ, потому что он пообещал, когда я приду в Румское владение, он передаст [его] мне, а когда я туда пришел, он убежал". Когда донесли эти слова Абага-хану, он приказал, чтобы его казнили. Первого числа месяца раби'-ал-авваль 676 года (2.VIII.1277) на летнем становище в Аладаге он был умерщвлен рукою Кучюк-Тугчи» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 89).
Согласно грузинскому источнику, не обошлось без интриг: «Стали наговаривать на султана греческого Парвана, якобы по его совету произошло нашествие султана Фундукадара. Ввиду этого схватили Парвана и хотя Абага не желал умерщвления его, однако воины умертвили Парвана и присвоили все его имущество» (Хронограф, с. 113). Для дальнейшего расследования следует уточнить, что Му'ин-ад-дина Перванэ казнили как монгола (в политическом смысле). Наместник Рума входил в имперскую элиту, поэтому наказание отличалось особой изощренностью.
Подробности казни монгольского наместника Рума мы узнаем из книги армянского историка Гайтона. По мнению Гайтона, Перванэ был изменником и потому Абага приказал разрезать его на части. Также по распоряжению Абага некоторые части тела казненного ставились при каждом приеме пищи, и Абага и его сановники ели их. Таким способом царь Абага отомстил изменнику Перванэ{124}. На первый взгляд, сведения Гайтона о поедании останков преступника ильханом кажутся нелепостью, или, в лучшем случае, диковинным проявлением средневековой ментальности и, видимо, по этой причине не комментируются исследователями[462]. А зря. Для понимания сути произошедшего следует отказаться от буквального прочтения текста. Далее, обратим внимание на место казни, что укажет на исполнителей ритуала.
Суд и казнь происходят в Аладаге (область Гарни, севернее озера Ван), в летней ставке, возведенной еще ильханом Хулагу: «когда он прибыл в Аладаг, он одобрил те пастбища и назвал их Лабнасагут» (Рашид-ад-дин. Т. III. С. 49), т. е. «Обитель лам», а в 1261–1265 гг. построил здесь буддийский храм и монастырь. Иными словами, Аладаг был буддийским религиозным центром Ильханата[463]. В сообщении Киракоса Гандзакеци речь идет о монахах, поклонявшихся будде Шакьямуни и Майтрее (грядущий будда, Учитель Мира) в летней ставке Хулагу: «И еще построил [Хулагу] обиталища для огромных идолов, собрав там всяких мастеров: и по камню, и по дереву, и художников. Есть [у них] племя одно, называемое тоинами. Эти [тоины] — волхвы и колдуны, они своим колдовским искусством заставляют говорить лошадей и верблюдов, мертвых и войлочные изображения. Все они — жрецы, бреют волосы на голове и бороды, носят на груди желтые фелоны и поклоняются всему, а паче всего — Шакмонии и Мадрину. Они обманывали его (Хулагу), обещая ему бессмертие, и он жил, двигался и на коня садился под их диктовку, целиком отдав себя на их волю. И много раз на дню кланялся и целовал землю перед их вождем, питался [пищей], освященной в кумирнях[464], и возвеличивал его более всех остальных. И поэтому он собирался построить храм их идолов особенно великолепным» (Киракос Гандзакеци. 65).
С какой целью ильханы содержали при дворе буддийскую общину, приглашая монахов из Уйгурии, Китая и Тибета? Видимо, причины должны быть вескими. Во-первых, известно, что буддийские алхимики на средства ильханов занимались поиском эликсира долголетия. Так ситуацию понимали персы, которым были недоступны идеи качественного своеобразия разных уровней сознания и обусловленных ими метафизических реальностей. Другой сферой деятельности буддистов была поддержка, вернее, защита Дхармы — универсального закона бытия.
Переходя в область предположений, опишу сценарий религиозной мистерии, которая была воспринята Гайтоном как реальное поедание тела. После казни государственного преступника, буддийские ламы в масках божеств-защитников (драхмапала), «поглотили» расчлененное тело, что означало окончательное прекращение его существования во всех мирах. Цель мистерии — прервать возможность символического возрождения противников ильхана.
Аналогичные церемонии проходили и при дворе великого хана Хубилая. По словам Марко Поло, поедание казненных преступников практикуют буддийские ламы: «Знахари эти зовутся тибетцами и кашмирцами; то два народа идолопоклонников; заговоров и дьявольского колдовства знают они больше, нежели кто-либо; все их дела — дьявольское колдовство, а народ уверяют, что творят то с Божьей помощью и по своей святости. Есть у них вот какой обычай: когда кого присудят к смерти и по воле государя казнят, берут они то тело, варят его и едят, а кто умрет своею смертью, того никогда не едят» (Марко Поло, с. 96).
Сравнивая сведения Гайтона и Марко Поло, отметим совпадение двух ключевых моментов: 1) казнь важного преступника при дворе; 2) поедание тела. Любопытно, что в обоих случаях говорится о буквальном поедании тел. Очевидно, что этот ритуал является мистерией из арсенала тибетского буддизма. В «Сборнике летописей» Рашид-ад-дина, в той части, где излагается история монголов, нет упоминаний о буддийских ритуалах, но в общую историю включено всеобъемлющее описание буддизма, выполненное представителем этой религии Камала Шри[465]. Таковы дискурсы наших источников.
В 1253 г. Пагба-лама посвятил Хубилая в тантру Хеваджры — божества, особо чтимого школой Сакья. В качестве подношения за посвящение Хубилай назначил Пагба-ламу правителем всех тринадцати областей Тибета. С этого времени тибетские буддийские обряды становятся неотъемлемой частью государственного ритуала монголов[466]. Едва ли Хубилай вместе с двадцатью пятью монголами из своего окружения подробно изучили тантру и мандалу, т. е. символический мир Хеваджры. Для них это посвящение было получением дополнительной власти и силы, ибо посвященный имел право отождествлять себя с соответствующим божеством. В качестве покровителя династии было принято грозное божество Махакала из разряда божеств-хранителей Дхармы, которое проявляется в разных видах. Сохранились сведения, что Махакале приносились кровавые жертвоприношения. Скорее всего, ритуалы расчленения за измену были связаны с культом Махакалы.
«Чтобы еще больше укрепить связи между своей религиозной сектой и императором, Пагба-лама предложил ввести при дворе буддийские ритуалы. Ежегодные шествия и торжества, призванные уничтожать "злых духов" и охранять государство, проводились в пятнадцатый день второго месяца, а другие сходные обряды отправлялись в первый и шестой месяцы года. В глазах Пагба-ламы эти ритуалы должны были служить альтернативой конфуцианскому придворному церемониалу; в глазах Хубилая они дополняли, но не подменяли этот церемониал»[467].
Р. М. Шукуров полагает, что дело Му'ин-ад-дина Перванэ разбиралось в суде, «вершившимся по канонам обычного права монголов. Этот суд именовался йаргу, судили по нормам Ясы Чингис-хана, а также по нормам, письменно незафиксированным»[468]. В обычном праве монголов не могло быть казни за измену, потому что «обычный монгол» ни при каких условиях не мог совершить измену, это был удел высших аристократов. Дела по государственным изменам над наместниками появились, когда появился сам институт наместников, а это произошло не раньше, чем оформился тип империи, который Н. Ди Космо обозначил как империя прямого налогообложения[469].
Знаменитый вазир и историк Рашид-ад-дин, обладавший огромным влиянием при ильханах Газане и Улджэйту, был обвинен в измене и казнен. Дело было так. 16 декабря 1316 г. умер султан Улджэйту; на престол вступил его одиннадцатилетний сын Абу Са'ид. Регент, эмир Чобан, считался покровителем Рашид-ад-дина, но вазир Алишах привлек его на свою сторону; в начале октября 1317 г. семидесятилетний Рашид-ад-дин должен был выйти в отставку и удалился в Тебриз. Вскоре после этого Чобан обратился к Рашиду с просьбой вернуться к власти. Тогда Али-шах и его сторонники решили нанести своему врагу последний удар. Против Рашид-ад-дина было возбуждено обвинение в отравлении султана Улджэйту. Следствию удалось только доказать, что султан умер после приема сильного слабительного средства, данного ему по совету Рашида. По понятиям монголов, этого было вполне достаточно для осуждения врача на смерть. 17 июля 1318 года Рашид-ад-дин был предан казни; его разрубили пополам (Хафиз Абру, с. 79–80). Вместе с ним погиб один из его сыновей, кравчий султана, подававший лекарство. Огромное имущество казненного было взято в казну, построенный им в Тебризе квартал был разорен, учрежденные им вакуфы{125} — уничтожены. По рассказу Сака'и и Шебангараи, его труп разрубили на куски и разослали отдельные части трупа по различным областям; Сака'и прибавляет еще, что его голову носили по Тебризу, причем возглашали: «Вот голова еврея, исказившего слово божие, да проклянет его бог». Обвинители преследовали цель лишить казненного погребения[470].
Структурируя имперское пространство, монголы попытались разъединить политические и религиозные институты, однако нет уверенности, что этот план был адекватно воспринят местными элитами. Участие в праздничных курултаях мусульманских правоведов и шейхов, армянского и несторианского католикосов, патриарха якобитов, греческих и католических священников, а также правителей и наместников, символизировало начало эпохи имперской утопии. Религиозные лидеры являлись на курултай в традиционном облачении, а светские правители, будь то армянские или сельджукские князья, династы Фарса или Ширвана, для церемонии облачались в монгольский костюм. Полагать, что эта декоративная конструкция держалась только на насилии, означает недооценку ее глубинных оснований. Только тот, кто облачился в монгольский костюм, был интегрирован в имперские структуры (независимо от его вероисповедания). Спрашивается, на кого была рассчитана визуальная пропаганда монгольской идеологии? Адресатом были представители родовой знати, подчинившейся монголам, и обязанной подтверждать свой статус на ежегодных курултаях. По сценарию курултаи строились как визуальная демонстрация монгольской мощи. Непременное присутствие на этих торжествах чужеземной знати символизировало имперский космос.
Источники
Абу Дулаф — Вторая записка Абу Дулафа/Изд. текста, пер., введ. и коммент. П. Г. Булгакова и А. Б. Халидова. М., 1960. (Памятники литературы народов Востока. Тексты. Малая серия. V.)
Английские источники — Матузова В. И. Английские средневековые источники, IX–XIII вв.: Тексты; Перевод; Комментарий. М., 1979.
Ахмед ибн Фадлан — Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Статьи, переводы и комментарии. Харьков, 1956.
ал-Бируни. Минералогия — Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия)/Пер. с араб. А. М. Беленицкого. [Л.], 1963.
ал-Бируни. Хронология — Абу Рейхан Бируни (973–1048). Избранные произведения. Т. I: Памятники минувших поколений/Пер. с араб, и прим. А. М. Салье. Ташкент, 1957.
Вардан Аревелци — История монголов по армянским источникам/Пер. и объяснения К. П. Патканова. СПб., 1873. Вып. I. (Извлечения из трудов Вардана, Стефана Орбелиана и конетабля Смбата).
Георгий Пахимер — Георгия Пахимера история о Михаиле и Андронике Палеологах; XIII книг. СПб., 1862. Т. I: Царствование Михаила Палеолога, 1255–1282/ Пер. под ред. проф. Карпова. (Византийские историки, переведенные с греческого при СПб. Духовной Академии).
Григор Акнерци — История монголов инока Магакии, XIII в./Пер. и объясн. К. П. Патканова. СПб., 1871.
Джамал ал-Карши — Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-сурах/Введение, пер. с арабо-персидского, коммент., текст, факсимиле Ш. X. Вохидова, Б. Б. Аминова//История Казахстана в персидских источниках. Т. I. Алматы, 2005.
Джувайни — Чингис-хан. История завоевателя мира, записанная Ала ад-дином Ата-Меликом Джувайни/Пер. с англ. Е. Е. Харитоновой. М., 2004.
Е Лун-ли — Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи)/Пер. с кит., введ., коммент. и приложения В. С. Таскина. М., 1979. (Памятники письменности Востока. XXXV)
Жан де Жуанвиль — Жан де Жуанвиль. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика/Пер. со старофранц. Г. Ф. Цыбулько, под редакцией А. Ю. Карачинского, науч. ред. перевода Ю. П. Малинин. СПб., 2012.
Ибн Баттута — Путешествия Ибн Баттуты. Арабский мир и Центральная Азия/Пер. с араб., введение, историко-лингвистический коммент. Н. Ибрагимова, Т. Мухтарова. Ташкент, 1996.
Иоанн Хильдесхаймский — Иоанн Хильдесхаймский. Легенда о трех святых царях/Пер. с нем. А. Ярина. М., 1998.
История мар Ябалахи — История мар Ябалахи III и раббан Саумы/Пер., предисл. и коммент. Н. В. Пигулевской. М., 1958.
Киракос Гандзакеци — Киракос Гандзакеци. История Армении/Пер. с др.-арм., предисл. и коммент. Л. А. Ханларян. М., 1976.
Коран — Коран/Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М., 1986.
Марко Поло — Книга Марко Поло/Пер. старофр. текста И. П. Минаева; ред. и вступ. ст. И. П. Магидовича. М., 1956.
Мэн-да бэй-лу — Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»)/Факсимиле ксилографа; Пер. с кит., введ., коммент. и приложения Н. Ц. Мункуева. М., 1975. (Памятники письменности Востока. XXVI)
ан-Насави — Шихаб ад-дин Мухаммад ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурны)/Изд. критич. текста, пер. с араб., предисл., коммент., прим, и указатели 3. М. Буниятова. М., 1996.
Рашид-ад-дин — Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 2/Пер. с перс. О. И. Смирновой. Прим. Б. И. Панкратова и О. И. Смирновой. Ред. А. А. Семенова. М.; Л., 1952; Т. II/Пер. с перс. Ю. П. Верховского, прим. Ю. П. Верховского и Б. И. Панкратова, ред. И. П. Петрушевского. М.; Л., 1960; Т. III/Пер. с перс. А. К. Арендса под ред. А. А. Ромаскевича, Е. Э. Бертельса и А. Ю. Якубовского. М.; Л., 1946.
Роджер Бэкон. Большое сочинение — Роджер Бэкон. Избранное/Пер. с лат. М., 2005 (Францисканское наследие. Т. IV).
Руи Гонсалес де Клавихо — Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406)/Пер. со староиспан., предисл. и коммент. И. С. Мироковой. М., 1990.
Салимбене де Адам. Хроника — Салимбене де Адам. Хроника. М., 2004.
Сборник материалов. Т. I. — История Казахстана в арабских источниках. Т. I. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из арабских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном. Переработанное и дополненное издание. Алматы, 2005.
Сборник материалов. Т. II. — История Казахстана в арабских источниках. Т. IV. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персидских сочинений, собранные В. Г. Тизенгаузеном и обработанные А. А. Ромаскевичем и С. Л. Волиным. Дополненное и переработанное издание. Алматы, 2006.
Си ю цзи — Палладий [Кафаров П. И.]. Си ю цзи, или описание путешествия на Запад//Труды членов Российской духовной миссии в Пекине. СПб., 1866. Т. IV.
Сун Цзы-чжэнь — Мункуев Н. Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах: Надгробная надпись на могиле Елюй Чу-цая. Пер. и исследование. М., 1965.
Сюй Мэн-синь — Кычанов Е. И. Чжурчжэни в XI в. (Материалы для этнографического исследования)//Древняя Сибирь. Сб. ст. Вып. 2. Сибирский археологический сборник. Новосибирск, 1966. (Материалы по истории Сибири)
ТИМ — «Тайная история монголов» (Юаньчао биши). Шанхай, 1936.
Утемиш-хаджи — Утемиш-хаджи. Чингис-наме/Факсимиле, пер., транскрипция, текстол. примеч., исследование В. П. Юдина. Коммент. и указ. М. X. Абусеитовой. Алма-Ата, 1992.
Феофилакт Симокатта — Феофилакт Симокатта. История/Перевод Кондратьева. М., 1996.
Фазлаллах ибн Рузбихан — Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя)/Пер., предисл. и примеч. Р. П. Джалиловой, под ред. А. К. Арендса. М., 1976.
Флетчер — Флетчер Дж. О государстве русском. 1591 г./Под ред. князя Н. В. Голицына. СПб., 1911.
Фома Сплитский — Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита/Вступ. ст., пер. и коммент. О. А. Акимовой. М., 1997.
Хафиз Абру. Зайл-и Джами ат-таварих-и Рашиди — Хафиз Абру (Шахиб ад-Дин Абдаллах ибн Лутфаллах ал-Хавафи). Зайл-и Джами ат-таварих-и Рашиди («Дополнение к собранию историй Рашида»)/Пер. с персид., предисл., коммент., примеч. и указ. Э. Р. Талышханова. Казань, 2011.
Хронограф — Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века/Пер. со старо-грузин. Г. В. Цулая. М., 2005. Вып. 1. Текст.
Хэй-да ши-люе — «Краткие сведения о черных татарах» Пэн Да-я и Сюй-Тина/Публ. и коммент. Линь Кюн-и и Н. Ц. Мункуева//Проблемы востоковедения. М., 1960. № 5.
Чудеса мира — 'Аджа'иб ад-дунйа (чудеса мира)/Критический текст, пер. с перс., введение, коммент. и указ. Л. П. Смирновой. М., 1993. (Памятники письменности Востока. LXXXIII).
Чэн Цзю-фу — Дмитриев С. В. Самый влиятельный христианин Монгольской империи. Проблемы реконструкции биографии иноземца на монгольской службе//Общество и государство в Китае. XXXV науч. конф. М., 2005. (пер. с кит.: Чэн Цзю-фу. Стела на пути духа Верного и Мудрого Фу-линь вана).
Шильтбергер — Иоганн Шильтбергер. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год/Пер. со старонем. Ф. К. Бруна. Издание, редакция и прим. 3. М. Буниятова. Баку, 1984.
Юлиан. Послание о жизни тартар — Dörrie Н. Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen. Die Missionsreisen des fr. Julianus O.P. ins Uralgebiet (1234/5) und nach Rußland (1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren//Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philol.-Hist. Kl. Göttingen, 1956. Nr. 6. S. 125–202.
Hayton — Hayton. La Flor des estoires de la terre d'Orient/Flos historiarum terre Orientis//Recueil des Historiens des Croisades: documents armeniens. Paris, 1906. Vol. 2.
HT (Hystoria Tartarorum) — Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. «История Тартар» брата Ц. де Бридиа/Критический текст, перевод с латыни С. В. Аксенова и А. Г. Юрченко. Экспозиция, исследование и указатели А. Г. Юрченко. СПб., 2002.
Itinerarium — Sinica Franciscana, vol. I: Itinera et relationes Fratrum Minorum saeculi XIII et XIV. Collegit, ad fidem codicum redegit et adnotavit P. Anastasius Van Den Wyngaert O.F.M. Quaracchi — Firenze, 1929. P. 164–332.
LT (Liber Tartarorum) — Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli/Ed. critica del testo latino a cura di E. Menestö; trad, italiana a cura di M. C. Lungarotti e note di P. Daffinä; introduzione di L. Petech; studi storico-filologici di C. Leonardi, M. C. Lungarotti, E. Menestö. Spoleto, 1989.
Relatio Fr. Benedicti Poloni — Sinica Franciscana, vol. I: Itinera et relationes Fratrum Minorum saeculi XIII et XIV. Collegit, ad fidem codicum redegit et adnotavit P. Anastasius Van Den Wyngaert O.F.M. Quaracchi — Firenze, 1929. P. 135–143.
Ricoldus de Monte Crucis — Peregrinatores medii aevi quatuor. Burchardus de Monte Sion, Ricoldus de Monte Crucis, Odoricus de Foro Julii, Wilbrandus de Oldenborg/ Quorum duos nunc primum edidit duos ad fidem librorum manuscriptorum recensuit J. С. M. Laurent. Lipsiae, 1864.
Roger Becon — Roger Becon. Opus maius ad Clementem papam, ed. Johr Henry Bridges, 3 Bde., Oxford, 1897–1900. (repr. 1964)
Simon de Saint-Quentin — Simon de Saint-Quentin. Histoire des Tartares/Publiee par jL Richard. Paris, 1965.
Избранная библиография по теме «Мировые религии и власть в истории Улуса Джучи»
Абзалов Л. Ф. Ханские писцы. Из истории становления и развития канцелярской службы ханов Золотой Орды. Казань, 2011.
Аверьянов Ю. А. Сочетание суфийских, шиитских и шаманистских мотивов в учении и практике братства бекташи//Turcica et Ottomanica: Сборник статей в честь 70-летия М. С. Мейера. М., 2006.
Ажигали С. Е., Бекназаров Р. А. Мавзолей Западного Казахстана Абат-Байтак (XIV–XV вв.) — памятник периода Золотой Орды//Народы Урало-Поволжья: история, культура, этничность. Уфа, 2003.
Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Церковь св. Димитрия в Феодосии//Пам'ятки архiтектури i монументального мистецтва в свiтлi новых дослiджень. Тез. док. Киев, 1996.
Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Новые материалы по истории средневековой армянской колонии Каффы//Византийский Временник. М., 1997. Т. 57 (82).
Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Об атрибуции одной из средневековых церквей в Феодосии//Stratum plus. Кишинев, 2000. № 5.
Айбабина Е. А., Бочаров С. Г. Греческие православные церкви средневековой Каффы//Православные древности Таврики (Сборник материалов по церковной археологии). Киев, 2002.
Айвазовский Г. Остатки христианских древностей в Крыму//Сурб-Хач. Симферополь, 1997. № 1.
Акимова О. А. Политическая направленность рассказа Фомы Сплитского о татарском нашествии на королевство Венгрию//Вопросы истории славян: Социально-экономическое и политическое развитие зарубежных славянских народов в эпоху феодализма. Воронеж, 1985. Вып. 8.
Акимовский С. Ю. Захоронения в золотоордынских мавзолеях//Археология Урала и Поволжья: итоги и перспективы участия молодых исследователей в решении фундаментальных проблем ранней истории народов региона/Материалы XXXV Урало-Поволжской археолог, студенческой конф. Йошкар-Ола, 2003.
Акимовский С. Ю. Сравнительный анализ погребального обряда на могильниках Золотой Орды//Перекрёстки истории: Актуальные проблемы исторической науки: материалы Всерос. науч. конф., 22–23 апреля 2004 г. Астрахань, 2004.
Акишев К. А., Хасенова Б. М., Мотов Ю. А. К вопросу о монгольских погребениях XIII–XIV вв. (по материалам некрополя Бозок)//Бозок в панораме культур Евразии: Материалы международ. полевого семинара. Астана, 2008.
Акчокраклы О. А. Старокрымские и Отузские надписи XIII–XV вв.//Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь, 1927. Т. 1 (58).
Александрова Л. Мавзолей Тюрабек-ханым//Памятники Туркменистана. Ашхабад, 1967. № 4.
Алексеев А. К. Золотоордынские элементы в официальной истории аштарханидских государств Средней Азии. «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» Махмуда б. Вали (XVII в.)//Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры евразийских народов. М., 2003.
Алексеев А. К. Йаса и ислам: особая модель функционирования административно-правовых институтов ханств Мавераннахра//Рахмат-наме. Сборник статей в честь 70-летия Р. Р. Рахимова. СПб., 2008.
Алихова А. Е. Мавзолеи города Мохши-Наровчата//Советская археология. М., 1973. № 2.
Алишев С. X. Политика монголов по отношению к оседлым и кочевым народам//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Аляев М. В. Погребения золотоордынской эпохи в сырцовых оградках на территории Волгоградской области//Материалы XXX Урало-Поволжской археологической конференции молодых ученых. Самара, 1999.
Аляев М. В. К вопросу об особенностях погребального обряда городского населения среднего Подонья в золотоордынский период//Урало-Поволжская археология в работах студентов. Тез. докл. XXXII УПАСК. Волгоград, 2000.
Амелькин А. О. Значение Зосимы и Савватия Соловецких для формирования образа татар в русском общественном сознании//Россия. Север. Море: тез. докл. V Соловецкого форума. Архангельск, 1993.
Амелькин А. О. Влияние образа соседних народов на формирование европейской дипломатии (на примере отражения татаро-монгольского нашествия)//Социально-гуманитарные науки и практика государственного управления в России и за рубежом: материалы Всерос. науч. конф. Воронеж, 2000.
Амелькин А. О. Осмысление причин иноземного завоевания в общественном сознании православного населения в эпоху средневековья//Исторический вестник. М.; Воронеж, 2001. № 2–3 (13–14).
Амиров М. А. Распространение ислама в кочевой среде по данным погребального обряда (XIII–XV вв.)//Аспирант, или молодое поколение ученых о… Оренбург, 2007. № 2.
Андриенко С. Е. Христианство у кочевников Евразии: проблемы и возможные решения//Евразийство и Казахстан: Труды Евразийского науч. форума: «Гумилевские чтения»: В 2 т. Астана, 2003. Т. 1.
Аннинский С. А. Известия венгерских миссионеров XIII–XIV вв. о татарах и Восточной Европе//Исторический архив. М.; Л., 1940. Т. 3.
Антонин, архимандрит. Заметки XII–XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее (Судаку), приписанные на греческом синаксаре/^Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1863. Т. 5. С. 595–628.
Антонин, архимандрит. Древние акты Константинопольского патриархата, относящиеся к Новороссийскому краю//Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1867. Т. 6.
Аракин В. Д. Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка монгольского периода//Тюркизмы в восточнославянских языках. М., 1974.
Армарчук Е. А. Мавзолей Тюрабек-ханым в Старом Ургенче: форма, функция и возраст//Татарская археология. Казань, 2001. № 1–2 (8–9).
Армарчук Е. А., Сорокина И. А. Богатое средневековое погребение воина-всадника в Западном Закубанье//Средневековые древности евразийских степей. Воронеж, 2001. (Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 15).
Армяно-католические отношения и деятельность армян-католиков в Крыму по памятным записям XIV–XV веков/Сост., русский пер., предисл. и примеч. Т. Э. Саргсян//Историческое наследие Крыма. 2004. № 8.
Арсланова А. А. Обзор монографии Девина ДеВизе «Исламизация и исконная религия в Золотой Орде: Баба Тюклес и обращение в ислам в исторической и эпической традиции»//Гасырлар авазы = Эхо веков. Историко-документальный журнал. Казань, 2001. № 1/2.
Арсланова А. А. Причины войн Улуса Джучи с хулагуидским Ираном//Нижнее Поволжье и Исламская республика Иран. Исторические, культурные, политические и экономические связи. Саратов, 2004.
Арсланова А. А. Труд Фахр ад-Дина Бенакети в собрании Научной библиотеки Казанского государственного университета//Наследие Н. Ф. Катанова: история и культура тюркских народов Евразии: доклады и сообщ. международ. науч. семинара, 30 июня — 1 июля 2005 г. Казань, 2005.
Арсланова А. А. Минхадж ад-Дин Джузджани и его труд «Табакат-и Насири»//Материалы итоговой конференции Института истории им. Ш. Марджани АН РТ за 2006 год по отделу средневековой истории. Казань, 2008.
Артемьев В. И., Урманова А. М. Минареты Куня-Ургенча//Культурные ценности. Международный ежегодник 1997–1998. СПб., 1999.
Ахатов Г. А., Бермаганбетов А. Ж. Некоторые итоги археологических исследований некрополя Жошыхана//Известия Министерства образования и науки Республики Казахстан НАН РК. Серия общественных наук. № 1. 2002.
Аюрова Н. А. Религиозная ситуация в Великой Монгольской империи//Чингис-хан и судьбы народов Евразии. Улан-Удэ, 2003.
Бабаян Ф., Корхмазян Э. Армянские монастыри Сурб Хач и св. Степаноса близ города Старый Крым. Ереван, 2000.
Бабенко В. А., Белинский А. Б., Калмыков А. А. Археологическая характеристика и этническая атрибуция мусульманских кладбищ из курганных могильников Ипатово-3 и Барханчак-2//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IV. Антропология ногайцев. М., 2003.
Бадгаев Н. Б. Лексика, связанная с тенгрианством, в алтайских языках (на примере монгольского и чагатайского языков XIII–XIV вв.)//Единая Калмыкия в единой России: через века в будущее. Материалы между-нар. науч. конф., г. Элиста 13–18 сентября 2009 г.: в 2 ч. Элиста, 2009. Ч. 2.
Базаров Б. В. Чингис-хан и историко-культурные основы шаманизма//Чингис-хан и судьбы народов Евразии. Улан-Удэ, 2003.
Базаров Б. В., Ням-Осор Н. Из истории символики и атрибутики монгольской государственности//Этнографическое обозрение. М., 2003. № 2.
Базаров Б. Б., Николаев Э. А. Ислам в раннем монгольском государстве//Россия — Монголия: Самобытность и взаимовлияние культур в условиях глобализации. СПб., 2009.
Байбатыров Р. Р. Архитектурные особенности мавзолеев Золотой Орды//Археология Урала и Поволжья: итоги и перспективы участия молодых исследователей в решении фундаментальных проблем ранней истории народов региона./Материалы XXXV Урало-Поволжской археологической студенческой конф. Йошкар-Ола, 2003.
Байер Г.-В. Митрополии Херсона, Сугдеи, Готии и Зихии по данным просопографического лексикона времени Палеологов//Античная древность и средние века. Вып. 27. Византия и средневековый Крым. Симферополь, 1995.
Балдаев Д. Ф. Некоторые вопросы эволюции культа неба в Центральной Азии//Мункуевские чтения-2: Материалы международ. науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 2004. Ч. 1.
Бартольд В. В. К вопросу о Чингизидах-христианах//Сочинения. М., 1964. Т. II. Ч. 2.
Бартольд В. В. Мусульманские известия о Чингизидах-христианах//Сочинения. 1964. Т. II. Ч. 2.
Бартольд В. В. К вопросу о полумесяце как символе ислама//Сочинения. М., 1968. Т. VI.
Барфилд Т. Монгольская модель кочевой империи//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004.
Барфилд Т. Теневые империи: формирование империй на границе Китая и кочевников//Монгольская империя и кочевой мир: материалы между-народ. науч. конф. Улан-Удэ, 2008. Кн. 3.
Барфилд Т. Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. — 1757 г. н. э.)/Пер. с англ. Д. В. Рухлядева, В. Б. Кузнецова. СПб., 2009.
Башарин П. В. «Сакральные войны» в рамках мусульманской демонологии//Pax islamica. Мир ислама. 2009. № 2.
Бекназаров Р. А. Мавзолей Абат-Байтак — памятник XIV–XV вв.//SAN-АТ. Ташкент, 2001. № 4 (13).
Белозёров И. В. К вопросу о восприятии чужих религий монголами времен империи (XIII в.)//Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии: материалы международ. науч. конф. Улан-Удэ, 2000. Т. 2.
Белозёров И. В. Убийство князя Михаила Черниговского монголами в 1246 г. и монгольский языческий обряд при дворе хана Бату//Русское средневековье. 2000–2001. М., 2002.
Белозёров И. В. Налоговый иммунитет русского духовенства во время ордынского ига: известия летописей о переписи населения Северо-Восточной Руси в 1257 г.//Уваровские чтения-V. Муром, 14–16 мая 2002 г. Муром, 2003.
Белозёров И. В. Русские митрополиты и ханы Золотой Орды: система взаимоотношений//Вестник МГУ. Серия 8. История. М., 2003. № 3.
Бира Ш. Концепция верховной власти в историко-политической традиции монголов//Туухийн судлал (Исторические исследования). Улаанбаатар, 1976. Т. 10.
Бира Ш. Монгольская историография (XIII–XVII вв.). М., 1978.
Бира Ш. К итогам изучения закона «Их засаг» («Великая Яса») Чингис-хана за последний период//Бюллетень Международной ассоциации монголоведов. 1997. № 2 (20); 1998. № 1 (21).
Бира Ш. Концепция верховной власти в историко-политической традиции монголов//Монголоведные исследования. Улан-Удэ, 2000. Вып. 3.
Бисембаев А. А. Позднесредневековые погребения Урало-Илекского бассейна//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Уральск, 2002. Вып. 1.
Бисембаев А. А. К вопросу об исламизации средневекового населения Западного Казахстана (археологический аспект)//Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии: материалы международ. науч. конф., 25–27 мая 2006 г. Актобе, 2006. Ч. I.
Бичелдей П. К вопросу об истоках и этнокультурных взаимосвязях тэнгрианства в Центральной Азии и Саяно-Алтае//Государство, религия, церковь в России и за рубежом. М., 2010. № 2.
Блохин В. Г., Дьяченко А. Я, Скрипкин А. С. Средневековые рыцари Кубани Материалы и исследования по археологии Кавказа. Краснодар, 2003. Вып. 3.
Богданова Н. М. Церковь Херсона в X–XV вв.//Византия. Средиземноморье. Славянский мир: Сборник к XVIII Международ. конгрессу византинистов. М., 1991.
Богданова Ю. В. Политика джучидов на Центральном и Северо-Восточном Кавказе (вторая половина XIII — начало XV в.)//Материалы международной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-2007». М., 2007.
Богданова Ю. В. Хулагу-хан накануне войны с Золотой Ордой//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы IV Международ. конф., посвящ. памяти проф. МГУ Г. А. Федорова-Давыдова, 30 сентября — 3 октября 2008 г. Азов, 2009.
Бойл Дж. Э. Формы жертвоприношений лошади у монголов в XIII–XIV веках//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6. Золотоордынское время. Донецк, 2008.
Бойл Дж. Э. Тюркский и монгольский шаманизм в средневековье//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6. Золотоордынское время. Донецк, 2008.
Бокщанин А. А. Обязанности императора, его личные качества и личная жизнь в трактовке основателя династии Мин Чжу Юань-чжана//Общество и государство в Китае: XXXV науч. конф. М., 2005.
Большаков О. Г. Ислам и изобразительное искусство//Труды Государственного Эрмитажа. Т. X. Культура и искусство народов Востока. Л., 1969.
Боргольте М. «Европа — христианская страна»: Была ли религия миростороительницей средневековья?/Пер. Т. Е. Егоровой//Сравнительная история: методы, задачи, перспективы: сб. ст. М., 2003.
Боржонова-Бардуева Т. В. Гимны огня в культах монгольских народов//Тезисы и доклады международной научно-теоретической конференции «Банзаровские чтения-2», посвящ. 175-летию со дня рождения Д. Банзарова. Улан-Удэ, 1997.
Боровков А. К. Опыт филологического анализа тарханных ярлыков, выданных ханами Золотой Орды русским митрополитам//Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1966. Т. 25. Вып. 1.
Бороздин И. Н. Из отузской старины: надгробие шейха Якуба из Конии 729 года хиджры//Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь, 1927. Т. 1.
Босворпг К. Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии и генеалогии. М., 1971.
Боталов С. Г., Гарустович Г. Н., Яминов А. Ф. Новые материалы по мавзолеям Зауралья и Центрального Казахстана//Наследие веков: охрана и изучение памятников археологии в Башкортостане: сб. статей. Уфа, 1995. Вып. 1.
Бочаров С. Г. Монастыри Кампании Каффы/Взаимоотношения религиозных конфессий в многонациональном регионе: история и современность. Тез. докладов III Международ. конф. по религиоведению. Севастополь, 2001.
Бочаров С. Г. Храмы юго-восточного Крыма и вопрос о границах Солдайского консульства в XIV–XV вв.//VIII Донская международ. археологическая конференция. Тез. докл. Ростов-на-Дону, 2002.
Брун Ф. К. О дипломатических сношениях египетского султана Бейбарса с золотоордынским ханом Берке//Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1867. Т. VI.
Будовниц И. У. Идейная основа ранних народных сказаний о татарском иге/Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 169–175.
Будовниц И. У. Русское духовенство в первое столетие монголо-татарского ига/Вопросы истории религии и атеизма. Сборник статей. М., 1959. Вып. VII.
Будовниц И. У. Духовенство и татарское иго /Религия и церковь в истории России. М., 1975.
Валеева-Сулейманова Г. Ф. Искусство Золотой Орды как часть исламской цивилизации/Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 2.
Варденбург Ж. Мировые религии с точки зрения ислама /Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000.
Васильев Д. В. К вопросу о становлении ислама в Золотой Орде /Проблемы взаимодействия национальных культур. Сборник тез. регионал. науч. конф. «Межэтническое общение в полиэтничном регионе». Астрахань, 1995. Ч. 2.
Васильев Д. В. Некоторые причины исламизации Улуса Джучи//Тезисы межвузовской науч. конф. студентов и молодых ученых (к 25-летию исторического факультета АГПУ). 13 февраля 1998 г. Астрахань, 1998.
Васильев Д. В. О «веротерпимости» в Золотой Орде в годы становления государства//развитие и взаимодействие национальных культур как фактор стабильности межэтнических отношений в полиэтничном регионе. Астрхань, 2000.
Васильев Д. В. Утверждение ислама как государственной религии в Золотой Орде//Гуманитарные исследования. Астрахань, 2002. № 5.
Васильев Д. В. Мавзолеи Золотой Орды: географический обзор и опыт типологизации//Ученые записки Астраханского гос. университета. Материалы докладов итоговой науч. конф. Астрахань, 2003. № 2.
Васильев Д. В. К вопросу о роли суфизма в исламизации Золотой Орды//Гуманитарные исследования. Астрахань, 2003. № 6.
Васильев Д. В. О доисламских верованиях в Золотой Орде//Традиции живая нить (Сборник материалов по этнографии Астраханского края). Астрахань, 2003. Вып. 8.
Васильев Д. В. Религиозная ситуация в Золотой Орде на раннем этапе ее существования//Электронный университет как условие устойчивого развития региона. Международ. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых. Сб. материалов. Астрахань, 2005.
Васильев Д. В. Об истории и социальной роли ислама в Золотой Орде//Традиционная народная культура и этнические процессы в многонациональных регионах Юга России: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 8–9 июля 2006 г. Астрахань, 2006.
Васильев Д. В. Захоронения баранов на мусульманских некрополях золотоордынских городов//Проблемы археологии Нижнего Поволжья. II Международ. Нижневолжская археолог, конф., г. Волгоград, 12–15 ноября 2007 г. Волгоград, 2007.
Васильев Д. В. Ислам в Золотой Орде. Историко-археологическое исследование. Астрахань, 2007.
Васильев Д. В. Исламизация и погребальные обряды в Золотой Орде (археолого-статистическое исследование). Астрахань, 2009.
Вернадский Г. В. Золотая Орда, Египет и Византия в их взаимоотношениях в царствование Михаила Палеолога//Сб. статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием им. Н. П. Кондакова. «Seminarium Kondakovianum». Прага, 1927. I.
Вернадский Г. В. К вопросу о вероисповедании монгольских послов 1223 г.//Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый семинарием им. Н. П. Кондакова. Прага, 1929. III.
Вернадский Г. В. Два подвига св. Александра Невского//Черная легенда. М., 1994.
Вернадский Г. В. Монгольское иго в русской истории//Мир Льва Гумилева. «Арабески» истории. Вып. 3–4. Русский разлив. М., 1996. Т. 2.
Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь, М., 1997.
Веселовский Н. И. Заметки по истории Золотой Орды//Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Пг., 1916. Т. 21. Кн. 1:
Веселовский Н. И. О религии татар по русским летописям. (Опыт комментария летописных известий)//Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1916. № 7. Новая серия 64, отд. 2.
Веселовский И. И. Труды по истории Золотой Орды. Казань, 2010.
Веселовский С. Б. Переход митрополичьей кафедры из Киева в Москву//Религия и церковь в истории России. М., 1975.
Виноградов В. Б., Голованова С. А. О роли грузинского элемента в истории христианских храмов Верхнего Джулата (Дедякова)//Мацне. № 2. Тбилиси, 1982. Серия история, археология и история искусства.
Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. СПб., 2008.
Волков И. В. Золотая Орда и христианский мир (археологические свидетельства исторических событий)//Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 2001. № 4.
Волков И. В., Лопан О. В. Мечеть золотоордынского города Шакрака: некоторые наблюдения об истоках культовой архитектуры Золотой Орды//Форум «Идель — Алтай». Материалы науч.-практ. конф. «Идель — Алтай: истоки евразийской цивилизации», I Международ. конгресса средневековой археологии евразийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тез. докл. Казань, 2009.
Воронина В. Л. Ислам и изобразительное искусство//Народы Азии и Африки. М., 1965. № 5.
Галданова Г. Р. К проблеме монгольского шаманизма (ХII–ХIII вв.) (по материалам рукописных обрядников)//Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XXIV годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР (докл. и сообщ.). М., 1991. Ч. I.
Галданова Г. Р. К вопросу о верованиях ранних монголов//VI Международный конгресс монголоведов. (Улан-Батор, август 1992). Доклады российской делегации. М., 1992. Ч. 2.
Галданова Г. Р. Эволюция представлений о тэнгри (по текстам монголоязычных обрядников)//Средневековая культура Центральной Азии: письменные источники. Улан-Удэ, 1995.
Галеркина О. И. Элементы пантеизма в исламской миниатюре//Античность и античные традиции в искусстве и культуре народов Советского Союза. М., 1978.
Галеркина О. И. О некоторых проявлениях культурной общности народов «христианского» и «мусульманского» Востока//II Международный симпозиум по армянскому искусству. Ереван, 1978.
Галиахметова Г. Г. Религиозные традиции в Золотой Орде в первой половине XIV в.//Актуальные проблемы истории государственности татарского народа. Материалы науч. конф. Казань, 2000.
Галиахметова Г. Г. Суфизм в Золотой Орде//Суфизм в Поволжье: история и специфика. Казань, 2000.
Галиахметова Г. Г. О влиянии доисламских верований на распространение ислама в Поволжье (по книге Р. Фахрутдинова «Болгар вэ Казан торе-клере»)//Риза-эддин Фахреддин: наследие и современность. Материалы науч. конф. Казань, 16 ноября 1999 г. Казань, 2003.
Галиахметова Г. Г. Ислам в Золотой Орде: традиции религиозного опыта. Казань, 2007.
Галкин Л. Л. Символика джучидских монет//Проблемы советской археологии. М., 1978.
Галкин Л. Л. Некоторые новогодние монеты Золотой Орды//Советская археология. 1985. № 4.
Галкин Л. Л. Рождество Христово в Золотой Орде//Наука и религия. 1995. № 1.
Гальперин Ч. Дж. Идеология молчания: предвзятость и прагматизм на средневековой религиозной границе//Американская русистика: вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси: антология. Самара, 2001.
Гальперин Ч. Дж. Лакуны национальной памяти: российская историография Золотой Орды как политика «включения» и «исключения»//Ab Imperio. 2004. № 3.
Гаркавец А. Н. В. В. Бартольд о вероисповедании у кипчаков в Х–ХIII вв. и проблема этногенеза армяно-, греко-кыпчаков и караимов//Бартольдовские чтения. Тез. докл. и сообщ. М., 1974.
Гаркавец А. Н. Codex Cumanicus: Кыпчако-половецкие тексты XIII–XIV вв. Алматы, 2004.
Гаркавец А. Н. Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII–XIV вв. М., 2006.
Гарустович Г. Н. Распространение ислама в южноуральском регионе//Проблемы духовной культуры тюркских народов СССР. Уфа, 1991.
Гарустович Г. Н. Могильник Саролжин I (К вопросу об исламизации Джучиева Улуса)//Новое в средневековой археологии Евразии. Самара, 1993.
Гарустович Г. Н. Погребения в каменных мавзолеях Башкирского Приуралья//Наследие веков. Охрана и изучение памятников археологии в Башкортостане. Уфа, 1995. Вып. 1.
Гарустович Г. Н., Иванов В. А., Кригер В. А. Курганные могильники ранних мусульман Южного Приуралья и Западного Казахстана//Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. Воронеж, 1989.
Гарустович Г. Н., Валиуллин Г. Ф. К вопросу о культурных связях населения Южного Урала с Ираном в эпоху средневековья//Уфимский археологический вестник. Уфа, 2008. Вып. 8.
Гарустович Г. Н., Турецкий М. А. Новый тип мусульманских мавзолеев золотоордынского времени на Южном Урале//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международ. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября 2011 г. Казань; Астрахань, 2011.
Гарькавый И. В. «Измаильтяне» или «Нечистые человеки»? (Некоторые наблюдения над семантикой русских летописей)//Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы интерпретации. Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 4–6 февраля 1998. М., 1998.
Гильфанова Г. Р. Церковные произведения о преподобном Сергии Радонежском как источник по истории Золотой Орды//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Гияси Дж. А. Архитектурно-градостроительная деятельность ильханидов в Тебризской зоне и центральноазиатские традиции//Искусство и культура Монголии и Центральной Азии. Доклады и сообщения всесоюзной научной конференции. М., 1983. Ч. I.
Голден Я. Б. Религия кыпчаков средневековой Евразии//Степи Европы в эпоху Средневековья. Т. 6. Золотоордынское время. Сб. науч. работ. Донецк, 2008.
Голованова С. А. Русские нательные кресты XII–XV вв. в Предкавказье — источник связей с Восточной Европой//Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII–XVI веках. Ростов-на-Дону, 1989.
Голованова С. А., Нарожный Е. И. О находках крестообразных подвесок XIII–XIV вв.//Одиннадцатые чтения по археологии Средней Кубани. Краткое содержание докл. Армавир, 2004.
Голубинский Е. Е. Порабощение Руси монголами и отношения монгольских ханов к русской церкви или к вере русских и ее духовенству//Богословский вестник. 1893. № 7–8 (июнь-июль).
Голубинский Е. Е. История русской церкви: Период второй, Московский. Т. II.: От нашествия монголов до митрополита Макария включительно. Первая половина тома. М., 1900.
Гончаров Е. Ю. «Китайский след» в джучидской нумизматике//Труды Международной нумизматической конференции «Монеты и денежное обращение в монгольских государствах XIII–XV веков». Старый Крым 3–9 октября 2004 г. М., 2005.
Горелик М. В. Монгольский костюм XIII–XIV веков как имперское интегрирующее явление//«Восток: прошлое и будущее народов». IV Всесоюзная конференция востоковедов. Тез. док. и сообщений. Махачкала, 1–5 окт. 1991. М., 1991. Т. II.
Горелик М. В. Монгольская традиция в Ильханидской миниатюре Ирана//Altaic Religious Beliefs and Practices. PIAC. Budapest, 1992.
Горелик M. В. Искусство ислама и оружие империи Чингизидов//Международная юбилейная научная конференция, посвященная 200-летию музеев Московского Кремля. 13–15 марта 2005 г. Тез. докл. М., 2005.
Горелик М. В. Монголы между Европой и Азией//XXIV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Нальчик, 2006.
Горский А. А. Москва, Тверь и Орда в 1300–1339 годах//Вопросы истории. М., 1995. Ко 4.
Горский А. А. Политическая борьба на Руси в конце XIII века и отношения с Ордой//Отечественная история. М., 1996. № 3.
Горский А. А. О титуле «царь» в средневековой Руси (до середины XVI в.)//Одиссей: Человек в истории. 1996. М., 1996.
Горский А. А. Москва и Орда. М., 2000.
Горский А. А. Гибель Михаила Черниговского в контексте первых контактов русских князей с Ордой//Средневековая Русь. М., 2006. Вып. 6.
Григорьев А. П. Монгольская дипломатика XIII–XIV вв.: Чингизидские жалованные грамоты. Л., 1978.
Григорьев А. П. Обращение к ордынскому хану и его сановникам в посланиях венецианского дожа XIV в.//Вестник СПб. ун-та. 1992. Сер. 2. Вып. 4.
Григорьев А. П. Ярлык Бердибека от 1357 г. митрополиту Алексею (реконструкция содержания)/^Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. СПб., 1997. Вып. XVII.
Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедческий анализ золотоордынских документов. СПб., 2004.
Григорьев А. П., Григорьев В. П. Коллекция золотоордынских документов XIV века из Венеции. Источниковедческое исследование. СПб., 2002.
Григорьев А. П., Фролова О. Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии ал-Калкашанди//Тюркологический сборник 2001. Золотая Орда и ее наследие. М., 2002.
Грумм-Гржимайло Г. Е. Джучиды. Золотая Орда//«Арабески» истории. Кн. 1. Русский взгляд. М., 1994.
Губер Г., Фитце П. Персидско-монгольский художественный стиль как пример культурного влияния монгольских кочевников на оседлый народ//Роль кочевых народов в цивилизации Центральной Азии. Улан-Батор, 1974.
Гумилев Л. Н. Апокрифический диалог//Нева. Л., 1988. № 3.
Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
Гунтупов А. В. Роль религии древних тюрок и монголов в формировании идеологии//Проблемы этнокультурных связей монгольских и тюркских народов. Улан-Удэ, 2005.
Гусейнов И. Ш. К вопросу об исламизации Кумуха//Тезисы региональной научной конференции молодых ученых, посвященной гуманитарным исследованиям. Махачкала, 1995.
Давлетшин Г. М. Клятва, договор, шертвование у тюрко-татар//Проблемы истории и культуры Татарстана и народов Волго-Уральского региона и Евразии. Вып. 4: Историко-археологические исследования и музейно-краеведческая работа в Татарстане и Волго-Уральском регионе. Науч. сб. Казань, 2007.
Давлетшин Г. М. Мусульманское богословие в Золотой Орде (исторический аспект)//Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 2.
Даутова Р. А. Функции арабоязычных монет в средневековых погребальных комплексах вайнахов//Археология и вопросы атеизма. Грозный, 1979.
Деминцев М. С. Обитатели «Климата» BOPYXОENOYX и их нравы по данным Георгия Пахимера//Украина — Западная Сибирь: Диалог народов и культур: Материалы межрегион, науч.-практ. конф. Тюмень, 2004.
Деминцев М. С. Симбиоз руссов и монголов в представлении Георгия Пахимера//Проблемы социально-культурной адаптации мигрантов из стран СНГ в приграничных зонах Российской Федерации: Мат. международ. науч.-практ. конф. Тюмень, 2004. Ч. 1.
Джанов А. В. «Храм с аркадой» в Судаке: мечеть или храм католического монастыря?//Церковная археология Южной Руси. Симферополь, 2002.
Джанов А. В., Майко В. В., Фарбей А. М. Христианские храмы Сугдеи//Софiйськi читання. Сокральнi споруди у життi суспiльства: icтоpiя i сьогодення. Киев, 2004. Вып. 2.
Джанов А. В., Майко В. В., Фарбей А. М. Энколпионы средневековой Сугдеи//Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни. Севастополь, 2006.
Дмитриев С. В. Сульде: к проблеме истории формирования военно-политической терминологии средневековых кочевников Евразии//Mongolica. V. СПб., 2001.
Добролюбский Л. О., Гребенников Ю. С. Группа памятников кочевой знати первой половины XIV в. в Северо-Западном Причерноморье//Древности Юго-Запада СССР (I — середины II тысячелетия н. э.). Кишинев, 1991.
Доде 3. В. Символы легитимации принадлежности к империи в костюме кочевников Золотой Орды//Восток. 2005. № 4.
Доде 3. В. Бестиарий на «монгольских» шелках. Стиль и семантика дизайна//Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2007. № 2.
Доде 3. В. Кубачинские рельефы. Новый взгляд на древние камни. М., 2010.
Додхудоева Л. Символика золота в книжной культуре ислама: Индия и Средняя Азия XIV–XIX вв.//Ислам и проблемы межцивилизационных взаимодействий. М., 1994.
Додхудоева Л. «Общая память» тюрко-монгольских династий в визуальной культуре средневековья//Культурные ценности. Международный ежегодник. 2004–2006. Центральная Азия в прошлом и настоящем. СПб., 2008.
Додхудоева Л. Культ святых при Тимуридах: социально-политический аспект//Культурные ценности. Международный ежегодник. 2004–2006. Центральная Азия в прошлом и настоящем. СПб., 2008.
Доржиев Ж. Б. Великая Яса Чингис-хана как источник права (формально-юридический анализ)//Академический юридический журнал. 2004. № 4 (18).
Доспанов О. Т., Кдырниязов М.-Ш. Средневековый Хорезм и христианский мир (о связях городов Хорезма с европейскими странами в средние века)//Отзвуки Великого Хорезма. К 100-летию со дня рождения С. П. Толстова. Сб. статей. М., 2010.
Дробышев Ю. И. Похоронно-поминальная обрядность средневековых монголов и ее мировоззренческие основы//Этнографическое обозрение. М., 2005. № 1.
Дробышев Ю. И. Мандат Неба в руках монголов//Basileus: сб. статей, посвященный 60-летию Д. Д. Васильева. М., 2007.
Дробышев Ю. И. Буддизм и тэнгрианство: конфронтация или сотрудничество?//Материалы конференции «Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство» (Вторые Доржиевские чтения). СПб., 2008.
Евглевский А. В. Влияние ислама на половецкий погребальный обряд в золотоордынское время//Проблемы исследования памятников археологии Северского Донца. Тез. докл. областной науч.-практ. конф. Луганск, 1990.
Евтеев А. А. Монголы и половцы в столице Золотой Орды. Антропологический состав мусульманского населения Сарая-Бату//VI Конгресс этнографов и антропологов России. Санкт-Петербург, 29 июня — 2 июля 2005 г. Тезисы. СПб., 2005.
Егоров В. Л. Золотая Орда: мифы и реальность. М., 1990.
Женис Жомарт. Идеологическая борьба в империи Чингис-хана и ислам//Форум «Идель — Алтай». Материалы науч.-практ. конф. «Идель — Алтай: истоки евразийской цивилизации», I Международ. конгресса средневековой археологии евразийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тез. докл. Казань, 2009.
Зайцев И. В. Ислам и христианство в Нижнем Поволжье в XV–XVII вв. (от Астраханского ханства к Российской империи)//Сборник Русского исторического общества. № 7 (155). Россия и мусульманский мир. М., 2003.
Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–XIV вв.). М., 1966.
Земное искусство — небесная красота. Искусствб ислама/Каталог выставки в Государственном Эрмитаже. СПб., 2000.
Зибаев В. В. Христианская церковь и духовенство в Золотой Орде//От древности к Новому времени: (Проблемы истории и археологии). Уфа, 2005. Вып. 8.
Зиливинская Э. Д. Золотая Орда как архитектурная провинция ислама: мечети Среднего и Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Крыма//Аrcheologia Abrahamica. Исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, христианства и ислама. М., 2009.
Зиливинская Э. Д. К вопросу о формировании погребальных сооружений населения Нижнего Поволжья в золотоордынское время//Вестник МГУ. Серия 8. История. 2009. № 2.
Зиливинская Э. Д. Золотоордынские мавзолеи Северного Кавказа//Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2010. Вып. 3.
Зиливинская Э. Д. Очерки культового и гражданского зодчества Золотой Орды. Астрахань, 2011.
Зиливинская Э. Д. Основные тенденции развития культовой и гражданской архитектуры Золотой Орды//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международ. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября 2011 г. Казань; Астрахань, 2011.
Золотая Орда. История и культура. Автор концепции выставки М. Г. Крамаровский. СПб., 2005.
Иванов А. Н. К вопросу о причинах принятия ислама золотоордынским ханом Берке//Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 2.
Иванов В. А. Золотоордынские всадники степей Южного Приуралья//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2007. № 2.
Иванов В. А. Памятники кочевников Урало-Поволжских областей Улуса Джучи//Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 1/Гл. ред. И. М. Миргалеев. Казань, 2008.
Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003.
Измайлов И. Л. Улус Джучи (Золотая Орда): средневековая евразийская империя//Преподавание истории в школе. М., 2000. № 2.
Измайлов И. Л. Ислам в Золотой Орде//Ислам и мусульманская культура в Среднем Поволжье: история и современность. Очерки. Казань, 2001.
Измайлов И. Л. Ислам и язычество в Улусе Джучи: проблемы и дискуссии//Культурные традиции Евразии: вопросы средневековой истории и археологии. Серия «Восток — Запад: Диалог культур Евразии». Казань, 2004. Вып. 4.
Измайлов И. Л. Ислам и язычество в Улусе Джучи: проблемы историографии и источниковедения//Нижнее Поволжье и Исламская Республика Иран: исторические, культурные, политические и экономические связи. Саратов, 2004.
Измайлов И. Л., Усманов М. Ислам в Улусе Джучи//История татар с древнейших времен. В семи томах. Т. III. Улус Джуч (Золотая Орда). XIII — середина XV в. Казань, 2009.
Исламов Р. Ф. Мамлюкский Египет и Золотая Орда: культурные взаимоотношения и взаимовлияния//Казанское востоковедение. Традиции, современность, перспективы: Тез. и краткое содержание докладов междунар. науч. конф. Казань, 1997.
Кадырбаев А. Ш. Ислам и мусульмане в истории монголов XIII–XIV вв. (по материалам китайских династийных историй)//Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2. Улан-Удэ, 2005.
Кадырбаев А. Ш. Ренессанс ирано-арабской мусульманской культуры в Китае под властью монголов и этногенез хуэй и дунган в XIII–XIV веках//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака. Материалы международ. науч. конф., г. Алматы, 23–24 мая 2006 г. Алматы, 2007.
Кадырбаев А. Ш. «Во имя веры Христовой!» Христианские конфессии в Монголии и Китае в XIII–XIV вв.//Международный конгресс востоковедов: Труды. ICANAS XXXVII. М., 2007. Т. 2.
Кардини Ф. Европа и ислам. История непонимания. СПб., 2007.
Карпов С. П. Новые данные о православном приходе в Азове в XIV–XV вв.//Научно-богословские труды по проблемам православной миссии. Белгород, 1999.
Катанов Н. Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири//Ученые записки Казанского гос. университета. 1903. Кн. 12.
Качалова И. Я. Реликвии митрополита Петра (1308–1326)//Христианские реликвии в Московском Кремле. М., 2000. № 60–62.
Ким И. А. Золотоордынский мавзолей у д. Бахтияровка//Древности Волгодонских степей. Волгоград, 1993. Вып. 3.
Кляшторный С. Л., Султанов Т. И. Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье. СПб., 2000.
Кобищанов Ю. М. Место исламской цивилизации в этноконфессиональной структуре Северной Евразии — России//Общественные науки и современность. 1996. № 2.
Кобищанов Ю. М. Империя Джучидов//Очерки истории распространения исламской цивилизации. Т. 2. Эпоха великих мусульманских империй и Каирского Аббасидского халифата (середина XIII — середина XVI вв.). М., 2002.
Коновалов П. Б. Культ Мунхэ Тэнгри у средневековых монголов и его истоки//Чингисхан и судьбы народов Евразии. Улан-Удэ, 2003.
Коновалова И. Г. Восточная Европа в сочинениях арабских географов XIII–XIV вв. М., 2009.
Кораев Т. К. Золотая Орда и мамлюкский Египет в XIII–XIV вв.//Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры евразийских народов: материалы международ. науч.-практ. конф., 10–11 апреля 2003 г. М., 2003.
Кораев Т. К. Христианские общины в государстве Хулагуидов (середина XIII — начало XIV в.)//Ломоносовские чтения. 2004. М., 2004.
Кораев Т. К. Христианские общины Ближнего Востока во внутренней политике хулагуидских ильханов XIII в. (по монофизитским и несторианским источникам)//Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение. 2004. № 4.
Кораев Т. К. Мусульманско-христианские отношения в Египте и Сирии эпохи монголо-мамлюкских войн (вторая половина XIII — первая половина XIV в.)//Вестник МГУ. Серия 13. Востоковедение. М., 2005. № 4.
Кораев Т. К. Социально-политические функции вазирата в государстве Хулагуидов второй половины XIII — начала XIV в.//Meyeriana. Сборник статей, посвященный 70-летию М. С. Мейера. М., 2006. Т. I.
Костюков В. П. Новые данные о религии и верованиях населения Южного Зауралья в первой половине II тыс. н. э.//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Уральск, 2003. Вып. 2.
Костюков В. П. Историзм в легенде об обращении Узбека в ислам//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Костюков В. П. Буддизм в культуре Золотой Орды//Тюркологический сборник 2007–2008: История и культура тюркских народов России и сопредельных стран. М., 2009.
Котеньков С. А., Котенькова О. Ю. Религиозная толерантность в Золотой Орде//Россия и Восток: проблема толерантности в диалоге цивилизаций: материалы IV Международ. науч. конф., 3–6 мая 2007 г. Астрахань, 2007.
Котеньков С. А., Котенькова О. Ю. Языческие элементы в погребальных обрядах золотоордынских некрополей Красноярского городища в Астраханской области//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы IV Международ. конф., посвящ. памяти проф. МГУ Г. А. Федорова-Давыдова, 30 сентября — 3 октября 2008 г. Азов, 2009.
Котеньков С. А., Котенькова О. Ю. К вопросу о становлении ислама в Золотой Орде (на примере погребального обряда золотоордынских некрополей Красноярского городища — грунтовых могильников «Маячный–I и II» в Астраханской области)//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международ. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября 2011 г. Казань; Астрахань, 2011.
Котрелев Н. В. Восток в записках европейского путешественника («Миллион»)//Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974.
Кравец В. В. Поясные наборы золотоордынских кочевников Среднего Подонья//Археологические памятники бассейна Дона. Воронеж, 2004.
Кравец В. В. Кочевники Среднего Дона в эпоху Золотой Орды. Воронеж, 2005.
Кравец В. В., Березуцкий В. Д., Бойков А. А. Погребения кочевой знати золотоордынского времени в курганной группе «Высокая Гора» на юге Воронежской области//Донская археология. Ростов-на-Дону, 2000. № 3–4.
Кравченко Э. Е., Гусев О. А., Давыденко В. В. Ранние мусульмане в среднем течении Северского Донца (по археологическим источникам)//Археологический альманах. Донецк, 1998. № 7.
Крадин Н. Н. Символика традиционной власти//Обычай. Символ. Власть: к 75-летию со дня рождения И. Е. Синицыной. М., 2010.
Крамаровский М. Г. Новые находки золотоордынского серебра из Приобья. Северокитайские и исламские черты в торевтике XIII–XIV вв.//Восточный художественный металл из Среднего Приобья. Новые находки. Каталог временной выставки. К 70-летию отдела Востока Гос. Эрмитажа. Л., 1991.
Крамаровский М. Г. Драконоборец из Маджар//Эрмитажные чтения 1986–1994 годов памяти В. Г. Луконина. СПб., 1995.
Крамаровский М. Г. Печать конца XIII–XIV в. с исламским вариантом христианской легенды об отроках из Эфеса//Татарская археология. 1999. № 1–2.
Крамаровский М. Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. СПб., 2001.
Крамаровский М. Г. Символы власти у ранних монголов. Золотоордынские пайцзы как феномен официальной культуры//Тюркологический сборник 2001. Золотая Орда и ее наследие. М., 2002.
Крамаровский М. Г. Золотая Орда как цивилизация//Золотая Орда. История и культура. Каталог выставки. СПб., 2005.
Крамаровский М. Г. Джучиды (1207–1502): три этапа самоидентификации//Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. СПб., 2008.
Крамаровский М. Г. Улус Джучи (1207–1502). Заметки о культуре Дешт-и Кыпчак в эпоху Чингисидов//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6. Золотоордынское время. Донецк, 2008. (Труды по археологии)
Крамаровский М. Г. Религиозные общины в истории и культуре Солхата XIII–XIV вв.//Archeologia Abrahamica. Исследования в области археологии и художественной традиции иудаизма, христианства и ислама. М., 2009.
Крамаровский М. Г. Человек средневековой улицы. Золотая Орда. Византия. Италия. СПб., 2012.
Красносельцев Н. Западные миссии против татар-язычников и особенно против татар-мухаммедан. Казань, 1872.
Кривошеев Ю. В. Ордынский царевич Петр и его род: некоторые бытовые и религиозные черты пребывания монголо-татар на Руси//Университетский историк. СПб., 2002. Вып. 1.
Кривошеев Ю. В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII–XIV вв. СПб., 2003.
Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. Русская церковь и ордынские власти (вторая половина XIII — первая четверть XIV в.)//Тюркологический сборник 2001: Золотая Орда и ее наследие. М., 2002. С. 156–186.
Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. Александр Невский: Эпоха и память (Исторические очерки). СПб., 2009.
Кривцов Д. Ю. Рассказ о поездке митрополита Алексея в Золотую Орду в литературных источниках и историографии//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2002. № 5, 6.
Кривцов Д. Ю. Почитание святителя Алексея, митрополита Московского, как небесного заступника Руси от иноплеменных врагов в XV–XVII вв.//Мининские чтения. Материалы науч. конф. Нижний Новгород, 2003.
Кривцов Д. Ю. Дар ханши Тайдулы митрополиту Алексею: реальность или легенда//Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2005. № 3 (21).
Кривцов Д. Ю. Маршруты поездок русских митрополитов в Золотую Орду в XIII–XIV вв.//Проблемы исторической географии и демографии России. М., 2007. Вып. 1.
Криштопа А. Е. Дагестан в XIII–XV вв. Очерк политической истории. М., 2007.
Крыласова Н. Б., Белавин А. М., Ленц Г. Т. Мусульманский некрополь Рождественского археологического комплекса на р. Обва и проблема средневековых мусульманских кладбищ в Предуралье//Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Пермь, 2003. Вып. III.
Кубанкин Д. А. Христианское население золотоордынского города Укек//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международ. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября 2011 г. Казань; Астрахань, 2011.
Курапов А. А. Начальный этап истории буддизма на Нижней Волге/^Астраханские краеведческие чтения: сб. статей. Астрахань, 2009. Вып. I.
Курбанов X. Характер культуры в государствах Чингизидов//Культурные ценности. Международный ежегодник. СПб., 1996.
Кучкин В. А. Монголо-татарское иго в освещении древнерусских книжников (XIII — первая четверть XIV вв.)//Русская культура в условиях иноземных нашествий и войн. X — начало XX в. М., 1990. Вып. I.
Кучкин В. А. Русская церковь во второй половине XIII–XV веках//Православная церковь в истории России. М., 1991.
Кучкин В. А. Русь под игом: как это было? М., 1991.
Кучкин В. А. Русь под владычеством Золотой Орды//Преподавание истории в школе. М., 1993. № 3.
Кучкин В. А. Гибель в Орде князя Михаила Тверского и его канонизация//Исторический вестник: науч. журн. Воронеж, Луганск, 2000. № 7.
Кучкин В. А. Зачем митрополит Алексей в 1357 году ездил в Орду?//А се его сребро. Киев, 2002.
Кучук-Иоаннесов Хр. Старинные армянские надписи и старинные рукописи в пределах Юго-Западной Руси и в Крыму//Древности восточные: Труды Восточной комиссии Имп. Московского археологического общества. М., 1903. Т. 2.
Кучук-Иоаннесов Хр. Древние армянские рукописи из Крыма//Известия Таврической ученой архивной комиссии. Симферополь, 1912. Вып. 47.
Кычанов Е. И. Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии//Палестинский сборник. Вып. 26 (89). Филология и история. Л., 1978.
Кычанов Е. И. Сведения из «Истории династии Юань» («Юань-ши») о Золотой Орде//Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани. 1223–1556. Казань, 2002.
Кычанов Е. И. История приграничных с Китаем древних и средневековых государств (от гуннов до маньчжуров). 2-е изд., исправленное и дополненное. СПб., 2010.
Ларина Е. И. Роль государства в соперничестве христианства и ислама в казахских степях//Дешт-и Кипчак и Золотая Орда в становлении культуры евразийских народов: материалы международ. науч.-практ. конф., 10–11 апреля 2003 г. М., 2003.
Лаушкин А. В. Провиденциальная концепция взаимоотношений Руси и Степи в древнерусском летописании XI–XIII вв.//Славяне и кочевой мир. Средние века — ранее Новое время. М., 1998.
Лаушкин А. В. К истории возникновения ранних проложных Сказаний о Михаиле Черниговском//Вестник МГУ. Серия 8. История. 1999. № 6.
Лаушкин А. В. Идеология «Ордынского плена» и летописные известия о «Неврюевой рати»//История и культура Ростовской земли: материалы конф. 2000 г. Ростов, 2001.
Лаушкин А. В. Митрополит Кирилл II и осмысление ордынского ига во второй половине XIII в.//Богословский сборник. 2002. № 10.
Лаушкин А. В. Регулирование контактов христиан с нехристианами в Древней Руси (XI–XIII вв.)//Сборник Русского исторического общества. № 7 (155). Россия и мусульманский мир. М., 2003.
Лебедев В. П. Символика и язык монет Крыма золотоордынского периода//Нумизматические исследования по истории юго-восточной Европы. Кишинев, 1990.
Лебедев В. П. К нумизматике Крыма золотоордынского периода (Окружающий мир на монетных изображениях крымского чекана XIII–XIV вв.; Конный лучник — мощь Крыма (монеты времени Токты и Узбека)//Нумизматический сборник Московского нумизматического общества. М., 2000. Вып. 7.
Лебедев В. П. Новые данные о раннеджучидском чекане Хорезма и Сарая//Степи Евразии в эпоху средневековья. Донецк, 2000. Т. 1. (Труды по археологии)
Лебедев Н. С. Византия и монголы в XIII в. (По известиям Георгия Пахимера)//Исторический журнал. 1944. № 1.
Ломакин Д. А. К истории изучения мусульманских памятников XIII–XV вв. в Старом Крыму: В. Д. Смирнов//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия Исторические науки. Т. 23 (62). № 1: Исторические науки. Спецвыпуск: История Украины. Симферополь, 2010.
Макарова Т. И. Дар Тайдуллы//Средневековые древности Евразийских степей. Воронеж, 2001. Вып. 15.
Малахов С. Н. К вопросу о локализации епархиального центра Алании в XII–XIV вв.//Аланы: Западная Европа и Византия. Владикавказ, 1992.
Малахов С. Н. Алано-византийские заметки (II)//Историко-археологический альманах. Армавир, 1997.
Малов Н. М., Малышев А. Б., Ракушин А. И. Религия в Золотой Орде. Саратов, 1998.
Малышев А. Б. Начало католического миссионерства в Золотой Орде//Восток-Запад: Проблемы взаимодействия и трансляции культур. Саратов, 2001.
Малышев А. Б. Деятельность католиков на Волжском пути в золотоордынский период//Великий Волжский путь: развитие культурных и этноконфессиональных контактов. Казань, 2002. Ч. 3.
Малышев А. Б. Религиозно-мифологические основания власти в Монгольской империи//Многообразие религиозного опыта и проблемы сакрализации и десакрализации власти в христианском и мусульманском мире. Саратов, 2005. Ч. 2.
Малышев А. Б. Сообщение анонимного минорита о миссионерских пунктах францисканцев в Золотой Орде в XIV в.//Археология Восточно-Европейской степи. Саратов, 2006. Вып. 4.
Малышев А. Б., Шереметьев А. Г. Монгольские и золотоордынские пайцзы как предмет исследования в отечественной исторической науке//Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. Сб. науч. тр. Саратов, 2010. Вып. 8.
Маммаев М. М. О влиянии ислама на средневековое изобразительное творчество народов Дагестана//Художественная культура средневекового Дагестана. Махачкала, 1987.
Маммаев М. М. О некоторых мифологических и фольклорных образах в средневековом декоративно-прикладном искусстве Дагестана//Проблемы мифологии и верований народов Дагестана. 1989.
Маммаев М. М. Зирихгеран-Кубачи. Очерки по истории и культуре. Махачкала, 2005.
Марр Н. Я. Аркаун, монгольское название христиан в связи с вопросом об армянах-халкидонитах//Византийский временник. СПб., 1905. Т. XII. Прил.
Мартынюк А. В. «Поучения» Владимирского епископа Серапиона о причинах поражения русских княжеств в борьбе с монголо-татарским нашествием//Спорные проблемы русской общественной мысли (до начала XIX в.). Науч. конф., г. Москва, 12–14 мая 1992 г. Тез. докл. М., 1992.
Мартынюк А. В. Русь и Золотая Орда в миниатюрах Лицевого летописного свода//Российские и славянские исследования. Сборник науч. статей. Минск, 2004. Вып. I.
Мартынюк А. В. Актуальные проблемы изучения Золотой Орды//Российские и славянские исследования. Сб. науч. статей. Минск, 2007. Вып. II.
Мейендорф И. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV веке. Париж, 1990.
Меньшикова М. Л. Китайские ткани для исламского рынка//Во дворцах и в шатрах. Исламский мир от Китая до Европы. Каталог выставки. Государственный Эрмитаж. СПб., 2008.
Милорадович О. В. Христианский могильник на городище Верхний Джулат//Средневековые памятники Северной Осетии/МИА. № 114. М., 1963.
Милорадович О. В. Средневековые мечети городища Верхний Джулат//Средневековые памятники Северной Осетии/МИА. № 114. М., 1963.
Минегулова А. Р. Религиозная ситуация в Улусе Джучи по русским летописям//Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность. Материалы III Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. Уфа, 22 октября 2009 г. Уфа, 2009.
Минегулова А. Р. К вопросу о религиозной политике Джучидов (по материалам ПСРЛ)//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Миргалеев И. М. Золотая Орда и Ислам//Идель. Казань, 2002. № 11 (59).
Михайленко С. В. Противостояние монголов Ирана и Золотой Орды в Малой Азии: (по сведениям византийских историков)//Материалы научной сессии Волгоградского гос. ун-та. Волгоград, 2001. Вып. 3: История.
Моржерин К. Ю. Мавзолей у с. Царевщины Саратовской области//Город и степь в контактной евро-азиатской зоне: тез. докл. III Международ. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Г. А. Федорова-Давыдова. М., 2006.
Муминов А. К. Сборники фетв как источник по истории ислама в Мавераннахре (X–XIV вв.)//Бартольдовские чтения. 1990. Тезисы докл. и сообщ. М., 1990.
Муминов А. К. Ислам и вопрос о сакральности власти в Центральной Азии в средние века//Эволюция государственности Казахстана. Материалы международ. конф. г. Алматы, 3–5 апреля 1996 г. Алматы, 1996.
Муминов А. К. Деятельность ученых улама из Ирана в Золотой Орде//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дешт-и Кипчака в XIII–XVIII вв.: материалы международ. круглого стола (Алматы, 11–12 марта 2003 г.). Алматы, 2004.
Мухаккик А. Религия и государство в ареале кипчакских ханов в эпоху Джучи-хана и его сыновей//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака. Материалы Международной научной конференции, г. Алматы, 23–24 мая 2006 г. Алматы, 2007.
Миськов Е. П. Политическая история Золотой Орды (1236–1313). Волгоград, 2003.
Мэй Т. Монголы и мировые религии в XIII веке//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004.
Мэнэс Г. О генезисе и эволюции идеи небесного происхождения правящего «золотого» рода у средневековых монголов//Этнографийн судлал. 1987. Т. X. Fase. 3.
Нарожный Е. И. К этносоциальной атрибуции городского населения Терско-Кумского междуречья: (По материалам мусульманских захоронений эпохи Золотой Орды)//Погребальный обряд древнего и средневекового населения Северного Кавказа. Орджоникидзе, 1988.
Нарожный Е. И. О роли христианства в хулагуидо-джучидских взаимоотношениях в предкавказской зоне//Северное Причерноморье и Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII–XVI в. Ростов-на-Дону, 1989.
Нарожный Е. И. Вновь о мечетях Верхнего Джулата: (Северная Осетия)//Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Армавир, 2003. Вып. 1.
Насонов А. Н. Монголы и Русь: (История татарской политики на Руси). СПб., 2002.
Нефёдов С. А. О китайском культурном влиянии в Золотой Орде//Россия и общества Востока: динамика социального развития, политические отношения, межкультурная коммуникация. Уфа, 2005.
Нефёдов С. А. Монгольские завоевания и формирование российской цивилизации//Вопросы истории. М., 2006. № 2.
Нефёдов С. А. Золотая Орда: китаизированное государство//Клио: журнал для ученых. СПб., 2006. № 1 (32).
Нечвалода А. И. Каменные мавзолеи Башкирского Приуралья: антропология и генетика//Форум «Идель — Алтай». Материалы науч.-практ. конф. «Идель — Алтай: истоки евразийской цивилизации», I Международ. конгресса средневековой археологии евразийских степей. Казань, 7–11 декабря 2009 г. Тез. докл. Казань, 2009.
Никитин А. Н. Восприятие Джучидской улусной системы в житии Федора Ростиславича, князя Ярославского и Смоленского, и его сыновей Давида и Константина//Источниковедение и историография в мире гуманитарного знания. М., 2002.
Никитин А. Н. Царская власть в мире русско-монгольских источников времени хана Мункэ-Тимура (1266–1280/82)//Народ и власть: исторические источники и методы исследования. Материалы XVI науч. конф. Москва, 30–31 янв. 2004 г. М., 2004.
Никитин А. Н. Каганат и ханства: распределение прерогатив всеобщих государей между Чингизидами в XII–XIV вв.//Бюллетень общества востоковедов. Вып. 13. Hungaro-Rossica. III. М., 2008.
Нургалиева А. М. Процесс исламизации населения казахских степей: основные этапы и особенности//Международный конгресс востоковедов: Труды. ICANAS XXXVII. М., 2007. Т. 2.
Ням-Осор Н. Роль и содержание закона «Их засаг» в истории и культуре Монголии//Мир Центральной Азии. Материалы международной научной конференции. История. Социология. Улан-Удэ, 2002. Т. II. Ч. I.
Ням-Осор Н. Монгольское государство и государственность в XIII–XIV вв. Улан-Удэ, 2003.
Обухов Ю. Д. Иконка с изображением Богоматери с Маджарского городища//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы IV Международ. конф., посвящ. памяти проф. МГУ Г. А. Федорова-Давыдова, 30 сентября — 3 октября 2008 г. Азов, 2009.
Орешников А. В. Перстень Святого Алексея митрополита//Seminarium Kondakovianum. Recueil d'etudes. Archeologie. Histoire de Г art. Etudes byzantines. 1928. T. II.
Охотина H. А. Изменения в положении Киевской митрополии в условиях монголо-татарского ига: (Середина — вторая половина XIII в.)//Религии мира. Ежегодник 1987. М., 1989.
Охотина Н. А. Русская церковь и монгольское завоевание (XIII в.)//Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990.
Пак Н. И. Некоторые исторические замечания к летописной «Повести о Михаиле Черниговском»//Литература Древней Руси. Сб. науч. трудов. М., 1981.
Пак Н. И. Краткая характеристика редакций Повести о Михаиле Черниговском//Литература Древней Руси. Межвузовский сб. науч. трудов. М., 1988
Пак Н. И. Стилевое своеобразие повестей об убиенных князьях великих в составе Великих Миней Четьих митрополита Макария//Художественно-исторические памятники Можайска и русская культура XV–XVI вв. Можайск, 1993.
Пакалина Л. Ю. К вопросу о христианстве в Золотой Орде//XXV Урало-Поволжская археологическая студенческая конференция: тез. докл. Самара, 1994.
Палимпсестова Т. Б., Рунич А. П. О ессентукийских мавзолеях и ставке Узбек-хана//Советская археология. М., 1974. № 2.
Пачкалов А. В. Образ золотоордынского хана Джанибека в представлении потомков: (По данным нумизматики)//Восточная Европа в древности и средневековье: политические институты и верховная власть. XIX Чтения памяти В. Т. Пашуто, Москва, 16–18 апреля 2007 г. Материалы конф. М., 2007.
Петров П. Н., Ускенбай К. 3. Вопросы исламизации улуса Джучидов и вероисповедание хана Токты (690/1291 — 712/1312–1313 гг.)//Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Уральск, 2010. № 1.
Петрушевский И. П. К истории подушной подати в Иране при монгольском владычестве (термины купчур, сар-шумар, саранэ, джизйэ)//Исследования по истории культуры и народов Востока. Сб. в честь академика И. А. Орбели. М.; Л., 1960.
Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XV вв. 2-е изд. СПб., 2007.
Плигузов А. И., Хорошкевич А. Л. Отношение русской церкви к антиордынской борьбе в XIII–XV веках//Вопросы научного атеизма. Вып. 37: Православие в истории России. М., 1988.
Плигузов А. И., Хорошкевич А. Л. Русская церковь и антиордынская борьба в XIII–XV веках (по материалам краткого собрания ханских ярлыков русским митрополитам)//Церковь, общество и государство в феодальной России. М., 1990.
Плюханова М. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
Поздняков А. А. Раскол в Орде и смута на Руси в 80-е годы XIII века//Университетский историк. СПб., 2005. Вып. 3.
Покровский М. Н. Феодализация православной церкви и татарское иго//Религия и церковь в истории России. М., 1975.
Полубояринова М. Д. Иконка с Селитренного городища//Советская археология. М., 1973. № 2.
Полубояринова М. Д. Иконка из Астрахани//Древняя Русь и славяне. М., 1978.
Поляк А. Н. Новые арабские материалы позднего средневековья о Восточной и Центральной Европе//Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. М., 1964.
Попов П. В. К вопросу о распространении буддизма в Золотой Орде (по данным археологических источников)//Вопросы истории и археологии средневековых кочевников и Золотой Орды. Сборник научных статей, посвященный памяти В. П. Костюкова. Астрахань, 2011.
Попов П. С. Яса Чингис-хана и Уложение монгольской династии Юань-чао-дянь-чжан//Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества. СПб, 1907. Т. XVII. Вып. 4.
Поппе Н. Н. Золотоордынская рукопись на бересте//Советское востоковедение. М.; Л., 1941. Вып. 2.
Почекаев Р. Ю. Цари Ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. СПб., 2010.
Пучковский Л. С. Заключительная формула в письмах ильханов Аргуна (1289) и Ульдзейту (1305)//Советское востоковедение. М.; Л., 1949. Т. VI.
Ракушин А. И. Распространение ислама у золотоордынских кочевников Нижнего Поволжья//Человек в социокультурном мире: материалы Все-рос. науч. конф. Саратов, 1997. Ч. 2.
Ракушин А. И. Принятие ислама в Золотой Орде (1242–1312 гг.)//Ислам и образование у татар Саратовского Поволжья. Саратов, 1998.
Резван Е. А. Коран как символ верховной власти (к истории «Самаркандского куфического Корана»)//Рахмат-наме. Сборник статей в честь 70-летия Р. Р. Рахимова. СПб., 2008.
Ртвеладзе Э. В. Два мавзолея золотоордынского времени в районе Пятигорья//Советская археология. М., 1969. № 4.
Рудаков В. Н. Восприятие «чужих» народов как элемент этнического самопознания//Материалы 40-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и научных сотрудников МГУП. М., 2000. Ч. 2.
Рудаков В. Н. Язык Библии в ранних рассказах русских летописей о монголо-татарском нашествии//Одиссей. Человек в истории. Язык Библии в нарративе. М., 2003.
Рудаков В. Н. Русские книжники в поисках критериев оценок княжеской службы Ордынским властям во второй половине XIII в.//Древняя Русь. Вопросы медиевистики. Тез. докл. участников V Международ. конф. «Комплексный подход в изучении Древней Руси». М., 2009. № 3 (37).
Рудаков В. Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XIV вв.: [очерки]. М., 2009.
Рыкин П. О. Гибель князя Михаила Черниговского в свете традиционных монгольских верований//Россия и Восток: Традиционная культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. Материалы IV международ. науч. конф. «Россия и Восток: проблемы взаимодействия». Омск, 1997.
Рыкин П. О. Монгольская концепция родства как фактор отношений с русскими князьями: социальные практики и культурный контекст//Mongolica-VI: Сб. статей. СПб., 2003.
Рыкин П. О. Монгольский средневековый ритуал в летописном рассказе об убийстве князя Романа Рязанского (1270 г.): Опыт интерпретации//Nomadic studies. Ulaanbaatar, 2005. № 11.
Рыкин П. О. Титям: об одном китайском титуле в средневековых русских летописях//АБ-60. Сборник статей к 60-летию А. К. Байбурина. СПб., 2007.
Рыкин П. О. «Душа», болезнь и смерть в традиционных представлениях монголов, бурят и якутов//Мифология смерти. Структура, функции и семантика погребального обряда народов Сибири. Этнографические очерки. СПб., 2007. С. 51–84.
Рыкин П. О. К вопросу об обычае расчленения и скальпирования у средневековых монголов//Сибирский сборник–1. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. СПб., 2009. Кн. 2. С. 169–177.
Рыкин П. О. Концепция смерти и погребальная обрядность у средневековых монголов (по данным письменных источников)//От бытия к инобытию. Фольклор и погребальный ритуал в традиционных культурах Сибири и Америки. Сб. статей. СПб., 2010.
Рыкин П. О. О двух категориях правящей элиты Монгольской империи//Сибирский сборник-3. Народы Евразии в составе двух империй: Российской и Монгольской. СПб., 2011.
Рязанова С. В. Межкультурные отношения в эпоху Средневековья: христианство и ислам//В круге культуры: сб. науч. ст. по проблемам культуры, посвященный памяти В. Л. Соболева. Пермь, 2003.
Сайфетдинова Э. Г. Влияние мусульманской богословской литературы на религиозную мысль в Золотой Орде//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Самойлович А. Н. О «пайза» — «байса» в Джучиевом улусе//Известия АН СССР. 1926.
Самойлович А. Н. Китайская «пай-дзы» в старотурецком толковании на арабский Коран//Самойлович А. Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М., 2005.
Сарайская и Крутицкая епархии. Материалы, собранные священником Н. А. Соловьёвым//Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. М., 1894. Кн. 3.
Сафаргалиев М. Г. Распад Золотой Орды. Саранск, 1960.
Святий князь Михайло Чернiгiвський та його доба: Матерiали церковно-icт. конф. (Чернигов, 1–3 жовтня 1996 р.) Чернигов, 1996.
Селезнев Ю. В. Идейно-религиозная оценка современниками русско-ордынских отношений 1270–1320-х гг.//Мининские чтения: Труды научной конференции. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (20–21 октября 2006 г.). Нижний Новгород, 2007.
Селезнёв Ю. В. Верховная власть ордынского хана в XIII столетии в представлении русских книжников//Восточная Европа в древности и средневековье: политические институты и верховная власть. XIX Чтения памяти В. Т. Пашуто, Москва, 16–18 апреля 2007 г. Мат-лы конф. М., 2007.
Семенов А. А. Бухарский шейх Баха-ад-Дин. 1318–1389 гг. (К его биографии). По персидской рукописи//Восточный сборник в честь А. Н. Веселовского. М., 1914.
Скрынникова Т. Д. Сакральность правителя в средневековом монгольском обществе//Сакрализация власти в истории цивилизаций. М., 2005. Ч. II–III.
Смирнов Я. И. Письмо бар. В. Р. Розену о пайзе хана Узбека//Записки Восточного отделения Имп. Русского археологического общества. СПб., 1907. Т. 17. С. XXXVII.
Соколов П. П. Русский архирей из Византии и право его назначения до конца XV в. Киев, 1913.
Сочнее Ю. В. Об адресате ярлыка Тайдулы русскому иерарху Иоанну//Мининские чтения: материалы науч. конф., посвящ. 380-летию освобождения Москвы земским ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Нижний Новгород, 1992.
Сочнее Ю. В. Русь и Золотая Орда: некоторые аспекты конфессиональных взаимоотношений//Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1993. Ч. II.
Сочнее Ю. В. Христианство в Золотой Орде в XIII в.//Из истории Золотой Орды. Сб. статей. Казань, 1993.
Сочнее Ю. В. Характеристика общих принципов религиозной политики монгольских правителей в XIII–XIV вв.//Мининские чтения: материалы науч. конф. Нижний Новгород, 2003.
Сочнее Ю. В. Формирование конфессиональной политики золотоордынских ханов и датировка ярлыка Менгу-Тимура//Российский исторический журнал. 2007. №. 2 (41).
Сочнее Ю. В. Формирование и трансформация золотоордынской политики по отношению к русской православной церкви (XIII–XIV вв.)//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Спицын А. А. Татарские байсы//Известия Археологической комиссии. 1909. Вып. XXIX.
Сулейманов М.-А. Надпись на котле XIV века//Pax islamica. Мир ислама. 2009. № 2.
Султанов Т. И. Небесный мандат Чингис-хана//Материалы научной конференции Восточного факультета, посвященные 275-летию Санкт-Петербургского университета. СПб., 1999.
Султанов Т. И. Чингис-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006.
Сумин А. Ю. Мусульманские надмогильные сооружения кочевого населения Нижнего Поволжья золотоордынского времени//Экологические проблемы и их междисциплинарное исследование/Материалы областной науч. конф. студентов и молодых ученых, 29 мая 1997 г. Астрахань, 1997.
Сумин А. Ю., Сумина О. Н. Мозаичное панно XIV в. из коллекции Астраханского музея-заповедника//Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международ. конф., посвящ. памяти Г. А. Федорова-Давыдова, г. Астрахань, 2–6 октября 2011 г. Казань; Астрахань, 2011.
Терлецкий Н. С. Некоторые древние атрибуты мусульманских мест паломничества и поклонения (к вопросу о функциях и символизме туга)//Центральная Азия: Традиция в условиях перемен. СПб., 2009. Вып. II.
Трепавлов В. В. Образ Неба и каганская власть у кочевников Центральной Азии//Altaic religious beliefs and practices. Budapest, 1992.
Трепавлов В. В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблема исторической преемственности. М., 1993.
Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе/Пер. с англ, под ред. О. Ф. Акимушкина. М., 2002.
Тугутов А. И. Культ Вечного Неба в «Сокровенном сказании монголов»//Монголоведные исследования. Улан-Удэ, 1997. Вып. 2.
Тугутов А. И. Прорицание будущего в «Сокровенном сказании монголов»//Altaica X. М., 2005.
Тугутов А. И. Анда-побратимство и сакральные элементы родовых представлений в древней и средневековой Монголии//Владимирцовские чтения-V. Доклады науч. конф. М., 2006.
Тугутов А. И. Гадание и традиционное мировоззрение монголов//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2008. Вып. 2.
Тугутов А. И. Проблема предвидения будущего в средневековой монгольской культуре (по монгольским, китайским и западноевропейским историко-литературным источникам)//Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2010. № 2.
Тугутов А. И. Монгольская мантика//Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. М., 2011. № 3.
Тулибаева Ж. М. «Улус-и арба-йи Чингизи» как источник по истории взаимоотношений Дашт-и Кипчака со Средней Азией и Ираном//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дешт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы международного круглого стола (Алматы, 11–12 марта 2003 г.). Алматы, 2004.
Тулибаева Ж. М. «Улус-и арба-йи Чингизи» как источник по изучению истории Золотой Орды//Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2011.
Турчанинов Г. Ф. Трусовская осетинская сирийско-несторианская надпись первой половины XIV столетия//Известия Северо-Осетинского научно-исслед. института истории. Орджоникидзе, 1960. Т. XXII. Вып. 1.
Турчанинов Г. Ф. Еще раз о древнеосетинской зеленчукской надписи//Эпиграфика Востока. Л., 1958. Т. XII.
Улыжмиева Д. Б., Ням-Осор Н. Великая Яса. Улан-Удэ, 2002.
Урозбаева Г. А. Яса Чингис-хана в исторических источниках и литературе//Научные чтения памяти Н. Э. Масанова. Сб. материалов науч.-практ. конф., г. Алматы, 25–26 апреля 2008 г. Алматы, 2009.
Ускенбай К. Политические взаимосвязи джучидов восточного Дашт-и Кипчака с хулагуидами Ирана на рубеже XIII–XIV веков и процессы исламизации (тезисы)//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв.: материалы международ. круглого стола. Алматы, 2004.
Усманов М. А. Жалованные грамоты Джучиева улуса. Казань, 1982.
Усманов М. А. Этапы исламизации Джучиева Улуса: мусульманское духовенство в татарских ханствах XIII–XVI веков//Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., 1985.
Успенский Ф. И. Византийские историки о монголах и египетских мамлюках//Византийский временник. М., 1926. Т. XXIV.
Фаверо М. К вопросу об альянсе между Золотой Ордой и Мамлюкским султанатом по арабским источникам//Золотоордынское наследие. Материалы международ. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 1.
Фаверо-Думенжу М. Первое письмо хана Берке султану Бейбарсу по мамлюкским источникам (661/1263)//Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Казань, 2011. Вып. 4.
Федоров-Давыдов Г. А. Города и кочевые степи в Золотой Орде в XIII веке//Вестник Московского ун-та. М., 1965. № 6 (Серия истории).
Федоров-Давыдов Г. А. Кочевая Орда в улусе Джучи//Вестник МГУ. 1970. № 5. Сер. 9. История.
Федоров-Давыдов Г. А. Религия и верования в городах Золотой Орды//Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. А. Авдусина. М., 1998.
Феннел Д. Кризис средневековой Руси. 1200–1304. М., 1989.
Флетчер Дж. Средневековые монголы: экологические и социальные перспективы//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004.
Фоменко И. К. Духовенство в средневековой морской картографии//Вера и церковь в Средние века и раннее Новое время (Западная Еропа и Византия): Тез. докл. Всерос. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых. Москва 7–8 февраля 2001 г./МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. М., 2001. С. 50–51.
Фоменко И. К. Карта мира как иллюстрация эсхатологических представлений Средневековья//Эсхатологический сборник. СПб., 2006.
Фомичев Н. М. Некоторые данные о культовых сооружениях и религиозной жизни средневекового города Азака-Таны в XIV–XV вв.//Очерки истории Азова. Азов, 1994. Вып. 2.
Хазанов А. М. Кочевники и города в евразийском степном регионе и соседних странах//Урбанизация и номадизм в Центральной Азии: история и проблемы: материалы международ. конф. Алматы, 2004.
Хазанов А. М. Распространение мировых религий в средневековых обществах кочевников евразийских степей//Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. СПб., 2008.
Халит Н. X. Исламские параллели в церковной архитектуре Ярославля//Средневековые тюрко-татарские государства. Казань, 2010. Вып. 2.
Хинаят Б. Сакрально-идеологическое представление кости животных у кочевников (на примере бараньей лопатки)//Известия Министерства образования и науки Республики Казахстан. Серия обществ, наук. Алматы, 2001. № 5.
Хорош Е. X. К вопросу о строительной истории мавзолея Жоши-хан//Научные чтения памяти Н. Э. Масанова. Сб. материалов науч.-практ. конф., г. Алматы, 25–26 апреля 2008 г. Алматы, 2009.
Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XI–XVI вв.). М., 1986.
Хорошев А. С. Батыевщина и церковная проповедь непротивления//Вопросы научного атеизма. М., 1988. Вып. 37.
Храпачевский Р. П. Монгольские и китайские источники XIII–XIV веков о Восточной Европе//Российские и славянские исследования. Сб. науч. статей. Минск, 2007. Вып. II.
Цыбин М. В., Газиев М. Р. Бесединский археологический комплекс//Ислам в Центрально-Европейской части России. М.; Нижний Новгород, 2009. Т. 4.
Чхао Чху-Чанг. Китайские источники по истории Золотой Орды (на материале перевода книги «Синь Юань ши»)//Золотоордынская цивилизация. Сб. статей. Казань, 2009. Вып. 2.
Шакурова Ф. А. Менталитет кочевника и ислам//Этничность и конфессиональная традиция в Волго-Уральском регионе России. М., 1998.
Шамильоглу Ю. Высокая исламская культура Золотой Орды//История татар с древнейших времен в семи томах. Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII — середина XV в. Казань, 2009.
Шима И. Путешествие Джованни Мариньоли к монгольскому хану Тогон-Тэмуру (Сведения о монгольских улусах и Юаньской империи)//Пятый Международный конгресс монголоведов. Улаанбаатар, 1992. Т. 1.
Шиммель А. Мир исламского мистицизма/Пер. с англ. М., 1999.
Шихалиев Ш. Историография исламизации средневекового Дагестана (X–XVI вв.)//Мир ислама: История. Общество. Культура. М., 2009.
Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в южном Дагестане в X–XV вв.//Ученые записки Ин-та истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала АН СССР. Махачкала, 1959. Т. VI.
Шихсаидов А. Р. Ислам и становление дагестанской исторической традиции//Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001.
Шуджои М. Взгляд на влияние ислама в Дашт-и Кыпчаке//Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII–XVIII вв. Материалы Международного круглого стола. Алматы, 2004.
Эглъ Д. Великая Яса Чингис-хана, Монгольская империя, культура и шариат//Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004.
Юдин В. П. О строительстве мавзолея Кыйата Джир-Кутлу на Сырдарье в XIV в. в связи с историей Дашт-и Кыпчака//Утемиш-хаджи. Чингис-наме/Факсимиле, пер., транскрипция, текстол. примеч., исследование В. П. Юдина. Коммент. и указ. М. X. Абусеитовой. Алма-Ата, 1992.
Юрченко А. Г. Золотая статуя Чингис-хана (русские и латинские известия)//Тюркологический сборник 2001: Золотая Орда и ее наследие. М., 2002.
Юрченко А. Г. Историческая география политического мифа. Образ Чингисхана в мировой литературе XIII–XV вв. СПб., 2006.
Юрченко А. Г. Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская космография. СПб., 2007.
Юрченко А. Г. Хан Узбек: между империей и исламом (структуры повседневности)//Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. IX. Археология, краеведение. Ставрополь, 2009.
Юрченко А. Г. Образ хана Джанибека в Каталонском атласе 1375 г. (визуализация символов власти)//Археология Нижнего Поволжья: Проблемы, поиски, открытия. Материалы III Междунар. Нижневолжской археологии, конф. Астрахань, 18–21 октября 2010 г. Астрахань, 2010.
Юрченко А. Г. Каталонский атлас 1375 года: коды и символы//Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 8. Золотоордынское время. Сб. науч. работ. Донецк, 2010.
Яблонский Л. Т. Типы погребального обряда на городских мусульманских некрополях Золотой Орды//Вестник МГУ. 1975. Серия IX. История. № 2.
Яблонский Л. Т. Типы погребального обряда на средневековом мусульманском некрополе Селитренного городища//Полевые исследования Ин-та этнографии АН СССР. М., 1978 (1980).
Яблонский Л. Т. Об этнической связи подбойных погребений мусульманского некрополя XIV в. Бодянского городища (Волгоградской области)//Проблемы этнографии и этнической антропологии. М., 1978.
Яблонский Л. Т. Некоторые результаты исследования средневекового мусульманского некрополя Селитренного городища в 1976–1977 гг.//Полевые исследования Института этнографии. 1977. М., 1979.
Яблонский Л. Т. Мусульманский некрополь Бодянского городища//Советская археология. М., 1980. № 1.
Яблонский Л. Т. Типы погребального обряда на средневековом мусульманском некрополе Селитренного городища//Полевые исследования Института этнографии. 1978. М., 1980.
Яблонский Л. Т. Монголы в городах Золотой Орды: (По материалам мусульманских некрополей)//Проблемы антропологии древнего и современного населения Советской Азии. Новосибирск, 1986.
Яворская Л. В. Некоторые аспекты исламизации Золотой Орды (к постановке проблемы)//II Межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых Волгоградской области. Волгоград, 1995. Вып. 1.
Яворская Л. В. Некоторые особенности исламизации кочевого населения Золотой Орды (на примере некрополей окрестностей Сарая-ал-Джедид)//Сборник трудов молодых ученых и студентов Волгоградского государственного университета. Волгоград, 1996.
Яворская Л. В. Город в степи: некрополи округи Царевского городища как источник для реконструкции исторических процессов//Археология Нижнего Поволжья на рубеже тысячелетия. Астрахань, 2001.
Яворская Л. В. Повозки в погребениях кочевников золотоордынского времени Нижнего Поволжья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. нижневолж. археолог, конф. г. Волгоград, 1–5 ноября 2004 г. Волгоград, 2004.
Языческая Сибирь начала XV в. в описании западноевропейского христианина: «Книга путешествий» Иоганна Шильтбергера/Пер. и коммент. А. Г. Еманова//Религия и церковь в Сибири (Тезисы и материалы научной конференции). Тюмень, 1990. Вып. I.
Яминов А. Ф. Золотая Орда и башкиры: история и наследие ислама//Ватандаш = Соотечественник. Уфа, 1998. № 9 (24).
Яровая Е. А. Геральдика генуэзского Крыма. СПб., 2010.
Nachsatz
Средневековые мусульманские дипломаты сообщают о том, что Берке, правитель кочевого государства, известного в истории как Золотая Орда, принял ислам. Означало ли это, что победоносная доктрина Вечного Неба уступила без боя место вере в Аллаха? Как на деле выглядело обращение Берке? Как к этой новости отнеслись уйгуры-несториане, управлявшие делопроизводством в Орде, китайские советники, буддисты и кочевая аристократия? Куда подевались шаманы, предсказатели и прочие маги? Автор исследования А. Г. Юрченко полагает, что мусульманские наблюдатели отредактировали историю Берке.
1
toyin 'буддийский монах', кит. tao-jen. Термин тойн встречается как у персидских, так и армянских (тоин) авторов в значении 'буддийский монах'. Джузджани говорит о них: «Сборище неверных аскетов (зуххйд) из Китая и идолопоклонников (бутпарастан, т. е. буддистов) из Тангута и Тамгача, которых называют тойнами, приобрело влияние на Гуюка» (цит. по: Бартольд В. В. Сочинения. М., 1963. Т. I. С. 455).
2
Абу Ма'шар ал-Балхи (ум. 886), персидский астроном. Он был страстным сторонником астрологической религии, которая в его время доживала дни у харранских сабиев, но которая, по его мнению, продолжала существовать в отдаленных странах. Он считал, что религия античных греков, китайцев и персов заключалась в поклонении небесным светилам, которые управляют миром и являются посредниками влияния высшего начала.
3
В Средние века была хорошо известна «Космография» Этика Истрийского (Cosmographia Aethici Istrici), сочинение, написанное на варварской латыни и содержащие легендарные сведения. Сегодня наиболее привлекательной гипотезой является взгляд на «Космографию» как на пародию, см.: Вуд И. Кинокефалы: кто они?//Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 13–23.
4
Неизвестный латинский автор XIII в. искал ответ на вопрос о происхождении монголов в пророчествах Иезекииля, где предрекается нашествие народов севера подобное туче, покрывающей землю, ибо явятся «сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное» (Иез. 38:15). В своем географическом трактате «Описание земель» он так ставит вопрос: «Дабы узнать о том, откуда произошел, как рассеялся и какие обычаи имеет народ, именуемый тартарами, следует [вначале] отметить, что обитаемая земля разделена на три основные части. Это явствует из различных исторических сочинений. Сыновья Ноя — Сим, Хам и Иафет — по смерти отца заселили их и заполнили своими потомками. Это [во-первых] Азия, принадлежавшая сынам Симовым. Она берет начало у великой реки Евфрат и ограничена восточным океаном». Европа начинается «от сицилийских и сирийских гор Тавр и Аман и простирается между востоком летнего солнцестояния и северной стороной тех краев, где расположена земля татар Монгал <…>». Завершается вступление следующими размышлениями: «Итак, следует знать, что упомянутое трехчастное членение земли должно рассматривать, учитывая [расположение] средоточия всей земли, где и пророки проповедовали, и Господь в середине ее послужил спасению многих. Это — Святая Земля. В ее северной [части], которая также называется Европой, обитали пятнадцать поколений Иафета сына Ноя, как гласят истории. Пророк Иезекииль открывает [нам], что от их корня в конце времен произойдет народ наихудший и жестокий, то есть Гог и Магог <…>. Два народа согласно Писанию грядут со стороны севера, чтобы в конце времен покарать неверных, так и верных. Пока же представляется неопределенным, эти самые народы придут или другие. Определенно же [известно] то, что из тех мест никогда прежде, при том что прошли [многие] века, такая масса народу не выходила, и на разные части света не нападала без устали и с таким многочисленным войском», цит. по: Пекин Л. С. «Описание земель», анонимный географический трактат второй половины XIII в.//Средние века. М., 1993. Вып. 56. С. 220. Итак, аноним, как и Роджер Бэкон, высказывает сомнение, следует ли принимать монголов за Гога и Магога.
5
Людовик IX (1226–1270) — французский король из династии Капетингов. Отправил две дипломатические миссии к монголам, в 1248 и 1253 гг., с целью организовать совместный поход против Египта.
6
Вильгельм де Рубрук (1215/1220–1293), посол французского короля к хану Менгу; автор «Itineraria».
7
Иоанн де Плано Карпини, папский нунций, побывавший при дворе монгольского хана Гуюка летом 1246 г.; автор «Liber Tartarorum».
8
В анонимном географическом трактате «Описание земель» говорится об обычаях ятвягов и пруссов: «Они, как и прутены, за богов почитали особые рощи. Усердно следовали гаданиям. А мертвых с конями, оружием и лучшими платьями сжигали, веря, что смогут всем этим и прочим, что сжигается, пользоваться в будущей жизни», цит. по: Чекин Л. С. «Описание земель», анонимный географический трактат второй половины XIII в.//Средние века. М., 1993. Вып. 56. С. 218; Также характеризует обычаи пруссов Петр из Дусбурга, см.: «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга/Пер., вступ. ст. и коммент. В. И. Матузовой//Вопросы истории. 1986. № 7; О тризне у древних пруссов, см.: Топоров В. Н. Конные состязания на похоронах//Исследования в области балто-славянской духовной культуры. М., 1990.
9
Fuerat enim ibi frater Iohannes de Policarpo, sed ipse mutaverat habitum, ne contempneretur quia erat nuncius domini Pape (Itinerarium. XIX. 5).
10
Точно такая же картина казней изображена при попытке Му'авии сдвинуть с места минбар Пророка. Преступление отозвалось во всем мире, нарушив в конкретной точке весь его распорядок. «Когда Му'авийа задумал увезти минбар Пророка, мир ему, в Сирию, в тот самый миг, как он притронулся к нему, солнце затмило, и земля погрузилась в темноту. Поднялся страшной силы ветер, засверкали молнии. Тогда [Му'авийа] отказался от своего намерения. Ветер вызвал у него паралич лица, и он остался [навеки] ущербным» (Чудеса мира. 562).
11
Бахши — монахи-буддисты, исполнявшие роль прорицателей. Патриарх армянской церкви Вардан пишет о роли буддистов из окружения Хулагу: «Тоннами назывались жрецы, которым он верил и по указаниям которых он шел или не шел на войну» (Вардан Аревелци, с. 22).
12
После падения Багдада великий хан Мунке передал всю полноту власти в Иране своему брату Хулагу. Джучидские царевичи, участвовавшие в военной кампании, не повиновались новому приказу и. были казнены как мятежники. Армянский историк Киракос Гандзакеци перечисляет имена казненных джучидов (Киракос Гандзакеци. 65). Царевичи оказались в имперском войске по решению общемонгольского курултая. Исключено, что Берке был не в курсе куда и с какой целью отправились джучидские царевичи. Следующий пример. В сочинении египетского историка Таки-ад-дина ал-Макризи (1365–1442) имеется следующая выписка: «В 660 году (1261/1262) из Дамаска и других мест выступили разведчики и захватили множество татар, намеревавшихся двинуться в Египет, Чтобы найти себе [там] убежище. [Дело в том, что] царь Берке посылал их на помощь Хулаку, но когда между ними [Берке и Хулаку] произошел раздор, написал им, призывая их к себе, и приказал им, в случае если они не в состоянии добраться до него, отправиться к войскам египетским» (Сборник материалов. Т. I. С. 301). Сведения ал-Макризи ставят по сомнение достоверность версии ал-'Умари о том, что Берке из высших побуждений воспротивился походу на Багдад.
13
Insuper ipse Manguchan habet octo fratres: tres uterinos et quinque de patre. Unum ex uterinis misit in terram Hasasinorum, qui dicuntur Mulibet ab eis, et precepit quod omnes interficiantur; alius venit versus Persidem et iam ingressus est earn, ingressurus, ut creditur, terram Turkie, et inde missurus excercitus contra Baldac et contra Vastacium; unum ex aliis misit in Cathaiam contra quosdam qui nondum obediunt (Itinerarium. XXXII. 4).
14
Спрашивается, кто из мусульман мог услышать секретный разговор двух Чингизидов, которые беседовали на монгольском языке? Р. Ю. Почекаев пересказывает этот эпизод по летописи ал-'Умари без малейшей критики источника; так поступали многие средневековые компиляторы; в результате рождается новый жанр — «политический фольклор», который рядится в исторические одежды, см.: Почекаев Р. Ю. Цари Ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. СПб., 2010. С. 14. Главной задачей мусульманской историографии было создание особой реальности. Ал-'Умари передал эстафету. Маска, скрывающая лицо реальности, перевоплотилась в новую маску, выдающую себя за достоверное свидетельство.
15
Юлиан следующим образом перевел начальную формулу послания Угедея, адресованного венгерскому королю: Ego, Chayn, nuntius regis celestis, cui dedit potentiam super terram subicientes mihi se exaltare et deprimere adversantes 'Я, Хан, посланец царя небесного, имеющий на земле власть возвышать покоряющихся мне и подавлять противящихся' (Юлиан. Послание о жизни Тартар. 4. 9).
16
Галиахметова Г. Г. Ислам в Золотой Орде: традиции религиозного опыта. Казань, 2007. С. 43–46, 64: «Авторы мусульманских источников единодушны в примерах, свидетельствующих о правоверии золотоордынских ханов исламской ориентации в плане их покровительственного отношения к ученым. Несмотря на это, ислам основной частью монголов Золотой Орды воспринимался лишь в традициях религиозного шаманистского опыта, близком для их восприятия, без учета культурного пласта ислама как образа жизни».
17
Рыкин П. О., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
18
Термин тэнгризм, предложенный Ж.-П. Ру для обозначения религиозных верований монголов, связанных с культом Неба (Roux J.-P. Tängri: Essai sur le ciel-dieu des peuples altaiques//Revue de l'Histoire des Religions. 1956. T. 150, № 2. P. 206–208), и ставший очень популярным среди монгольских авторов, не кажется нам удачным, поскольку он заставляет предполагать, что мы имеем дело с особой формой религии, каковой, на наш взгляд, культ Неба не являлся. Однако это не означает, что нужно отрицать значимость самого культа Неба в религиозных представлениях средневековых монголов, как это делает М.-Л. Беффа, опираясь только на анализ «Тайной истории монголов» (Beffa M.-L. Le concept de tänggäri, «ciel», dans VHistoire secräte des Mongols//fitudes mongoles et s iberiennes. 1993. Cah. 24. P. 215–236). Достаточно проанализировать другие авторитетные источники эпохи Монгольской империи, чтобы убедиться в обратном.
19
Следует отметить, что христианские и мусульманские авторы в своих трудах, как правило, описывали религиозные представления у монголов в привычных для монотеистических религий терминах. Ср. анонимный грузинский хронограф XIV в.: «В обычае же было у них поклонение единому богу, которого на языке своем называли Тенгри» (Цулая Г. В. Грузинская книжная легенда о Чингисхане//Советская этнография. 1973. № 5. С. 115). Однако и сами монголы, как бы подстраиваясь под образ мыслей побежденных, в переводах своих дипломатических посланий на другие языки регулярно передавали понятие Вечного Неба заимствованными из этих языков обозначениями верховного существа, такими как 'Аллах', 'DeusJ и т. п., см.: Rachewiltz I. de. Heaven, Earth and the Mongols in the Time of Cinggis Qan and His Immediate Successors (ca. 1160–1260) — A Preliminary Investigation, p. 127; см. также: Kollmar-Paulenz K. Religiöser Pluralismus im mongolischer Weltreich, s. 75. Cp. аналогичную ситуацию с употреблением слова täqri в средневековых тюркско-иноязычных словарях (Golden Р. Religion among the Qipcaqs of Medieval Eurasia//Central Asiatic Journal. The Hague; Wiesbaden, 1998. Vol. 42, № 2. P. 211–212).
20
Упоминания культа Неба или отдельных его элементов в источниках применительно к доимперской эпохе, по-видимому, являются такими же анахронизмами, как и окказиональные употребления титула qa'an ~ qahan, впервые принятого сыном Чингис-хана Угедеем в 1229 г., по отношению к самому Чингис-хану и его ближайшим предкам (подробнее см.: Rachewiltz I. de. Qant Qa'an and the Seal of Giiyiig//Documenta Barbarorum: Festschrift für Walther Heissig zum 70. Geburtstag/Hrsg, von К. Sagaster und M. Weiers. Wiesbaden, 1983. P. 272–281).
21
Большинство исследователей монгольской религии склонно напрямую отождествлять культ Неба с шаманизмом или выводить первый из последнего, однако это противоречит сведениям источников о функциональном разграничении шаманов и жрецов культа Неба, в роли которых, как правило, выступали сами монгольские правители. Данные сведения собраны и проанализированы в работах Т. Д. Скрынниковой (см., напр. Скрынникова Т. Д. Шаман или правитель/жрец?//VI Международный конгресс монголоведов (Улан-Батор, август 1992 г.): Доклады российской делегации. М., 1992. Т. 1: История. Источниковедение. Экономика. Археология. Этнография. С. 192–198; Скрынникова Т. Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997. С. 118–144.
22
См., в частности, очень показательное свидетельство Киракоса Гандзакеци: «Но обычно они рассказывают вот что: государь их — родственник бога, взявшего себе в удел небо и отдавшего землю хакану. Говорили, якобы Чингис-хан, отец хакана} родился не от семени мужчины, а просто из невидимости появился свет и, проникнув через отверстие в кровле дома, сказал матери [Чингиса]: "Ты зачнешь и родишь сына, владыку земли". Говорят, так он и родился. Эту [легенду] рассказал нам ишхан Григор, сын Марзпана, брат Асланбега, Саргиса и Амира из рода Мамиконянов, который сам слышал ее как-то от одного знатного человека, по имени Хутун-нуин, из [татарской] высшей знати, когда тот поучал молодежь» (Киракос Гандзакеци. 32).
23
К примеру, вдова ка'ана Гуюка Огул-Каймыш, по свидетельству Рашид-ад-дина, «большую часть времени проводила наедине с шаманами и была занята их бреднями и небылицами» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 122). О других примерах тесных отношений носителей власти с шаманами в эпоху империи см.: Endicott-West Е. Notes on Shamans, Fortune-tellers and Yin-yang Practitioners and Civil Administration in Yiian China//The Mongol Empire and its Legacy. Leiden, 1999. P. 227–228.
24
Одно из немногих свидетельств, относящихся к доимперской эпохе, представляет собой рассказ Рашид-ад-дина о неудачном лечении некоего Сайн-тегина из племени конгират: «Для лечения [Сайн-тегина] попросили у татар [прислать] шамана по имени Чаркил-Нудуя. Он пришел и совершил камланье, но Сайн-тегин умер. Над шаманом учинили насилие и отослали домой. После того старшие и младшие братья Сайн-тегина отправились и убили этого Чаркила шамана [кам]» (Рашид-ад-дин. Т. I. Кн. 1. С. 104). Причины болезни и смерти Сайн-тегина здесь не названы, но приглашение шамана для совершения камлания заставляет думать о том, что они были связаны с действиями злых духов, на борьбе с которыми как раз и специализировались шаманы.
25
В параллельной версии описания этого события у Рашид-ад-дина говорится о том, что когда ка'ан заболел, «шаманы по их обычаю камлали и отмывали его болезнь в воде в деревянной чаше» (Рашид-ад-дин. Т. II. С. 24).
26
Ipsi etiam vocantur cum aliquis puer natus est, ut predicant fatum eius; etiam cum aliquis infirmatur vocantur, et dicunt carmina sua et iudicant utrum sit naturalis infirmitas vel ex sortilegio (Itinerarium. XXXV. 5).
27
Iste autem Bati satlf se magnifice tenet, habens ostiarios et omnes officiales sicut et imperator eorum. Sedet etiam in eminentiori loco, quasi in trono, cum una de uxoribus suis; alii autem, tarn fratres quam filii sui et etiam alii maiores, sedent inferius in medio super bancum; alii vero homines post eos in terra, sed viri a dextris et femine a sinistris. Tentoria autem de panno lineo habet magna et satis pulchra, que regis Hungarie fuerunt. Nec aliquis extraneus ad tentorium audet accedere, preter familiam, nisi vocatus, quantumcumque sit magnus et potens, nisi forsan sciatur quod sit voluntas ipsius. Nos autem, dicta causa, sedimus a sinistris, et sic faciunt omnes nuntii in eundo; sed in redeundo ab imperatore, ponebamur semper a dextris (LT, IX. 17).
28
Мадъян — местность в Аравии.
29
Брат Вильгельм ясно заявляет о своем неверии в эти легенды: Narrabant etiam pro vero, quod tarnen non credo, quod ultra Cathaiam est provincia, cuiuscumque etatis homo ingreditur earn, in tali etate perseverat in quali ingreditur (Itinerarium. XXIX. 49). Очевидно, что у Клоппрогге не было оснований размышлять о слепой вере францисканца в восточные чудеса, см.: Klopprogge А. Ursprung und Ausprägung des abendländischen Mongolenbildes im 13. Jahrhundert: ein Versuch zur Ideengeschichte des Mittelalters. Wiesbaden, 1993. S. 241.
30
Quesivi de monstris sive de monstruosis hominibus de quibus narrat Ysidorus et Solinus. Ipsi dicebant michi quod nunquam viderant talia, de quo multum miramur si verum sit (Itinerarium. XXIX, 46).
31
«Посылал сюда великий хан гонцов разведать об этих островах, да с приказом, чтобы отпустили его гонца, что в плен был взят. Гонцы эти, да тот, что в плен был взят, рассказывали великому хану много чудес об этих диковинных островах» (Марко Поло, с. 203).
32
Об острове Ява Марко Поло сообщает следующее: «Богатства здесь столько, что никому на свете ни счесть, ни описать его. Великий хан острова не мог захватить оттого, что путь сюда далек, да и плавание опасно» (Марко Поло, с. 176).
33
Тамгач (Табгач) — общее название Северного Китая, где тюрками была создана империя Северная Вэй (IV–VI вв.). Ср.: Махмуд Кашгарский о Китае (XI в.): «Чин, в основе своей состоит из трех частей: первая — Верхний Чин, который находится на Востоке, его называют Тавгач. Вторая — Средний Чин, это — Хытай. Третья — Нижний Чин, это в Кашгарии», цит. по: Кононов А. Н. Способы и термины определения стран света у тюркских народов//ТС. 1974. М., 1978. С. 82. Табгач в форме Тамгаст упоминается в византийском сочинении VII в.: «Тавгаст — известный город, от тех, кого называют тюрками, он находится на расстоянии 1500 миль и сам расположен по соседству с Индией» (Феофилакт Симокатта, с. 188). Такое же неопределенное использование термина и у ан-Насави, который пишет о родине Чингис-хана: «Не один из тех, со словами которых считаются, рассказывал мне, что государство Китай (ас-Син) — обширное государство и обойти вокруг него можно за шесть месяцев. Говорят, что он окружен единой стеной, которая прерывается лишь у непреодолимых гор и широких рек. С давних пор ас-Син разделен на шесть частей, каждая из которых протяженностью в месяц пути. В такой части управляет хан, т. е. «государь» на. их языке, от имени великого хана. Их великим ханом, который приходился современником султану Мухаммаду, был Алтун-хан. Они (ханы) наследовали Китай друг за другом — великий от великого, а вернее, неверный от неверного. Обычно они находились в Тамгадже, а это самая середина ас-Сина, и в окружающих местностях и перебирались в течение лета с одной стоянки на другую, переходя из области в область до тех пор, пока не наступала зима с ее мрачным лицом, а тогда они переходили воды Ганга вблизи Кашмира, останавливаясь на зимовку в прибрежной местности с ее прекрасными долинами и возвышенностями, подобных которым нет в других краях» (ан-Насави. 1). Для времени Джузджани название Тамгач как местопребывание монгольского хана было уже анахронизмом.
34
Барака — Берке, третий сын Джучи.
35
Баркана — Беркечар, четвертый сын Джучи.
36
Вардан Великий пишет: «В 1256 г. умер Бату, великий властелин севера. В том же году сын его, Сардах, был отравлен своими братьями, возбужденными завистью, ибо Сардаху передал отец власть свою с присовокуплением к тому же владений Мангу-хана».
37
Д. Айалон полагает, что В. Г. Тизенгаузен допустил ошибку в переводе; речь на самом деле идет о Хулагу, которого Берке обвиняет в не соблюдении Ясы и шариата Ayalon D. The Great Yasa of Chingiz Khan: A reexamination//Studia Islamica 34. 1971. P. 169.
38
Кули, сын Урады, царевич, джучид, принимал участие в захвате Багдада.
39
Булгай, сын Шибана, царевич, джучид, принимал участие в захвате Багдада.
40
Тутар, сын Сонкура, царевич, джучид, принимал участие в захвате Багдада.
41
Для мусульманских и христианских писателей безусловно важен вопрос о вероисповедании кормилицы будущего хана. Так, считалось что Сартак, сын Бату, был воспитан кормилицей-христианкой (Киракос Гандзакеци. 56).
42
Кулзумское море — Каспийское море.
43
Альчик — это мелкая кость в скелете бараньей ноги. Вогнутая сторона игральной бабки является выигрышной (Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1974. Т. 1. С. 144–145).
44
Махди — букв, «ведомый по правильному пути».
45
Выбор мирта неслучаен. Это вечно зеленое благоухающее растение. В нем видели доброе предзнаменование. В древности у арабских царей был обычай приветствовать миртом ради доброго пожелания. Миртовый венок с розами был любимым брачным украшением на Востоке.
46
Е-ли-кэ-унь, монг. аркаун — название христиан.
47
А. Моул доказывает, что «Илия» — это не Иисус Христос (как считает Палладий), а патриарх Мар-Илия, умерший в 1190 г. (в Самарканде был епископат, и А. Моул предполагает, что в XII в. епископом был Илия).
48
По замечанию Палладия, конфуцианец смешал христианские понятия с китайскими. У китайцев дерево, как собирательное понятие растительного царства, составляет одну из пяти стихий и соотносится с востоком. Вполне возможно, что он слышал о рае на востоке и о древе жизни.
49
Ека-нойон, сын Чингис-хана, Толуй.
50
По предположению Палладия, это сирохалдейские несториане.
51
Также сказано, что он обязан был ежегодно представлять из Чжэнь-цзяна в Пекин, для двора, 40 кувшинов шербета, который он готовил варкой винограда, айвы и померанцев.
52
В это время венецианские купцы Никколо и Маффео Поло находились в землях Берке и подтверждают сведения о бедствиях купцов: «Целый год прожили братья в земле Барка-хана, и началась тут война между ним и Алау, владетелем восточных татар. С большими силами вышли они друг на друга и стали воевать; а народ с той и с другой стороны много бедствовал. Победил, наконец, Алау. А по дорогам, в то время как они воевали да сражались, ходить вовсе нельзя было, всех в плен забирали. Бывало это на той стороне, откуда братья пришли, вперед же можно было идти» (Марко Поло, с. 45). Если сведения Вассафа о казнях купцов верны, то, видимо, эти крайние меры касались только купцов-уртаков, ведущих дела в роли торговых агентов хана.
53
Acceptis muneribus, duxerunt nos ad ordam sive ad tentorium ipsius et fuimus instructi ut inclinaremus ter cum genu sinistro ante ostium stationis, et caveremus attente ne pedem super limen ostii poneremus; quod fecimus diligenter, quia sententia mortis'est super illos qui scienter limen stationis ducis alicuius conculcant (LT, IX. 11).
54
Auditis causis, introduxit nos in stationem, facta prius inclinatione et audita admonitione de limine, ut dictum est. Intrantes autem, flexis genibus diximus verba nostra (LT, IX. 16).
55
In crastino venit Bulgai qui erat iusticiarius, et quesivit diligenter si quis monuisset nos ut caveremus a tactu liminis; et ego respondi: «Domine non habebamus interpretem nobiscum, quomodo potuissemus intellexisse?» Tunc condonavit ei. Nunquam tarnen postea permissus est ingredi aliquam domum ipsius Chan (Itinerarium. XXIX. 37).
56
Quamuis de iusticia facienda uel peccato cauendo nullam habeant legem, nichilominus tarnen habent aliquas traditiones quas dicunt esse peccata, quas confixerunt ipsi uel antecessores eorum. Unum est figere cutellum in igne uel etiam quocumque modo tangere ignem cutello, uel cum cutello extraere de caldario carnes, iuxta ignem incidere cum securi; credunt enim, quod sic auferri debeat capud igni. Item appodiare se ad flagellum cum quo percutitur equus (ipsi enim calcaribus non utuntur); item tangere flagello sagittas; item iuuenes aues accipere uel occidere; cum freno equum percutere; item os cum alio osse frangere; item lac uel aliquem potum uel cibum super terram effundere; in statione mingere. Sed, si uoluntarie facit, occiditur, si autem aliter, oportet, quod pecuniam multam soluat incantatori qui purificet eos et faciat et stationem, et ea que in ipsa sunt inter duos ignes transire. Sed, antequam sic purificetur, nullus audet intrare nec de ipsa aliquid exportare. Item, si aliqui morsellus imponitur et deglutire non potest, et de ore suo eicit eum, fit foramen sub statione, et extrahitur per illud foramen, et sine ulla miseratione occiditur. Item, si quis calcat limen stationis alicuius ducis, interficitur eodem modo. Et multa habent hiis similia, de quibus longum esset enarrare (LT, III. 7).
57
Ср. По представлениям нганасан навести беду на человека может любой другой человек. Нарушение запрета нянкары приносит много различных невзгод. Сейчас нганасаны переводят это слово русским «грех» (нельзя пользоваться одеждой умершего, нельзя оставаться жить на том месте, где умер человек, нельзя понапрасну произносить названия болезней и т. д.), см.: Грачева Г. Н. Человек, смерть и земля мертвых у нганасан//Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX — начало XX в.). Л., 1976. С. 56.
58
Косвенным свидетельством о существовании запрета на пользование золотой и серебряной посудой в осеннем обряде возлияния молоком являются сведения китайского чиновника Чжан-дэ-хоя, посетившего в 1248 г. орду царевича Хубилая; однако Чжан-дэ-хой объясняет запрет стремлением участников ритуала к простоте, см.: [О. Палладий.] Путевые записки китайца Чжан-дэ-хой во время путешествия его в Монголию в первой половине XIII столетия. Пер. с прим.//Записки Сибирского отделения Русского географического общества. Иркутск, 1867. Кн. IX–X. С. 585.
59
Et, ut breuiter dicam, per ignem credunt omnia purificari. Vnde, quando nuncii ueniunt ad eos uel principes, uel quecumque persone, oportet ipsos.et munera que portant per duos ignes transire, ut purificentur, ne forte ueneficia fecerint et uenenum uel aliquid mali portauerint. Item, si cadit ignis de celo super pecora uel super homines, quod ibidem sepe contingit, siue aliquid talium eueniat eis, per quod immundos seu infortunatos se reputent, oportet simili modo per incantatores mundari. Et quasi omnem spem suam in talibus posuerunt (LT, III. 10).
60
По мнению П. Лерха, название божества Куар, с которым гунны связывали молнии и небесный свет, происходит от иран. hvare 'солнце' (в Авесте), см.: Лерх П. Библиография//Отд. отт., извлечено из III тома Известий Имп. Археологического об-ва. СПб., 1861. С. 6.
61
Vestes suas etiam non lauant nee lauari permittunt et maxime ab illo tempore, quando tonitrua incipiunt, usque quo desinat illud tempus (LT, IV. 8).
62
Vestes nunquam lavant, quia dicunt quod Deus tunc irascitur, et quod fiant tonitrua si suspendantur ad siccandum; immo lavantes verberant et eis auferunt. Tonitruum supra modum timent. Tunc omnes extraneos emittunt de domibus suis, et involvunt se in filtris nigris in quibus latitant donee transient (Itinerarium. VII. 3).
63
Ср. со сведениями брата Иоанна о климате Монголии: «Климат в ней удивительно переменчив. Ведь в середине лета, когда в других странах обыкновенно в изобилии наибольшая жара, там бывают большие громы и молнии, от которых гибнет много людей; также величайшие снегопады бывают там в это время. Также там бывают столь величайшие бури с холоднейшими ветрами, что люди иногда [лишь] с трудом могут держаться на коне» (LT, I. 5).
64
Natigay соответствует монг.-письм. etügen, ötügen 'Земля, земля — владычица, божество земли'.
65
Magister Willelmus, quondam civis vester, mittit vobis quamdam corrigiam ornatam quodam lapide precioso quem ipsi portant contra fulgura et tonitrua (Itinerarium. XXXVI. 19).
66
Relatio Fr. Benedicti Poloni. 5: Ministri itaque Bati postulata ab eis receperunt munera, scilicet XL pelles castorum et LXXX pelles taxorum. Que munera portata sunt inter duos ignes sacratos ab eis et fratres coacti sunt sequi munera, quia sic mos est apud Thartaros expiare nuncios et munera per ignem.
67
Cp.: «У Батыя послы гордого первосвященника должны были подвергнуться еще большему унижению. Их принудили, в угоду татарским суевериям, пройти между двух огней и потом уже допустили к хану с теми же унизительными обрядами, что и у Корейцы», см.: Красносельцев Н. Западные миссии против татар-язычников и особенно против татар-мухаммедан. Казань, 1872. С. 41.
68
Ильхан — в данном случае Йошмут, сын Хулагу.
69
О силачах с булавами говорится и в китайских источниках; близ хана стояли два стража с большими самородными нефритовыми топорами, см.: [Палладий]. Комментарий архимандрита Палладия Кафарова на путешествие Марко Поло по Северному Китаю//Известия Имп. Русского Географического общества. СПб., 1902. Т. 28. Вып. 1. С. 40.
70
Quando carries manducant, unus eorum incidit et alius accipit cum puncta cutelli morsellos et unicuique prebet, quibusdam plus quibusdam minus, secundum quod eos magis et minus cupiunt honorare (LT, IV. 8).
71
В древнем Риме, гаруспики — предсказатели, изучавшие состояние печени, ее форму, цвет, расположение ее долей, состояние желчи, а также состояние сердца и легких жертвенных животных и по определенным признакам прорицали будущее. См. также: Пожидаева М. А. Общественные ауспиции и авгурии как сакральные действия: сходство и различия//Общество. Власть. Политика: Проблемы всемирной истории. Ярославль, 2005.
72
Казалось бы о гаруспициях или гадании по внутренностям животных говорится в «Тайной, истории монголов», где речь идет о болезни хана Угедея: «Пробовали посредством гадания по внутренностям животных вопрошать духов, не желают ли они принять в качестве выкупа-дзолик — золота с серебром или скота и всякого съестного» (Сокровенное сказание. § 272. Пер. С. А. Козина). А. И. Тугутов исправил перевод С. А. Козина, который внес детали, отсутствующие в оригинале. В частности, в оригинале не говорилось о способе гадания: böes böes tölgecin-e tölgeleülüesü '(устроили) гадания шаманов и шаманов-предсказателей', см.: Тугутов А. И. Гадание и традиционное мировоззрение монголов//Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2008. Вып. 2. С. 118–119.
73
Diuinationibus, auguriis, aruspiciis et ueneficiis, incantationibus multum intendunt, et, cum a demonibus eis respondetur, credunt, quod Deus ipsus loquatur. Quem Deum nominant Ytoga, sed Comani Kam ipsum appellant, quem mirabiliter timent et reuerentur ac ei oblationes offerunt multas et primicias ciborum et potus, et secundum responsum ipsius faciunt uniuersa (LT, III. 10).
74
Divini ergo, sicut ipse confessus est, sunt sacerdotes eorum, et quicquid ipsi precipiunt fieri, absque dilatione completur. Quorum officium vobis describo prout potui a magistro Willelmo addiscere et ab aliis qui verisimilia dicebant michi. Ipsi sunt multi, et semper habent unum capitaneum tamquam pontificem, qui semper collocat domum süam ante maiorem domum ipsius Manguchan, prope quantum posset lapide iactari. Siib; custodia ipsius sunt, ut supra dixi, bige que portant ydola eorum. Alii sunt post curiam in locis sibi assignatis, et veniunt ad eos de diversis partibus mundi qui confidunt in arte ilia. Istorum aliqui sciunt de astronomia, maxime ipse princeps, et predicant eis eclipsim solis et lune; et quando hoc debet evenire omnis populus preparat sibi cibaria, ita quod non oporteat eos egredi hostium domus sue. Et cum fit eclipis, ipsi sonant timpana et organa et faciunt magnum strepitum et magnum clamorem. Peracto autem eclipsi, tunc vacant potationibus et comes-sationibus et faciunt magnum gaudium. Ipsi predicunt dies festos vel infestos ad omnia negotia agenda; unde nunquam faciunt exercitum, nec ineunt bellum sine dicto eorum (Itinerarium. XXXV. 1–2).
75
Istorum secte sunt Moal sive Tartari; quantum ad hoc quod ipsi non credunt nisi unum Deum, tarnen faciunt de filtro ymagines defunctorum suorum et induunt eas pannis pretiosissimis et ponunt in una biga vel duabus, et illas bigas nullus audet tangere, et sunt sub custodia divinatorum suorum, qui sunt eorum sacerdotes, de quibus postea narrabo vobis. Isti divinatores semper sunt ante curiam ipsius Mangu et aliorum divitum; pauperes enim non habent eos, nisi illi qui sunt de genere Chingis. Et cum debent bigare, ipsi precedunt sicut columpna nubis filios Israel, et ipsi considerant locum metandi castrum et primo deponunt domos suas et post eos tota curia. Et tunc cum sit dies festus sive kalende, ipsi extrahunt predictas ymagines et ponunt eas ordinate per circuitum in domo sua. Tunc veniunt ipsi Moal et ingrediuntur domum illam et inclinant se ymaginibus illis et venerantur eas. Et illam domum nemini licet ingredi extraneo. Quadam enim vice volui ingredi et multum dure fui increpatus (Itinerarium. XXV. 9–10).
76
Quando aliquis infirmatur, cubat in lecto et ponit signum super domum suam quod ibi est infirmus, ed quod nullus ingrediatur. Unde nullus visitat infirmum nisi serviens ei. Quando etiam aliquis de magnis curiis infirmatur, ponunt custodes longe circa curiam, qui infra terminos illos neminem permittunt transire. Timent enim ne malus Spiritus vel ventus veniat cum ingredientibus. Ipsos divinatores vocant, tamquam sacerdotes suos (Itinerarium, VIII. 5).
77
Ср. Ан-Насави передает содержание двух перехваченных писем, в которых говорится о том, что из-за колдовства врага снег не выпал в округе Хилата. Ответ гласил: «Твои слова о колдовстве врага и ясном небе показывают, насколько вами овладел страх. Как же иначе — ведь подобное дело может совершить только Аллах! А зимы случаются разные <…>» (ан-Насави. 85).
78
Арабское слово таквим (календарь).
79
19.01.1303–5.02.1304.
80
12.09–10.10.1303.
81
Ши-цзу — храмовое имя Хубилая (1260–1294).
82
3.02.1307–23.01.1308.
83
Древнекитайский способ гадания на обожженных черепаховых щитках. См.: Ху Хоу-сюань. Некоторые вопросы китайской эпиграфики//Проблемы востоковедения. 1959. № 6. С. 104–114.
84
«Сжигать пи-па» — по-видимому, ироническое название, данное китайцами монгольской практике гадания на обожженной бараньей лопатке. Пи-па — китайский струнный музыкальный инструмент, напоминающий по форме лопатку (прим. Мункуева, см.: «Мэн-да бэй-лу», с. 190).
85
«Мирхонд рассказывает, что Беркай, получив просьбу Хайду о помощи, велел своим астрономам составить гороскоп Хайду; когда ответ оказался благоприятным, Беркай согласился помочь Хайду деньгами и войском и, в случае победы над Алгуем, признать его владетелем чагатайского улуса» (Бартольд В. В. Туркестан под владычеством монголов (1227–1269 гг.)//Сочинения. М., 1963. Т. I. С. 579).
86
С позиции мусульман облачение в почетные одежды, присланные халифом, было знаком признания авторитета халифа; облачение совершалось публично. Когда султан Джалал-ад-дин прекратил вражду с халифом ан-Насиром и восстановил хутбу, то халиф прислал ему два набора почетных одежд, и посол халифа проследил, чтобы султан облачился в обе одежды (ан-Насави. 85). Сам султан Джалал-ад-дин жаловал почетные одежды тем наследственным правителям, которые признавали его власть (ан-Насави. 8). Монголы тоже присылали почетную одежду тем владетелям, кто поступал к ним на службу, «выказывая покорность, послушание и объявляя о своем подчинении» (ан-Насави. 32). В этом контексте слухи о том, что Берке облачился в почетные одежды от халифа, выглядят безосновательно.
87
По свидетельству Ибн Баттуты, такое же поведение демонстрировал шейх Ну'ман-ад-дин ал-Хорезми перед Узбеком: «Султан Узбек каждую пятницу приходит навещать его, но он (имам) не выходит к нему навстречу и не встает перед ним. Султан садится перед ним, говорит с ним самым ласковым образом и смиряется перед ним, шейх же [поступает] противоположно этому. Обхождение его с факирами, нищими и странниками было иное, чем обхождение его с султаном; он относился к ним снисходительно, говорил с ними ласково и оказывал им почет» (Сборник материалов. Т. I. С. 232).
88
Vаsаry Istvаn. «History and Legend» in Berke Khan's conversion to Islam (1990)//Turks, Tatars and Russians in the 13th — 16th Centuriens. 2007. (Variorum Collected Studies Series: CS884).
89
Est alius qui dicitur Berea, frater Baatu, qui pascit versus portam ferream, ubi est iter sarracenorum omnium venientium de Perside et de Turkia. Qui euntes ad Baatu et transeuntes per eum defferunt ei munera; et ille facit se sarracenum, et non permittit in curia sua comedi carnes porcinas. Tarnen Baatu in reditu nostro preceperat ei quod transferret se de loco illo ultra Etiliam ad orientem, nolens nuncios sarracenorum transire per eum, quia videbatur sibi dampnosum (Itinerarium. XVIII. 2). Выражение facit se sarracenum имеет два толкования: 1) Берке стал мусульманином; 2) Берке изображал себя мусульманином.
90
«Кара-хан, будучи наследником престола, занял место отца и стал падишахом. У него родился весьма счастливый и с августейшими признаками сын. Три дня и три ночи он не брал грудь матери. Мать потеряла надежду на его жизнь и была печальна и грустна. Однажды ночью она увидела во сне, как сын говорит ей: "Если ты желаешь чтобы я сосал твою грудь, то уверуй в единого творца, признай его и считай его власть над собой обязательной". Женщина видела этот сон в течение трех ночей. Но так как это племя было неверным (кафир), то женщина не осмелилась рассказать им о случившемся и втайне от мужа уверовала во всевышнего господа. Воздев руки к небесам, она взмолилась и сказала: "Господи! Помоги мне, несчастной, сделай мое молоко для этого дитяти сладким!". И Огуз сразу же прижался к материнской груди и стал сосать» (Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме/Пер. с перс., предисл., коммент., прим, и указатели Р. М. Щукюровой. Баку, 1987. С. 26) — Доп. А.Ю.
91
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. I. С. 397, 106; «Первым, кто принял ислам из владык этого государства, потомков Чингис-хана, был Берке, сын Джучи, сына Чингис-хана. Принятие им ислама произошло до его вступления во власть, в то время, когда его брат Бату-хан послал его для возведения Менгу-хана на престол деда его, Чингис-хана. Он [Берке] сделал это и повернул обратно. По пути он заехал к ал-Бахарзи, шейху [суфийского] тариката, и принял ислам из его рук. Он был искренним в своей вере и принял власть после своего брата Бату-хана уже мусульманином» (Григорьев А. Я., Фролова О. Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии ал-Калкашанди//Тюркологический сборник 2001. М., 2002. С. 298) — Доп. А.Ю.
92
«Упомянутый [Берке-хан] — да будет над ним милость [Аллаха] — знаменит [тем, что] с рождения матерью был мусульманином. Когда он появился на свет, он не сосал молока [ни] своей матери, [ни] молока других женщин-немусульманок. По этой причине показал [его Йочи] своим колдунам и ведунам. Когда те сказали: "Он — мусульманин. Мусульмане не сосут молока женщин-немусульманок", — то разыскали и доставили женщину-мусульманку. Ее молоко он начал сосать. Когда через несколько лет после этого события его отец Йочи-хан умер, он пришел в город Сыгнак, не будучи в состоянии находиться среди неверных. Когда же он пришел в этот вилайет, то, прослышав о достохвальных качествах Шайх ал-'алам Шайх Сайф ад-дина Бахарзи, который был [одним] из халифа хазрата полюса полюсов Шайха Наджм ад-дина Кубра, со страстным желанием и любовью прибыл к нему на служение и в течение нескольких лет ревностно стремился овладеть крайней степенью [духовного] совершенства святых» (Утемиш-хаджи, с. 96). Абд ал-Гаффар Кирими дает более подробные сведения: «kendi akrabasi ve ulike ümerasi bum nazardan iskät ve devr idüb mecnündir diyii mehcur itmeleri hesebiyle du dahi vilayet-I Signak tarafina hicret idüb…» (Abd al-Ghaffar, ed. Necip Asim, p. 21).
93
«Беки в согласии послали гонца к Хулагу-хану. Послали ножны без сабли и рубаху без ворота, то есть эль остался — государей в нем нет, женщины остались — мужей у них нет» (Утемиш-хаджи, с. 96).
94
Перевод по изданию: DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde: Baba Tiikles and Conversion to Islam in Historical and Epic Tradition. Pennsylvania State University Press, 1994. P. 81–90.
95
У ДеВииза — western Inner Asia, что может поставить в тупик русскоязычного читателя. — Уточнение А.Ю.
96
Western Inner Asia в данном случае — Средний Восток, перс.
97
Как и в других частях Монгольской империи, главными носителями буддизма в Золотой Орде, вероятнее всего, были уйгурские бахши, религиозная роль которых сочеталась с их более общим политическим и культурным значением в качестве писцов при дворах монгольских правителей; таким образом, термин бахши получал самые разные семантические интерпретации (см.: Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen: Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Wiesbaden, 1963–1975. Bd. II P. 271–277), иногда явно обозначая буддийского монаха, иногда просто писца, обученного уйгурскому письму, а в некоторых случаях религиозного «деятеля» не буддистской, а какой-либо местной традиции. Сложно сказать, насколько рано появилось последнее значение. Слово бахши стало в Средней Азии стандартным обозначением как «шаманов», так и «сказителей», сочетавших элементы шаманского действа и эпического сказительства, а упоминание бахши как религиозных деятелей, которых почитал Токта, но казнил Узбек, вкупе с крайне скудными свидетельствами буддистской деятельности и присутствия в улусе Джучи, подразумевает, что это семантическое развитие относится к достаточно раннему времени; может быть, впрочем, что слово бахши использовалось арабскими писателями неточно, как общее обозначение противников ислама. В любом случае, уйгурское письмо, несомненно, широко использовалось в улусе Джучи и само по себе свидетельствует о присутствии лиц, вероятнее всего, по происхождению и культуре связанных с буддистским уйгурским миром; само обозначение «уйгур», похоже, несло в себе (в Золотой Орде, как и в других монгольских землях) более отчетливые буддистские коннотации, чем даже слово бахши. Таким образом, нельзя исключать, что буддистский элемент сохранялся в улусе Джучи, как показывает сообщение Иоганна Шильтбергера (начало XV в.), очевидно, относящееся к действовавшим там «уйгурам»-буддистам (cp.: Hans Schiitbergers Reisebuch nach der nürnberger Handschrift, ed. V. Langmantel. Tübingen, 1885. S. 40, где он приписывает этим «уйгурам», которых, по его словам, он видел в «Сибири» у принца-чингизида Чакры (Tzeggra), поклонение образу младенца Иисуса; в английском переводе Телфера, опубликованном Обществом Hakluyt приводится форма этого слова «Ugine»), и заметка Иосафата Барбаро об исламизации этой области только при Едигее, однако наша информация слишком скудна, чтобы должным образом определить роль буддизма в Золотой Орде. О использовании уйгурского письма в улусе Джучи см. Istvan Vasary. Bemerkungen zum uigurischen Schrifttum in der Goldenen Horde und bei den Timuriden//Ural-asiatischen Jahrbücher, Neue Folge, 7. Wiesbaden, 1987. S. 115–126. О двойственном значении термина бахши в улусе Джучи как религиозном «деятеле культа» и писца см.: Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. Казань, 1979. С. 125–128.
98
Вопреки мнению Д. ДеВииз, Берке, равно как и Бату, не носил ханского титула. По сведениям Джувайни, ханом называли того, кому принадлежит власть над Монгольской империй. Остальных Чингизидов, даже если они правили улусами, просто называли по именам. По сведениям брата Бенедикта, титул хан (саn) означает «император» (НТ, § 9). Раз нет термина «хан» для правителей улусов, то нет и исторической, реальности, обсуждаемой Д. ДеВииз. Поясню свою мысль: у нас нет оснований говорить о монгольском хане-мусульманине. Берке как ставленник кочевой аристократии чтил Ясу и даже не чеканил монету со своим именем. Отсутствие титула означает, что правитель Улуса Джучи мыслил себя членом «золотого рода» Чингис-хана, а подвластный ему улус воспринимал как неотъемлемую часть Монгольской империи. Ни о каком сепаратизме Берке и уж тем более о претензиях на основание самостоятельного государства и речи не было. С позиции Чингизидов власть и могущество отдельных представителей рода над территориями, завоеванными совместными усилиями, вовсе не означали отказ подчиняться воле каана и решениям курултаев. Наоборот, могущество царевичей находило поддержку в могуществе рода, что не исключало соперничества правящих домов при выдвижении своих кандидатов на трон в случае смерти каана. Мне кажется, что современные исследователи путают понятия «самостоятельности» и «независимости» и совсем не учитывают систему управления в Монгольской империи. — Доп. А.Ю.
99
В арабской хронике конца XVI в., написанной ал-Джаннаби (ум. 999 г.х./1590–1591 гг.), упоминается записка под названием «ан-Насирийя», сочиненная в честь Берке известным хорезмийским правоведом Мухтаром бен Махмудом аз-Захиди (ум. 658/1260 г.); этот труд, очевидно, до нас не дошел. Эти сведения ал-Джаннаби цитирует по «истории ал-Малика ал-Му'аййада», правителя Хамы, судя по всему, имея в виду сирийского историка начала XIV в. Абу-л-Фиду; впрочем, этот отрывок отсутствует в сохранившейся версии труда Абу-л-Фиды (о сходных цитатах у других историков см. Little, Introduction, р. 40–41). Раздел из сочинения ал-Джаннаби, цитируемый здесь, не приводится в сборнике материалов Тизенгаузена. Я просмотрел отрывок из этого труда в рукописи Британского музея (MS. Or. 1761. ff. 295b–309a), которую Рие считал анонимной арабской историей Дешт-и Кипчака.
100
Перевод Raverty, Vol. II. Р. 1283; сюжет обсуждается в статье Richard, La conversion, р. 178–183; Возможный отголосок этого мотива, согласно которому отец Берке, Джучи, хотел, чтобы его сын стал мусульманином, можно найти еще раньше, в истории ан-Насави о последнем сыне хорезмшаха Джалал ад-дине; ан-Насави пишет, что сестра Джалал ад-дина, взятая в плен монголами, сумела передать брату, что каган (непонятно, кто имеется в виду под этим обозначением) поручил ей обучать Корану его детей.
Речь идет о Хан-Султан, дочери хорезмшаха, ставшей женой Джучи. «Хан-Султан — старшая из дочерей султана ['Ала' ад-дина] Мухаммада — была взята в плен [татарами] вместе с Теркен-хатун. Ее взял к себе Души-хан, и она [юдила ему детей. Затем Души-хан умер, и она сообщила своему брату, султану Джалал-ад-дину], сведения о татарах, о новостях у них и об их положении. <…> Она сообщала брату, что ал-хакан уже приказал учить ее детей Корану "и к нему дошло известие о твоей силе, вооружении, о твоем могуществе и обширности твоих владений. Поэтому он решил с тобой породниться и договориться о том, чтобы владения ваши были разграничены рекой Джейхун: тебе то, что до реки, а ему то, что за ней» (ан-Насави. 85). В переводе 3. М. Буниятова речь идет о детях Хан-Султан, а не о детях хакана. Совершенно ясно, что ал-хакан — это хан Угедей. — Доп. А.Ю.
101
«Кара-хан, будучи наследником престола, занял место отца и стал падишахом. У него родился весьма счастливый и с августейшими признаками сын. Три дня и три ночи он не брал грудь матери. Мать потеряла надежду на его жизнь и была печальна и грустна. Однажды ночью она увидела во сне, как сын говорит ей: "Если ты желаешь чтобы я сосал твою грудь, то уверуй в единого творца, признай его и считай его власть над собой обязательной". Женщина видела этот сон в течение трех ночей. Но так как это племя было неверным (кафир), то женщина не осмелилась рассказать им о случившемся и втайне от мужа уверовала во всевышнего господа. Воздев руки к небесам, она взмолилась и сказала: "Господи! Помоги мне, несчастной, сделай мое молоко для этого дитяти сладким!". И Огуз сразу же прижался к материнской груди и стал сосать» (Фазлаллах Рашид ад-Дин. Огуз-наме/Пер. с перс., предисл., коммент., прим, и указатели Р. М. Шукюровой. Баку, 1987. С. 26). — Доп. А.Ю.
102
По Рашид-ад-дину, ее звали Яйлак (Yaylaq), и это напоминает о «Яйлак», о которой мы говорили выше и которая считается женой Ногая и христианкой. Яйлак-хатун называют женой Ногая Рукн ад-дин Байбарс и ан-Нувайри (Тизенгаузен В. Г., 1884. Т. I. С. 86, 108–109 и 136, 157–158, в форме «Байлак»). Согласно этим сообщениям, она играла важную роль в отношениях между Ногаем и Токтой в ранний период царствования последнего; возможно, имена, отношения и роли персонажей этой истории были перепутаны в одном из источников, но сложно сказать, какой из них отражает оригинальную версию. В поддержку варианта Рашид-ад-дина говорит одна не полностью сохранившаяся рукопись тюркской «Мухаббат-намэ» (сочиненной поэтом Хорезми в середине XIV в.), где покровитель поэта, кунгират Мухаммад-Ходжа бек, именуется сыном «Яйлага Кутлуга», обсуждение вопроса см.: Hofman Н. F. Turkish Literature: A Bio-Bibliographical Survey; Section III (Chaghatai), Part I (Authors). Utrecht, 1969, III. P. 262–265.
103
Арабское слово ал-адил активнейшим образом использовалось в титулатуре Чингизидов. Его прямой перевод — справедливый. Однако его смысловое значение, скорее всего, соотносилось со следующим утверждением: справедливо [Богом посаженный на престол], т. е., иными словами — законный. — Прим. авторов статьи.
104
«Дирхем» используется как общепринятое наименование средневековых серебряных мусульманских монет. Вопрос, назывались ли такие монеты в XIII в. в Крыму ярмаками или барикатами сейчас находится на стадии обсуждения.
105
Джучидские тамги — это не только привычная двуногая тамга, но и вся группа тамг, принадлежавших как отдельным лицам, так и семейным кланам из рода Джучи.
106
Отмечу, что трехногая «тарак»-тамга известная как тамга тукатимуридов Гиреев впервые появилась на анонимных пулах Сыгнака при хане Урусе или Токтамыше, также тукатимуридах, т. е., на пятьдесят лет раньше, чем на монетах Крымского ханства.
107
Первая публикация: Башарин П. В. «Сакральные войны» в рамках мусульманской демонологии//Рах islamica. Мир ислама. 2009. № 2. С. 45–62.
108
Сборник материалов. Т. II. С. 57. В отличие от Джувайни, арабские летописцы называют Боракчин женою Тоган-хана, сына Бату, и матерью Туда-Менгу (Сборник материалов. Т. I. С. 122, 352).
109
Miserat enim ibi nuntios suos, qui ad ipsum et fratrem suum Danielem redierant, portantes securitatem de transeundo ad Bati domino Danieli (LT, IX. 2).
110
Марко Поло описывает новогодние ритуалы при дворе Хубилая, двоюродного брата Бату: «Утром, в праздник, к государю в большой покой, пока столы не расставлены, приходят цари, герцоги, маркизы, графы, бароны, рыцари, звездочеты, врачи, сокольничие и все другие чины, управляющие народами, землями, военачальники, а те, кому нельзя взойти, становятся вне дворца, в таком месте, где великий государь мог бы их видеть. Строятся вот в каком порядке: сперва сыны, племянники и те, кто императорского роду, потом цари, а там герцоги, затем все другие, в том порядке, как им следует» (Марко Поло, с. 113).
111
Quesivit etiam a nobis si vellemus bibere cosmos, hoc est lac iumentinum — christiani enim Ruteni et Creci et Alani qui sunt inter cos, qui volunt stricte custodire legem suam non bibunt illud, immo non reputant se christianos postquam biberint, et sacerdotes eorum reconciliant eos tamquam negassent fidem Christi (Itinerarium. XI. 5).
112
Faciunt etiam caracosmos, hoc est nigrum cosmos, ad usum magnorum dominorum, hoc modo (Itinerarium. IV. 4).
113
4. Faciunt etiam caracosmos, hoc est nigrum cosmos, ad usum magnorum dominorum, hoc modo. Lac equinum non coagulator. Regula enim est quod nullius animalis lac, in cuius fetus ventre non invenitur coagulum, coagulatur; in ventre pulli equi non invenitur, unde lac eque non coagulator. Concutiunt ergo lac in tantum quod omne quod spissum est in eo vadit ad fundum recte, sicut feces vini, et quod purum est remanet superius, et est sicut lac serum, vel sicut mustum album. Feces sunt albe multum, et dantur servis, et faciunt multum dormire. Illud darum bibunt domini, et est pro certo valde suavis potus et bone efficacie. 5. Baatu habet XXX hominess circa herbergiam suam ad unam dietam, quorum quilibet qualibetlac trium milium equarum, except alio lacte albo quod deferent alii (Itinerarium. IV. 4–5).
114
Ердик (арм.) — слуховое окно, пробитое в кровле дома, служившее и дымоходом.
115
Согласно переводу А. И. Малеина, идол делают каждый раз для каждого императора (Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука/Пер. с лат. А. И. Малёина, редакция, вступит, ст. и примем. Н. П. Шастиной. М., 1957. С. 29).
116
Primo etiam imperatori fecerunt ydolum quod ponunt in curru ante stationem honorifice, sicut uidimus ante ordam imperatoris istuis, cui offerunt munera multa. Equos etiam offerunt ei quos nullus audet ascendere usque ad mortem. Alia etiam animalia eidem offerunt; que, si occidunt ad manducandum, nullum os confringunt ex eis, sed igne comburunt. Ei etiam ad meridiem tamquam Deo inclinant et inclinare faciunt aliquos nobiles qui sese reddunt eisdem (LT, III. 3).
117
Совершенно не понятно, на каких основаниях И. Н. Данилевский полагает, что папский легат Иоанн де Плано Карпини был очевидцем смерти Михаила Черниговского и описал ее со всеми подробностями, в том числе, передал и прямую речь, см.: Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. С. 168. Папский легат не был очевидцем происшествия, поскольку находился в Монголии, более того, сообщая о смерти князя, он ссылается на рассказ черниговского посла. Таким образом, брат Иоанн передает черниговскую версию события, которая не может быть использована для иллюстрации диковинной теории о том, что эсхатологические ожидания не позволили русским организовать достойный отпор монголам. Что касается эсхатологических ожиданий, то, на мой взгляд, Лаврентьевская летопись передает умонастроения церковного писателя. Каковы были настроения на русских землях мы попросту не знаем. Нет никаких оснований ставить знак равенства между представлениями церковных писателей и тех, кто занимался реальной политикой.
118
Unde nuper contigit quod Michael, qui fuit unus de magnis ducibus Ruscie, cum ivisset ad reddendum se Bati, fecerunt eum prius inter duos ignes transire. Post hoc dixerunt ei quod ad meridiem Chingiscan inclinaret; qui respondit quod Bati et servis suis inclinaret libenter sed imagini hominis mortui non inclinaret, quia non liceret hoc facere Christianis. Et cum sepe diceretur ei quod inclinaret, et nollet, mandavit ei dux predictus per filium Ierozlai quod occideretur si non inclinaret. Qui respondit, quod potius vellet mori, quam facere quod non licet. Ac ipse satellitem unum misit, qui tarn diu contra cor eum in ventre calce percussit, quousque deficeret. Tunc quidam de suis militibus qui astabat, confortavit eum dicens: «Esto constans, quia репа hec non diu tibi durabit, et statim sequetur gaudium sempiternum». Post hec fuit ei caput cutello precisum. Militi vero predicto fuit caput etiam cum cutello amputatum (LT, III. 4).
119
Латинское выражение contra cor букв, «против сердца» в переносном смысле означает «против желания». А. А. Горский настаивает на буквальном переводе. В первом русском переводе 1795 г., выполненном по французскому изданию П. Бержерона (1723 г.) интересующий нас пассаж выглядит так: «тогда Батый послал одного из своих стражей, который до тех пор бил его в живот и в грудь, что он вскоре от того умер» (Любопытнейшее путешествие монаха францисканского Ордена Жана дю План-Карпино… М., 1800. С. 56). В переводе Д. И. Языкова опущено слово живот: «После этого Баты прислал одного телохранителя, который бил его пинками в сердце до тех пор, пока он не умер» (Языков Д. И. Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV, XV столетиях: 1. Плано Карпини; 2. Асцелин/Лат. текст, пер. и коммент. СПб., 1825. С. 86). Последний немецкий переводе Ф. Шмидер буквально следует тексту: «Und Batu sandte einen seiner Leute, der den Michail so lange mit der Ferse in der Herzgegend in den Leib trat, bis er starb» (Johannes von Plano Carpini. Kunde von den Mongolen: 1245–1247/Übersetzt, eingeleitet und erläutert von F. Schmieder. Sigmaringen, 1997. S. 49). В итальянском переводе M. Лунгаротти говорится об ударах в грудь и живот: «Allora quello gli mandö uno dei suoi emissari, che lo colpM ripetutamente a calci nel petto e nel ventre finche perse i sensi» (Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli/Ed. critica del testo latino а cura di E. Menestö; trad, italiana а сига di M. C. Lungarotti e note di P. Daffinä; introduzione di L. Petech; studi storico-filologici di C. Leonardi, M. C. Lungarotti, E. Menestö. Spoleto, 1989. P. 343).
120
На уровне массового сознания фантом выглядит так: «Сказание о Михаиле Черниговском прославляет мученический подвиг русского князя. Вынужденный пойти в Орду на поклон к Батыю, чтобы из рук завоевателя получить "ярлык" (фирман) на право княжения, Михаил и его боярин Федор наотрез отказались от требования пройти сквозь очистительный огонь, поклониться солнцу, кусту и идолам (монголо-татары были тогда еще язычниками). Выполнение этого требования было для них равносильно измене родине, т. е. христианской вере, вере отцов своих» (Кусков В. В. Повести о трагических событиях отечественной истории//Русская словесность. 1996. № 1. С. 10).
121
По мысли М. Б. Плюхановой, композиция памятника первой половины XVI в. «Слово похвальное Филолога черноризца Михаилу Черниговскому и боярину его Федору», сочетающая плач о страдании русской земли-Церкви с прославлением святого героя-воина, князя-мученика, идеальна для литературы Московского царства. Монгольское нашествие в «Слове» трактуется как вражье ополчение на святую Церковь. Русское царство пало, подобно Вавилону, Риму и Иудее, от собственных грехов. Но скорбь оборачивается радостью, когда Михаил Черниговский совершает свой подвиг (погибает в Орде). Как считает М. Б. Плюханова, «Житие Михаила Черниговского, возникшее в середине XIII в., представило Михаила традиционным мучеником за веру, хотя сам Батый в ранних версиях еще не получил черт борца против христианства. К эпохе Льва Филолога.: Михаил из страдальца за веру стал преображаться в воителя за Русь-Церковь. Как мученик за веру, Михаил традиционно предстает победителем, увенчанным венцом победы и смерти, но теперь это одновременно и победа христианства, и победа над Батыем, спасение Руси-Церкви» (Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 78). По наблюдению А. С. Демина «Житие» князя Михаила в списках XIII–XIV вв. упоминало о Батые нейтрально: «царь Батыеви». И только в списках XV–XVI вв. появился «безбожный», «скверный», «нечестивый», «законопреступный» царь Батый; с этого времени наблюдается систематическая вставка осуждающих эпитетов везде, где упоминались татарские имена (Демин А. С. Элементы тюркской культуры в литературе Древней Руси XV–XVII вв. (К вопросу о видах связей)//Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 526–527).
122
Голубинский Е. Е. Порабощение Руси монголами и отношения монгольских ханов к русской церкви или к вере русских и ее духовенству//Богословский вестник. 1893. № 7–8 (июль). С. 58–59. Юрист Р. Ю. Почекаев принимает церковную версию событий за юридические нормы, действовавшие в Золотой Орде: «Другим серьезным преступлением считалось оскорбление хана и представителей ханского рода. За подобные преступления неоднократно расставались с жизнью (так!) даже иностранные правители, находившиеся в вассальной зависимости от хана Золотой Орды. Русские летописи донесли до нас сообщения о мучительной казни рязанского князя Романа Ольговича (1270 г.), который "хулит… великого царя"» (Почекаев Р. Ю. Право Золотой Орды. Казань, 2009. С. 127). Нормы, предусматривавшей наказание преступника расчленением на части за оскорбление хана, в законодательстве Золотой Орды не было. Поздний агиографический эпизод не может рассматриваться в качестве документального свидетельства. Для научного анализа требуется достоверная выборка известий. В источниках XIV в. по истории монголов упоминается более 15 эпизодов, когда высокопоставленных сановников и князей, входивших в состав монгольской имперской элиты, казнили, расчленяя тело по суставам, за измену. Таким образом, князь Роман Ольгович был казнен за измену, а не за злой язык, и не как вассал хана, а как представитель властной монгольской элиты. Настаивать на обратном, означает продлевать жизнь церковного мифа, ср.: Афанасьев В. За верность Христу расчлененный. 735 лет со дня казни 19 июля 1270 г. св. благоверного князя Романа Рязанского//Русский вестник. 22.07.2005.
123
Иаков занимал высокую должность при дворе персидского царя Иездегерда (399–420). Согласно преданию, царь, узнав о христианской вере Иакова, настаивал на том, чтобы тот отрекся от Христа. За отказ святого предали мучительной смерти. Он был рассечен мечом. Поразительно, что русский летописец также прибегает к этому образу, уподобляя князя Романа Иакову Персиянину. Христианские историки осмысливают события в сходной парадигме, которая имеет только одну точку соприкосновения с реалиями Монгольской империи. Ишхан Джалал и князь Роман служат иноверным ханам. Монголы никого не преследовали за вероисповедание.
124
…е tant fist qu'il prist le traitre Parvana, e tantost, selonc la manere des Tartars, il le fist tranchier par mi, e comanda que en toutes les viands que il devoit manger feüst mise de la char dudit Parvana; e Abaga en manga, e en dona [ä] sa gent ä manger. E tel vengeance prist Abaga du traitre Parvana (Hayton, III. 29).
125
Вакуф — в мусульманском праве имущество, переданное отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели.