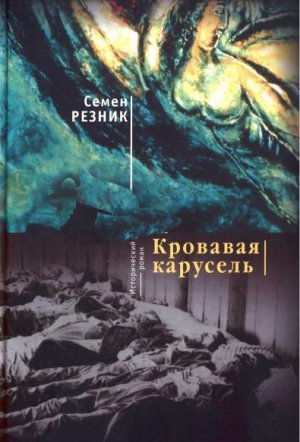
Об исторических романах Семена Резника. Вместо предисловия
«В эмиграции [Семен Резник] раскрылся как оригинальный прозаик, хотя роман „Хаим-да-Марья“ и [две] повести „Кровавая карусель“ написаны еще в России. Написаны, но были обречены на неиздание.
„Хаим-да-Марья“ назван историко-документальным романом-фантасмагорией. Не потому, что того, о чем в нем повествуется, в действительности не было, а потому, что реальность, воплощенная в событиях и судьбах повествования, фантасмагорична до абсурда. Сюжет романа задан российской историей: действие развивается в 20-30-е годы XIX века, в царствование Николая I, и связано с так называемым „Велижским делом“, по которому более 40 евреев обвинялись в ритуальных убийствах христианских детей. Что это, как не один из ответов на вопрос об исторических корнях и хронологических рамках русского антисемитизма?..
„Кровавая карусель“ — две повести под одной обложкой и одним названием. В основе сквозного сюжета обеих — еврейский погром 1903 года в Кишиневе. Его драматические события в первой повести даны через восприятие убежденного шовиниста — охранителя, апологета царизма, поборника и выразителя имперской политики, великодержавной идеологии, [П.А. Крушевана]. Во второй они увидены глазами [В.Г.] Короленко, писателя-гуманиста, чей совестливый, неподкупный голос мужественно звучал в защиту жертв черносотенного насилия и полицейских провокаций».
Валентин Оскоцкий, критик и литературовед, Москва. (Доклад: «Антифашистская литература русского зарубежья», 1992 г.)
«Семен Резник владеет материалом как профессиональный историк. От него не ускользает, кажется, ни одна архивная мелочь, способная воссоздать события и, главное, характеры людей стопятидесятилетней давности. Дальше историк уступает место писателю, точнее, плодотворно сосуществует с ним. Неизбежный и необходимый в историческом романе домысел (вспомним Ю. Тынянова!) дает автору творческую свободу, которой он пользуется с умением и тактом».
Эдуард Капитайкин, литературный критик, Израиль. («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1986 г.)
«Роман [„Хаим-да-Марья“] написан мастерски, это существенный вклад в современную литературу. В причудливой повествовательной манере автора оригинально сочетается реалистическое повествование с его пародированием… В книге много горького сарказма, убийственной иронии. Резник пишет для своих современников, хотя и не о них самих. Это подчеркивается современными лексическими оборотами, вклиненными в стилизованное под старину повествование, усиливая намеренные диссонансы, характерные для стиля этого необычного романа.
Сюжет романа — это нагромождение беспредельных абсурдов и столь же беспредельных страданий… Два императора, министры, губернаторы, местные правители оказываются в кафкианском лабиринте полицейско-бюрократической системы царской России. С.Резник показывает их как живых людей, а не как безликий инструмент власти. Все дело держится на показаниях городской проститутки Maрьи Терентьевой, чье реальные и воображаемые похождения находятся в центре повествования. С.Резник прибегает к острой сатире, позволяющей рельефнее раскрыть психологию и эмоциональное состояние жертв — не только Хаима и других евреев, но также и Марьи, которую автор показывает не столько источником зла, сколько инструментом, которым умело манипулируют. Откуда же явилось зло? Последовательно избегая прямых обвинений и дидактических деклараций, С.Резник не дает прямого ответа на этот вопрос, даже не ставит его. Но всем строем повествования дает читателю возможность самому на него ответить. Когда роман, полный интригующих сюжетных поворотов, дочитан до конца, он оставляет в сердце глубокую рану».
Яков Рабкин, профессор Монреальского университета, Канада, 1988.
«В марте 1988 года, когда [будапештское] издательство „Интерарт“ решило издать эту книгу русского писателя, живущего в Америке, все мы были уверены, что просто дарим читателям еще один превосходный роман. Достаточно редкий роман, который, без всякого сомнения, будут читать и через 50 лет. Ведь такое происходит не часто, чтобы произведение находило горячий отклик у читателей, вызывало и смех, и слезы. Такой роман самозабвенно прочитывается от доски до доски даже утонченными интеллектуалами с завышенными эстетическими требованиями, хотя в нем не найти внешних атрибутов, обязательных в современной литературе. А, может быть, благодаря именно этому».
Агнеш Геребен, профессор русской литературы, Будапешт, 1989. (Из послесловия к венгерскому изданию романа «Хаим-да-Марья».)
«Я только что прочитала роман „Хаим-да-Марья“ и нахожусь под сильным впечатлением. Я давно интересуюсь литературой на языке идиш, и меня особенно заинтриговало воссоздание мира, известного из произведений таких писателей, как Шолом-Алейхем, братья Зингеры, И.Л. Перец. То, как Вы воссоздали мир маленьких еврейских городков начала XIX века, со всеми его традициями и предрассудками, жестокостями и человечностью, выглядит очень убедительно. Отличие Вашей книги от других исторических романов об антисемитизме, по-моему, состоит в том, что сюжет излагается и с позиций антисемитов, так что в книге представлены обе точки зрения — гонителей и гонимых… Как Вы знаете, в редакции газеты „Вашингтон Таймс“ я состою в литературной комиссии, и могу Вас заверить, что большинство книг, которые к нам поступают для рецензирования, на половину не столь интересны и захватывающи, как Ваш роман».
Хеле Беринг Дженсен сотрудник газеты «Вашингтон Таймс» (Из письма автору), 1988.
«Когда стоишь перед каруселью истории и вглядываешься в нее, мелькают многие страшные фигуры: избиение младенцев, Варфоломеевская ночь, стрелецкая казнь, ночь разбитых стекол (поэтично переведенная с немецкого как „Хрустальная“), армянская резня, трагедия красной Кампучии, коллективизация, Катастрофа европейского еврейства… Почему же Семен Резник сделал темой своей книги кишиневский погром 1903 года, несчастье ныне сравнительно редко вспоминаемое?
Потому, что именно оно определяло поляризацию сил перед ключевым моментом русской истории — революцией 1905 года. Его художественно-исторический анализ помогает осмыслить и ряд намного более поздних фигур российской „карусели“, от Октябрьского путча до нынешних сборищ „Памяти“….
Споров в книге много. Исторические персонажи спорят друг с другом и с вымышленными, реже — вымышленные между собой: все-таки книга историческая. Автор не подыгрывает в них своим союзникам, не оглупляет противников. Павла Крушевана Резник почти полюбил, только читатель этой любовью не заражается. Конечно же, это литературный прием, но он необходим, чтобы не уподобиться антисемитам и большевикам в неприятии любых контраргументов».
Марк Рейтман, «На кровавой карусели» «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1988).
«Читать „Кровавую карусель“, книгу, объединившую исторические повести Семена Резника об антиеврейских погромах в России начала [XX] века, мне, русскому человеку, тяжело и больно… Если бы Семен Резник остановился только на документальном описании Кишиневского погрома и его идеологическом оформлении писателем Крушеваном… его книгу можно было бы отнести к разряду стирающих еще одно „белое (черное!) пятно“ в российской истории… Однако автор, как бы адресуясь к совести современной русской интеллигенции, показывает и противодействующие силу — бескомпромиссную борьбу Владимира Галактионовича Короленко и его единомышленников, спасителей чести русской культуры, с черносотенцами».
Владлен Сироткин, профессор, Москва. (Из послесловия к «Кровавой карусели», ПИК, 1991).
Хаим-да-Марья
Историко-документальный роман-фантасмагория
Я хочу показать миру злую гиену, которая с предательской жестокостью подражает человеческому голосу; я привожу сюда в цепях жестокого крокодила; я хочу описать отвратительные жестокости смрадной каиновой орды, иначе говоря — повторить то, что давно уже было сказано, дабы прийти на помощь обманутому христианскому миру.
Пмецлав Маецкий.Еврейские жестокости, убийства и суеверия, 1636 г.
Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
Псалтырь, 105; 3.
А судьи кто?
А. Грибоедов.Горе от ума, Первая половина XIX в.
Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него… Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Екклесиаст, 7; 14; 10.
Если всюду растет
чертополох,
Если беден народ,
Если климат наш плох
И везде дифтерит
Заражает, как яд, —
Виноват в этом жид,
В этом жид виноват.
Дм. Минаев.Вторая половина XIX в.
Поэт горбат,
Стихи его горбаты
Кто в этом виноват?
Евреи виноваты.
Современный фольклор.Приписывается Евг. Евтушенко.
Сюжет полностью соответствует подлинным историческим событиям. Сохранены даты, имена действующих лиц, названия географических пунктов. Домыслены лишь некоторые биографические подробности, психологические характеристики и сновидения персонажей.
Автор
Предисловие к первому изданию
Сколько я помню себя, я помню, что я еврей и что хотя в этом ничего постыдного нет (так мне внушали родители), этого все же следует стыдиться (так учила жизнь). Стыд за свое национальное происхождение я выдавливал из себя по каплям, как Антон Павлович Чехов выдавливал из себя раба. И я знаю, что через то же самое прошли многие русские евреи моего поколения.
В прошлом антисемитизм пытались объяснять религиозной нетерпимостью, национальной рознью, а когда в моду вошел марксизм — классовыми противоречиями. Но антисемитизм глубже всех этих объяснений. Кроме всего прочего, это традиция, уходящая в глубь тысячелетий. Это целая культура; точнее, антикультура.
Антисемитизм всегда нужен был деспотам.
В дореволюционной России за него цеплялись те, кто всеми правдами и неправдами пытался спасти изживший себя режим. На него делал основную ставку Гитлер, а в СССР он достиг высшего накала на излете сталинской эпохи, в период преследования космополитов и особенно — в деле врачей.
После смерти Сталина врачей освободили и признали невиновными, так что именно евреи оказались первыми ласточками «реабилитанса». В последующие годы антисемитизм то ослабевал, то снова усиливался — в соответствии с колебаниями робкого хрущевского либерализма.
Остатки либеральных иллюзий в СССР были раздавлены танками, ворвавшимися в Чехословакию. И сразу же началась воинственная антисемитская кампания, которая продолжает усиливаться. Уже второе десятилетие в Советском Союзе проводится целенаправленная травля евреев, которых объявляют врагами России и врагами социализма, виновными во всех бедах и неудачах советской системы. Цель этой кампании, по моему убеждению, состоит в том, чтобы изолировать евреев от остального населения, вызвать к ним ненависть и в случае возникновения критической для режима ситуации (вроде той, что сложилась в Чехословакии в 1968 году или в Польше в 1980-81 годах) сделать евреев козлами отпущения и, может быть, даже «окончательно» решить еврейский вопрос по гитлеровско-сталинскому рецепту.
Современная антисемитская кампания в СССР проводится под «новым» лозунгом «разоблачения сионизма», но новое — это лишь хорошо забытое старое. Застрельщикам антисионистской кампании ничего не приходится придумывать: они паразитируют на старом российском антисемитизме, уворовывая у черносотенных авторов идеи, цитаты, «факты», даже большие куски текстов.
Доступными писателю средствами я пытался противостоять этой травле. Роман «Хаим-да-Марья» — одна из таких попыток. Описанные в нем события происходили 150 лет назад, но проблематика романа слишком тесно связана с моей жизнью и судьбой моего поколения, чтобы его можно было рассматривать только как исторический.
Экзамен на современность роман выдержал еще в СССР, где все мои попытки его опубликовать окончились неудачей именно потому, что издатели хорошо понимали, сколь актуально его звучание.
Таким образом, это не только роман о далеком прошлом, но и документ настоящего. Он показывает, что антисемитизм в России оказался долговечнее войн, революций и других потрясений. Перетряхнутая много раз до основания, она в чем-то главном оставалась неизменной. Как тяжелая наследственная болезнь, антисемитизм губил Россию в прошлом и продолжает губить в настоящем.
Семен Резник
Август 1985 г.
Вашингтон
Предварительные объяснения
Черта оседлости и процентная норма — это лишь наиболее яркие положения законодательства о евреях, которое даже на фоне отнюдь не отличавшихся гуманизмом законов Российской империи выделялось своим драконовским характером. А поскольку ограничительные меры против целого народа надо было обосновывать, то не было недостатка в различных теоретиках, проливавших моря чернил и типографской краски, чтобы доказать, будто евреи безнравственны, будто все их обычаи, весь образ жизни враждебны христианским народам, будто они составили тайный заговор против всего человечества.
Наиболее сильным аргументом в руках этих «теоретиков» служил средневековый миф о том, будто бы иудейская религия предписывает своим адептам при совершении некоторых обрядов употреблять христианскую кровь.
Этот миф оставил в истории длинный кровавый след, тянущийся через века и страны. В Средние века любое исчезновение или гибель при невыясненных обстоятельствах христианского ребенка (годились и взрослые) приводили к очередному ритуальному процессу и сожжению на костре пяти-шести ни в чем не повинных людей, а кроме того — к избиениям, грабежам, насилиям и прочим бесчинствам в еврейских кварталах. Жертвами навета становились не только евреи, но и их мнимые пособники, а нередко и сами христианские дети, ибо злонамеренные антисемиты нередко сами убивали детей, чтобы затеять очередное ритуальное дело.
На Руси племенные и религиозные различия использовались для разжигания ненависти и вражды с первых веков после принятия христианства. Летописи рассказывают, что, например, Феодосий Печерский, причисленный к лику святых основатель одного из древнейших киевских монастырей, призывал православных прощать своих врагов, но «не врагов Божьих», к которым относил всех пребывающих «в вере латинской, армянской, сарацинской» и т. п. «Более всех ненавидел Феодосий жидов, и жизнеописатель его говорит, что он ходил к жидам укорять их, досаждал им, называл безбожниками и отступниками и хотел быть от них убитым за Христа» (Н. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей, т.1, СПб., 1912, стр. 19–20).
В Московское государство евреи столетиями не допускались, а когда попали в него в виде пленников (при взятии русским войском Полоцка), Иван Грозный «решил вопрос» наипростейшим способом: «Согласных креститься — крестить! А несогласных утопить в реке Полоте». (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XI, стр. 454.)
В те времена, когда главным богатством была земля, евреям не разрешалось владеть ею и заниматься земледелием. Вольно или невольно они становились ремесленниками, купцами, ростовщиками. По мере развития промышленности, роста городов, установления капиталистических отношений росла роль «третьего сословия»; принадлежавшие к нему евреи приобретали все большее значение в экономической жизни некоторых стран. Но в Россию евреи по-прежнему не допускались. Императрице Елизавете Петровне была подана записка, в которой доказывалось, что разрешение евреям-купцам приезжать в страну способствовало бы оживлению торговли и пополнению казны (за счет сбираемых за ввозимые товары пошлин). Императрица наложила красноречивую резолюцию: «От врагов Христовых интересной прибыли не желаю».
Только при Екатерине II, когда в результате раздела Польши к России отошли западные губернии со значительным еврейским населением, перед русскими властями вновь встал «еврейский вопрос».
Культивирование национальной и религиозной нетерпимости, использование мифа о ритуальных убийствах в качестве оправдания самых жестоких мер против «врагов христовых» — таковы сделались методы его решения.
Большой ритуальный процесс, проходивший в эпоху царствований Александра I и Николая I (так называемое Велижское дело), положен в основу предлагаемого вниманию читателей романа.
Жанр романа я определяю как историко-документальную фантасмагорию. Заключающаяся в этом определении парадоксальность — это парадоксальность материала.
Единственная крупная историческая личность в романе (не считая двух императоров), граф Николай Семенович Мордвинов, экономист, ученый, мыслитель, человек большой личной честности и прямоты, отнюдь не относится к числу главных героев повествования; в качестве основных действующих лиц выступают люди малоприметные, и я должен был прибегать к домыслам, чтобы оживить те скудные сведения о них, какие удалось найти в материалах Дела и других источниках. Однако не в этих домыслах фантасмагория. «Кафкиана», или «гофманиана», как говорили в двадцатые годы XX века (смотри «Алмазный мой венец» В. Катаева), перенесена в роман из исторических документов в неизменном виде. Понуждая запуганных темных женщин давать ложные показания, следователи сами начинали верить
ими же фабрикуемой лжи. Фантасмагорический мир вымышленных преступлений, обрастая в ходе следствия новыми и новыми подробностями, замещает собою реальность, вытесняет ее. В чудовищную ложь втягиваются губернаторы, сенаторы, сам царь. Мир оказывается вывернутым наизнанку. Самая глупая выдумка, «чудеса», галлюцинации психически нездоровых людей становятся судебными уликами, а достоверные факты — вымыслом. Не учитывая этого, нельзя понять, почему одного непредубежденного взгляда адмирала Мордвинова оказалось достаточно, чтобы обвинение, создававшееся 12 лет, рассыпалось в прах.
Но и Мордвинов не мог окончательно похоронить средневековый миф. Ритуальные процессы возникали в России еще не раз — на протяжении всего XIX века. И даже в XX веке, стремясь отсрочить неминуемую гибель самодержавия, его адепты сфабриковали знаменитое Дело Бейлиса. «Гофманиана» подлинно переросла в «кафкиану». Все усилия следствия по Делу Бейлиса были направлены не только на то, чтобы состряпать обвинение против невинного человека, но и на то, чтобы спасти от ответственности шайку истинных убийц Андрюши Ющинского, чьи имена были хорошо известны.
Как большинство ритуальных процессов, Велижское дело не обошлось без стоящих за кулисами интриганов, без предателей-выкрестов, готовых лжесвидетельствовать ради мелкой подачки, без христианских «соучастников», неизбежно превращаемых в основное орудие обвинения. Уникальной особенностью этого дела является, пожалуй, только изумительная стойкость, какую обнаружили обвиняемые, несмотря на их большое число и очень пестрый состав. Мужчины и женщины, старики и юноши, богачи и бедняки — все сумели выстоять, вынести угрозы и издевательства, не соблазниться посулами прощения, устоять перед психологическим, да и прямым физическим давлением; некоторые приняли смерть. Но никто не дрогнул, никто не возвел на себя или товарищей по несчастью вины, признание которой грозило бы неисчислимыми бедами всем евреям России.
Несколько слов о литературной форме романа.
Приходя в театр, мы заранее соглашаемся верить всему тому, что увидим на сцене, но мы ни на миг не забываем, что перед нами игра, условность, что сраженный пулей или шпагой человек сейчас поднимется и раскланяется перед зрительным залом. Талантливый актер, перевоплощаясь в своего героя, остается собой; он передает зрителю свое отношение к персонажу. В этой условной двуединости заключена вся волшебная магия театра.
Велижская фантасмагория — это театр, ставший жизнью, или жизнь, ставшая театром. Таково доминирующее ощущение, какое я
испытывал, работая над произведением, и оно продиктовало литературную форму (что сам я вполне осознал уже после того, как поставил последнюю точку). Конечно, аналогию не следует понимать слишком прямолинейно. Драматургия и проза — два разных вида искусства, и я меньше всего хотел бы, чтобы на мой роман смотрели как на «пересказанную» пьесу. Действующие лица — это, прежде всего, исторические персонажи. Но вместе с тем, это актеры, разыгрывающие заранее распределенные роли на подмостках исторической сцены.
Условной двуединостью персонажей в известной мере предопределен отбор художественных средств. Язык повести несколько стилизован: читатель встретит «простонародные» неправильности, архаичные инверсии, характерно «еврейские» обороты русской речи. Но это не значит, что я воспроизвожу в подлинности язык, каким говорили реальные исторические лица. Подобный натурализм был бы совершенно неуместен. Действие романа происходит в первой половине девятнадцатого века, но написан он в последней четверти двадцатого; давних героев играют современные актеры. Как бы забываясь, они в архаичную речь вставляют подчеркнуто современные слова и выражения. Надеюсь, читатель поймет, что это не небрежность, а необходимый художественный прием, позволяющий подчеркнуть невероятный, фантасмагорический характер той реальности, в которой живут и действуют персонажи.
Повествование ведется от первого лица, но, конечно, не от лица автора. Рассказчик — фигура условная. Если продолжить аналогию с театром, то это ВЕДУЩИЙ, актер с широким диапазоном функций. Он то прямо обращается к «зрителю», стремясь создать «в театре» интимную атмосферу, слить сцену со зрительным залом; то рассуждает сам с собой, вовсе забывая о «зрителе». Он беседует то с одним, то с другим персонажем, обращаясь к ним на «ты» и даже почти перевоплощаясь в них, становясь их альтер эго, вторым я, и высказывая их сокровенные мысли, которые они пытаются скрыть даже от самих себя.
Но… не слишком ли затянулось мое «Предварительное объяснение»? Ведь основной закон театра: как можно меньше объяснять, как можно стремительнее разворачивать действие.
Глава 1
Вы, конечно, слыхали про Марью Терентьеву? Как! Вы не слышали про Марью Терентьеву? Про красавицу бледнолицую да волоокую, плавным движением округлых бедер разбивающую мужские сердца?
Ну, серенады под ее балконом сеньоры не распевают. Так ведь где взяться сеньорам в тихом городке Велиже, что средь дремучих лесов да топких болот к бережку реки Двины притулился? Да и балконов не сыщешь в городке Велиже — тихом, одноэтажном, в тесовые заборы забранном. Где уж там о балконе мечтать Марье Терентьевой! Не то что дома своего или хоть комнатенки своей, а и крохотного угла какого-нибудь в развалюхе-сараюшке на заднем дворе, где ветер в щели свищет да дождик сочится — и того отродясь не бывало у Марьи Терентьевой. Приютит на ночь добрая душа — Марья славит Господа своего Иисуса Христа, а где следующую ночь проведет — про то и не ведает. Знает Марья: Господь про нее не забудет.
Эх, Велиж, Велиж, славный городок! Тихий, уютный, торговый, окладно-бородатый да в кружок постриженный, со множеством церквей да заведений питейных. Любо-дорого живется в Вели-же Марье Терентьевой. Ей лишь юбки свои неопрятные, да зато по-цыгански цветастые, оправить, да плечиком покатым повести, да бедром округлым вильнуть, да опахалом ресниц длиннющих мотнуть, и всяк мужичок хлебушком угостит да и чарочкой не обнесет! Согрешить за то надобно Марье Терентьевой… Так ведь она, Марья, не басурманка какая-нибудь. Бог-то у нее не злой-жидовский-беспощадный; у нее Бог свойский, ласковый, грустными глазами с иконок глядящий, ее, Марью, жалеющий, грехи ей прощающий.
Любит Марья Господа своего Иисуса Христа, обожает его Maрья. И храмы господние любит. Стужа на дворе лютая, мороз до костей прохватывает; или, к примеру, дождь все платье цветастое насквозь промочит… А в храме сухо, тепло, свечки редкие перед иконами светятся. Тишина в храме Божием, тени прячутся по углам; таинственно в храме, чуть боязно, и благодатно, и лики угодников святых с иконок на Марью глядят. Марья иконку поцелует да душу остывшую горячей молитвой отогреет.
Истово молится Марья, поклоны кладет, крестным знамением осеняется, шепчет все, шепчет губами своими, иной раз сама не разберет, что шепчет-то; ну, да он, Христос-от Спаситель, он все разберет, все поймет, все простит да не осудит. И хорошо Марье оттого, что понимает, и жалеет, и прощает ее Христос, и слезы теплые, счастливые слезы катятся по щекам из прекрасных ее воловьих глаз, опахалами густых длинных ресниц отороченных.
Любит Марья Терентьева в праздник церковный к братчине пристать. Тут и благочиние, и умиление, и гимны, и целование икон. А веселья, веселья-то сколько! Ох, и умеет веселиться в честь Святых угодников своих православный народ!
Стол от снеди ломится, вино льется рекой, и всяк входи, всякому хозяин рад!
Хозяину-то уважение братчина оказала: цельный год теперь икона Святого в доме его будет храниться. Вот и угощение хозяин выставляет: садитесь, дорогие гости, ешьте-пейте, гуляет сегодня православный люд!
Звонко падают монетки золотые, да серебряные, да медные в тарелку, что поставлена посреди стола. Сосед соседа потчует, перемогнуть старается: ты вот алтын в тарелку бросил, а я пятак кладу! Глядите, люди добрые, как уважает православный человек Николу-угодника, или Богородицу, или в честь кого там сегодня праздник идет!
По одной падают в тарелку монетки, да горстями исчезают из тарелки — туда все, туда, в корчму ближайшую, в широченный кар-май на переднике толстой, расплывшейся от лет еврейки. Передник на ней рваный, засаленный, да из-под передника атласное платье проглядывает, в ушах сережки драгоценным камнем поблескивают, а на парике диадема золоченая — что корона царская.
Бочонок с вином еврейка выкатывает, улыбается льстиво, говорит картаво, нараспев, неискренно. Берите, мол, коль праздник у вас такой, веселитесь на здоровье, вино у меня, сами знаете: лучше во всем Велиже не сыскать. Мало — так еще берите, разве нам жалко для вас? А сама монетки пальцами мусолит, второй и третий раз пересчитывает.
— Что? Мало тебе, еврейка? На еще! — и со звоном ссыпаются монетки с липкой ладони. — Бери, еврейка, пей кровушку христианскую! Гляди, как православная душа Святого своего почитает!
Гуляет православный люд. Кто в ладоши похлопывает, кто ножкой притопывает, а кто уж и скамью о соседа переламывает. Дым коромыслом стоит, блевотина разит кислым. Весело гуляет народ — весело и Марье Терентьевой. Как рыбке в незамутненной Двине, как молодой кобылице на зеленом лугу, как жаворонку в выси поднебесной, так и Марье на этих празднествах.
«Искажение церковных песен, пьянство и ссоры — отличительные черты сих торжеств», — сообщает с грустью Православный Исследователь.
Но Марья Терентьева грамоте не обучена, об исследованиях тех слыхом никогда не слыхивала. Марья тому пальчиком погрозит, другому глазочком, опахалом отороченным, подмигнет, а иному и язык длинно выставит, злую гримасу состроит: я те цапну, я те хаину, прими грабки, падла неумытая, не то зенки выскребу! Не такая баба Марья Терентьева, гордость тоже о себе понимает. Ты мне чарочку поднеси, да закусочкой угости, да окажи обхождение. А то капусты с бороды не отряс, а уже за задницу цапать! Я те так цапну — Бога со святыми угодниками мигом позабудешь…
А как плясать пойдет Марья Терентьева! Как станет в круг, да шаль свою неопрятную, с прорешинами многими, да зато по-цыгански цветастую, с плеч на локти скинет, да шейкой лебединой поведет, да платочком помашет, да… что говорить! Тяжко велижским мужикам, хоть и нет среди них сеньоров! Холостым-то куда ни шло. А вот женатым, по законам веры своей — православной ли, униатской, католической, или, извините за выражение, иудейской — обвенчанным, поклявшимся, стало быть, перед Господом Богом своим нести до конца дней бремя угодной Богу супружеской верности, — ох, как тяжко им на Марью Терентьеву глядеть, когда проходит она по улице в цыганских юбках своих и цыганской шали своей, и бедра ее округлые зазывно покачиваются, а глаза, отороченные опахалами густых ресниц, насмешливо так подмигивают…
Как тут, в самом деле, не проснуться инстинктам? Как не вырваться из узды подавляемой в глубинах подсознания греховной похоти? Вы можете дать гарантию, что устояли бы? Я вас поздравляю. А вот Хаим Хрипун — не устоял!
Вы думаете: не устоял, и не устоял — кому это интересно? Мы грешны, а Бог, слава Богу, милостив. Так об этом же я и говорю! Если так невтерпеж стало Хаиму Хрипуну, ну, подкараулил бы в укромном углу Марью Терентьеву, ну, дал бы приложиться к бутылке; а там — задирай цветастую Марьину юбку да поваляйся с ней под забором. Это же она так только, для куража одного про гордость свою говорит. Кто же не ведает в Велиже, что царская влага милее Марье царского обхождения?
Но Хаим Хрипун есть Хаим Хрипун. Он такой! Если возьмется за что, то обстоятельно все обмозгует, да не как-нибудь тяп-ляп сделает, а с деловитой еврейской основательностью.
Словом, вы уже догадались. Совершенно верно. Хаим Хрипун женился на Марье Терентьевой…
Вы, наверное, думаете, что он окрестился и по всем правилам христианским с Марьей обвенчался?
Послушайте, стал бы я вам такими пустяками мозги забивать! Эка была бы невидаль, если бы еще один еврей от веры отцов отступился! Мало что ли их на каждом шагу? Про ксендза католического Подзерского не слыхали? Еще услышите. Он ведь из бывших евреев. Неплохо устроился! Сытная это должность, скажу я вам, — пасти христианскую паству. А про Антона Грудинского знаете? Ничего, и о нем узнаете — это я вам обещаю. Он тоже в христиане из бывших евреев переметнулся, хотя как ходил в рубище, так и остался. И лейб-гвардии рядовой Финляндского полка Федоров тоже, представьте себе, бывший еврей! Так что не волнуйтесь — подобной ерундой я вас морочить не стану. Я вам про другое рассказываю. Про Хаима Хрипуна.
Он тоже из бедных, наш Хаим. Это им мерещится, что все евреи богачи. Почему им так мерещится? Откуда я знаю! Видно, Богу угодно, чтобы им так мерещилось. Чужой карман всегда толще. А тут еще эта глупая страсть наряжаться. Сколько раз кагалы постановления грозные издавали: строго запрещаем, мол, в дорогих одеждах и украшениях щеголять; от них, мол, одно разорение для евреев да ненужная зависть у окружающего населения. Раввины на ослушников херем наложить грозились. Что, скажите, страшнее для набожного еврея, нежели херем — отлучение от синагоги? И что бы вы думали? Не помогает!
У иной, пока муж ее в бет-гамидраше над книгой качается, весь промысел, может быть, в том только и состоит, чтобы селедку, за шесть копеек купить, на восемь кусков разрезать да по копейке кусок продавать. И сидит она на базаре со своей селедкой с утра до вечера, и не один день все с той же селедкой сидит. А суббота приходит — она в диадеме золотой да ожерельях жемчужных красуется. А что в доме пусто, и долгов выше головы, и дети не кормлены, и даже субботний кугель не из чего спечь — это ведь на ней не написано. Но мы с вами знаем: как русские, белорусы, поляки, так и евреи — у одного в кармане звенит, а у десятерых ветер свистит.
Отец Хаима был балагулой.
Вообще-то балагулы неплохой парное имеют. Если лошади свои, и обоз свой, и есть на что помощника нанять… Но Гирша, отец Хаима, был не из тех, кто помощников нанимает, а из тех, кого нанимают. В стужу, в зной, в слякоть — все возил чужое добро, и даже лошадью своей не обзавелся. Иной раз и заработает кое-что, самый бы раз лошадь купить. Да подать двойную в казну — уплати! Кагальный сбор тоже не шутка. А супруга законная пилит Гиршу: людям стыдно в глаза смотреть, у соседок всех новые платья, а я, выходит, хуже других. Вздохнет Гирша, вывернет карманы, да снова на козлы взбирается. Так всю жизнь на чужих лошадях и проездил. Вечно простуженный, охрипший — потому и прозвали его Хрипуном; к сыну прозвище уж фамилией перешло. Ну, и с Богом у Гирши были сложные отношения. То, что Тору Гирша не особенно разумел, было еще полбеды. Тут важно кагальный сбор исправно платить. Так уж устроил мудрый Господь: если ты не учен, то за тебя Талмуд-Тору другие изучать будут и перед Богом за тебя похлопочут. А чтобы они могли спокойно за тебя хлопотать, ты работай усердней да взнос кагальный исправно делай: ученым людям о хлебе насущном заботиться не пристало. Тут баш на баш. Надежно, удобно, взаимовыгодно. Ты об их земной жизни старайся, а они за то о твоей небесной похлопочут. Разделение труда. Однако же одно «но» сильно беспокоило Гиршу Хрипуна. Знал он твердо, что хлопоты о душе его со стороны ученых людей тогда только могут быть успешными, если он сам все 613 заповедей Господних неукоснительно соблюдает. Это уж всенепременно.
Но легко говорить — соблюдать все заповеди! Я вам вот что про это скажу: когда застанет в поле пурга и вы, продрогнув и голос потеряв на морозе, заявитесь в трактир, и хозяин поставит перед вами миску наваристых щей, так вы не очень станете допытываться, на кошерном ли мясе эти щи сварены. И если вы задержались в пути, а тут подоспела суббота, то вы помолитесь Богу и дальше будете ехать. Словом, знал за собой немало грешков Гирша Хрипун и очень сокрушался о том, да надежду имел: вырастет сын, работать начнет, скопят они деньжат, купят лошадь, а там и работника наймут, и сам Гирша уже не будет в дальние извозы ездить. Будет усердно изучать Тору, соблюдать все заповеди, горячо в синагоге молиться. Глядишь, Господь Всеблагий и простит ему все прегрешения.
Но человек предполагает, а Господь располагает. Иначе распорядился Господь.
Как стукнуло пять годочков Хаиму, Гирша повел его в конец улицы, в покосившийся дом ребе Менделя, сердитого меламеда, беспощадно лупцевавшего учеников своих цепелинкой, особенно тех, за кого плату годами приходилось ждать.
Вел за маленькую детскую ручку Гирша Хаима, что-то веселое пытался говорить своим хриплым голосом, а у самого саднило в груди, сердце кровью обливалось, и боязно было в глаза сыночку малому своему заглянуть. Знал Гирша, сколько лишних окриков и ударов придется вынести мальчику от сурового меламеда из-за одной только его, Гирши, бедности. И бесконечно виноватым не-ред сыном своим чувствовал себя Гирша.
Боялся он меламеда страшно! Если где на улице встретит, то издали еще кланяется, да все просит униженно с платой немного еще обождать. А меламед разведет руками да в широченной улыбке и расплывется.
— Что вы, что вы, реб Гирша! Какой разговор. Это я вам должен приплачивать. Я тридцать лет меламед, а такого мальчика, как ваш Хаимке, у меня еще не было! Бог даст, выйдет из него великий раввин. Только бы не сглазить! Тьфу, тьфу, тьфу, — и реб Мендель трижды сплевывал через плечо.
Расцветет от таких слов реб Гирша, радость великая захлестнет его теплой волной.
— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши, реб Мендель! Конечно, о том, чтобы сделался сын раввином, не ему, балагуле безлошадному, мечтать. Однако подучится Талмуд-Торе Хаимке, и не будут, как самого Гиршу, называть его презрительно «амгаарец», что значит — невежда. Знающие Талмуд-Тору юноши в еврейском обществе в немалой цене. Если Господь захочет, так, может быть, состоятельный человек возьмет Хаимке к себе в зятья! Вот и будет ему счастливая жизнь. И место в синагоге у восточной стены, и почет в обществе, и сытный кусок на столе. Но это потом. А пока пусть выучится поскорее да помощником в извозном промысле станет.
Однако сам Хаимке иначе, чем отец его, принимал неумеренные похвалы ребе Менделя. Подрос Хаим, и честолюбивые мечты его обуяли.
— Учился я в хедере изо всех сил, а понял только то, что ничего еще не знаю и в великой науке нашей еврейской не разумею. Буду, отец, дальше учиться.
Гирша за голову схватился и побежал с подношением к самому раввину.
— Гебе, — говорит Гирша, — я так надеялся, что сын станет мне помощником, и тогда у меня будет своя лошадь, я найму работника и стану молиться о прощении грехов моих тяжких, потому что, скажу вам по секрету, ребе, когда в пути вас застанет суббота, вы все равно будете ехать, и когда вы голодны, а на пути у вас корчма, то вы в нее входите и кушаете то, что дают.
— Я тебя понимаю, — ответил раввин, — но и ты пойми своего сына, потому что не его это воля, а Господня. Берет себе Господь сына твоего, ибо Господу принадлежат все первенцы. Гордись, — говорит, — Гирша, и ездий на чужих лошадях. Не противься воле Господа, и он простит тебе твои прегрешения, а сына твоего возвеличит.
— Вы так думаете, ребе? — с сомнением спросил Гирша Хрипун.
— Я в этом уверен, — ответил раввин.
— Ваши бы слова, да прямо Богу в уши! — вздохнул балагула и поплелся домой.
— Учись, — сказал Гирша Хрипун сыну своему Хаиму, — учись, коли так угодно Господу.
Сунул Хаим в котомку смену белья, Тору, кусок хлеба да две крупные луковицы, обнял залившуюся слезами мать, забросил котомку за спину и пошел из родного дома по полям да по весям.
Кочевал Хаим из общины в общину, из одного ешибота в другой ешибот, от одного знаменитого ребе к другому знаменитому ребе, от одного святого цадика к другому святому цадику. Кормился Хаим «днями» и целыми днями раскачивался над Талмуд-Торой, бормоча себе что-то под нос.
Вы знаете, как кормятся ешиботники «днями»? Это очень просто. Еврею ведь засчитывается на том свете, если он берет на «день» ешиботника. Один берет на вторник, другой на среду, третий на воскресенье. Так и ходит обедать юноша каждый день в другой дом. В бедных домах хорошо: там ртов много, все вместе за стол садятся, и всегда тарелка супа для юноши ради Бога найдется. Ну, а у богачей можно и не дождаться обеда. Не из скупости, Боже упаси, а потому, что заняты всегда богачи, крутятся целый день, на ходу перехватывают. Догадается служанка сунуть ешиботинку кусок хлеба — хорошо. А не догадается, так и идет он несолоно хлебавши дальше над Торой качаться.
А то и вовсе не удастся пристроить Хаима на какой-нибудь день. Набрали уж обыватели ешиботников, с Богом счеты свели, и хватит с них. Шесть дней для Хаима кое-как раздобудут, а на седьмой, четверг какой-нибудь, остается Хаим без пищи. Что же с того? Пост учению не помеха.
Мало ему дня, так он и ночами все над книгами сидит, свечи жжет, в самые сокровенные тайны Талмуда и каббалы проникнуть старается.
Побледнел Хаим, похудел, осунулся, кожа одна сухая, да кости торчат, да выпуклые глаза еврейские блестят лихорадочным блеском.
Зато как вернулся Хаим в родной Велижград, так сразу слава о нем разнеслась великая. Даже из Витебска, несмотря на молодость Хаима, стали приезжать к нему за советом евреи, и — можете не поверить, но я вам все же скажу — если бы из самой Вильны кто-нибудь пожаловал, так не пожалел бы!
Теперь вы понимаете, кто такой Хаим Хрипун? Да? Не торопитесь. Скажите лучше, как же он вышел из положения с Марьей Терентьевой?
Ах, вы пожимаете плечами! Значит, вы еще не знаете Хаима Хрипуна! А ларчик открывается просто. Если гора не идет к Maгомету, то Магомет топает к горе. Так говорят на востоке. Если Хаиму, с Божьей помощью, никак нельзя перейти в христианство, то кто, скажите, мешает Марье Терентьевой стать иудейкой?
Ну, вот! Теперь, наконец, вы все понимаете!
Как еврею перейти в христианство — это всяк знает. Вы находите двух христиан, мужчину и женщину, и идете с ними в церковь. Батюшка вас водичкой обрызгает, осенит крестным знамением, наречет именем пристойным, в книгу про все то запишет, и полный порядок. Готово! Вошли вы в церковь жидом пархатым, а вышли христианином. Теперь любого еврея вы можете схватить за бороду, тряхнуть так, чтоб глаза его на лоб выехали, и отпихнуть прочь жидовскую его морду.
А вот христианину в иудейство перейти — это совсем другое дело. Тут процедура сложная и — как все у евреев — тайная. Ну, да Марье Терентьевой оная теперь ведома. Слухайте, как Марья про то объясняет.
Сперва-наперво, значит, неделю цельную ее по еврейским домам водили, вином потчевали, кушаньями всякими еврейскими угощали, речами приятными услаждали, на пуховые перины спать укладывали, обхождением, стало быть, еврейским ублажали.
А в конце той дюже для Марьи пригожей недели три молодицы еврейские сняли с нее платье цыганское неопрятное; если что под платьем было, так то тоже сняли, и искупали в полное Марьино удовольствие, — да не в воде, а в вине — игристом, терпком, пахучем, тело марьино, давно немытое, приятно пощипывавшем и разогревшем.
После того хужее пошло. Накинули молодицы на голую Maрью грубую мужскую шинель и в виде таком, задами, задами, чтобы не повстречать кого, привели на берег Двины: давай, говорят, Марья, в Двину окунися, иначе не видать тебе в мужьях Хаима Хрипуна, как своих ушей.
А дело-то весеннее, аккурат на святой неделе; только что снег сошел, вода в реке ледянющая; не хочется Марье в воду сигать. Но за веру и не туда сиганешь, особливо, если шибко замуж хочется. Шинель Марья сбросила на руки еврейкам, передернула плечиками от озноба, глаза свои воловьи опахалами прикрыла, присела слегка и бултых в студеную водицу. С визгом выскочила Марья, на одной ножке прыгает, грудями друг о дружку стукает, волосы отжимает, а еврейки ее в шинель укутывают и прямиком в Большую еврейскую синагогу ведут, которая, значит, на Школьной улице. А там уж с еврейской предусмотрительностью все приготовлено. Евреев целая толпа набилась; Марью промеж себя поставили, да теперь мужики с Марьи шинель стащили, и стоит она среди них, как Венера Милосская, а они словно и не глядят на нее, словно в сторону глазищи свои выпученные отводят, а сами-то зырк, зырк, да все под пупок марьин норовят заглянуть.
Зло тут Марью взяло, потому как кому же охота выставляться без угощения! Она уж и язык одному глазастенькому высунула, а другого нахалюгу уж пяткой хотела в интересное место пнуть — долго помнил бы Марью Терентьеву; да тут подходит к ней старик, седой весь, как лунь, на макушке шапчонка бархатная, борода густая, серебристая, как у Бога-Отца Саваофа, струится, а осанка гордая, величавая, точно царь аль епископ какой, аль опять же сам Бог Саваоф, а не жидок задрипанный. Торжественно руку старик поднимает и говорит густым голосом такие слова:
— Надобно тебе, Марья, перейти через жидовский огонь!
— Я с моим удовольствием, — отвечает старику Марья, — опахалами своими подмигивая, потому как дюже понравился ей величавый старик.
И только сказать успела, как подхватили ее под руки и прямо босыми ногами на горячую сковородку поставили.
Завопила тут Марья, забилась вся.
— Ах вы, жиды, — кричит, — окаянные! Я вам не сука, — кричит, — подзаборная! Я обхождение о себе понимаю! Что же вы, — кричит, — со мной де…
Тут ей рот зажали, чтобы крика не слышно было, а со сковороды сойти не пущают и вокруг хороводом бегают.
Все быстрей да быстрей крутится еврейский хоровод вокруг Марьи. Талесы молитвенные развеваются, словно бабьи юбки, а юбки еврейские атласные, серебром-золотом шитые, развеваются, словно талесы, и бороды, и полы длинных кафтанов, и ожерелья жемчужные, и шапчонки черные бархатные — все крутится, крутится, мелькает перед Марьей в том хороводе, а сковорода все раскаляется, и нестерпимая боль пронзает Марьины ноги, и уже не поймет Марья, евреи ли это с еврейками вокруг нее крутятся, или черти на адском огне ее, грешницу, жарят.
— Присягни в верности евреям! — кричит ей в ухо величавый старик с бородою в колечках, и все вторят ему приглушенно:
— Присягни! Присягни! Присягни!
— Отрекись от Христа и всего своего рода! — кричит уже в другое ухо ей тот же старик, и повторяют все:
— Отрекись! Отрекись! Отрекись!
— Прими еврейскую веру! — опять выкрикивает старик, и все опять вторят:
— Прими! Прими! Прими!
Замотала тут Марья головой, освободила рот свой от зажимавших его ладоней и завопила благим матом:
— Да согласная я, я же согласная!
И так жалко ей стало свои ноженьки белые, плавно и зазывно покачивавшие ее стройное тело с округлыми бедрами, что залилась она горючими слезами.
Меж тем, хоровод остановился; сняли еврейки Марью со сковороды, надели на нее еврейскую рубаху, а обожженные ступни холодящей желтой мазью обмазали и холстом обвязали. Старик тот главный величавый взял Марью за руку, подвел к шкапику, в котором хранилось десять еврейских заповедей, и приказал отрицаться.
— Повторяй, — говорит, — за мной: отрицаюсь Христа, христианских Богов и всего моего рода!
Марья все послушно за ним повторила.
— Теперь ты зовешься Саррою! — провозгласил величавый старик. — Мы даем тебе в мужья еврея Хаима!
С этими словами старик опять взял Марью за руку и вывел ее в особую комнату.
Глядит Марья, а в комнате две кровати стоят. Ну, в одну из них она и юркнула. Старик вышел, а вместо него вошел Хаим Хрипун. И лег на другую кровать.
Да, он лег на другую кровать, этот предусмотрительный Хаим!
Он лежал на другой кровати, и тело его не шевелилось, потому что в душе его шла борьба. Видит Бог, как он старался одолеть свою греховную похоть, этот Хаим! Он очень старался. Вы можете мне не верить, но Бог тому свидетель.
Однако, что поделаешь, если так силен дьявол? Что поделаешь, если дьявол сильнее нас, грешных, даже тех из нас, кто превзошел всю Талмуд-Тору? Может, и выдержал бы искушение Хаим, да Марья заскучала вдруг одна на своей кровати. То так повернется, то эдак. Одеяло вовсе скинула. То эдак, то так прелести свои выставляет.
— Изыди! — кричит ей Хаим Хрипун со своей кровати. — Сгинь, Марья! — кричит.
— А вот и не сгину, — Марья смело ему отвечает, — потому как законное право имею, ибо не Марья я теперь, а Сарра; зазря что ли я через жидовский огонь перешла!
И прелести свои опять выставляет…
Вы говорите, что устояли бы? Ваше счастье! А вот Хаим Хрипун не устоял. Не помогла ему Талмуд-Тора. Не удержал в узде греховную похоть. Перешел-таки предусмотрительный Хаим на Марьину кровать.
А там, сами понимаете, вся Талмуд-Тора из головы вылетела. И стал Хаим Хрипун выкрикивать «бис!» А Марья, как загодя научили ее евреи, на это отвечала: «ну, себе!» И ласкал Марью Хаим Хрипун, как ласкают жену.
Ах, Хаим, Хаим, что ты наделал, Хаим! Что ты натворил! Все-то ты с еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, про одно только ты, Хаим, забыл. Про то ты забыл, Хаим, что закон твой иудейский, который ты так усердно изучал, что за советом к тебе приезжают даже из Витебска, а если б из самой Вильны кто пожаловал, то не пожалел бы, — так вот, закон этот позволяет иметь только одну жену!
Когда-то было не так. Когда-то было иначе! Праотцам народа твоего, Хаим, — Аврааму, Исааку, Иакову — разрешалось иметь по две жены. И даже немножечко больше. И Бог был к ним милостив. Бог не пенял им на то. А премудрый царь Соломон, предусмотрительный ты Хаим, имел столько жен, что ты, Хаим, при всем усердном учении твоем, так и не смог их всех сосчитать! И все же милость обрел царь Соломон в глазах Господа.
Но — много воды утекло с тех пор в священной реке Иордане, Хаим! Да и Двина-река не священная, к которой так славно приладился Велиж-городок, тоже не стояла на месте. Много воды утекло — строже стал иудейский Бог! Теперь он дозволяет иметь только одну жену. Не больше. И скажи, Хаим, разве он не прав? Скажи, Хаим, чем тебе плоха твоя Рива, что ты позарился на округлые бедра уличной твари?
Или ты все позабыл, предусмотрительный ты Хаим?
Вспомни! Как вернулся ты из скитаний твоих, да как стал поражать всех старейшин израильских своею ученостью, да как стали приезжать к тебе за советом из других городов и местечек евреи, так обеспокоились сильно старейшины и собрались на тайный совет.
— Широко пошла слава о нашем Хаиме, — сказал один, — а раввин наш старый жив себе, слава Богу, и никто не знает, когда Богу угодно будет взять его к себе. Молодой Хаим разве станет ждать? Не сегодня-завтра пригласят его в другой город, и останемся мы без раввина, потому что наш старый раввин, слава Богу, уже очень стар, и не сегодня-завтра Господь позовет его к себе. Так что же нам делать? Как нам удержать с Божьей помощью Хаима Хрипуна?
Долго думали старейшины, цокали языками, качали головами, пока один из них не сказал:
— Рива.
И второй сказал:
— Рива.
И третий сказал:
— Рива.
И пошли они всей гурьбой к ребе Лейблу и сказали:
— Ребе Лейбл! Рива.
— Что? — изумился ребе Лейбл. — Чтоб я так жил! Разве я плохой еврей? Разве я не выполняю все запреты и заповеди? Разве я не жертвую на бедных и не кормлю «днями» сразу двух ешиботников? За что же вы желаете мне такого позора, чтобы я взял в зятья сына этого охрипшего балагулы, который так и умер, лошади своей не заимев и оставшись самым последним невеждой в городе?
— Что верно, то верно, — вздохнули старейшины, — Гирша Хрипун был амгаарец, да простит ему Господь все его прегрешения. Но зато сын его Хаим, да живет он, — лучший талмуд-хахам в нашем городе. К нему уже ездят за советом из Витебска, и вот-вот из самой Вильны кто-нибудь пожалует. Ваша красавица Рива, да живет она, — единственный способ удержать его у нас. А вам, реб Лейбл, будет почет и на том свете зачтется, что не богатого, а ученого взяли к себе в зятья.
Потом-то и тебя посвятили в этот хитрый еврейский заговор, Хаим Хрипун. Что? Вспомнил? Такой шумной свадьбы никогда не было в Велиже! А как хороша была в белом платье раскрасневшаяся Рива, когда стояли вы под хулой, и ты надевал ей кольцо на тонкий и длинный палец! Она смотрела на тебя влюбленно, Хаим; в широко открытых ее влажных глазах была гордость, Хаим, и страсть, и тревожное изумление, словно она немного стыдилась своего счастья. А ребе желал вам мира, и долголетия, и многих детей, и вы клялись перед Богом в верности и в знак нерушимости вашего союза пили терпкое вино из одного и того же тяжелого серебряного бокала…
Ну, вот, теперь ты вспомнил все, Хаим Хрипун! Теперь ты вспомнил. Так скажи хоть теперь, что же ты натворил?
Бог правду видит.
Бог правду любит.
Бог карает за грехи.
И вот тебе результат, предусмотрительный ты Хаим. Сидишь ты, Хаим, в темнице сырой, ни тебе Талмуда, ни тебе Торы, ни тебе Ривы, ни тебе Марьи Терентьевой. Ты кричишь «гвалт» на всю вселенную.
Тихо, Хаим. Ша! Что ты кричишь? Замолкни. Не бей себя кулаками в голову, не греми оковами твоими, не рви на себе рубаху, запахни ее на волосатой, неумолимо седеющей груди. Все-то ты с коварной еврейской предусмотрительностью предусмотрел, предусмотрительный ты Хаим, одного ты не можешь взять в толк забитыми Талмуд-Торой мозгами твоими, что воплей твоих все равно никто не услышит.
Один только следователь Страхов слышит твой вопль, но следователя Страхова ты не проймешь. Следователя Страхова не подкупишь. Не только что у тебя, сына безлошадного балагулы, но и у богатого тестя твоего и у всего кагала еврейского не хватит денег, чтобы подкупить следователя Страхова! Следователь верен присяге. Он знает свой долг и исполнит его до конца. Не то, что ты, лживый и жуликоватый еврей, готовый все переврать и от всего отпереться, потому что по вере своей иудейской в мыслях своих ты можешь от клятвы и от присяги любой отрицаться.
Следователь Страхов не лыком шит; он вас, евреев, насквозь видит. Так что замолкни, Хаим, как бы на голову твою, Талмуд-Тору всю вдоль и поперек изучившую, еще большей беды не накликать.
Глава 2
Государь ты наш, батюшка! Милостивец ты наш ненаглядный! Ангелок ты наш ласковый! Господом Богом самим над нами поставленный! Где улыбка твоя херувимская? Отчего очи твои грустью подернуты, слезой ангельской заволочены?
Разумеешь ли ты, государь наш нежнейший, кто ты такой на свете Божьем есть? Ить ты государь наш! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Ить ты, государь наш, самодержец есть, и нет никого главнее тебя. Ить ты можешь всякого, ну просто любого, хучь министира, хучь генерала аль губернатора там какого-нибудь орденами обвешанного, на ноготочек свой розовенький положить, другим ноготочком придавить да кишочки и выпустить! И даже не заметишь того, государь. Потому как самодержцем ты от Господа над русской землею поставлен. Вот какой ты у нас государь-император есть! И любуемся мы тобой, государь, не нарадуемся. Бери всякого, на ноготь клади. Только помедли чуток по безграничной милости твоей, дозволь успеть ноготок твой с радостью облобызать, а там — дави, выпускай кишочки, государь! Кто следующий? С превеликим благоговением следующий на ноготок взбирается, быстро, чтобы задержки не вышло, ноготок твой целует и по всей форме докладывает: так и так, государь ненаглядный, к высочайшему кишочков выпусканию готов! Жду не дождусь милости великой самодержавным ноготком раздавленным быть! Потому, как ты — государь наш, а мы вошки пред тобой, и милость для нас и честь великая на ноготке твоем высочайшем раздавленными быть!
Что же ты не давишь нас, как нечисть поганую?
Не давишь ты, государь! Ангельской улыбкой ты нам улыбаешься. Милостиво ты нас выслушиваешь. Грустными глазочками своими, словно святой угодник с иконы, на нас ты смотришь. Чинами-то ты нас одариваешь, орденами ты нас, недостойных, увешиваешь, пенсионами наделяешь…
Разве ж это по-христиански, ангелок-голубок ты наш ненаглядный! Ить неспокойно на сердце у нас от милостей твоих — ох как неспокойно!
Приказал бы, что ли, на конюшне выпороть перед орденом аль пенсионом — на сердце-то легче было бы награды твои принимать. Нет, ты запретил пороть. Не токмо дворян — даже попов да дьяков теперь пороть не приказано. Солдатам легче — их по-прежнему из милости твоей, государь, шпицрутенами лупцуют. Крестьянам тоже привычно: как драл их помещик, так и дерет. Но не всем же сразу, государь! В отменении битья надобно соблюдать постепенность. Вот пытки-то, пытки при расследовании преступлений всяких ты, батюшка, отменил. Теперь еврей христианского дитятю замучит, а его и на дыбе не растяни, и огнем не пожги, и плетью не посеки, и даже по гнутому еврейскому носу не съезди. Как же, сознается он тебе!
С конституцией тоже ты намудрил, государь. В Польском-то царстве сейм. В Польском-то царстве вольности всякие с давних времен заведены. Так ты, ясноокий, Польское царство зацапал, а к ногтю те вольности прижимать не стал. Пусть пользуются подданные — ты ведь не деспот какой восточный, ты ведь государь гуманный, европейский, тебя по системе Руссо бабка твоя воспитала. Ты и Финляндскому княжеству вольности его сохранил. Оттяпал княжество — и сохранил. И даже России-матушке ты конституцию даровать обещал.
Отец! Благодетель! Херувим! На кой она нам к лешему, конституция эта? Что мы — ляхи-паписты какие-нибудь, не православный мы что ли народ? Ты лучше нас к ногтю, к ноготку твоему розовенькому прижми да кишочки и выпусти, а ты — конституцию обещаешь! Ну, обещанного три года ждут, а тут уж шесть годков пробежало… Вместо конституции ты военные поселения народу своему даровал. Вот это по-нашему, государь. По-нашенски это!
Ать-два, ать-два. Землю попашем, ружьишком помашем. Корм скотине зададим, в карауле постоим. Розги из лесу возами вывозим. Девок в строй строим, строем замуж выдаем, по команде бабами делаем. Молодицы у нас молодцы, государь: младенцев по плану рождают. Не Платонов, конечно, и не светлых разумом Невтонов, государь, — извини! План-то нам по валу, по количеству то есть, спускают, да еще встречный план требуют — где тут о качестве думать? Зато по валу, государь, натягивают план молодицы наши, иные и перевыполняют. Рекорды производительности ставят, государь! И ни одного еврея в округе — некому младенцев тех резать. Но — туго с планом, государь, ой как туго с планом! Мрут поселяне, как мухи на липучей бумаге. Сколько ни нарожай их — помирает больше. Дисбаланс в планировании, государь! Дефицит. Все от улыбки твоей ангельской. Все от улыбки.
Не вели казнить, вели слово молвить, потому как ты, государь, критику уважаешь.
Ты доверие к кадрам осуществляешь. И правильно делаешь, государь. Правильно! Довольно папашка твой набуянил. Как вспомнишь его личико обезьянье — мороз по коже до сих пор дерет. Ать-два — приказ. Ать-два — докладывай исполнение. Не исполнил — взбирайся на ноготок. Вот генералы дрожали — любо-дорого было смотреть!
Ты не такой, государь. Нет, ты — не такой! Кадрам ты доверяешь. Доверяй, государь, но — проверяй! А тебе некогда проверять: ты грехи по монастырям замаливаешь. Оно богоугодно, конечно. Да ведь кадры-то тем временем матушку-Русь, тебе Богом вверенную, по камешку-по кирпичику всю растаскивают.
Добро бы растаскивали только, да ведь иные и заговор против тебя умышляют. Ну, не знал бы ты о том заговоре, и не знал бы. Но ведь ты знаешь, государь! Это дело у тебя крепко поставлено, тут кадры надежные. Ранее самих заговорщиков все умыслы их злодейские тебе ведомы. Ты бы пальчиком, пальчиком только шевельнул, и вот они, заговорщики, — на ноготке твоем розовом: все к твоей милости, государь.
Но ты улыбкой своей ангельской улыбаешься, глазами своими грустными смотришь, на волю Божию уповаешь…
Да кому ж, как не тебе, смуту пресечь! Ведь порешить тебя, государь, хотят! И порешат, ежели не упредишь их, как сам ты папашку своего порешил, потому что не упредил он тебя.
…Что это с тобой, государь? Почему светлый лик твой страшная исказила гримаса? Ах, да!.. Папашка твой, крест царствования твоего!.. Не хотел ты этого, государь. Видит Бог: ты — не хотел. Так сам Бог рассудил — стало быть, нет на тебе вины. А поди ж ты — стоит папашка перед глазами твоими, больше двадцати лет стоит образ его пред тобой, и не грозным государем, в мундир затянутым, перед кем ты сам не меньше министров и генералов трепетал, а жалким маленьким клубочком дрожащим стоит он перед ангельским взором твоим. Глазки-то его затравленно бегают. Ручки-то его крохотные, с пальчиками врастопырочку, подрагивают. Шейка-то его тонкая, как у гуся общипанного, торчит из ночной рубашоночки…
Ведь он уж и свечи в опочивальне своей загасил, одеялом укутался да сладкие сны начал глядеть; а тут — топот сапожищ, пьяная ругань, брань площадная. Он только и успел, папашка твой, в рубашоночке ночной с постельки соскользнуть, да головкой обезьяньей в камин воткнуться. Забился в угол — одни пяточки голенькие торчат. Ну, за пяточки его из камина и выволокли.
Он упирается, бедный, ручонками-то врастопырку закрыться хочет. Ну, чисто дитя малое, вроде младенчика того, в граде Beлиже убиенного.
— За что вы меня, — спрашивает болезный, — что я вам сделал плохого?
Не понимал, вишь, что плохого делает!
А ему — кулачищами — по зубам! Кулачищами батюшке твоему махонькому. Да золотой табакеркой, чтоб ярче физию разукрасить. А потом только шарфик красный на тонкую шейку гусиную повязали да за концы потянули. И всё. Глазки тут его закатились да язык вывалился…
Государь! Ты ж сам не был при том! Ты ж в дальних покоях дожидался! Отчего же не грозным государем, в мундир затянутым, а жалким трясущимся беспомощным комочком в ночной рубашоночке стоит папашка перед ангельским взором твоим?
Вот оно — наказание Господне!
Ах, как рыдал, как убивался ты в ту страшную ночь! Главный разбойник тебя даже за руку без всякой почтительности схватил да силой на балкон вытолкнул, рявкнул в самое ухо:
— Хватит ребячиться, Ваше величество, ступайте царствовать.
Не добром началось царствие твое, государь, добром ли кончится? Сколько дел великих ты с Божьей помощью за годы сии свершил! Сколько земель к России-матушке присоединил! Наполеона-узурпатора одолел. Священный союз с государями заключил. Наслаждается теперь Европа миром да тебя, государя Благословенного, славит.
Только не простил тебя Господь! Ты-то знаешь про то. Ты-то знак от Господа имеешь. Запечатал Господь чрево супруги твоей, не даровал тебе, государь, наследника.
Убивается супруга твоя Елизавета Алексеевна, императрица Всероссийская, царица Польская, великая княгиня Финляндская и прочая, и прочая, и прочая. Винится перед тобою супруга твоя за бесплодие чрева своего. Только знаешь ты, государь, — не ее в том вина. Потому как на тебе кровь отца твоего. Ради тебя, ради греха твоего запечатал Господь ее чрево.
Вот и маешься ты, государь. Носят тебя тройки из монастыря в монастырь. Только не внемлет Господь молитвам твоим, потому как растаскивают кадры-то царство твое.
В последний раз покидая столицу, ты снова в Лавру завернул. Помнишь, небось, келью старца того, коего ты посещением своим удостоил. Мрачная келья, вся черным сукном оббита, и большое распятие у левой стены. А за загородочкой гроб на столе, в нем схима, свечи и все прочее, что надобно для погребения.
— Это — постель моя, — сказал тебе старец, — и всех нас. В нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго.
Смотрел ты, государь, грустными глазами в тот гроб, все представить хотел, как схимник в нем лежит, только другое тело мерещилось тебе в том гробе. Он, папашка твой, с густо загримированным обезьяньим лицом да укоризненной, к тебе одному обращенной улыбкой на мертвых губах.
Вот он, последний тебе знак от Господа! Не прощен грех твой, государь.
Опять катишь ты через Россию твою — потому что обрыдли тебе дела государственные. Ты бы уж давно отрекся от престола твоего, да медлишь ты, государь, все ждешь, не выйдет ли вдруг знак от Господа о прощении грехов твоих тяжких.
Ох, не дождаться тебе, государь, того знака! Ох, не дождаться! Не добром началось твое царствие, так добром ли кончится?
Наследник престола твоего брат твой единокровный своевольничать вздумал. Тебя не спросив, с царственной супругой своей развелся да на шляхетке простой женился, дав повод для пересудов всем европейским дворам. Ты милостив, государь: шляхетку ту мигом в княжеское достоинство возвел. Но своеволия братца ты не потерпел, благо папашка твой, не в пример тебе, плодовит был изрядно. Своевольного братца ты отречься заставил, меньшому братцу повелел трон наследовать. Такова воля твоя самодержавная, потому что ты, государь, самодержец есть: что хочешь, то и воротишь в государстве твоем. Переменил ты наследника, а бумаги о той перемене в тайне содержишь, а почему — про то сам не ведаешь. Может, боишься ты наследника нового своего? Или старого? Как бы и твой наследник не прислал в опочивальню твою разбойников с шарфиком да золотой табакеркой. Пускай-ка лучше братья твои сами не разумеют толком, кто из них истинный престолонаследник…
Смотри, государь, с огнем ты играешь! А ну, как призовет тебя вдруг Господь — что братцам-то твоим тогда делать? Пока выяснять будут, кому кого на ноготок можно класть, злоумышленники-то небось спать не станут. В тот самый момент, может, и захотят трон царский в огне спалить…
А, ладно, на все воля Божия!
Устал ты, государь, от тяжкой думы твоей, да и дорога утомила тебя изрядно. А тут на пути славный городок, и солнце багровое как раз на макушках дальнего леса повисло. В аккурат здесь и заночевать.
— Князь! — отрываешься ты от грустных дум, государь, — от границы губерний своих сопровождаешь нас, князь, а о владениях не рассказываешь.
— Не смею беспокоить! — по-военному отчеканивает князь Хованский, генерал-губернатор Витебский, Смоленский да Могилевский — орденами увешанная мелкая вошь полосатая.
— Скажи-ка, милейший князь, что это за городок уютный такой мы проезжаем?
— Велиж, Ваше величество! Велижем прозывается! — опять отчеканивает князь.
— Здесь очень мило, князь. А нельзя ли здесь остановиться на ночь?
— Распоряжения сделаны загодя! — отчеканивает князь. — Только… позволите доложить?
— Что у тебя, князь? — спрашивает государь.
— Неудобство имеется, Ваше величество!
— Какое же?
— Жидов в этом городе много, — понизив голос до полушепота и наклонившись к государю, докладывает князь.
— И что же они? Сильно кусаются по ночам? — ангельская улыбка озаряет на миг грустное лицо государя.
— Не извольте беспокоиться, Ваше величество! Мы их живо! — радостно рявкает князь.
Государь болезненно передергивает плечами.
— Усердно служишь, князь!
— Рррад старраться, Ваше величество! — по-фельдфебельски рявкает князь, но вдруг осекается, заметив презрительную гримасу в лице государя. Экий ведь солдафон!
— Старайся, князь. Только не переусердствуй, — говорит государь, снова ангельски улыбаясь.
Крепкая шея князя Хованского наливается краской, на лбу мелкими бусинками проступает испарина.
— Почему остановка? — обычным своим ровным голосом спрашивает государь. — Разве уже приехали?
Выглянув в окно кареты, он видит небольшую толпу в почтительном отдалении — аккуратную, несмелую, приглушенно гудящую горстку людей, каких немало приходилось ему встречать в скитаниях по России, а впереди всех — баба в цветастых юбках; на коленях стоит, в низком поклоне к земле лбом прикасается и в вытянутой вперед руке бумагу, трубочкой свернутую, держит.
— Что надобно этой женщине? — строго спрашивает государь. — Встань, милая, смело говори об обидах твоих твоему государю!
Баба спину разгибает, и видит государь, что крупные светлые слезы струятся из ее огромных, опахалами густых длинных ресниц притененных, глаз.
— Я женщина бедная, — всхлипывает баба, — но гордость тоже о себе понимаю. Я солдатская вдова, — говорит, — муж мой, — говорит, — за Ваше величество голову сложил, а сыночка моего единственного, — говорит, — евреи замучили.
Тут баба зарыдала, заголосила, затряслась от рыданий всем телом.
— А судейские, — прокричала сквозь плач, — все евреями куплены… Вот бумага. В ней все, как есть, писано…
— Не плачь, милая, — ласково промолвил в ответ государь. Бумагу принял и через плечо передал в глубь кареты.
— Ну-ка, князь, — сказал громко, не поворачивая головы, чтобы каждое слово его было слышно толпе. — Разберись в этом деле порасторопнее. И чтобы по всей справедливости. Не печалься, милая, твой государь никого из подданных своих в обиду не даст.
Глава 3
— Итак, Терентьева Марья, нищенка, живущая подаянием. В жалобе, поданной вами государю императору в собственные его величества руки при случае проезда его величества через город Велиж, вы утверждаете, что являетесь матерью убиенного два года тому назад младенца Федора…
Сухой монотонный голос следователя Страхова никак не вяжется с его вздернутым, окропленным мелкими веснушками носиком и припухлыми, словно детскими, губами. Марья смотрит на него без всякой боязни.
— Между тем, производившимся своевременно по делу сему дознанием установлено, что убиенный младенец Федор был сыном отставного солдата Емельяна Иванова и законной супруги его Агафьи. Так как же? Продолжаете ли вы настаивать, что именно вы, Марья Терентьева, а не Агафья Иванова, являетесь матерью убиенного Федора?
— Никак нет, батюшка, не продолжаю, — Марья кокетливо улыбается Страхову.
— Следовательно, вы признаете, что в бумаге своей написали неправду!
— Признаю, батюшка, — соглашается со следователем Марья и неожиданно прыскает.
Ей смешно оттого, что этого безбородого пухлогубого мальчика с жиденькими тщательно прилизанными волосиками она называет батюшкой.
— А знаешь ли ты, коза блудливая, — голос Страхова срывается на фальцет, — что за ложные показания тебе будет битье плетьми да ссылка в каторжную работу?
— Господь с тобой, батюшка! — недоумевает Марья. — За что же напасть такая?
— За ложные показания!
Следователь смотрит строго, однако мысль о том, что этот цыпленок может причинить ей какой-либо вред, не умещается в Марьиной голове. Она обиженно поджимает губы.
— Значит, опять должна я через евреев терпеть! Я ведь не какая-нибудь, я о себе уважение понимаю. А они младенца моего погубили, да меня же за блудное будто житье приговорили, а теперь еще ты, батюшка, Сибирью стращаешь!
— Так ведь не твой младенец-то! И где доказательства, что именно евреи его убили? До-ка-за-тельства, спрашиваю, где? — Следователь приподымается и, всем телом своим перегибаясь через разделяющий их стол, как бы надвигается на Марью Терентьеву. — Ты и раньше на евреев показывала, а доказательств не привела. Теперь самого государя обеспокоила, а доказательств у тебя как не было, так и нет.
И Страхов неожиданно жесткими, словно клещи, пальцами ухватил Марью за щеку, стал медленно выворачивать ее защемленную кожу.
— Это тебе не шутки шутить! Тебе столько плетей за все твои враки отвесят, что и до каторги не доберешься. Так и помрешь под плетью. У нас разговор короткий.
Глава 4
Емельян Иванов ту думу имел, что с серебряной ложкой во рту на свет Божий явился. Выпало ему в молодости в рекрутчину угодить, и столько баталий прошел Емельян — на тысячу других хватило б! И на шведа ходил Емельян, и с!уркой бился, и с Наполеоном-антихристом всю кампанию одолел. Под Смоленском чуть в плен не угодил Емельян, на Бородинском поле ему кивер пробило, а под Тарутином засыпало землей — едва откопали.
Нанюхался пороху Емельян Иванов! Чуть ни полмира на своих двоих отшагал, и смертушка костлявая с косою своею след в след за ним ходила. Ан, хоть бы царапнуло Емельяна разок… Ни-ни! Сохранила заступница христианская Богородица. Оттого и имел он думу про серебряную ложку во рту.
Честью и правдой отслужил свои 25 годков Емельян царю-батюшке да России-матушке. А как вышел срок — осел в городке Велиже, к Двине-реке притулившемся, — чистом, уютном, торговом, церквами да питейными заведениями уставленном.
Какое достояние у отставного солдата — про то всякий знает. Две руки, две ноги, голова на плечах да спина крепкая. Да у торговых людей всегда работенка найдется. Тому хлеба воз нагрузить, тому бочки с вином, аль семя льняное, аль красный товар к Двине-реке доставить да на воду спустить. А то и по Двине на лайдах до Витебска, Динабурга и до Риги самой сходить. Емельян — с превеликим удовольствием. Пока сила в руках-ногах есть, чего ее, силу-то, зря копить?
Хатенку поставил себе Емельян с краю города, на свободной земле, к бобылкам не спеша пригляделся, да и взял за себя Агафьюшку, бабу немолодую и бесприданную, зато трезвую, дородную да работящую.
Зажили хорошо, людям на зависть и удивление.
Про Велижград ведь что сообщает Православный Исследователь?
«Народ в городе больше добрый характером, да вместе крутой. Многие ведут жизнь довольно разгульную; нетрезвость широкие размеры имеет, а с нею и бедность; домашние ссоры да буйства доходят до обыкновенности. Родители-старики жалуются на побои детей, а жены — на жестокость мужьев». Так колошматят добрые велижане баб своих, что «преждевременные роды и скидывания — очень нередки».
Но не таков Емельян Иванов — отставной солдат! Чарку, конечно, примет, ежели поднесут; да и сам Емельян не скуп, рад угостить хорошего человека. Однако добреет от вина Емельян, целует всех, слезой умывается, про походы свои да баталии, как с супостатом бился, сказы ведет. А чтобы Агафью по пьяному делу обидеть — такого греха, упаси Господи, с ним никогда не случалось. Потому и наградил Господь Емельяна. Понесла Агафья его, и без всякого там скидывания родила младенчика точно в срок — крепенького да здоровенького.
Проснется Емельян среди ночи — рядом Агафья его посапывает, в люльке младенчик губочками почмокивает. Тихо-тихо подымется Емельян, выйдет в исподнем на крыльцо, засмолит по солдатской привычке цигарку; а кругом Божий мир смотрит стоглазием огоньков небесных, ласковым ветерком обвевает Емельяна, дух терпкий смолистый с лесов сосновых ноздри щекочет, доски тесовые крыльца, что сам ладил, ступни босые Емельяну холодят — эх, мать честная, до чего же сладко жить-поживать на Божьем-то свете!
Особливо он, крохотуля этот, в люльке своей чмокающий, умиленной радостью заливает Емельянову душу. Не зря, выходит, небо коптил солдат да шалой пули стерегся. Наградил Господь — ничего не скажешь! Щедрей царя-батюшки наградил! Теперь бы вырастить мальца, да и помереть не страшно. Будет кому помянуть, кому свечку за упокой души поставить. Одно слово: с серебряной ложкой во рту родился на свет Емельян Иванов!
А на пятом году жизни своей беспорочной, в день Святого воскресения Христова пропал неизвестно куда белокурый ясноглазый младенец Федор, солдатский сын.
Обшарили город Емельян с Агафьей, в лесу аукали, в деревнях окрестных расспрашивали. Соседи с ног сбились помогаючи, полиция по всей округе искала — не видал никто мальчика; словно в Двину канул…
Пьет Емельян горькую, Агафья убивается-воет, соседки сердобольно вздыхают, головами покачивают. Свят, свят, свят! Беда-то какая приключилась. Не приведи, Господи.
— Ладно убиваться, Агафья. Воды да воску неси, угадаю, так и быть, где твой ребеночек!
Засуетилась, забегала по избе Агафья, не знает, куда гостью нежданную в пестрой юбке цыганской да с опахалами вокруг глаз воловьих усадить да чем угостить, да как уговорить, чтоб не передумала она ворожить-то.
Налила Агафья чарку Марье Терентьевой, вторую налила — не передумала Марья. Долго смотрела, как воск в тазике плавает, затем глаза воловьи опахалами запахнула, руку вперед выставила да и сообщает утробным голосом замогильным.
— Вижу, вижу, Агафья, где сын твой болезный томится… Вот он, маленький… В погребе темном сидит… От холода дрожит весь, сердечный… Радуйся, Агафья — живой он покуда… А ночью, Агафья, кровь из него христианскую выпущать станут. И умертвят потом, чтоб не открылось злодейство. Беги, Агафья, спасай сваво ребеночка.
Обомлела Агафья, метнулась туда-сюда, платок на голову накинула.
— Куды, — кричит, — бежать-от? Где погреб тот окаянный?
— В доме еврейки Мирки, — отвечает ворожея. — Спеши, Агафья, а то не увидишь боле сваво мальчика.
Тотчас бросилась Агафья со двора… Вверх по Витебскому тракту, затем переулком на Школьную улицу выбежала, обогнула большую еврейскую синагогу, обернувшись на Свято-Духовный собор, крестным знамением себя осенила, да прямехонько к ратуше, что фасадом на Базарную площадь развернута. А через площадь, с краю — большой дом, добротный, каменный — с самой ратушей величавостью вида поспорить может. Он и есть тот самый дом, про который ворожея сказывала — старухи Мирки Аронсон да зятя ее Шмерки Берлина.
Рядом с домом ворота распахнуты, деловитая суета во дворе. Да тут всегда суета, потому как купец третьей гильдии Шмерка Берлин — первый на весь город богатей; дел всяких торговых почитай с половиной России ведет и даже с самой заграницей. Он и лес сплавляет, и возы с хлебом шлет в разные концы, и мелкие лавочки держит; вот и толпится во дворе всякий народ.
Агафья во двор не пошла, на крыльцо каменное взбежала, задержалась на миг дух перевести, да засмущалась вдруг. Как же это в чужой дом вломиться да ребеночка требовать!.. А ежели тут вовсе и нет его?..
В ворота разные люди проходят, да из ворот выходят; на Агафью поглядывают с удивлением. А она все стоит на крыльце, с ноги на ногу переступает, сумлевается, и уж не помнит, сколько времени так стоит… Батюшки святы! Что же это люди подумать могут? У дверей баба мнется, а в дом нейдет. Не стянуть ли чего высматривает?.. Такого сраму с Агафьей отродясь не бывало.
Сбежала Агафья с крыльца, к дому своему воротилась. А ворожея еще тут, у дома. Повеселела от поднесенного Агафьей вина, бабы ее обступили, и она им про злодейства еврейские и ворожбу расписывает.
— Ну что, не отдают жиды ребеночка? — бросились бабы к Агафье.
— Она наплетет, — машет рукой Агафья, — а мне к людям на позор итить.
И повернувшись к Марье Терентьевой:
— Не верю я твоей ворожбе!
— А не веришь, так и не верь, — обижается Марья. — Мой что ли мальчик?.. Мне не веришь, так в Соснюры сходи, к девке блаженной Нюрке Еремеевой. Про нее все знают, как горазда она ворожить да все верно угадывать.
Агафья опять отмахнулась, да бабы подступились все к ней: сходи да сходи, ноги небось не отсохнут; блаженные-то, они вон как горазды угадывать!
Ну, пошла Агафья в Соснюры. Только Нюрка, блаженная девка, и ворожить ей не стала.
— Ты ж, — говорит, — была седни в том доме, где сын твой слабый томится. Коли в силах взять его оттеда, то приложи старание, а не могешь, так ночью стереги: он будет жизнь кончать. Хоть увидишь его в последний разочек.
И нахально на Агафью глядит, и лицо ее широкое, скуластое, плоское, и две тощие рыжие косицы крысиными хвостиками болтаются.
Воротясь в город, Агафья снова пошла на Базарную площадь, но войти в дом еврейки Мирки да потребовать ребеночка опять не решилась…
Глава 5
Младенчика Федора нашли в ранний утренний час славного майского дня, на десятый день поисков. Лежал он всего в трех верстах от города, вблизи дороги, и хорошо виден был в прозрачном лесу, среди голых еще, едва начавших одеваться нежной листвою деревьев. И накануне, и третьего дня искали его в этих же местах, да не было его здесь. Только минувшей ночью, может, под самое утро, вывезен был его трупик, о чем говорил и свежий след брички, четко отпечатавшийся на влажном грунте дороги. Видно было, что бричка стояла какое-то время здесь, потом развернулась и укатила обратно в город.
Доставленный к месту происшествия доктор Левен тельце мальчика осмотрел и насчитал четырнадцать колотых ран, нанесенных чем-то вроде гвоздя с отломанным острием. Еще заметил лекарь, что губы у трупа притиснуты к зубам, а нос прижат к губам, и имеется кровоподтек на затылке, а также несколько ссадин в разных местах — след короткой неравной борьбы… Лекарь записал в протоколе, что мальчик принял мученическую смерть.
А привезенный для опознания трупа, опухший от водки, но трезвый, не успевший еще с утра опохмелиться, отставной солдат Емельян Иванов в покойном ребенке точно признал своего пропавшего сына. На вопрос полицейского чина, кем загублен ребенок, Емельян ответил, что про то не знает и подозрений ни на кого не имеет. Окромя, конечно, евреев.
— Почему же именно евреев? — деловито спросил полицейский чин.
— А как же? — изумился Емельян. — Ить у них вера такая. Им на пасху надобна кровь христианская. Это ж всему свету ведомо.
И как бы ища поддержки, солдат обернулся к кучке зевак, успевших, несмотря на ранний час, сбежаться к мертвому телу.
— Знамо дело, евреи. Кому еще убивать, — загудели в толпе.
— Про то и святые отцы сказывали…
— В Ленчицах-то — слыхивали? — кто-то гнусаво спросил из задних рядов, и вперед выдавился, комкая в руках шапку, тщедушный мужичок с всклокоченной бороденкой, приплюснутым, словно сломанным носом, по виду мастеровой. — Как же! Да. Там на церкви одной — папистской, правда, не нашенской, — даже картина вывешена: как, значит, евреи кровушку из младенца источают. Да. Цельный бунт из-за картины той вышел — всего, почитай, два месяца тому. Евреи, вишь, сильное недовольство к той картине имели, что, значит, она народ супротив них возмущает. Сунули там, сказывают, кому-то — они ить завсегда при деньгах, евреи. Да. Ну, начальство, знамо дело, послало людей картину сымать. Только тут один смелый человек случился. Как ударит в набат! Да. Народ сбежался, а он и кричит народу: «За веру нашу христианскую! Не позволим картину для ради жидов сымать!» Хоть и папист, а постоял, вишь, за веру Христову. Да. Разбушевался народ, так и не отдал картину. Человека того заарестовали, мобуть, в Сибирь сошлют, потому ежели всякий папист смуту учинять станет… Да. А картина висит. Да…
— Вот видишь, ваше благородие, — как бы обрадовался даже, несмотря на великое горе свое, Емельян Иванов. — Ты послухай, ваше благородие, что Филипп Азадкевич говорит. Ты не гляди, что сапожник: он грамоте разумеет и про жидовские злодейства много показывает.
— Так то в Ленчицах, — вяло возразил чин, — а это у нас, в Велиже. Ты, солдат, про сына своего говори. Откуда у тебя подозрение на евреев?
— Так Агафье же, бабе моей, ворожея сказывала!
— Какая такая ворожея?
…Записал все чин чином чин, младенца непорочного Федора предать земле дозволил, а в участок к себе Марью Терентьеву приказал привести. Из-под земли достать, а доставить.
— Ну-ка, сказывай, Марья, откуда тебе ведомо, что мальца того порешили евреи? — потребовал чин от Марьи Терентьевой, как только предстала она перед ним. — И не вздумай про ворожбу мне врать, потому как ворожбу закон запрещает! И хоть ты, Марья, законам не обучена, однако не будет тебе снисхождения, потому как ты первая в городе бездомница и блудодейка и в поведении тебя никто не одобрит; пойдешь ты, Марья, за ворожбу свою в Сибирь морозную, в самую каторжную работу.
Видит Марья — дело совсем не шутейное. Захлопала ресницами, на лавке заерзала. Ворожба ворожбой, объясняет, а только видела она своими собственными глазами воловьими, как еврейка Ханна Цетлин, аккурат в день Святого воскресения Христова, когда сын то есть солдатский пропал, подошла на мосту к мальчику, по головке его беленькой погладила, о чем-то поговорила с ним да в дом свой еврейский увела.
— И не врешь ты все это? — чин уж другим тоном спрашивает.
— Вот крест святой! — ободрившись, побожилась Марья.
— И можешь признать ту еврейку?
— Как не признать! — отвечает Марья. — Ханна еврейка та. Ее лавочка на Базарной площади через два дома от богатейки Мирки стоит!
Мигом чин за Ханной Цетлин шлет, лицом к лицу с Марьей ставит.
— Знаешь, — спрашивает, — эту бабу?
— Первый раз вижу, — отвечает Ханна Цетлин.
— А ты? Встречала когда-нибудь эту еврейку? — спрашивает чин Марью.
— Она, она! — Марья опахалами своими мотнула. — Она самая. Мальчика на мосту взяла да в дом свой увела.
— Какого мальчика, на каком мосту, когда это было? — будто не понимает Ханна.
— Сама знаешь, когда! Аккурат в день воскресения Христова, когда солдатский сын пропал! — парирует Марья.
— Какой солдатский сын? — спрашивает Ханна.
— Нешто не знаешь! Весь город об том только и говорит, а она не знает!
— Про что ты говоришь, я не знаю, — Ханна ей отвечает. — Тебя никогда не встречала и про мальчика не слыхала. В первый день христианской пасхи, — обратилась Ханна к чину, — я и из дому не выходила. Сын у меня болел, горел весь, метался в бреду. Я Бога молила, чтоб меня к себе взял, а его жить оставил. Не внял моим молитвам Господь, вчера только мой мальчик помер. — Голос у Ханны задрожал, она помолчала, потом, превозмогая себя, продолжила. — А пока дышал еще, я все надеялась и ни на шаг не отходила от него. Чтоб мне так жить.
— Клятвы нам твои еврейские ни к чему, — заметно смутившись, но все же с приличествующей строгостью возразил чин, — а вот свидетель, что не выходила ты в тот день из дому, у тебя есть?
— Как же нет! — вскрикивает Ханна и называет аж четырех свидетелей.
Чин мешкать не стал — всех четверых приказал доставить. И отпустил их вместе с Ханной Цетлин.
«Не приведи Господи связываться с евреями, — злился после того чин. — То ли дело наш брат, христианин. Соседа, допустим, прирежет или жену прибьет по пьяному делу… Так проспится и сам же придет с повинной. А эти — от всего отопрутся да голову заморочат».
— Ты что же мне сказки сказываешь! — напустился чин на Марью Терентьеву. — Ежели Ханна эта в свой дом ребеночка увела, почему же умертвили его, по слову твоему, у старухи Мирки, то есть у Берлиных? Ну-ка, выкладывай все, что знаешь!
Заерзала опять Марья, забились, запорхали опахала, словно пойманные две бабочки.
— Так это ж потом, — говорит, — ночью его к Мирке перенесли.
— Ты это тоже своими глазами видела? — грозно вопрошает чин.
— Нет, — лепечет Марья, — сама я того не видела, да про то Нюрка Еремеева сказывала.
— Какая еще Нюрка?
Доставили чину Нюрку Еремееву, блаженную девку- рыжую, скуластую, веснушками, словно крупным зерном, усыпанную, еще совсем малолетнюю.
— Чья ты, Нюрка, где живешь, чем кормишься? — ласково чин ее спрашивает.
— Я ничья, — Нюрка отвечает, — живу, где люди добрые приютят, а кормлюсь подаянием ради Христа.
— Значит, ты, Нюрка, девка бездомная и живешь подаянием?
— Молюсь, вот Христос и не оставляет меня.
— И многое, говорят, угадываешь?
— Когда люди просят — угадываю.
— А вот говорят про тебя, Нюрка, будто ты еще за месяц до того, как солдатский сын пропал, говорила, что замучают его евреи. Верно ли это? Говорила ты так?
— Сказывала, — кивает Нюрка. — Дюже насмехались все надо мной, ан по слову моему и вышло!
— Откуда же тебе это известно было?
— А мне старичок явился да про то поведал.
— Какой такой старичок? — насторожился чин.
— Известно, какой! Архистратиг Михаил…
— Ты мне дело говори! — сдвинул брови полицейский чин. Сказки ты другим расскажешь!
— Я и говорю, — обидчиво ответствовала Нюрка. — В ночь на Благовещение то случилось. То ли спала я крепко, то ли в беспамятстве была, то ли еще в каком представлении, только вижу вдруг, — тут Нюрка вверх глаза подняла да под веки закатила; смотрит чин, а она одними белками на него сверкает.
У него аж помутилось внутри, и голос Нюркин как бы удалился куда-то, словно бы с высоты огромной стал доноситься:
— Вижу я — старик в священнической епитрахили подводит ко мне архистратига Михаила в стихаре, и вот взял меня за руку архистратиг и повел по разным местам, и все про будущее тех мест мне сказывал. А под утро уж увидела я младенца, и рядом цветы, и из цветов шипит на него змея. «Ой! — кричу я, — вскрикнула Нюрка, — что это значит?» — И опять с высоты, таинственно. — А Михаил отвечает мне: «Назначен младенец сей быть страдальцем Господним в городе Велиже. Знай, Нюрка, что на пасху Христову замучают евреи его христианскую душу».
Сказав все сие, Нюрка замолкла, глаза ее на место свое воротились и нахально на чина уставились.
— Гм! — озадачился чин. — Ну, а как ты узнала, что это случится в доме Шмерки Берлина и старухи Мирки?
— Так в ночь на Светлое Христово воскресенье опять ко мне старичок явился! — теперь уж горячим шепотом заговорила Нюрка. — Вывел меня за ворота и показывает на Велиж, а над ним, будто от пожара, разливается пламя. Показал мне все это старец и говорит: «В первый день пасхи пропадет в городе Велиже тот христианский мальчик, которого видела ты, что на него шипела змея. Он будет страдать в иудейском, что против зарева на рынке, большом каменном доме. Когда придет к тебе мать того мальчика, то слышанное от меня скажи ей».
— И это все, что ты можешь сказать? — спрашивает озадаченный чин.
— Если б знала еще чего, то сказала бы.
Отпустил чин Нюрку, блаженную девку, отпустил Марью Терентьеву, да заскреб свой чинный затылок. Вот евреи, всегда с ними так! Одна ворожба, выходит, против них да молва людская. Как тут прикажешь дознание чинить, когда закон ворожбу в расчет принимать не велит? Это, конечно, ежели с одной стороны посмотреть.
А ежели с другой стороны, по совести ежели рассудить, то кому ж убивать дитятю христианскую, как не евреям. Опять же и ворожба! Закон-то, конечно, закон, а тоже не отмахнешься. Взять хоть тот случай, когда цыганка самому чину гадала. Будет, говорит тебе радость в казенном доме. И точно: вышло повышение в чине.
Как ни крути, а Мирку эту и всех Берлиных надобно допросить. Не положено по закону, однако же, если по совести, то ничего, не убудет с них. С другой же ежели стороны посмотреть, то какой толк допрашивать-то? Они ж, ясное дело, отопрутся, только спугнешь их. Следы, допустим, в подвале какие остались, так они их мигом сотрут-замоют.
Нет, лучше уж прямо нагрянуть с обыском! Оно по закону-то не положено, ан, вдруг обнаружится что? Тут все дело сразу откроется, и новое повышение от начальства выйдет!
Нагрянул чин с подчинами своими в большой каменный дом, что с краю на Базарной площади.
Все погреба обшарили, чердаки облазили, сараи да конюшню обстучали, огород перекопали. И — ничего подозрительного! Вот как умеют маскироваться жиды!
Конечно, допрос учинил всем Берлиным чин. И Мирку-старуху допросил, и зятя ее Шмерку, главного в доме хозяина, и жену Шмерки Славку, и сына их Гиршу, и жену сына Шифру, и малых детей Шифриных. Все в один голос твердят: не ведаем про солдатского сына!
Чин и так, и эдак подъезжает. Посторонние вопросы подсовывает, чтоб, значит, с толку сбить и обнаружить вранье… Как же, собьешь их с толку! Все согласно друг с другом отвечают — вот сговорились как!
Одна надежда у чина — бричка. Потому как на допросе открылось, что у Берлиных недавно гостил родственник с сыном из дальнего местечка, Гликман Иосель. На бричке приехали они, на бричке и уехали. А ну как, покидая город, они двое и вывезли в лес мертвое тело?..
Тут, правда, неувязочка имеется. Следы ведь говорят, что бричка та в город воротилась, Гликманы же не воротились — в местечко свое поехали. Но все одно: приказал чин того Гликмана найти, в участок доставить, бричку его разыскать, да как следует всю обмерить: совпадают ли размеры ее с той, что следы оставила?
А тут уж слух про обыск из дома в дом ползет, из двора во двор пробирается. Филипп Азадкевич, сапожник велижский, по улицам разгуливает, шапку в руках мнет, про картину в Ленчицах гнусаво рассказывает. Вот они какие, жиды! Да. Младенцев христианских режут и на бричках своих в лес вывозят. Начальство — оно тоже с понятием. Не станет начальство зря обыски делать да брички еврейские обмерять.
Злобится, слушая те речи, народ христианский, а евреи тоже вовсю возмущаются. Самый горячий, конечно, Хаим Хрипун. Он Тору-Талмуд изучил да всякие толкования. Он мудрость всю еврейскую превзошел. Что же это, говорит Хаим, на свете Господнем происходит! Жив, говорит Хаим, Бог Израилев, или не жив? Наш Бог, говорит, есть Бог единый. За что такая напасть и бесчестье? Такого же, говорит, с самого сотворения мира никто не видывал. Сколько, говорит, бричек в городе Велиже? На каждой могли тело вывезти. Нет такого закона, чтобы еврейские брички обмерять, а христианские не обмерять! Вот к землемеру Котову тоже гость на бричке прикатил да живет у него до сего дня. Ему сподручнее мертвое тело вывезти да назад воротиться. Мы тоже пойдем ту бричку обмерим!
И пошли по улице, повалили гурьбой. Ну, во двор только двое вошли — Хаим Хрипун да Нота Прудков. Остальные на улице стоят. А мальчишки, мальчишки еврейские, любопытные пучеглазики, весь забор облепили, смотрят, как ту бричку измерять будут.
Как же, измеришь!
Вышли из дому землемер Котов да гость его ксендз Серафимович, да как шуганут тех измерщиков. Хаим Хрипун было спорить стал, да ксендз Серафимович за оглоблю схватился — такой вот получился спор. Перепуганный Нота едва успел вытащить Хаима со двора за полу длинного его еврейского кафтана.
Землемер Котов не успокоился тем: бумагу подал властям, чтобы расследовали, с каким таким умыслом великая толпа жидов напала на его дом. Возжелал землемер Котов чувствительной обиде своей потребовать удовлетворения! А пуще Котова возжелал того ксендз Серафимович, гость его, полагавший жидовский обмер, бричке его учиненный, крайне обидным не только для себя, но и для всего христианского духовенства.
Чесали полицейские чины чинные свои затылки, кивали головами. Оно так… Оно всякому ясно… Ежели по закону, то никакого ущерба евреи обмером своим ни Котову, ни ксендзу, гостю его, не причинили. Ну, а ежели без закона, по совести ежели рассудить, то ксендз этот хоть и не православный священник, а всего-то папист недоделанный, однако же — не чета жидовью. Христианская бричка — это вам не еврейская!.. А потому пусть жиды раскошелятся, пусть возместят за обиду землемеру Котову и ксендзу, гостю его, по двухмесячному жалованию. У жидов-то все одно денег много. А Хаим Хрипун и Нота Прудков в остроге пусть посидят деньков по пятнадцать за мелкое хулиганство, чтоб неповадно им было брички христианские обмерять и такими еврейскими предприимчивостями ход всего дела затмевать, а тем и отводить падаемое на них, евреев то есть, подозрение в убийстве солдатского сына.
Гликмана Иоселя с бричкой его отыскали, в Велиж доставили, допросили строго. Все точно показали о нем Берлины! Жил у них несколько дней, это так, и в бричке своей уехал еще за день до того, как мертвое тело в лесу обнаружили. А потому про тело то от чинов полицейских впервые слышит. Какого числа выехал — помнит точно. Где был на следующий день — тоже. Где ночевал, где обедал — всюду много людей его видело. Каждого можно ой-росить — подтвердят.
Опросили чины — не поленились. Все подтвердилось по слову Иоселя… А главное — бричка совсем иной по раз мерам-то оказалась. Вот евреи, а! Умеют предприимчивостями своими заметать следы!
Полгода дознание шло, полгода велись допросы, скрипели перья полицейские, бумага на бумагу ложилась, росло, пухло дело следственное. Да ведь сколько веревочке ни виться, все одно конец должен быть. И потому перешло дело на рассмотрение в городской велижский магистрат.
Глава 6
Среди ратманов, в городском магистрате заседающих, двое евреев! Можете мне не верить, но так повелось во всех землях, от Польши к России-матушке отошедших да густо евреями заселенных. Порядок такой установлен государыней Екатериной Великой. Коли евреи в городе есть, пусть и представители их в магистратах будут! Немного, конечно, никак не больше трети. Дашь им волю, так они всю местную власть к рукам приберут, пользуясь добродушеством христианским. Потому — пусть весь городок какой-нибудь завалящий одними евреями населен- не больше трети должно быть их в магистрате!
Ну, в Велиже евреев строго держат. Всего-то двое их в магистрате — из двенадцати. Но эти двое во всех разбирательствах, до евреев касающихся, участие должны иметь. Таков закон, государыней Екатериной Алексеевной высочайше объявленный, да государем Павлом Петровичем, сыном ее, и государем Александром Павловичем, сыном Павла Петровича, подтвержденный.
Стало быть, и судить евреев, к делу об убийстве солдатского сына привлеченных, без еврейских ратманов никак невозможно. И что из того, что один из них — муж обвиняемой Ханны Цетлин. У каждого ратмана ведь товарищ имеется, готовый заменить его на случай отлучки или болезни или ежели по другой какой причине ратман принимать участия в деле не может. Евзику Цетлину закон не дозволяет судить собственную жену, но товарищем из евреев же заменить его можно!
Так ведь то — по закону!
А ежели попросту, по совести христианской ежели рассудить? Ведь евреи, хоть двое их всего из двенадцати, они ж кого хочешь заморочить могут. Дело-то вон какое запутанное. А ну, как они еще сильнее запутывать станут? А то и распутают с еврейской своей обстоятельностью. Так распутают, что не обрадуешься. Ту же девку блаженную Нюрку Еремееву, к примеру, возьмут в крутой оборот. Что это, мол, за архистратиг такой в стихаре, который за месяц вперед убийства планирует? Не рядом ли с ним и убийцу надобно поискать? Застращают девку блаженную, пользуясь ее малолетством, да и откроется правда, только другая совсем — что младенчик Федор погиб вовсе не от еврейской, а от цыганской, к примеру, или, упаси Господи, от христианской руки…
Нет, закон законом, а лучше пейсатых к делу сему многосложному вовсе не допускать!..
И опять скрипят перья цельных полгода, опять вызывают Цетлиных да Берлиных, да Иоселя Гликмана из дальнего местечка, да Хаима Хрипуна — зачем бричку мерил, и Терентьеву Марью, и Емельяна с Агафьей, породивших младенчика того убиенного. Допросы, передопросы, очные ставки… Растет, пухнет кипа бумаг, в папки бумаги подшиваются, папки нумеруются, на полки ставятся… Чешут в чинных затылках христолюбивые судьи, платками красные шеи утирают… Умеют, умеют евреи заметать следы…
Долго потеют ратманы над приговором своим.
Пыхтят над бумагами, высунув кончики языков от усердия, ссорятся меж собой, и Бога, и черта поминают. Получается то, что и наказывать вроде не за что, и оправдать неможно. Никак невозможно оправдать, потому как убивали жиды младенчика или нет, а в Бога христианского они все одно не веруют, и разорение христианское от них одних происходит.
Велиж-то, разъясняет Православный Исследователь, — город торговый. Люди достаточные здесь только те из купцов и мещан, кто сам трудился над своими приобретениями. Сынки же и внуки купеческие, получившие по наследству, то есть без личных трудов, отцовские да дедовские капиталы, — эти время свое в разных маевках да вечеринках проводят. Кто потщеславнее, усиливается с рылом своим неумытым в образованное общество войтить, а кто попроще, без притязаний особых, тот в зимние праздничные вечера на покрытую льдом Двину выходит, чтобы сойтись с таким же молодцем в кулачном бою. Сами судите — до торговли ли тут?
А евреи — о! — они время зря не теряют! Особливо еврейки. Сидят в лавчонках своих, что наседки на яйцах, да каждой копейке счет ведут!
Скажете: на то, мол, торговля, чтоб деньгам счет вести. Так я вам на это отвечу, что так-то оно так, да не совсем так! Тут с разбором подходить надобно. Ежели, к примеру, христианин православный торгует умело и со старанием, то усердие его надобно полагать очень даже похвальным. А евреи — у-у-у! Они ж не просто так, ради прокорма семей своих, всякими предприимчивостями промышляют, но с той непременно целью, чтобы христианство с великой своей жидовской злостью разорять! Так что тут различать надобно.
По совести-то, тряхнуть бы их теперь хорошенько. Да вот беда — приговор надобно в Витебск отправить, губернские чины смотреть дело будут — все ли в нем по закону. Чуть что не так запишешь, и неприятностей не оберешься. Ведь как ни крути, а нет ничего против старухи Мирки и прочих всех Берлиных. Хоть ты тресни, а против них одна ворожба! А ежели нет ничего против тех, в чьем доме мальчонку убили, то и все обвинение само собой отпадает. Всего-то остается Ханна Цетлин: все же в день Христова воскресения видела ее на мосту Марья Терентьева!
Правда, сама Ханна сей факт упорно отрицает и выставляет свидетелей. Да ведь свидетели ее все евреи! Нет, не отвертеться еврейке Ханне. В Сибирь, конечно, не сошлешь за то, что, может быть, она была на мосту, но и вовсе чистенькой — как можно выпустить! Запишем-ка, что остается Ханна в сильном подозрении. А заодно и милосердие свое христианское покажем:
«Дабы, сверх чаяния, не отяготить безвинно судьбы ее неумеренным приговором к наказанию, и как в поведении она весьма одобрена, то и отдать ее одобрившим на поруки».
И Иоселя Гликмана в подозрении оставим. Чтоб неповадно было всякому еврею на бричке раскатывать! А главное — закрепим в приговоре, что христианам к убийству того мальчика никаких поводов не было, ибо он даже денег при себе не имел, и потому полагать следует, что учинено оное убийство евреями, только кем именно — не отыскано. Потому — предать смерть младенца воле Божией, умертвление же оставить в подозрении на евреев.
Вот как мудро рассудил велижский магистрат! Под стать еврейскому царю Соломону мудрость сия. Все прощены, никто не наказан, и пятно кровавое положено на целый народ.
Месяц проходит, другой проходит, третий проходит… Колесный путь давно санным сменился, снег успел потемнеть, вздулась Двина, скоро уж дороги непроезжими станут. Отставной солдат Емельян Иванов, гонимый неизбывным горем своим, продал дом, что сам срубил, да в коем не обрел счастья; на вырученные деньги лошадь купил, нехитрый свой скарб уложил в сани, сверху Агафью свою посадил — больше его в Велиже и не видывали. А в Витебске все слюнявят пальцы губернские чины, листают дело пухлое, покачивают головами. Видят: очень старался велижский магистрат по закону дело об убиенном младенце Федоре оформить, но не вышло по закону-то. Оно по совести ежели рассудить, то так и надобно с евреями. Утвердить бы дело, и с плеч долой, тем более — никто по нему не наказан…
Утвердили б чины, да помнят хорошенько про похожий случай, что в Гродненской губернии произошел годков всего пять-шесть тому. Ох, и осерчал тогда Государь российский милостивый! Самому губернатору высочайшее замечание сделать изволил. И бумагу по всем прочим губерниям велел разослать. Ее, бумагу ту, вдоль и поперек чины изучали, на свет просматривали, так и эдак вертели, диву даваясь да изумляясь в душе непонятной заботе государевой в отношении поганых нехристей. Да ведь Россия-мать страна самодержавная, в ней высочайшую волю обсуждать не положено — надобно исполнять. А в бумаге той прямо объявлено, чтобы евреев впредь, по одному предрассудку, будто они для религиозных целей имеют нужду в христианской крови, не обвинять. Так и сказано в той бумаге: «Если где случится смертоубийство и подозрение падет на евреев, однако без предубеждения, что они сделали сие для получения христианской крови, то следствие против них следует проводить по закону, наряду с людьми прочих исповеданий, и обвинение выносить на основании судебных улик, а не предрассудков и предубеждений».
Как же после сего приговор велижского магистрата, весь именно на предрассудках и предубеждениях основанный, прикажете утвердить! Повздыхали чины, покрякали, да постановили: решение велижского магистрата отменить, евреев от всякого подозрения освободить, а Марью Терентьеву, нищенку бездомную, за ворожбу ее и блудное житье, предать церковному покаянию.
Вздохнули с облегчением евреи! Радуются, веселятся, над книгами качаются, Бога благодарят. Не отдал на поругание Господь избранный свой народ!
Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, укрепляющий усталого! Да будет воля Твоя, Господи, Боже наш и Боже предков наших, привлекать нас к учению Твоему и заповедям Твоим, чтобы не впасть нам в грехи, преступления и пороки. Не вводи нас во искушение и позор; не дай овладеть нами дурным страстям; удаляй нас от злых людей и дурного общества; привяжи нас к добрым наклонностям и благим делам; понуди чувства наши покориться Тебе; даруй нам сегодня и всякий день благосклонность, милость и милосердие в глазах Твоих и в глазах ближних наших, и твори нам благие милости Твои. Благословен Ты, Господи, творящий благие милости народу Твоему. Да будет воля Твоя, Господи, Боже наш и Боже предков наших, избавлять нас ныне и всегда от дерзких лиц и от дерзости, от лихого человека, лихого товарища, лихого соседа, несчастного случая, от пагубного искусителя, от сурового суда и непримиримого противника, будь он сын Завета, или нет.
Ох, рано вам, рано еще, евреи, торжествовать!
Не избавил еще Господь вас от сурового суда и непримиримого противника. Не избавил еще вас Господь от лихого человека…
Глава 7
Со страхом и изумлением смотрит Марья Терентьева на следователя Страхова. Носик его курносенький вздернут, словно у мальчика; губы припухлые, как у ребеночка; а глазки маленькие, зеленые, колючие, волчьей злобой светятся. Нет, не такой он вовсе птенец, каким показался ей спервоначалу. Да и не так сильно молод, как выглядит, и пальцы жесткие у него, словно клещи; на щеке-то Марьиной аж синяк проступил.
Затравленно смотрит Марья на следователя, сжалась вся, тубы подрагивают.
— Это все по глупости я, — говорит Марья заискивающе, — по одной бабьей глупости; уж ты прости меня, батюшка. Сапожник Азадкевич да учитель Петрища подговорили меня. Подай, говорят, Марья бумагу государю, он живо разберет. Евреев, говорят, в острог посадит, а тебя наградит. Сами же бумагу ту написали. А я грамоте не обучена, вовсе писать не умею. Вот крест святой, батюшка.
Однако пуще прежнего рассердили те слова следователя Страхова. И то сказать — положеньице! Его ведь еврейские злодейства прислали расследовать, а не то, как почтенные христиане напраслину на евреев возводят.
— Вот что, Марья, — посуровел словно туча следователь Страхов. — Кто там за тебя бумагу писал, мне знать неинтересно. Даже и в протокол про то записывать не станем, потому что ответ держать все одно тебе. Ты мне лучше вот что скажи. Почему это ты так уверенно на евреев показываешь? Не сама ли ты с ними младенца сгубила?
— Свят-свят — пугается Марья. — Экие страсти ты говоришь! Разве ж такое можно?
— Но ты на евреев показываешь? А как ты можешь знать, ее-ли сама в деле том не участвовала?
— Да и не знаю я ничего! — вскрикивает Марья. — Вот крест святой, не ведаю!
— Я и говорю: показываешь ты ложно. Не добраться тебе до Сибири — под плетью, как последняя шелудивая сука, подохнешь!
Помолчал следователь Страхов, дал время Марье смысл слов его грозных уразуметь, да потом как бы жалко стало ему неразумную бабу, и продолжил он подобревшим голосом:
— Подумай, Марья, не торопись. Государь наш милостив. Он ведь почти как Христос. Самый тяжкий грех простит, если признаешься, да покаешься, да на сообщников своих жидовских покажешь. Стало быть, выбирай. Признаешься, что в злодействе помогала евреям — выхлопочу тебе прощение от государя. Запираться станешь, значит, ложно ты показывала, да еще себя ложно матерью младенца того нарекла. За это — плети да сибирская каторга. Подумай. А покуда в остроге посиди; в остроге, знаешь ли, хорошо думается!
Уводит Терентьеву Марью конвой, следователь Страхов голову руками стискивает.
Здорово он нахальную бабу пугнул! А то вздумала с ним, как с мальчишкой, играть! Ничего, в остроге живо образумится. Конечно, по закону ежели, так надо было показания ее про учителя Петрищу да сапожника Азадкевича в протокол записать да все хорошенько про них выспросить. Так ведь сапожник Азадкевич да учитель Петрища как раз Страхову-то первые помощники!
Неприятный тип — сапожник Азадкевич, в приплюснутый нос громко гнусавящий. Погиб ребеночек, у людей горе, а он радуется почти открыто, да про еврейские злодейства повсюду рассказывает. Видать, сильно насолили ему евреи, да и догадаться нетрудно — чем.
Уж на что сам Страхов евреев не любит, а у кого сапоги шьет, или мундир, или шапку? То-то и оно! Витебск возьмите — город губернский, не чета Велижу. Так вся губернская знать евреями обувается да одевается. Такие они канальи — евреи. Если возьмутся за что, так то и делают. Хоть бы когда-нибудь один со сроком подвел или еще с чем! Ни-ни. Вот вся работа им и достается. А коренные российские ремесленники часто без дела сидят, горькую пьют, разоряются да на евреев лютуют.
Про Филиппа Азадкевича все говорят: мастер отменный. Ежели азарт его возьмет, так такую пару сапог сварганит, что жидам и во сне не приснится. А дамские башмаки — одно загляденье! Хоть в Витебске в них танцуй, хоть в Петербурге, хоть в самом Париже. Одна беда: шибко любит Филипп гульнуть. Оттого в долгах сидит и деньги за работу всегда наперед требует. Оно, почему бы и не заплатить вперед, ежели сапоги позарез надобны? Да ведь в том вся загвоздка! Заплатишь ему, а потом целый год ходи, вытребывай свой заказ. Завтра да завтра — один ответ. Вот заказчик и обходит Филиппа стороной, несет свои гроши еврею. А Филипп по шинкам да трактирам слоняется, буянит да евреев почем свет поносит.
— Нет, — кричит, — такого закона, чтобы заказчиков сманивать! Я тоже, — кричит, — могу все в срок выполнять и денег вперед не требовать! Я, — кричит, — блоху могу обуть и даже царицу. Хошь, я те вовсе задаром сапоги сошью, да еще сам тебя в шинке угощу, ежели хороший человек, потому как я не жид какой, что за копейку удавится. Ты только не побрезгуй, посиди со мной да растолкуй, по какому такому закону евреи все дела мастеровые к рукам своим приграбастывают!
Ну и радость Филиппу с этим младенчиком убиенным! За все свои обиды надеется он с евреями расквитаться.
Часто говорит с ним Страхов, много полезного для дела своего узнает, только и его оторопь берет, когда мстительным огнем разгораются нездоровые желтые глаза Азадкевича и раздуваются крылья приплюснутого носа. Не позавидуешь еврею, ежели повстречается ему Азадкевич в темном переулке.
Но вот учитель Петрища — совсем другой человек! Движения у него ровные, спокойные, говорит он неторопко, аккуратно, мягко. Нежной, почти девичьей рукой, с маленькими, как у ребеночка, ноготками, все бороду свою густую оглаживает и евреям как бы даже сочувствует.
— Что, — говорит, — мне с ними делить? У меня голый принси́п!
А ведь про то, что это они двое научили Марью бумагу государю подать, они Страхову не сказывали… Что же, однако, получается! Взяли бабу бездомную да голодную, накормили, вином напоили, наобещали черт знает что, ложную бумагу на Высочайшее имя составили да еще матерью убиенного младенца уговорили себя назвать, чтобы бумаге той надлежащий был дан ход… Без умысла таких вещей не делают… А что ежели привлечь обоих к ответу? Оно так ведь и надобно поступить по закону… Только вот куда все это поведет?
Князь Хованский-то не зря Страхова из всех губернских чинов отличил да в этот треклятый Велиж направил.
— Поезжай, — говорит, — голубчик, как на сына, на тебя надеюсь! Знаешь, где у меня эти евреи сидят? — и ребром ладони по крепкой оливковой шее генеральской постучал. — Куда, — говорит, — ни плюнь, всюду евреи. И никак не ухватишь их; скользкие, как лягушки. Иной раз кажется — уж ухватил, да они выскальзывают.
Князь размашисто прошелся по кабинету.
— Нелегкое дело в Велиже — знаю. Потому и посылаю тебя. От сердца, можно сказать, отрываю. Привыкли мы к тебе, как к сыну родному; княгиня скучать будет без тебя, а о княжне уж не говорю, как бы не заболела с горя. Но — надо, голубчик, надо! Дело самому государю известно. А я позабочусь во всеподданнейших докладах моих, чтобы не забывал о нем государь, и тебя при всяком случае упоминать буду. Ты только докопайся мне, сумей ухватить этих скользких жидов, а о наградах твоих и карьере твоей предоставь мне заботу! Чай не чужие мы с тобой. Да, да, не делай удивленных глаз. Знаю, что не богат ты и не особенно знатен — не чета роду Хованских, — да ведь я же без предрассудков. Род свой древний ценю и горжусь им, да понимаю, что умная голова и богатства и родовитости стоит. Веру я в тебя, голубчик, имею! Воротишься из Велижа с победой — и прямая дорога тебе в Петербург. Бери тогда княжну, я поперек не стану. Надеюсь, ты понимаешь меня. Это тебе последнее мое слово — и отцовское, и губернаторское!
Вот как проводил Страхова генерал-губернатор Витебский, Смоленский да Могилевский, генерал от инфантерии, князь Хованский!
А ведь он государем самим над тремя губерниями поставлен, и нет никого главнее во всех трех губерниях! Любого, ну просто всякого в губерниях этих он может на розовенький свой ноготок уложить, другим ноготком прижать и кишочки все выпустить. А он-то — кишочек не выпускает! Он доверие великое оказывать изволит, о наградах печется да дочку свою, княжну, замуж отдать обещает. Вот он какой, ненаглядный владыка, князь-свет Хованский!
И такого ангела подвести! Такому начальнику не услужить! Да что же он, Страхов, нехрист что ли какой неблагодарный? Нет, следователь Страхов свой долг исполнит! От следователя Страхова жидкам не ускользнуть. По закону или не совсем по закону, а Страхов докопается до жидков, кровушку христианскую из младенцев источающих.
Правильно поступили Петрища да Азадкевич, что бабу неразумную подговорили бумагу государю подать. Хоть и ложная та бумага, да без нее-то так бы и не открылось злодейство над младенчиком Федором. Ложь, она ведь и во спасение бывает. На то и послан губернатором Страхов, чтоб правду от лжи отделить да жидков-кровопийц на чистую воду вывести. Нет, ссориться с Азадкевичем и Петрищей нету у него никакого резону.
Да и славный человек — учитель Петрища. Как станет мягким говорком про жида вороватого сказки сказывать, так удержу нет — обхохочешься. Любил, говорит, в молодости по корчмам да постоялым дворам с людом всяким толковать да сказки, пословки, прибаутки записывать. Заветной мечтой поделился со Страховым: ученый труд о сказках и пословках составить, в Петербург свезти да издать. Образованный человек! Начнет рассказывать, так сразу берись за живот. А сам даже не улыбнется, каналья! Только веселость в глазах его голубых засветится, и в углах бородатого рта легкая усмешечка затаится.
— Ехал, значит, Ицка, жид вороватый, из Шклова в Бердичев, — начинает обычно издалека Петрища. — Хотелось ему там на ярмарке уторговать рублей на сотню, а сказал бы спасибо и за десяток, не погневался бы и тысяче. Жид вороватый норовом таков: лапу протягивает за карбованцем, не отступится от червонца, не побрезгует и гудзиком.
— Чем не побрезгует? — переспрашивает не понявший, но заранее приготовленный к смеху Страхов.
— Гудзиком, — повторяет, оправляя бороду, Петрища и поясняет: — То есть оловянной пуговкой.
— Ха-ха-ха! — радуется Страхов. — Гудзиком!
— Едет он, едет, — невозмутимо продолжает Петрища, — только страх под его жидовский кафтан пробирается и ну его жидовскую грудь щекотать.
— А что, Иван, нет ли тут по пути гайдамаков, — спрашивает жид вороватый доброго батрака своего Ивана.
— Как не быть, есть! — отвечает ему добрый батрак Иван. — И злые-презлые. Богатых жидков режут да прикалывают, а нашего брата награждают за то, что жидков подвозим.
Тут пуще прежнего страх защекотал жида вороватого.
— Как же мне быть? — спрашивает.
— А как тебе быть? — отвечает Иван, помахивая кнутиком. — Ты сам же сказал, что у тебя нет ни гроша с собой, что в мешке звенят одни черепки да битые стекла. Так нам с тобой и бояться нечего.
— Оно бы и так, — продолжает трусить жид вороватый, — у меня кроме битых стекол да муравленных черепков, деткам на игрушки, нет шелега; ни дома, ни при себе, ни за собой, ни за женой. Да только, сердце мое Иван, у меня семья большая, дети, жена, и мать, и теща, и свекровь, и золовка, и бабка, и внучата. Если я пропаду, сгинет со мной сто душ. Я тебя велю, Иван, накормить локшанами, куглей, манов и лапшердаков дам, поднесу тебе в первой корчме горилки, и вишневки, и терновки, и смородиновки. Только заступись за меня, не дай в обиду гайдамакам.
— Хорошо, — отвечает добрый батрак Иван. — Полезай же в мешок; я тебя завяжу, а ты лежи смирно. Если гайдамаки придут, так я скажу им, что везу битое стекло на ярмарку, и они отступятся без греха. На кой прах им твои черепки?
— Умная голова! — обрадовался Ицка, жид вороватый, и полез на карачках в мешок.
— И полез? — смеясь, переспрашивает Страхов.
— Полез! — оглаживая белой, почти девичьей рукой бороду свою, отвечает Петрища. — Куда тут денешься, ежели гайдамаки повсюду рыщут?.. А Иван завязал тот мешок, уклал в бричку и погнал тройку в шлейках. Едет он, едет, да скучно ему стало, и вздумал добрый Иван над жидком вороватым подгулять.
— Стой! Куда едешь? — закричал он вдруг не своим голосом. А потом сам отвечал:
— Еду я в Бердичев на ярмарку, а вам, честным бурлакам, от меня поживы не будет, нет со мной добра никакого.
— А что у тебя в мешке? — спросил он опять сам себя чужим, сипловатым, грозным голосом.
— Жидовское стекло. Одни черепки да битые бутылки везу, не купит ли кто, в Бердичев.
— Коли так, побьем с горя жидовское стекло, — сказал добрый батрак Иван опять тем же притворным голосом.
Ухватил кнутовище и давай лупить жида вороватого в мешке на все четыре корки.
— Ха-ха-ха! — хватается за живот Страхов, а учитель даже не улыбается.
— Жид лежит не шелохнется, — продолжает Петрища, — будто у него спина да бока и бебехи напрокат взяты. Только приговаривает за каждым разом, что Иван его кнутовищем гладит:
— Дзы-ы-н!
— Как, как? — вовсю хохочет Страхов.
— Дзы-ы-ы-нн! — Петрища бороду оглаживает нежной белой рукой. — Добрый Иван его ударит, а он отзывается — «дзы-ы-н»; Иван еще раз, а он — снова «дзын»; Иван в третий, в пятый, в десятый раз, а жид вороватый все «дзын» да «дзын».
— Ой, не могу! — кричит Страхов, заходясь от смеха. — Ой, пощадите ради Христа, ха-ха-ха! Все «дзын» да «дзын», ха-ха-ха! Ох, и уморили вы меня, господин учитель. Ну, чем дело-то кончилось?
— А ничем, — спокойно отвечает Петрища, пряча усмешку в углах рта. — Так и прибил бы Иван жида вороватого, да ведь русский человек, известно, только с виду грубоват, душа-то у него христианская, жалостливая. Погулявши вдоволь над жидком, Иван отошел, громко притопывая, в сторону леса, потом тихонечко воротился и стал прислушиваться.
— Жив ли ты, Ицка, жид вороватый? — спрашивает Иван, развязывая мешок.
— Жив, жив, — отвечает тот. — А зачем же ты меня в обиду дал? Ты бы, Иван, заступился; меня избили, как ледящую кобылицу на пристяжи.
— Хвались! — отвечает Иван. — Мне хуже твоего досталось. Ведь я же тебя собой заслонил, боков своих не жалея. Кнутовище ореховое по мне самой середкой ходило, а тебя оно только концом прихватывало.
— Так и сказал? — хохоча, изумляется Страхов. — А жид что? Неужто поверил?
— Само собой, — невозмутимо отвечает Петрища. — Потрепал жид вороватый Ивана-батрака по плечу и говорит:
— Ну, сердце мое Иван, слава нам с тобой, что ладно гайдамаков-злодеев обманули!
— Как это — нам с тобой! — закричал на это добрый Иван. — Ты, жид вороватый, лежал, как зарезанный баран! Это я тебя схоронил, я и выпустил. Я один гайдамаков обманул. Что бы ты, байковый жилет, делал без меня?
— Нет, Иван, — промолвил жид вороватый. — Конечно, ты молодец, но и я не промах. Кто бы тебе поверил, что в мешке битое стекло, если бы я не стал приговаривать за каждым ударом — «дзын»!
— Ха-ха-ха! — повизгивает от удовольствия Страхов, то за живот хватаясь, то глаза платком утирая да головой покачивая. — Ну, спасибо, учитель, потешили вы меня сказочкой!.. Ай да Иван! Простак, простак, а как жида вороватого надул! «Дзын» да «дзын». Потешили!..
С тех пор и приходит учитель почти каждый вечер к Страхову, и рад ему следователь безмерно. Если б не эти визиты, так, наверное, изнемог бы от тоски в полужидовском Велиже.
А однажды старинную книгу принес с собой учитель Петрища.
— Коли вы расследованием того загадочного убийства заняты, полезно вам будет с книжицей сей ознакомиться.
Страхов повертел в руках книгу, полистал да возвратил Петрище.
— По-французски я, господин учитель, изрядно учился, но польского языка совсем не знаю. Так что благодарю покорно, но книжицей вашей воспользоваться не могу.
— Ну, что вы, господин следователь, — возразил Петрища негромким своим вкрадчивым голосом. — Разве язык — помеха? Да я польским свободно владею и все равно бываю у вас каждый вечер. За книжицей мы веселее время коротать будем.
Так и повелось у них. Сидят по вечерам за самоваром, Петрища чаек не спеша прихлебывает да из книжки той польской вкрадчивым голосом переводит. Страхов-то рад бы кое-что посерьезнее чая на стол выставить, да не принимает крепких напитков Петрища.
— Такой, — говорит, — у меня принси́п! На вине-то все больше жиды наживаются, так я лучше совсем пить не буду, чем допущу, чтобы жиды из-за меня наживались.
Занятная книга та — ничего не скажешь!
Двенадцать глав в книге — по числу еврейских месяцев. И в каждой главе про то, какие противу христиан злодейства евреи в оный месяц учиняют.
Знающий человек составлял!
Сам из бывших евреев, да не из простых, а из раввинов.
В книге-то и про человека того написано! Он в Брест-Литовске родился, на дочери раввина женился да сам раввином сделался. И так усердно премудрости еврейские изучал, что головой помутился. Буйство вдруг учинил — насилу связали.
Уж как старались буйное помешательство его излечить, но ни лучшие врачи, ни лекарства, ни снадобья не помогали раввину. Тогда его к знаменитому знахарю привезли, и стал знахарь творить свои чары. Над камином горящим больного поместил и давай бесов на помощь звать. А как не помогли и бесы, связал он помешанного цепями, в погреб запер, стал новые чары придумывать.
А безумец в погребе сидит, о богах разных размышляет да вдруг как завопит:
— О, ты, Бог христианский! Если ты истинный Бог, то сделай так, чтоб мои цепи тотчас разлетелись!
И только промолвил он вещие те слова, как цепи тяжелые в прах обратились, окно в темном погребе объявилось да само собою распахнулось.
Безумец прыг в окошко и прямым ходом в костел. Пал на колени перед батюшкой: желаю, мол, святое крещение принять! И от всех недугов с того часу излечился.
А как объявился вскорости убиенный младенец, и евреев за то предали суду, так бывший раввин в суд явился да на Евангелии святом присягнул.
— Проливают евреи кровь невинных детей христианских, — сказал, — чтобы творить свои чары, и делают они сие по ясному приказанию своего Талмуда. Я сам, — сказал бывший раввин, — прежде чем Бог призвал меня к святой христианской вере, замучил двоих христианских детей. Способ же истечения крови таков. Схвативши ребенка, кормят его в продолжении сорока дней всякими яствами в самом темном погребе, забавляя его в это время игрой в карты, даванием денег и прочими комедиями. Потом ребенка выводят из погреба, и раввин, взяв его за руку, ударяет его ланцетом в малый палец правой руки, да так, чтобы кровь брызнула раввину прямо в глаз. Потом раввин берет священный нож, оправленный в серебро, и этим ножом ударяет ребенка в правый бок, подставляя под текущую кровь серебряную позолоченную миску. Потом сажают ребенка в поместительную бочку, а в ней со всех сторон вбиты острые гвозди длиной в гусиное перо. Ребенка качают в бочке, гвозди тельце его протыкают, и так до тех пор, пока не выйдет вся кровь до последней капли. Потом вынимают ребеночка из бочки и прибивают его к кресту, а раввин произносит еврейские слова: «Веник мае некомо ба гоим удалейхем», что означает: «Подобно тому, как мы замучили христианского Бога, который назывался дитятей, так должны мы мучить христианских детей»!
Вот что показал бывший раввин на том суде, присягнув на святом Евангелии!..
На суде, правда, выяснилось, что не таким совсем способом был замучен ребеночек, из-за которого судили евреев. Но бывший раввин разъяснил, что ритуал обязателен только тогда, когда убивает раввин; если же простой еврей схватит ребенка, то мучает и убивает, как может. Важно только, чтобы труп потом не закапывать, потому что это называется у евреев «пегер», то есть падаль, а падали им нельзя хоронить.
Целую книгу пообещал бывший раввин про еврейские злодейства написать, и написал про каждый месяц, какие у них обряды и для чего в этих обрядах надобна христианская кровь.
Есть, вишь, две недели в году вовсе даже особенные. В любой день из этих двух недель раввин берет кровь зарезанного ребенка
и незаметно мажет ею двери в доме какого-нибудь христианина. И от этого чародейства христианин становится ласковым к евреям и любит их больше, чем своих братьев-христиан. Вот главный секрет, почему иные короли да магнаты, и даже римские папы и просто люди именитые и влиятельные в еврейские злодейства не верили и в разные времена евреям покровительствовали и от обид их защищали. Все от чародейств, имеющих великую силу через кровь христианских младенцев!
А еще кровь надобна евреям при венчании. Раввин дает новобрачным яйцо, и вот в яйце этом имеется христианская кровь…
А когда еврей умирает, глаза ему мажут тем же пропитанным кровью яйцом.
Ну, и во время пасхи, об этом все знают, евреи употребляют пресный хлеб, и в нем всегда есть христианская кровь.
А еще такая еврейская предприимчивость. Чтобы везло в торговле, берут письмо от раввина, и в нем содержится христианская кровь. Письмо это незаметно закапывает под порогом дома какого-нибудь христианина. И все! С этого момента евреям везет в торговле!
Ни один, стало быть, праздник, ни одно рождение, свадьба, ни одна торговая сделка не обходится у евреев без христианской крови!..
Учитель Петрища от книги отрывается, белой, почти девичьей рукой бороду свою оглаживает, и нет усмешки в углах его рта, нет веселья в синих, как небо, глазах. Такой холодный железный принси́п во взгляде Петрищи стоит, словно два шомпола ружейных в тебя уставлены.
Да, книга… Всем книгам книга! Может, и не все верно в ней, может, и прибавил чего бывший раввин, как-никак в помешательстве тяжеленном долгое время был. Да не все же в книге одна прибавка! Пусть половина в ней правды. Пусть только половина от половины. Так ведь и того сверх головы довольно, чтобы всех жидков вороватых истребить до последнего человека, и мало им еще будет!
Мудро князь Хованский, однако же, поступил, что не другому кому, а ему, Страхову, дело сие наитруднейшее расследовать поручил. На законы надейся, а сам не плошай — вот принси́п Страхова. По закону единому ежели поступать, так евреи всех христиан с потрохами сожрут да всю кровь христианскую выпьют! С ними как надобно? Ежели можно по закону, то по закону; а как по закону не получается, то и без закона можно.
Был случай у Страхова не так давно в Витебске. Проигрался в пух Страхов, долг на нем повис, а карточный долг — дело чести, а честь дворянину жизни дороже. Пришлось к Янкелю-скорняку идти, еврею толстенькому, слюнявому, закладами, кроме меховых работ, промышляющему.
Перстень заложил ему Страхов, табакерку, часы швейцарские, цепочку золотую. В аккурат думал получить сумму долга своего. Да куда там! Жидок-то прижимист. Кланяется, льстивые слова говорит, руки свои короткие к сердцу прижимает, глаза закатывает, рад, мол, всей душой барину услужить! А сам цены занижает, недостает Страхову для уплаты долга.
Ну, не торговаться же дворянину с пархатым жидом!
Страхов мундир свой парадный в придачу принес, да Янкель как замотает головой, да как замашет руками. Нет, и нет! Закон от начальства вышел — мундиры чиновничьи да офицерские в заклад ни в коем разе не брать, а он, Янкель, закон уважает, и никогда супротив власти…
Осерчал тут Страхов, аж горло злобой перехватило. Сгреб в пятерню жидовский кафтан на жирной его груди.
— Ах ты, каналья, — кричит, — мерзопакостная! Что же, я через тебя должен пулю себе в лоб пустить! Ты мне вонючим законом в нос не тычь, я законы и без тебя знаю! Бери, говорят, мундир, не то всю бороду вырву!
Съежился Янкель, дрожащими пухлыми пальцами отсчитал ассигнации и, не говоря ни слова, посмотрел на Страхова с укоризной великой в печальных глазах.
Дрогнуло тут что-то в сердце Страхова:
— Слово дворянина даю, — говорит, — мундир первым делом и выкуплю.
И вправду выкупить хотел Страхов, честно хотел выкупить! Да тут — бал, как на грех, в дворянском собрании.
Что же ему, через жида бал пропустить и всю свою жизнь, может быть, загубить? Страхов ведь не за кем-нибудь — за дочерью губернаторской волочится. Все вечера в губернаторском доме торчит, старой жеманящейся княгине в дурачка проигрывает да княжне, поминутно вспыхивающей, руку украдкой жмет. Тоска смертная. От той тоски и проигрался, может быть, Страхов, когда однажды к гусарам сбежал. Закружило Страхова: воля вольная, и вино, и сальные гусарские шуточки, и повело, повело, азарт дикий напал, и продул Страхов и жалование свое, и все, что папенька из имения шлет, да еще и в долг проиграл — пусть! Может встряхнуться разок православная душа или нет? Да ведь на бал в будничном мундире не явишься, а кадриль да мазурка с княжной за ним уж записаны.
Пошел Страхов к Янкелю: давай, говорит, жид, мой мундир, потому как по закону нельзя тебе мундиры в заклад брать! А деньги я тебе отдам — слово дворянина даю!
Попробовал было еврей возразить что-то, да как топнет, как закричит на него Страхов:
— Ты что же, каналья жидовская, слову дворянина не доверяешь? Да я тебя за такое оскорбление руками своими задушить могу!
Побледнел трусоватый еврей, вздохнул тяжело да молча мундир и выложил.
Так и надобно с ними.
Возьмите хоть историю с этим убиенным младенцем. Вот уже разбирали дело сие и по закону, и не совсем по закону, по свежим следам разбирали, а каков результат? «Предать смерть младенца Федора воле Божией»!
Врете, жиды, не таков следователь Страхов! Не даром сам князь Хованский его отличил!
Глава 8
Итак, Терентьева Марья, нищенка, живущая подаянием. Стало быть, вы признаете, что младенца Федора, Емельянова сына, евреи на ваших глазах замучили, и вы сами были им в том злодействе усердной помощницей?
— Признаю, батюшка…
Марья затравленно глядит в колючие, как у волчонка, глаза следователя и не может понять, как это так получилось, что пухлогубый, с прилизанными волосенками мальчик забрал над нею такую силу.
— Ну, вот, так-то лучше! — одобрил Страхов, откидываясь на спинку кресла. — И ты, стало быть, можешь обо всем в подробности рассказать?
— Могу, — покорно соглашается Марья.
— И евреев тех по именам назовешь?
— Назову, — подтверждает Марья.
— Славно, — одобряет опять Страхов. — Ты, значит, их назовешь, я их заарестую… А ежели они от всего отопрутся?
— Знамо дело, отопрутся! — соглашается Марья.
— А ты? — Страхов привстал, перегнулся через стол и, пристально глядя в притененные густыми ресницами Марьины глаза, погладил ее по гладкой щеке. — Ты — не отопрешься?
— Я-то не отопрусь! — отвечает Марья, на всякий случай подмигивая следователю.
— А отопрешься, так тройная порция плетей выйдет! — напомнил Страхов и снова жесткими пальцами защемил кожу на марьиной щеке. — Ты-то у меня не выскользнешь…
— Не отопрусь я, батюшка! — взвизгнула Марья. — Куда уж мне теперича отпираться!..
— То-то и оно, что некуда! Хорошо, Марья, что ты это понимаешь, — Страхов отпустил Марьину щеку и снова откинулся на спинку кресла. — Итак, ты на своем стоять будешь, а они на своем… Как же нам с тобой правду им твою доказать?
Марья удивленно хлопает опахалами.
— Это тебе лучше знать, батюшка.
— Припомни-ка, — подсказывает Страхов, — не было ли там еще кого из христиан, кто в том деле участвовал, и показания твои подтвердить может?
— Как не быть, батюшка! — похлопав ресницами, радостно вскрикивает Марья. — А Авдотья на что?
— Какая Авдотья?
— Максимова, какая же ищо! Когда Ханна Цетлин мальца в дом привела, дверь-то ей служанка ее Авдотья открыла. Приняла мальца да в дом унесла. А потом уж мы с ней, с Авдотьей, его к старухе Мирке перенесли. А потом вместе и в колодец бросили…
— Постой, постой, по порядку давай. Значит, вы, Терентьева Марья, утверждаете…
Глава 9
Авдотья Максимова, стареющая, дородная, тугая на ухо баба, перед следователем сидит, каждое слово громким «Ась?» переспрашивает, бессмысленные поросячьи глазки таращит, и что это пухлогубому выбритому господинчику с прилизанными волосиками от нее надобно, взять в толк не может.
Снова отсылает глупую бабу следователь, потом новый допрос. А она опять ладонью ухо оттопыривает, «Ась?» — как выстреливает — выкрикивает. И снова отсылает ее следователь, ничего не добившись.
Всю, почитай, взрослую жизнь прожила Авдотья у Цетлиных; так прожила, что грех жаловаться, а про то, что прежде в ее жизни было, в памяти почти не удержалось.
Даже батьку с маткой да все детские годы свои позабыла Авдотья, словно черным покрывалом кто их покрыл; только то и застряло в памяти, как сосало у ней в пустом брюхе.
Потом слепого монаха она по дорогам водила милостыню собирать, и столько навидалась всякого — страсть! А помнила Авдотья про то только, как опять же в брюхе пустом сосало, потому что монах, да и не монах он вовсе был, а просто бродяга с выеденными оспой глазами (монахом вырядился, чтоб больше ему подавали), так он, монах-от, милостыню всю в своем мешке держал, ей ничего не давал, а ежели Авдотья утаит по слепоте его какую корочку, так всегда про то нюхом учуивал и палкой своей ее потчевал.
Он же, монах, и к блуду греховному приохотил Авдотью. Подполз к спящей — лето было, они в лесу ночевали — да как опрокинет навзничь, как схватит дрожащими похотливой дрожью ручищами…
Авдотья мала еще была, годков двенадцать али тринадцать. Испужалась пуще геенны, давай во всю глотку вопить, руками-ногами отбиваться… Да где там! Лес огромный да весь пустой, кого тут докличешься… Монах руки ей раскинул да к земле притиснул, коленями пригвоздил, и лежит она, корчится, как распятая, коряга острая в спину впилася, а монах распластался на ней и только начавшую набухать нежную девичью грудь ее вонючим ртом своим слюнявит, и что-то хриплое в горле его булькает…
С той ночи, с перепугу, видать, стала понемногу глохнуть Авдотья. Монаху не давалась больше: настороже была. Он и грозил, и бил ее, и умолял; однажды на коленях к ней полз, руки вперед выставивши, точно к чудотворной иконе, да она только посмеялась над ним: в сторонку тихохонько отошла, подкралась сзади да по затылку хлопнула. Ох, и озлился он после того! Недели две за каждым шагом ее следил, чтоб не съела чего. А когда она изголодалась так, что хоть ложись и помирай, он и приманил ее хлебушком.
Противны были Авдотье медвежьи повадки монаха, особенно то, как подкрадывался он к ней и жадными ощупывающими руками начинал с нее одежду срывать, и пока срывал, дрожал весь противной какой-то дрожью. Авдотья торопилась сама поскорее платьишко свое скинуть, да сердился на то монах, почему-то надобно было ему непременно самому ее раздевать.
Пообвыкла со временем Авдотья, а как реже стал он к ней приставать, так она сама подползала к нему по ночам да прижималась, только гнал он теперь ее прочь от себя, даже палкой гнал, потому как все больше немощен делался, Авдотья же, напротив, в цвет жизни входила.
И улизнула от слепого, как только поманил ее белозубый кузнец в кожаном фартуке.
Всем был хорош кузнец, и нравилось Авдотье, как пахнет от него лошадьми да горячим горном. Только шибко дурел кузнец от вина, а одурев, избивал Авдотью пудовыми кулаками до полусмерти.
Однажды избил ее так, что она еле живая лежала, а сам ушел куда-то, видать, в шинок; там еще вина принял, воротился с налитыми кровью глазами и стал матерясь закатывать рукава на крепких, словно поленья, руках. Смотрит Авдотья, а в нем даже злобы нет, одна холодная жестокость и деловитая основательность в этом закатывании рукавов. И где силы только взялись вскочить да убежать!..
А потом были руки, много рук. Заскорузлых, мозолистых, то дегтем, то прелым навозом, то псиной пахнувших, под коими наливались молодые груди Авдотьины да твердели сосцы. То с батраком, то с извозчиком, то со стекольщиком путалась Авдотья, а однажды даже бритый лакей обхождением барским ее прельстил, и тем перво-наперво, что, ложась с нею, никогда не снимал белых лакейских перчаток. Так, в перчатках, и обрюхатил Авдотью да посреди зимы на улицу выбросил.
Околела бы Авдотья в придорожной канаве, да Ханна Цетлин подобрала ее на базаре и, не посмотрев, что брюхатая, в дом свой привела, одела, обула да жить у себя оставила.
Прижилась Авдотья у Цетлиных. Дочку Маланью родила, вырастила, замуж выдала, да и сама состариться успела, а худого слова от хозяев своих не слыхивала. И то сказать, честно трудилась Авдотья Максимова!
Цетлины не то чтобы богачи, вроде Берлиных, однако люди с достатком. Ханна так дела свои торговые умела вести, что всегда она с прибылью. Ну, и поворачиваться ей приходилось — только поспевай! Торговля — она тоже сноровки требует, опричь всего — шустрости. Чуть зазевался, и покупателя упустил… Ханна и в лавочке торг ведет, и товар достает, на ней и кладовые, и доставка, и весь денежный оборот — где там домом-то заниматься! Ну, а об муже ее Евзике и говорить не приходится. Он все по делам кагала еврейского бегает, да ратманом в магистрат избран, да в синагоге молится, а дома, если выпадет свободный часок, книгу толстенную с полки сымет, бережно рукавом оботрет, серебряные застежки отстегнет — и сразу как нет его. Ничего кругом не видит и не слышит: сидит над той книгой да губами шевелит.
А Авдотья не только моет все, чистит, скребет, на ней все покупки домашние. Она и кур к шойхету носит, и кошерные еврейские кушанья готовит: научилась, слава Господу, за столько-то годов! Даже говорит по-еврейски так, что не отличишь. Старается Авдотья, копейку хозяйскую бережет, а чтобы самой на ту копейку позариться, такого греха даже в мыслях с Авдотьей никогда не случалось.
И зачем ей? Она сыта и одета, да еще платит ей Ханна за службу ее усердную да сверх того подарками одаривает. На Пасху, на масленицу, на Рождество — хозяева к ней с подарочком! А как еврейский какой праздник- так тоже подарочки ей, Авдотье, подносят.
Авдотья руками только всплеснет:
— Ваш-ить праздник, это я вам подарки должна дарить!
— Ничего, — отвечает ей Ханна, — праздник наш, а ты тоже порадуйся. Греха в том нет.
А когда дочке авдотьиной Маланье, что тут же в доме выросла, замуж идти время приспело, так они, хозяева то есть, всё, почитай, приданое ей справили.
Бывает, сойдутся на базаре бабы и ну евреев ругать! Так Авдотья, хоть и на ухо туговата, в миг про то услышит и в спор, как в бой, с неожиданным для тихого нрава ее ожесточением.
Накинутся бабы на нее: не знаешь ты их, врагов христовых! Они Спасителя нашего Иисуса Христа распяли и каждодневно злодейства всякие и предприимчивости супротив христиан замышляют!
Но невозмутима Авдотья. Руки в бока упрет и скалою стоит.
— Про то, что евреи Христа распяли, — говорит им, — вы горазды судачить, ну, а кто сам Христос был? А Матерь Его Божия? А святые апостолы? Русские, может, они были, али хохлы, али поляки? Али, может, хранцузы какие-нибудь?
Замолкают тут бабы, растерянно переглядываются… Сколько на белом свете живут, по церквам молятся, ан, и в голову не приходило задуматься, какого роду-племени Иисус Спаситель и святое семейство его?
— Евреи они все! — обводит Авдотья баб маленькими поросячьими глазками. — Евреи!
Ей про то Евзик давно уже разобъяснил. Долго отказывалась верить ему Авдотья, так он по святым христианским Евангелиям ей растолковал, и по всему получалось, что точно, евреем был Христос да апостолы. Шибко изумилась тогда Авдотья, все думалось: а что, если опутал ее коварный жид! Решилась Авдотья батюшку в церкви спросить, да осерчал сильно батюшка, кричать стал, позабыв про солидность сана. Но как снова и снова Авдотья к нему с тем вопросом, так он погрустнел весь и шепотом, словно стыдно ему за то, сообщил Авдотье: точно, мол, еврейского племени Христос и Матерь Его, и Иосиф плотник, и Иоанн Креститель, и все апостолы.
— Мне ли не знать евреев, — видя замешательство бабье, переходит в атаку Авдотья, — ежели я целую жизнь, почитай, в еврейском доме живу, состарилась в ем, а худого слова не слыхивала. Иной раз загуляю где, грешница, так Ханна, хозяйка моя, только посмотрит строго, да скажет: ступай, мол, Авдотья, проспись. Может, где есть и плохие евреи, но мои хозяева не такие, и всякому про то скажу, и всегда говорить буду!..
Притихнут бабы, призадумаются.
— Да, среди них тоже которые хорошие люди бывает, — скажет одна несмело.
— И я вот семейство одно знаю, — подхватит другая.
И пойдут бабы обратное говорить. А Авдотья ухо ладонью оттопырит, чтобы слова случаем не пропустить, и дюже радуется, потому как во всяком суждении перво-наперво справедливость и правда надобны.
Домой придет после такого сражения да не утерпит, — хозяевам все перескажет. Выслушают ее Ханна да Евзик, да переглянутся, да усмехнутся, да грустно вздохнут.
— Простой народ зла на нас не таит, — скажет Евзик. — Кто людям обидчик, того они и ненавидят, а еврей это или не еврей — народу неважно.
— Так бы и было, — возразит ему Ханна, — если бы злые люди народ не смущали. Чтоб мне так жить! Если бы нам с тобой каждый день нашептывали, что поляки, к примеру, или русские такую веру имеют, чтобы детей наших хватать да замучивать, кровь их пить, — что бы мы с тобой о них думали?
— Чтоб мне так жить! — подхватывала хозяйкину присказку Авдотья. — Все горе от злых людей. Они сами народ мучают и его же супротив других наставляют…
— Ась? — кричит Авдотья следователю Страхову, ладонью ухо оттопыривая и тараща поросячьи глазки.
Ишь ведь куда, стервец, заворачивает! Через нее, через Авдотью, хозяев ее погубить хочет… А разве это по-Божески — людей погубить, когда чуть ли не цельную жизнь у них прожила и ничего окромя добра не видела? Нет, не на ту нарвался! Авдотья не скажет того, что ему надобно. Авдотья насмерть будет стоять, а хозяев своих погубить не даст.
Так говорит себе Авдотья, только чувствует, как страх тошнотворный проникает ей внутрь и ползет, ползет вверх, от живота к самому горлу подступает, и нет мочи совладать с этим страхом. Очень уж бритая рожа следователя лакея того Авдотье напоминает, что обрюхатил ее, не снимая перчаток. Уж как перед барином своим Норовым стелился, а ее, Авдотью, среди лютой зимы на улицу выбросил — так ни один мускул в лице не дрогнул. Авдотья так и завыла тогда, слезами горючими залилася. На колени упала перед погубителем своим, схватила его руку лакейскую и давай перчатку белую целовать.
— Кудыть, — ревет, — родненький, мне итить? Дозволь хоть у двери рогожку постелить, я не обеспокою.
А он только вырвал руку и брезгливо поморщился.
— Надоела, — говорит, — ты мне, Авдотья, а потому — ступай отсэда подобру-поздорову; не испытывай, — говорит, — терпение мое лакейское, потому что ежели я перчатки свои белые сыму, то мигом на ноготь тебя уложу да кишочки и выпущу.
И глаза зеленые, волчьи на Авдотью не мигая глядят, и усталость и скука в безразличном лице, и поняла Авдотья: как сказал, так и сделает…
Чем пристальнее вглядывается Авдотья в следователя Страхова, тем больше сходству дивится: такие же волчьи глазки, такой же вздернутый носик, веснушками, словно мухами, засиженный, и рот припухлый, детский чуть на бок съезжает при усмешке.
Не удержалась Авдотья, спросила вдруг Страхова:
— Ты, батюшка, случаем у господ Норовых не служил?
— Кем это я мог служить у господ Норовых? — удивился Страхов.
— В лакеях, кем же ищо!
— Что-о-о! — грозно поднимаясь с места и наливаясь малиновым соком, захрипел Страхов. — Смеяться надо мной! — и он так жахнул кулачком своим по столу, что зазвенело вокруг и на столе писаря задуло свечу. — Я те покажу — в лакеях!..
Он подскочил к Авдотье и с такой злостью двинул по старушечьему лицу, что она со скамьи сковырнулась и горячая юшка заструилась у ней из разбухшего носа.
— Уберите эту жидовскую выкормышку, а то сам не знаю, что с ней сделаю, — заорал Страхов, отирая кулачок батистовым платочком.
Лежала после того Авдотья, пошмыгивала разбитым носом и все в толк не могла взять, как это вырвались у нее такие глупые слова. Ведь тот лакей ее, ежели жив, так уж старик подстать самой Авдотье, а этот, почитай, дочки Маланьи моложе. Когда Авдотья с лакеем путалась, его и на свете белом не было!..
Только не долго обо всем этом Авдотья могла размышлять: загремели засовы, и опять она, трепеща вся от страха, предстала перед следователем Страховым.
— Итак, Авдотья Максимова, — угрюмо заговорил Страхов, упершись глазами в массивный свой стол. — Привлеченная по делу сему Марья Терентьева показывает, что вы, служа в доме Ханны Цетлин, два года тому назад, в самый день Воскресения Христова, видели, как ваша хозяйка Ханна привела христианского мальчика. Вы сами хозяйке дверь отворили и мальчика в дом увели. Подтверждаете вы это показание или нет?
— Ась? — выстреливает Авдотья.
— Я говорю, — кричит Страхов, и лицо его опять багровеет, — что нам все известно! Призна́етесь и всю правду покажете, государь вас простит. А не признаетесь — и себя, и хозяев погубите.
— Ась? — снова выкрикивает Авдотья.
— Я те покажу — «ась», — взвизгивает, как ужаленный, Страхов.
И вот уж Авдотья опять на полу лежит, руками лицо прикрыть старается, а он стоит над нею и отирает кулачок батистовым платочком.
Тихо постанывает на тюремной койке своей Авдотья. Сплевывает сквозь разбитые губы остатки гнилых зубов, думает, думает, до боли напрягаясь от непривычки к мозговой работе.
Да, этот следователь — не какой-то лакей при господах Норовых.
Ежели задумал он Ханну Цетлин да мужа ее Евзика да дочку их Итку загубить (Итку особенно жалко Авдотье, сама же ее вместе с Маланьей своей растила), так он, стервец, все одно их загубит: вон ведь какую силищу забрал. А ей, Авдотье, прощение обещает. Вот и соображай, как тут быть. Упираться дальше — их все одно не выручишь, только себя вместе с ними погубишь. А показать, что ему надобно, тоже нельзя — не по-Божески. Тварь подлющая Maрья Терентьева: в какие дела Авдотью задумала впутать…
— Ась? — отчаянно выкрикивает Авдотья на новом допросе, заранее голову в плечи вжимая и локтем стараясь прикрыть лицо, но Страхов устало машет рукой:
— Уведите глухую тетерю. Мозги, видно, высохли у нее давно. Ни черта ей не втолкуешь!
И забыл про Авдотью следователь Страхов…
День проходит, второй, третий… А там и вовсе счет дням потеряла Авдотья. Утром засовы гремят, ей кружку кипятку да краюху хлеба приносят. Вечером тоже гремят засовы, и опять хлеб да вода. А в промежутках — тишина, как в могиле. Скоро уж день с ночью стала путать Авдотья, ослабела настолько, что круги стали плавать перед глазами и уже вставать ей трудно с койки своей. И вдруг — опять приходят за ней, и опять Страхов — ни дать ни взять, тот лакей — утирает кулачок тонким батистовым платком. Где найдешь на такого управу?..
Авдотья ить тогда к барину, самому Норову, в ноги бросилась: защити, мол, батюшка, обрюхатил меня твой лакей да на мороз теперича гонит. Ну, барин лакея позвал, да тот глянул только волчьими глазками на Авдотью и отвернулся.
— Не знаю, — говорит, — этой бабы, откелева взялася и ко мне навязаться хочет.
Рассмеялся на те слова молодой барин Норов:
— Ну и шельмец же ты, братец, — сказал. Тем дело и кончилось.
А на этого — кому жаловаться станешь? Вон как за столом своим восседает!.. Руки на столе, пальцы переплетены, ноготки лаком так и поблескивают.
— Итак, Авдотья Максимова…
— Ась? — выкрикнула Авдотья.
А как подскочил к ней следователь, как замахнулся маленьким своим кулачком, она зажмурилась в страхе, выпалила, опережая его:
— Постой, батюшка, постой бить!..
Ну, и припомнилось ей… Так ярко припомнилось, что сама дивилась потом, как это могла такое забыть… Ну да, в тот самый год, когда солдатский сын пропал, а может и в другой год — этого точно не вспомнишь, как раз на Святой неделе, прибиралась она в комнате своей хозяйки Ханны, да случайно заметила в углу, за спинкой кровати, беленького мальчика. Стоял он там, тихо всхлипывал да кулачками глазенки тер. Что за мальчик, откуда взялся, куда потом подевался — этого Авдотье неведомо. Но — был мальчик!
С облегчением опустился Страхов в кресло и на спинку откинулся. Ну, наконец-то! Начало положено. А он уж отчаялся добиться чего-нибудь от безмозглой старухи. Но — терпение и настойчивость! — это в их деле главное. Нет, не зря благодетель князь Хованский из всех губернских чинов его отличил и к делу сему многотрудному приставил. Страхов дело знает! Страхов не подведет. Расколол-таки глухую тетерю. Она, конечно, немногое показала, да для начала довольно. Зацепилась коготком птичка — теперь уж не выскользнет. Немало еще придется Страхову кулачком поработать, но теперь все скажет ему Авдотья — и про то, как ребеночка мучили и убили, и как сама она в том деле участвовала, пособляя кровожадным евреям.
Ну, вот, главное сделано! Осталось только с возможной подробностью воссоздать картину страшного злодеяния. Пустяк то есть самый остался!
Тут уж как по маслу идти все должно. И по закону. Потому как рукоприкладствовать закон запрещает, и не Страхову же супротив закона идти. И так уж он сколько платочков батистовых извел!.. Теперь с этим покончено. Спокоен Страхов, выдержан, деликатен даже.
Допрашивает Страхов Марью Терентьеву, опахалами ресниц на него хлопающую, а писарь все тщательно за Марьей записывает. Потом Авдотью Максимову допрашивает Страхов, она испуганные свои глазки таращит, ухо ладонью оттопыривает, на каждый вопрос громкое «Ась?» выстреливает, а писарь скрипит, все за нею записывает. Потом опять Марья Терентьева. И снова Авдотья Максимова.
Страхов спрашивает — они отвечают. С писаря ручейками пот бежит — утереться некогда. Лицо красное, кончик языка высунут, перо поскрипывает. Усерден следователь Страхов — помощника своего не щадит. Пишет губерния, дело бумагами полнится, от важности раздувается.
По ночам следователю ленты орденские снятся, губернаторская дочь под фатой смотрит глазами Марьи Терентьевой; гремит музыка, люстры горят хрустальные, золотом мундиры сияют, воздушные платья на благоухающих тонкими духами дамах. Придворный бал в Петербурге, и он, Страхов, Марью Терентьеву в кадрили ведет. Государь ангельской улыбкой своей улыбается и вдруг громко спрашивает испуганным голосом Авдотьи Максимовой: «Ась?»
Эх, далеко еще ему до придворных балов да губернаторской дочки! В экую глухомань заслал его благодетель ненаглядный свет-князь, он же будущий тесть! До чего же глупые попались бабы!
Опять на допросе Марья Терентьева. А за ней Авдотья Максимова. А затем Марья Терентьева. И снова Авдотья Максимова. Писарь потеет, перо скрипит, бумага на бумагу ложится, дело полнится, да вперед не движется. Потому как, если верить Максимовой, то малец в один день помер, а если верить Терентьевой, то в другой. Если верить Максимовой, то труп его от Цетлиных выносили, а ежели верить Терентьевой, то от Берлиных… Максимова трупик от крови отмыла, одела, да с двумя евреями в бричке вывезла. Это — если верить Максимовой. А если Терентьевой верить, то она да Максимова без брички и без евреев все сделали. Трупик из дому вынесли, камень на шейку его повязали да в колодце утопили.
А тут еще под рукой бумаги прошлого дознания лежат, будь они неладны. Ведь если бумагам тем верить, то мальца у дороги в лесу обнаружили, а вовсе не в колодце.
Еще, когда мучили, так ему «уд детородный» по самый мешок изверги-евреи оттяпали. Это — если верить Марье Терентьевой. Ну, а если бумагам тем верить, то на кончике уда лекарь темное пятнышко углядел — как бы от натертости ляжками. Был, значит, уд на самом что ни на есть положенном ему месте! Еще кровоподтек на затылке, да нос приплюснут к губам, а губы прижаты к зубам. Это — если верить бумагам.
— Так как же, Авдотья, все это объяснить?
— В опасении, чтобы он не закричал, ему перед тем, как из дома вынести, рот да нос шарфом закрыли, да на затылке узлом завязали, — пяля поросячьи глазки, поясняет Авдотья Максимова.
— Значит, он еще живой был? — спрашивает Страхов.
— Ась? — выстреливает Авдотья.
— Живой, спрашиваю, был? — кричит Страхов.
— Живой ище, как не живой! По пути он от шарфа того и задохся, сердешный, — отвечает Авдотья, и пот прошибает теперь не писаря, а самого Страхова.
Бабе-то глупой легко, а каково ему, следователю, если в дело уже вписано, вшито, пронумеровано собственное Авдотьино показание о том, как труп она обмывала да в бричку укладывала… А теперь вот, пожалуйста — живого вывезли…
Одно спасение Страхову — вечером, после тяжких трудов, с умным образованным человеком потолковать.
Глава 10
Входит учитель Петрища неторопко. Пошаркает в передней, галоши кожаные снимая, шубу человеку на руки сбросит, да и войдет, сутулясь, плотно дверь за собой притворит. Книгу польскую на стол положит и станет переводить Страхову страницу за страницей — успевай, господин следователь, все важное записывать.
Вот ведь сколько коварств хитроумных придумывают жиды! В бочке, гвоздями длиннющими утыканной, младенца качают — все тельце его гвозди те протыкают, ну, и помереть, кажется, должен он в бочке-то… Так нет же… В том месте, что против сердца, они гвоздей не вбивают. Мучается младенец, а помереть не может! Его живого из бочки вынимают да на кресте, в память о том, как с Иисусом расправились, распинают. А кровь-то из всех ранок сочится, и они ее в особую золоченую чашу сбирают… Вот какие изверги пейсатые!.. Ну, ничего — не ускользнуть им от Страхова. От Страхова не ускользнешь…
Потрудятся они так с часок, да велит Страхов человеку своему Степану самовар подавать. И вот сидят они трезво, два образованных человека, Петрища чаек не спеша прихлебывает да байками своими хозяина потчует. Как всегда, издаля рассказ вести начинает.
— Заложил Иван-батрак тройку, жид вороватый посадил в бричку два-сорока жидов, жидовок, жиденков и жиденят, завалил их перинами, подушками, мешками и сундуками, и отправились они из Бердичева обратно в Шклов.
— Посмотрите, господа попутчики, — говорит один жидок, — как высоко летит стая гусей. И всегда у них есть вожак, всегда один гусь напереди летит!
— А сколько их всех? — спрашивает лукавый Ицка, жид вороватый.
— Тут все стали громко считать и насчитали двадцать семь.
— Так разве ж им можно, всем двадцати семи гусям, напереди лететь?
— За это красное словцо, — продолжал Петрища, — и прозвали Ицку жидом вороватым.
— Как? Только за это? — разочарованно удивляется Страхов. Петрища отхлебывает глоток чая и не спеша продолжает тихим своим вкрадчивым голосом:
— Жаль, что у нас нет ружья, — вздохнул первый жидок, — а то бы мы настреляли дорогой дичины!
— Небось, ты очень храбрый, — усмехнулся Ицка, жид вороватый, — ты бы сейчас взял ружье, прицелился и — бац?
— Нет, — отвечает жидок, — я этого не говорю. — У нас как-то стояли драгуны, так я и к саблям их подходить опасался: а ну, вдруг какая выстрелит.
Изумленный Страхов хлопает себя по коленке.
— Сабля — и выстрелит! Ха-ха-ха!
— Так жидок говорит, — не улыбаясь, поясняет Петрища. — А потом про братца своего, великого храбреца, жидкам рассказывает.
— Был, — говорит, — у меня брат, который мне приходится роднёю, потому что когда на его бабушке сарафан горел, мой дедушка рядом стоял да руки грел, так вот, этот мой брат, — говорит, — бывало стреливал и из ружья, и из пистоля.
— И пулю клал? — спросили жиды в один голос, изумленные такой жидовской отвагой.
— Нет, — отвечал жидок, — он песком заряжал, потом вскинет к щеке, да закричит во всю глотку: «паф!»
— Паф! — с хохотом подхватывает Страхов, снова ударяя себя по коленке.
— Да-а-а! — продолжает серьезно Петрища, и только в углах губ его таится усмешка. — Вот этакого человека, — в один голос заявили жиды, — надобно нам с собою. Не для того, чтобы дичину стрелять, а чтобы от гайдамаков обороняться. А битая из ружья дичина не кошерная, и есть ее нам не годится.
Петрища допивает остывший чай, подставляет пустой стакан под носик самовара, наполняет его, затем продолжает:
— Кому толчок, тому и носок; а щипаную курицу и ворона долбит. Пока разговор сей в бричке идет, добрый Иван-батрак на облучке сидит да знай себе лошадей погоняет. Только вдруг видит Иван: навстречу ему такая же жидовская бричка, битком набитая и кладью, и жидами, жидовками и жиденятами всякого калибру, а на козлах такой же, как он, батрак-хохол сидит.
— Стерегись! — кричит ему наш Иван, а тот ему кричит:
— Стерегись!
Так и съехались они и давай друг друга бранить и кричать: «Сворачивай», а сами с места не трогаются. Жиды из двух брык головы в мохнатых шапках во все стороны повысунули и кричат все в один голос. Такой бедлам подняли, что хоть уши затыкай. Это кучерам надоело и наскучило, и тот, который навстречу Ивану ехал, соскочил с козел, подошел к брыке Ицки, жида вороватого, и давай длинным бичом стегать по жидам.
— Так, так! — оживляется заскучавший уж было Страхов, — а дальше что?
— А дальше? — отвечает Петрища. — Что же дальше! Жиды вопят, а он стегает. Они вопят, а он стегает.
— А Иван что? — спрашивает Страхов с неподдельным интересом.
— А Иван — добрый батрак, — продолжает Петрища. — Глядел, глядел, да вознегодовал на беззаконие такое.
— За что же это ты, — кричит, — моих жидов бьешь?
— Ну, и? — обеспокоился Страхов.
Петрища помолчал немного, прихлебнул чай и продолжал с неизменной своей серьезностью.
— Раз ты такой, — говорит ему добрый Иван, — что моих жидов зазря бьешь, так пойду же и я твоих жидов бить!
— Ой! — застонал и засучил ногами Страхов, радуясь неожиданному обороту событий. — Ха-ха-ха! Ну и умора… Ну и уморил ты меня, учитель! Ха-ха-ха! — и Страхов полез в задний карман, чтобы утереть батистовым платочком пробившуюся от смеха слезу.
— Спрыгнул Иван с козел, — продолжал тихо Петрища, — подошел к другой брыке, и начал тоже, не щадя конского волоса, которым недавно навил плеть свою, стегать в крест и в переплет жидов своего противника.
— Ха-ха-ха! — не мог все уняться Страхов, покачиваясь всем телом и притопывая ногами. — Ну, а дальше, дальше-то что? Не томи, учитель, досказывай свою сказку.
Петрища неторопливо прихлебывал чай, ожидая, пока следователь придет в себя.
— А дальше — что же! — сказал он. — Брыки в конце концов разъехались.
— И что же Ицка, жид вороватый?
— Да ничего!.. Спасибо, — говорит, — Иван, сердце мое, что за нас постоял. Я за это дам тебе стакан наливки и кусок сала.
Долго еще хохочет Страхов; с Петрищей любезно прощается… Уже ночь на дворе, можно спать ложиться. В веселом настроении укладывается Страхов, предвкушает забавный сон про то, как Иван кнутом жидов стегает, а те по углам брыки жмутся, тихо попискивают и даже пощады просить опасаются.
Хоррошо-о!
Только почему-то иной сон снится в ту ночь следователю Страхову.
Снова снится ему бал в столице, музыка, эполеты, веера, обнаженные плечи; высокий, стройный, подтянутый государь красив как Аполлон; Страхову ангельской улыбкой своей улыбается… И вдруг — что это?.. Косматая еврейка в грязном каком-то капоте, на кривых коротких ногах. По сторонам озирается, шаг за шагом к государю крадется.
Ростом еврейка с вершок, рот до ушей растянут и редкими гнилыми зубами утыкан. На правой щеке шишковатая бородавка бугрится, и из нее метелочкой волосы растут. А нос, нос горбатый еврейский крючком изогнут, точно зацепить чего хочет, и шумно старуха носом тем воздух втягивает, будто к русскому духу принюхивается. Смотрит Страхов, как крадется еврейка средь звезд, и эполет, и орденских лент, и бриллиантов, — и удивляется, почему это никто не прогонит каргу.
А старуха уж на шаг какой-то от государя останавливается, из-под полы нож выхватывает и с громким торжествующим хохотом прямо на государя бросается…
И тут только соображение Страхову в голову приходит, что кроме него никому еврейка невидима, и хохота ее бесовского никто не слышит.
Старуха в самое сердце государево черенок, серебром оправленный, наставляет, а государь поверх головы ее смотрит, ангельской грустной улыбкой своей улыбается и даже рукою сердце прикрыть не спешит. И один только Страхов чудовищное злодейство то видит…
Вдруг догадка молнией сверкает в его мозгу, и ужас пополам с восторгом захлестывает жгучей волной. Для него все устроил Господь! Для него одного, чтобы мог он подвиг великий свершить! Ему назначено спасти государя! Себя, может быть, под еврейский нож подставить, а государя своего милостивого защитить…
Броситься уж хочет Страхов, чтоб коварную руку остановить, да чувствует, что ноги его — от чародейств ли еврейских или еще от чего — к полу как бы приросли. Он крикнуть хочет, да язык его одеревянел и во рту не шевелится. Что же это за напасть и проклятье такое! — видеть, понимать, как государя твоего убивают, и не суметь ничего сделать!..
А ежели дознаются потом, что он один все видел… Доказывай тогда, что вовсе ты не масон, евреям продавшийся, и не в сговоре ты со старухой…
«Остановите! Остановите!» — хочет крикнуть Страхов, но только слабое мычание выходит из его рта. Еще миг, и вонзит еврейка серебром оправленный черенок в священное сердце государево…
В холодном поту просыпается Страхов, свечку хочет зажечь, да дрожь такая в руках — никак не получается. Кличет Страхов человека своего Степана, да разве докричишься до этого канальи. Опять нализался, небось, как свинья, да дрыхнет без задних ног. Тут хоть целая свора евреев набежит барина резать — его не дозовешься…
До рассвета теперь мучиться Страхову да сон свой страшный так и эдак повертывать. Привидится же такое!.. И главное — ярко все, отчетливо, каждая морщинка на поганом лице еврейкином видна, и бугристая темновишневая бородавка, проросшая черным волосом, и три гнилых зуба во рту, и черенок серебряный при свете люстр холодком поблескивает, и дикий хохот еврейский в ушах стоит. Вот и гадай, что бы этот сон странный означать мог?
Оно, конечно, пустяки всё — толкование снов! Страхов-то как-никак по-французски учился. Ему ли о снах тревожиться да смысл их сокровенный угадывать?.. Однако очень уж необычный сон. И такой яркий, что, может, и не сон вовсе!..
И целый день потом Страхов ловит себя на том, что все о сне своем думает и даже дознание без интереса ведет. Вечера с нетерпением дожидается, когда учитель Петрища придет и можно будет — не всерьез, конечно, а так, между прочим, смехом, как анекдотец забавный, — про сон ему рассказать.
Вечером, как обычно, пришел Петрища. Из книги своей почитал про еврейские злодейства, потом самовар на столе появился. Страхов предложил гостю в картишки перекинуться, и стали они вяло, без всякого азарта, играть в дурака.
Страхов-то не прочь бы в настоящую игру учителя втянуть, но тот давно уже предупредил: «В денежные игры не играю!» И таким серьезным значительным движением белой, почти девичьей, руки огладил бороду, что Страхов возражать не посмел, а только спросил уважительно:
— Принси́п?
— Принси́п, — подтвердил Петрища; и тихим вкрадчивым голосом пояснил:
— Потому что от наших игр азартных в выигрыше одни жиды бывают.
— Как так? — не понял Страхов.
— Обыкновенно, господин следователь! — Петрища еще раз со значением огладил бороду. — К примеру, играем мы с вами. Ежели вы выиграете, стало быть, я проиграю, а я выиграю — вы проиграете. Какая от того выгода христианству? Только из одного христианского кармана в другой переложим!
— А евреям какая выгода? — все еще не мог уразуметь Страхов.
— Ну, как же! К примеру, вы проигрались, а платить нечем. Карточный долг — сами знаете… А вот кто, скажите, такое понятие нам о карточном долге внушил, что не заплатить его хуже всякого иного позора? Задумывались ли вы когда-нибудь об этом или нет? Не задумывались, так я вам скажу. Это понятие от масонов идет, а масоны давно с жидами стакнулись, и любую погибель на христиан ради евреев готовы наслать! Вы проигрались, и скорее к жиду бежите: и часы швейцарские, и цепочку золотую, а мало, так и мундир свой и саму кровь свою христианскую заложите, чтоб только долг карточный заплатить… Вот и выходит, что христиане играют, а жиды одни с той игры наживаются.
Сильно озадачен был Страхов, напуган даже петрищиным рассуждением. Как мог дознаться учитель про мундир, что он Янкелю-скорняку закладывал?.. Видать, свои люди есть у него и в Витебске, а может стать, и в самом Петербурге… Ох, не прост Петрища с его простецкими сказочками про жида вороватого. Совсем не прост Петрища! Не из тех он, с кем следовало бы ссориться Страхову, нет!
Не приведи Господь заиметь такого врага. Куда лучше числить его в друзьях.
И уважение великое к учителю поселилось с того дня в душе Страхова, и какая-то неодолимая к нему тяга, и легкий страх, и вера безотчетная, что нету для тихого учителя неразрешимых загадок и тайн.
Ну, вот, они вяло в дурачка перекидываются, Петрища белыми, почти девичьими руками колоду тасует, а Страхов, как бы шутя, как анекдотец пустяшный какой, сон ему свой рассказывает.
— Ну? Что скажете на это, господин учитель? Ежели бы я мужиком суеверным из какого-нибудь медвежьего угла был, то, право слово, мог бы подумать, что сон сей вещий и сокровенный смысл в нем содержится…
Тут Страхов осекся. Заметил вдруг, как переменился в лице всегда спокойный Петрища, как застыли над столом, остановив сдачу карт, белые, почти девичьи руки.
— Не тронь мужика! — нехорошим сдавленным голосом прохрипел Петрища и таким тяжелым взглядом уперся в глаза Страхову, что тот захлопал, захлопал ресницами, открыл пухлогубый рот свой, чтобы что-то ответить, да так и закрыл его, не проронив ни слова.
— Изволите суеверным мужика называть, — овладев собой и возобновив сдачу карт, обычным неторопким вкрадчивым тоном заговорил Петрища. — С презрением изволите о мужике отзываться, — Петрища открыл козыря, перекрестил его колодой, поднял свою кучку карт и развернул их веером. — А ведь понятия эти о мужике, господин следователь, от масонов да от евреев идут. От них все эти понятия. Я изрядно середь народа потерся и, смею думать, знаю-с народ наш. И то убеждение имею, что народ, — тут Петрища неожиданно голос возвысил и даже нежный свой белый палец с маленьким детским ноготком высоко над головою поднял, — народ наш, господин следователь, он великую мудрость в себе хранит и многому нас научить может. Он, народ то есть, потому нам таким темным и суеверным представляется, что оторвались мы от народа и стали далеки от него. Всякими масонскими влияниями мы отравлены и народа своего понять не хотим. Вы и меня можете суеверным считать, но я от народа своего не отрекусь, я завсегда буду с народом и всякому то прямо скажу! Ежели простой мужик в вещие сны верует, то и я в них верую и всегда верить буду и по разумению моему буду их толковать!.. Ваш ход, господин следователь. Принимаете что ли десятку или козырем побьете?
— Да… нет… господин учитель, — растерялся Страхов, — вы не так меня поняли. Ежели народ, так я тоже завсегда… Просто шутка была моя, а ежели по совести вам сказать, так мне как раз и хотелось спросить, что вы про сон сей странный скажете.
Задумался тут надолго Петрища, лоб сморщил, бороду все нежной белой рукой оглаживает…
— В самое сердце, говорите, государево нацелила нож старуха?.. — деловито переспросил он. — И никто, кроме вас, не видел?.. А государь до последней минуты все ангельской улыбкой своей улыбался?.. Что ж! Полагаю, что сон ваш действительно вещий смысл имеет, и понимать его так надобно, что, ежели России суждено погибнуть, то погибель та придет незаметно, и не иначе, как через евреев… Вы снова не в масть кроете, господин следователь. Что-то рассеяны вы сегодня, опять останетесь в дураках.
Глава 11
Ох, и терпение же у следователя Страхова! Сам себе умиляется он и удивляется. Ангельское просто терпение!
Оно ежели по закону, то шугануть бы давно обеих доказчиц! Но тогда… Кто же государя-милостивца и Россию-мать от еврейских злодейств спасать будет? И с чем в Витебск ворочаться, что доложить благодетелю-князю? Прощай что ли. карьера, награды, прощай, генерал-губернаторская дочь? И все из-за проклятых жидов?
Да ради наград разве старается Страхов? Нет! Видит Бог, он старается не ради наград и даже не ради губернаторской дочки. Ради благодетеля своего старается Страхов. Потом) как он, благодетель, самим государем над тремя губерниями поставлен и любого, ну, просто всякого в губерниях этих может на ноготок положить, другим ноготочком прижать да кишочки и выпустить. А он, ангел, кишочек не выпускает! Он о наградах для подчиненных своих печется! И не потому вовсе, что Страхова и зятья себе наметил; он по доброте своей ангельской печется! Это же понимать надобно.
Взять хоть евреев. Как недород великий случился и 21-м году и пухнуть от голоду стали крестьяне, а и 22-м году опять недород, и совсем уж худо стало народу, и бунта мужицкого в любой день можно было ждать, так вспомнила власть, что в бедах мужицких не кто иной, как евреи повинны. Потому что почти в каждой деревне шинок стоит, а на дорогах корчмы, и так уж исстари ионе-лось, что хоть корчмы и шинки те помещикам принадлежат, однако же многие из них евреи в аренде содержат. А крестьяне вино в тех шинках пьют, разоряются, да спиваются, да от трудов производительных отваживаются. Ну, и решила центральная власть, ради блага народного, давнее свое намерение исполнить да евреев всех из сел в города да местечки выселить.
Князь Хованский, конечно, с радостью бросился приказ тот поскорее исполнять, да не просто так, а со всем своим рвением, с размахом, потому что кто же не ведает, как люто не любит князь нехристей. Двадцать тысяч семей в три месяца из домов своих выпихнуты были, целые уезды очистил от евреев князь! И что же? Семьи-то еврейские все большие, в каждой жидов, жидовок, жиденков и жиденят видимо-невидимо, и как запрудили они городские площади да базары, как стали там голодать да холодать, да как моровые болезни среди них пошли, да детишки помирать начали, так дрогнуло сердце ангела-князя, опечалилось светлое его чело, и он, добрая душа, сам центральную власть запросил, чтобы выселение остановить, потому как евреям от этого печаль одна, и смерть, и разорение, а крестьянам тоже никакого прибытка, а напротив, одни неудобства и тяготы дополнительные, потому как, оказывается, у шинкаря-еврея мужик не только вино, но и соль, и гвозди, и топор, и прочий всякий инвентарь мог купить, теперь же за всем этим ему в город надобно ехать, два-три дня, а то и неделю терять, так что от трудов своих крестьянских он еще более отваживается; ну, а кто вино хлестал без всякой меры, тот все одно его хлещет, ему разницы нет — еврей или свой брат христианин за стойкой поставлен. Да и то сказать: не силой же арендари-евреи вино в него вливают; ежели он к вину привычен, то всегда зелье себе раздобудет. Народ-ить не даром говорит: свинья лужу все одно сыщет.
Так и остановилось выселение то. По всеподданнейшей просьбе самого генерал-губернатора. Вот он какой, добрая душа христианская, князь-свет Хованский!
А евреи, евреи-то за беспримерную ту доброту чем отплатили? Младенца Федора, солдатского сына замучили! Вот вам благодарность жидовская. Нет, Страхов не жид неблагодарный и не масон, чтобы благодетелю своему из-за этих душегубов не угодить! Не допустит Страхов, чтобы через него светлое чело благодетеля князя омрачилось.
— Скажите-ка, Марья Терентьева, может быть, у Берлиных тоже христианская прислуга имеется?
— Нет. Теперича нету, — ответствует Марья.
— А раньше — когда ребеночка замучили — была?
— Тогда была, батюшка… Девка служила у них, Прасковья. Прошлый год замуж вышла за соседа их, шляхтича Козловского — у его, знаешь, шинок аккурат возле Миркиного дома стоит. Вот он, муж то есть, ей служить запретил, потому как теперича она шляхетка и служанкой быть ей неможно, особливо у евреев. И то сказать, ей в шинке своих дел достает… А пока в девках ходила, служила у Берлиных.
— И что же эта шляхетка Прасковья Козловская, — терпеливо выслушав все подробности, спросил Страхов. — Тоже, небось, ребеночка мучила?
— Знамо дело, — соглашается Марья. — Вместе со всеми в склепе ребеночка мучила, и через полтора часа он помер.
— Постой, постой, — морщит свой курносый носик Страхов. — Мы же вспомнили, что ребеночек умер не в склепе, а вынесли его из дому еще живого. Поэтому, понимаешь ли, Марья, поэтому, — Страхов жмет на последнее слово, — ему рот и нос шарфом закрыли да на затылке узлом завязали, и он по дороге задохся.
— Ну, я уж и не знаю, батюшка, чего мы вспомнили, а чего забыли, — ворчит, хлопая опахалами, Марья.
— Ладно, это мы с тобой отдельно припомним. А теперь ты только про эту, Прасковью Козловскую, покажи. Стало быть, ты утверждаешь, что она тоже в мучительстве участие принимала?
— А чем же она лучше нас с Авдотьей, чтоб в чистеньких-то ходить.
К Прасковье Козловской Страхов приступил испытанным уже способом, однако упорной оказалась Прасковья. С какой стороны ни подъезжал к ней Страхов, сколько раз ни пускал в дело свой маленький кулачок, одно твердит: нет, и баста!
Помнит всю ту святую неделю — как не помнить! Никуда она в ту неделю не отлучалась, и из хозяев никто не отлучался. Гость у них жил дня три-четыре, Иосиф Гликман с сыном. Пожили и уехали на собственной бричке. А больше никто из посторонних в доме не появлялся. Ни из евреев, ни из христиан. И ребеночка никакого не было.
— Так ты жидов выгораживать! — шумит на нее Страхов, маленький кулачок свой под нос ей подсовывая.
Но — куда там! Уперлась упрямая шляхетка!
Ладно! Посидит в остроге — небось одумается. Только, с другой-то стороны, зачем ему, Страхову, ее признания? Тут две покладистые бабы так путают все, что голова кругом идет, а ежели третья, упрямая, еще путать станет?
Задумчив стал следователь, рассеян. Даже книгу ту польскую, что учитель Петрища ему кусочками переводит, невнимательно слушать стал. Даже рассказы Петрищевы про жида вороватого не веселят теперь следователя. Ведь если так дело дальше пойдет, то не получить ему дочери губернаторской, чинов, наград, не танцевать на петербургских балах. А главное, благодетеля своего тогда сильнейшим образом огорчить придется!
Вот и слушает вполуха следователь Страхов учителя Петрищу, губы пухлые нервно покусывает, волосики свои, всегда так аккуратно один к одному прилизанные, пятерней лохматит.
— Может, случилось что у вас, господин следователь? Что-то вы стали на себя не похожи, — вкрадчивым голосом спрашивает Петрища.
Не случилось! Именно, что ничего не случилось! Две бабы разно показывает, а третья и вовсе молчит… Как же ему, Страхову, преступников уличить!
Выслушал учитель следователя со вниманием. Задумался, и, ничего не сказав, откланялся раньше обыкновенного, даже чай пить не стал.
Злость тут Страхова охватила великая. Забегал, заметался по комнате Страхов, словно зверь в клетке. Так вот ты кем оказался, учителишка паршивый. Сам заварил кашу, сам советами да книгой своей поганой потчуешь, а как осечка малая, — сразу в кусты!.. А туда же — принси́п «Я завсегда с народом!» Да, может, в этом и есть самое хитрое масонское притворство! Может, жиды тебя подкупили, чтоб ты врагом их прикинулся, следователю в доверие втерся, книгу ему о еврейских злодействах переводил, а сам все дело запутывал… Берегись у меня, учитель; думаешь, мне не ведомо, что это ты подговорил давеча Марью Терентьеву ложную бумагу государю подать!..
Однако же зря грешил Страхов на учителя Петрищу: тот за свой принси́п крепко держался. На другой же вечер к Страхову снова пожаловал, да не один, а такого огромного детину с собой привел, что тот сразу всю комнату собою заполнил, аж тесно в ней стало.
— Вот, — говорит Петрища следователю вкрадчивым своим голосом, — рекомендую. Маркелл Тарашкевич, священник, мой большой друг. Давно уж надо бы вас познакомить, да я в том опасении был, что не найдете вы общего языка, потому как вы, господин Страхов, православный, тогда как отец Маркелл — униатского исповедания. Однако в том и слабина наша, что мы, христиане, между собой сговориться не можем, евреи же все всегда заодно. Я полагаю, не то важно, что нас разъединяет, а что объединяет, и все мы — православные ли, католики, или униаты — все мы супротив злодейств жидовских должны друг за дружку держаться. Отец Маркелл может многим быть вам полезен.
— Очень рад, — сухо проговорил Страхов и чуть не взвизгнул от боли, так крепко сдавил его руку богатырь-священник. — Прошу к столу, господа. Человек! Ставь скорей самовар!.. А, может быть, чего посущественней желаете по случаю знакомства? — Страхов неуверенно перевел взгляд со священника на Петрищу.
— Вы же знаете, — проговорил тот, оглаживая бороду. — У меня принси́п!..
Священник Тарашкевич глыбой возвышался над столом, могучий торс его поддерживал не менее могучую голову с крупным мясистым носом и широкой разделенной надвое бородой. Чай пил он смачно, громко хрупая сахаром и дуя в блюдце, которое в огромной его руке казалось игрушечным.
— Я, — гудел густым басом священник, — человек прямой, льстивых слов говорить не умею и потому так скажу вам, господин следователь: не таким путем надобно вам идти! Другой подход употребите. Помните, что хоть и преступницы, смертоубийцы те бабы, однако же христианские души. А Христос велел нам заблудших овец жалеть и кротостью на путь истинный наставлять. Ласковым обхождением да хорошим продовольствием вы их скорее к себе расположите. А главное — в храм Божий почаще их посылайте, для священнического моего увещевания… Ибо хоть они и признались в злодействах своих, однако полагать надобно, что не в полной мере еще раскаялись. Кого-то они выгородить хотят, утаить хотят от вас правду, потому и лгут. Отсюда несогласия в их показаниях. А ведь им души свои грешные спасать надобно! Кому же, как не мне, пастырю духовному, и объяснить им, что Христос к тем только милостив, кто в грехах своих кается до самого донышка и всю чистосердечную правду показывает…
Выслушав все это, Страхов неуверенно посмотрел на Петрищу.
— Господин Тарашкевич священническим увещеванием к раскаянию будет их побуждать, — пояснил Петрища вкрадчивым голосом, — а вы очными ставками ложь их уличите и постепенно к согласным показаниям приведете. Вместе-то мы вернее дело подвинем.
— Мысль неплохая, да ведь бабы-то православные. Хорошо ли их к униату на исповедь посылать? — неуверенно возразил Страхов.
— Э, господин следователь! — забасил на это Тарашкевич. — До щепетильностей ли тут! Правильно наш друг господин Петрища объясняет: униаты мы, католики или православные — это мы промеж себя разбираться будем. А перед евреями мы все христиане и вместе держаться должны. Если православные бабы вместе с евреями ребеночка резали, так неужто они передо мной, пастырем христианским, не откроются и не покаются только потому, что я униатского исповедания? Предоставьте уж мне о том заботу.
Долго думал Страхов о предложении отца Маркелла, по-разному в голове своей поворачивал. Не так просто оно получалось, как хитрый Маркелл рисовал. Непокорство униатское видам правительства ощущалось во всей губернии, и сколько хлопот с униатами, коих власть, их же блага ради, старается от пагубного папского влияния отгородить, — про то Страхов еще в Витебске знал.
Униатский храм Святого Ильи, в коем отец Маркелл службы служит, самый почитай величавый храм в Велиже. Колоннами стройными украшен в классическом стиле, а внутри столько статуй, позолоты да всякой роскоши, что в глазах рябит. Две головы собора с ажурными крестами в такую высь вознесены, что не только во всем городе, но и далеко за лесом видать… А заложен сей храм был в том самом году, когда земли эти от Польши к России-матушке отошли, и уж неспроста, конечно, совпадение это. Показать хотели униаты России, что, мол, кесарю кесарево, а Богово загребущей рукой не трожь. Командуйте, мол, нами по-питерски, ежели ваша сила взяла, а в души наши не лезьте — они пуще прежнего теперь к римскому святому престолу устремлены. С тех самых пор и идет неслышная война по всему краю. Начальство всякими правдами и неправдами православие старается утвердить, а униаты с католиками правдами и неправдами тому препоны чинят: не однажды и до открытых бунтов доходило дело. В Велиже хоть бунтов не случалось, зато скандал был великий, когда на деньги, отпущенные для возведения православного храма, городские власти построили костел. Осерчало начальство, городской голова под суд угодил, и не было ему снисхождения, да ведь дела тем не поправишь! Так и осталась на весь Велиж одна православная Николаевская церковь, да такая захудалая, прости, Господи, — хуже еврейской синагоги, коя, по строгим правилам, от века установленным, не должна быть выше или обширнее соседствующих христианских храмов, дабы пышным видом своим чувства правоверных не оскорблять… Словом, было над чем помозговать Страхову! А вдруг за предложением паписта какая-нибудь иезуитская хитрость таится, чтобы использовать жидовское дело супротив видов правительства?
Не отважился Страхов столь важное дело самочинно решать, утром же безотлагательно эстафету князю Хованскому отрядил.
Ответ воспоследовал без проволочек: «Молодец ты, Страхов, — писал князь, — что бдительность проявляешь и ухо востро держишь не только супротив жидов, но и папистов. Всегда так поступай и со мной советуйся, потому как я тебе благодетель есть и без отеческого наставления никогда не оставлю. Действуй, голубчик, благославляю. Для уличения евреев любые средства пригодны, а потому валяй, посылай баб к священнику. Лишь бы толк от того был, а православный он, или униат, или дьяволу самому служит, — тут не велика разница».
Глава 12
Вольготно живется Марье Терентьевой! Славно живется. Зима на дворе лютая, морозы трескучие, снега сыпучие. Как ни добр народ в Велиже, а несладко бывало Марье зиму зимовать. То приютит кто на ночь, а то и не приютит — вот и мерзни где в чужом сарае или вовсе на церковной паперти. А в остроге тепло, сухо, своя коечка. И образок в углу с лампадкой. Окошко, правда, невелико, да зимой все одно солнышко рано садится. Еду Марье приносят сытную, горячую; отродясь Марья такой еды, да чтоб не раз-два купчик загулявший какой угостил, а чтоб каждый день Божий — такой еды Марья Терентьева отродясь не едала. Вон уж и бедра ее круглые еще сильнее округлились, и грудь налилась так, что платье старое цыганское все расползлося на ней. Шибко обеспокоилась о том Марья, да следователь Страхов ей новое платье справил — это, говорит, подарок тебе от меня, Марья; по-простому, говорит, по-христиански прими.
Следователь очень даже с Марьей приветлив да ласков. А после хорошего допроса, когда она, Марья, особенно хорошо про злодейство еврейское докажет, следователь ей чарочку царской влаги присылает. В воскресенье Марья в церковь идет. А то и в будние дни следователь ее к священнику посылает:
— Иди, — говорит, — Марья, покайся пред Господом; душу, — говорит, — Марья, тебе спасать надобно. Всегда Марья в церкви ходить любила.
…Не спешен батюшкин обход, мирно покачивается кадило, ладан ноздри щекочет, лики Божьих угодников грустно и задумчиво со стен глядят, и так умиленно на душе у Марьи, и робость в душе, и радость тихая, и отчего-то слезы из глаз выкатываются. А пение, пение церковное как ублажает душу! До жути хорошо бывало Марье в церкви.
Теперь-то следователь Страхов из острога не в православный, а почему-то в папистский храм Марью посылает, ну, да ему, следователю, лучше знать. Теперь, после заточения-то, еще жутче, еще сладостнее Марье в храме Божием. Священник статен, важен, высок, голову с крупным мясистым носом прямо держит; взгляд у него вдумчивый, строгий, борода на две половины разделена, широкими волнами с лица струится. Боязно Марье священника и сладко ей со священником.
— Молись Господу нашему, Марья! Молись, чтоб помог он тебе покаяться и всю правду про злодейства жидовские доказать. Благодари Господа, потому что отличил Он тебя, рабу недостойную. Ты думаешь, Марья, потому ты в злодействе том старалась, что евреи тебя завлекли? Нет, Марья! Ничего мы не делаем без повеления Господня. Даже волос не падает с головы без Господнего повеления! То Господь наш Иисус Христос тебя, рабу недостойную, отличил и на подвиг христианский наставил! Для того ты в том деле участвовала, Марья, чтоб злодейство через тебя открылось. Не откроешь, утаишь что-нибудь, — значит, ослушалась ты Господа, и примешь за то адские муки. А откроешь все, покаешься в грехе своем до конца, — наградит тебя Господь! И кровь младенца невинного простит, и жизнь твою блудную простит тебе, и вознесешься ты на небеса, и сам Господь тебя поцелует. Молись усерднее, раба недостойная Марья, да хорошенько все про злодейства жидовские вспоминай и следователю доказывай…
Зимний день короток, сумрачно в церкви, стоит батюшка огромный, что сам Бог Саваоф, подсвечник в руке держит. Колышется пламя свечей от речи его басовитой, тени неслышные от колыхания того мечутся. Распростертая ниц лежит Марья Терентьева, раба Божия недостойная; слезы горячие, душу просветляющие, из глаз ее воловьих бегут, слипаются длинные ресницы, словно крылья упавшей в воду бабочки, молитвы смиренные из уст, словно мед густой, истекают.
А у выхода Филипп Азадкевич Марью Терентьеву поджидает. Сюда из острога ее проводил и обратно в острог проводит. А по пути все ей шепчет, все шепчет, все растолковывает гнусавым своим голоском, с присвистом и натугой из широкого приплюснутого его носа выталкивающимся. Про злодейства жидовские шепчет сапожник, как младенцев они хватают, да в подвале содержат, да как потом кровь из них источают. Тут ведь не просто — зарезал, и все! Ты уразумей, Марья: они его в бочку сажают, а бочка на веревках подвешена, и два часа в той бочке его качают; а потом острым железом колют, а кровь источающуюся в серебряную чашу сбирают.
Глянет Марья на сапожника, на плюгавую фигурку его, да на всклокоченную бороденку, да на нос приплюснутый, и только фыркнет презрительно. Бочка, бочка! Пристал опять с этой бочкой. Что ж она, Марья, совсем без ума — про бочку ту не уразуметь? Только следователю-то подробности подавай! Тут на ходу соображать надо. И чтоб в полной точности было все, а то Авдотья потом иначе докажет. Да и сама Марья помнит что ли, что месяц али два назад сказывала? Ну, да у следователя записано, где надо, он сам поможет.
— Терентьева Марья! Вы показывали, что вы и Авдотья Максимова, по поручению евреев, труп мальчика Федора из дома вынесли и бросили его, по их же поручению, в колодец. Между тем, из протокола дознания видно, что труп был найден в лесу. Как вы объясните такое несовпадение?
Марья молчит, долго хлопая опахалами.
— Может, евреи приказали вам в колодец бросить тело, а вы передумали да положили в лесу? — помогает Страхов.
— Знамо дело! — обрадованно соглашается Марья. — Они велели в колодец, а мы передумали и в лес отнесли.
— Так! — доволен Страхов. — А вы, Авдотья Максимова, подтверждаете это показание или нет?
— Ась? — испуганно переспрашивает Авдотья, тараща бессмысленные поросячьи глазки. — Подтверждаю, батюшка, все подтверждаю!..
— Но вы, Авдотья Максимова, показывали, что самолично с двумя евреями труп отвозили в бричке, а Марья Терентьева утверждает, что вы с нею вдвоем отнесли труп пешком. Где же тут правда? — кричит Страхов раздражаясь.
— Как она говорит, так и верно, — торопится угодить Авдотья, но пуще хмурится следователь.
— Однако в протоколе записано, что на дороге след от брички остался. Бричка на месте том остановилась, а потом развернулась да назад в город уехала. Как прикажете это понять?
— Ась? — выкрикивает Авдотья, и глазки ее поросячьи беспомощно перебегают со Страхова на писаря, с писаря — на Марью Терентьеву.
— Так и понимай, батюшка, как написано, — на выручку приходит Марья Терентьева. — Ить мы его там положили, назад идем, да ту бричку и встречаем. В ней Иосель Мирлас и Хаим Хрипун. Их послали проверить, верно ли мы все исполнили. Они до места того доехали, посмотрели на ребеночка и назад воротились, обогнали нас. Когда мы в синагогу пришли, так они оба уже там были.
Писарь со слов этих даже пером скрипеть перестал. С недоумением глядит на следователя. «Экая баба бесстыжая, — думает. — Вот уличит ее сейчас следователь! Ведь только что говорила, что евреи приказали в воду бросить младенца — зачем же им в лес ехать, чтобы проверить, выполнено ли приказание?»
— Так, хорошо, Марья, — к изумлению писаря одобряет Страхов. — Теперь еще с одним пунктом надобно нам разобраться. Ты показывала, что евреи младенцу уд детородный отрезали. А лекарь Левен, обследовавший труп, ничего о том в протоколе не писал. Он, напротив, указал, что на кончике уда имеется темное пятнышко, как бы кровоподтек, учиненный, по его предположению, натертостью ляжками. Из всего этого полагать надобно, что уд был на месте. Я по сему пункту дополнительный допрос снял с лекаря. Он не отрицает, что темное пятнышко то могло и не от натертости происходить, а от другой какой-нибудь причины. Теперь отвечайте, Maрья Терентьева, продолжаете ли вы утверждать, будто уд детородный был полностью отрезан евреями, или, может быть, они только кожицу с кончика срезали, отчего то пятно и могло произойти?
— Кожицу! — хлопает опахалами Марья. — Я теперь вспомнила: только кожицу.
Марье-то хорошо. Живется ей в остроге вольготно. Да только следователь Страхов торопит.
Нервничает следователь! Осточертел ему Велижград, да и невеста, сообщают дружки, не шибко без него скучает. Хлыщ какой-то столичный в Витебске объявился, целые дни в губернаторском доме торчит, княгиню-старуху да княжну питерским обхождением ублажает. Того и гляди, уведет из-под носу невесту, пока Страхов возится тут с евреями да Марьей Терентьевой.
Опять же князь Хованский, будущий тесть, донесений о ходе следствия требует, а что доносить прикажете? Что две христианки сознались, да третья все упирается?
Что эти две, несмотря на знатное продовольствие, одеяние, очные ставки и увещевания Маркелла Тарашкевича, в показаниях путаются?
И что евреи все еще на свободе разгуливают?
Крепче пришлось Страхову приступить к Прасковье Козловской. Сколько батистовых платочков извел на обтирание маленького своего кулачка, так сам со счету сбился. Но Страхова не переупрямишь. Призналась-таки Прасковья!
Да, бывали у хозяев ее в ту Пасху Марья Терентьева да Авдотья Максимова. Был и мальчик белокурый, плакал под дверью, кулачками глазенки тер. А евреев перебывало в доме в те дни видимо-невидимо…
Вот все, что показала Прасковья. Большего, как ни бился, не удалось вытащить из нее следователю. Про то, что с тем мальчиком сделали, говорит, ей неведомо.
Ну, это пока неведомо!
Максимова, глухая тетеря, тоже не знала ничего, а потом вон как язык развязался! Придет время, упорная шляхетка все покажет, что надобно, — в том следователю нет причины сомневаться, потому как увяз коготок.
Глава 13
А пока и этого ему хватит. Можно, можно теперь брать евреев! Доволен Страхов, одна только у него неудача. За три года, пробежавших со времени того злодейского происшествия, главная виновница-то помереть успела. Нет уж старухи Мирки, отдала Богу душу, или кому они там, евреи, души свои отдают! Не сподобился Страхов посмотреть на злодейку. А очень хотелось! Почему-то глубокую веру имел следователь: Мирка эта — точь-в-точь старуха из сна, что с ножом на государя бросилась. С злыми водянистыми глазами, крючковатым носом и отвратительной бугристой бородавкой на правой щеке. Не довелось удостовериться. То-то было бы доказательство против евреев! Выскользнула-таки из рук старая ведьма.
Ну, ничего, дочь Мирки Славка Берлин жива, крепкая еще еврейка. Под замок ее!
И Ханну Цетлин — под замок!
И Ицку Нахимовского, Абрама Глушкова, Иоселя Турновского. Первый торговлю свою сеном имеет да в доме Берлина помещение для лавочки снимает: второй — лавку его сторожит, а третий — сторожем у самих Берлиных служит. На этих троих доказчицы ничего не показывали, не за что их арестовывать, ежели по закону. Да ведь они-то и нужнее всего Страхову!
Берлиным терять нечего: до конца будут отпираться — сие и младенец тот понял бы, кабы Богу угодно было в живых его оставить. А с этими надо по-умному обойтись! Поначалу пугнуть арестом, а потом объяснить, что судьба их от них самих зависит. Покажут на Берлиных так, как Марья с Авдотьей, — значит, невиноватые. А запираться будут, значит, и сами в том деле участвовали — бабы-то мигом про то припомнят. От Страхова не ускользнешь! Ежели только на тот свет, как старуха Мирка…
То-то страху евреям от Страхова, то-то радости сапожнику Азадкевичу!
Ходит Филипп по городу веселый, трезвый; мстительный огонь в желтых нездоровых глазах, ноздри приплюснутые крыльями хищной птицы по лицу раскинуты, жиденькая бороденка сильней обычного всклокочена, и оттого плюгавая фигурка филиппова задиристый вид имеет, точно у драчливого петуха.
Филипп гнусавит народу про злодейства жидовские.
Обступает Филиппа народ, головами качает, речам его изумляется, а пуще всего — трезвости его дивится. Ох и любит же грешный человек гульнуть, и всех дурнее бывает в гульбе. Такое выкаблучивает — полгорода смотреть на его выкрутасы сбегается. Аж сечен был кнутом за буйства свои по приговору суда! Это же уметь надо отличиться, чтобы из всех велижских бражников выделиться и под суд за пьяное буйство угодить!
Слушает народ гнусавые Филипповы речи, да не шибко им доверяет. Знает народ, что дурной человек Филипп и шибко на евреев озлобленный.
Только ведь и учитель Петрища то же самое народу сообщает. А у него, у учителя, какие могут быть счеты с евреями? Один голый принси́п!
Уважает народ учителя за грамотность его, за гладкость речи, а пуще всего книгу его уважает, потому как в книге зря не напишут.
То-то затаились евреи по домам своим! То-то лавки еврейские на базаре закрыты! Носу на улицу не высовывают, ставни затворены, даже калитки все на запорах. И тишина, мертвая зловещая тишина на еврейских улицах. Ну, жиды проклятые, вороги христианские — пробил час, нашлась и на вас управа!..
Страшно евреям, сиротливо евреям, беззащитно евреям, и не ведомо, чего больше бояться им — буйства ли толпы неразумной, или ареста страховского. Один только защитник у евреев теперь остался…
Задами, задами, чтобы не повстречался кто ненароком, пробираются они к Большой Синагоге. Народу в ней — яблоку не упасть. Плечом к плечу, грудь к спине стоят пейсатые, бородатые, бархатными шапчонками покрытые, в белые, словно саван, талесы облаченные. Потолок в синагоге высокий, сводчатый, золотыми виноградными лозами разрисованный. В бронзовых семисвечниках свечи восковые горят, ровным светом заповеди Божии освещают. Служки свитки со священными текстами носят, сквозь плотную толпу протискиваются, слепой кантор Рувим соловьем заливается, голос его рвется вверх, под своды, сквозь своды, туда, к престолу Всевышнего, и подхватывают пение нестройные голоса.
Господь наш есть Господь Един. Наш долг славословить Владыку всемирного, воздавать славу Мироздателю за то, что он не создал нас язычниками и не уподобил нас кочующим племенам; что не приобщил нас к их уделу, к судьбе скопищ их. Мы преклоняем колени и поклоняемся в исповеди перед Царем Царей, Пресвятым — благословен Он! Который раскинул небеса и основал землю. Чей величественный престол на горних небесах и пребывание его могущества на высях превыспренних. Он Бог наш, другого нет: воистину Он Бог-Царь наш, никто иной. И посему мы уповаем на Тебя, Господи, Боже наш, узреть вскоре славу могущества Твоего; что сотрешь с лица земли всякое изуверство, и идолопоклонство исчезнет совсем; что усовершенствуешь мир царствованием могущественным Твоим; что всякая плоть будет взывать к имени Твоему и все злодеятели обратятся к Тебе. Боже, помоги мне; Царь, отзовись нам, когда взываем к Тебе! Ты — моя защита, Ты охраняешь меня от врага, окружаешь меня песнями избавления. Молю: силою величия десницы Твоей освободи нас из оков; приемли гимны народа Своего, укрепи нас, очисти нас, Всемогущий! Обереги исповедующих единство Твое, как зеницу ока; благослови их и умилостивись над ними; скажи им непрестанно правду Твою. Всесильный, Святый, обильной благостью Своею управляй общиной Своею. Единый, Всевышний, обратись к народу Твоему, помнящему святость Твою. Приемли мольбу нашу, услышь вопль наш. Ты ведь ведаешь все сокровенное.
Крепнут голоса, распрямляются согбенные спины, выше поднимаются пейсатые головы, светом начинают лучиться печальные выпученные глаза. Эх, сыны Иаковлевы, братья Израилевы! Не такие напасти насылал на свой народ Господь, но и спасал в годину трудную, чтоб славословили вы Его, Владыку Единого, царствие Его вечное, да заповеди Его священные исполняли. Ибо пребудет царствие Его во веки. Слушай, Израиль, Господь наш есть Господь Един…
Открываются высокие двери, гудящая толпа на улицу выплескивается. Это сходились они осторожно, робко, задами, чтоб на глаза не попадаться кому, а расходятся по домам открыто. Головы высоко подняты, бороды вперед выставлены, смело в глаза христианам смотрят. «Будет и на нашей улице праздник», всем видом своим говорят, «потому как Господь не отдаст народ свой на поругание».
И снова сомнение берет христиан. Ить ходят слухи по городу: не признают те евреи заарестованные за собою вины.
А эти, которые на воле пока, вовсе осмелели. Даже жалобу в Петербург накатали! Несправедлив, мол, следователь Страхов, склонился к суеверным предрассудкам через учителя Петрищу, да сапожника Азадкевича, да священника Тарашкевича, с коими частые свидания имеет. Надобно его от дела того отставить да другого следователя прислать!
Ах, евреи, евреи! Все-то вам жалобы строчить! Грамоте вы обучены, только не на пользу, видать, вам грамота пошла.
Разве не ведомо вам, евреи, что из Петербурга бумага ваша прямым ходом в Витебск проследует, к генерал-губернатору князю Хованскому, который ее тот же час самому Страхову переправит, потому как он Страхову покровитель есть? И лишь пуще прежнего осерчает следователь. Доклад благодетелю своему отпишет. Так, мол, и так, усердствую сверх всякой меры. Запираются евреи — это верно, так ведь то потому, что вера их бесовская дозволяет присяги любой отрицаться. Однако же, благодаря усердию моему и очным ставкам с доказчицами Марьей Терентьевой, да Авдотьей Максимовой, да Прасковьей Козловской все арестованные давно уже уличены в злодеянии, до окончания следствия самая малость осталась.
— Молодец! — вскрикивает князь Хованский, бумагу ту прочитавши. — Молодец, Страхов! Не зря облек я тебя своею доверенностью. Сейчас же всеподданнейший доклад государю отпишем — пусть знает самодержец всероссийский про усердие твое да про коварство жидовское!
Глава 14
Государь! Милостивец ты наш ненаглядный! Где улыбка твоя ангельская? Где ноготок твой розовенький? Мы ведь завсегда с превеликим нашим удовольствием приготовлены. Дозволь на ноготочек влезть да кишочки и выпустить. Дозволь, государь, не гневайся. Милостивец ты наш! Не давишь ты нас, негодников, ноготочком своим! Выслушиваешь ты всеподданнейшие доклады наши! Хоть и без улыбки ангельской, с нахмуренными бровями и взглядом свинцовым, а все же выслушиваешь, государь, и на ноготочке своем розовеньком кишочки наши не выпускаешь! Как тебя, милостивец, благодарить, не знаем, — вот в чем беда! Неспокойно на сердце, ох как неспокойно!
Не добром началось царствие твое, государь, так добром ли кончится?
Братан твой Благословенный все по монастырям душу спасал, а дела государственные совсем забросил. Смутьянов не раздавил, с наследством престольным запутал все, засекретил, да и почил в своем Таганроге. Ты-то, государь, про бумаги секретные знал, да убоялся ты старшего братца своего: а ну, как откажется от секретного отречения своего и тебя же бунтовщиком-узурпатором объявит… А брат-то твой тебя убоялся, государь! Вот ведь оно как получилось… Ты ему: «Ваше величество, ступайте царствовать!» А он тебе: «Ваше величество, ступайте царствовать!» Интеллигентно. Не то что в бозе почивший наистарейший ваш братец, по системе Руссо воспитанный: шарфик красненький папашке на шейку гусиную повязал — язык у папашки и вывалился.
Ты, государь, честь по чести, братцу своему присягаешь, а он, честь по чести, тебе присягает. Вот и проприсягали почти всероссийский престол! Ох и передрейфил же ты, государь, ох и сыграл же ты труса!.. Глазки-то твои державные, как у зайчонка затравленного, бегали. Ручки-то твои державные мелкой дрожью дрожали. Губы-то твои державные белее снега белого, что площадь Сенатскую запорошил, сделались… Вот как напужали тебя бунтовщики!
Ну, и наказал ты масонов примерно, по-царски ты их наказал! И главное — интеллигентно. Сам ведь ты их, государь, не судил. Сам ты лишь миловал.
Да ведь те, кого ты судьями поставил — они ж с полнамека волю державную понимать обучены! Министры судили, генералы, Сенат да Синод — все вошки мелкие, полосатенькие, орденами обвешанные. Отменно тренированный народ! Мигни только, и локотками, локоточками растолкают друг друга, чтобы поскорее на ноготок твой розовенький взлезть. Присудили они все, как надобно! Чтоб мог ты, государь, и милость свою показать и чтобы наиглавнейшие бунтовщики-супостаты твои из-под ноготочка твоего, не дай Бог, не выскользнули.
Один только нашелся умник из судей тех. «Мнение» особое накатал: нет, мол, в законах российских такого пункта, чтобы смертью кого ни на есть карать.
Эй! Умник! Подотрись-ка мнением своим! И прежнего государя все «Мнениями» одолевал, и на молодого насыпался. Пиши-пиши. Бумага — она все терпит! Ты в Англии делу морскому в безусой юности обучался, и с тех самых пор стукнутый ты этой Англией, как пыльным мешком. Ишь чего вздумал: государственных преступников по законам судить!
По закону-то нет у нас смертной казни — это мы и без умников разумеем. А вот по совести ежели! Государь-то над нами от Бога поставлен, а масонов, супостатов своих главнейших, он, значит, и на веревке не вздерни?
Нет, умник, у нас ить не Англия какая-нибудь, чтоб по законам жить! Разгневан государь — это ж уважить надобно. Сдрейфил государь — вот и надобно ему сатисфакцию (по-англицки-то говоря) получить. Не то всем нам худо будет. Или ты сам тайный масон и нарочно мнениями своими государя сердишь? Мы их на такую лютую казнь осудить должны, какую в наш просвещенный век и применить невозможно. Ну, а потом, по безграничной милости своей, государь медленное отрубание членов веревкой пеньковой заменить соизволит. Вот и выйдет! И милость от государя, и супостаты его в петлях задергаются.
Умник ты, умник англицкий, а простых русских вещей не разумеешь! Ты все о том печешься, чтобы народ от пьянства отвадить и для того всю экономию государственную на англицкий манер перекроить. Нельзя, говоришь ты, пьянство в государстве искоренить, ежели основной доход для казны от продажи питий происходит. Нельзя — это точно. Да надобно ли — вот вопрос! Того
ты, умник, не разумеешь, что питейной торговлей все больше жиды промышляют. Жиды водку народу продают на многие тысячи, а детишки у них голопузыми бегают, потому как казна да помещики прибыль всю забирают. Народ водку жрет — казна государева полнится, и помещичье сословие, главная опора государева, богатеет. Виноватыми же кругом евреи выходят, и при всяком случае любое народное бедствие или несчастье есть на кого свалить… А тебе бы все на англицкий лад да на англицкий лад!
Это во «Мнениях» все можно. И торговлю преобразовать, и промышленность развить, и просвещение распространить в народе. А как прикажешь все сие исполнить, ежели веревки пеньковой — и той сплести не умеем. Слыхал, небось? Когда тех пятерых масонов вешали, так ведь трое оборвались! Не выдержала веревка российская… А ты говоришь — по-англицки! Да в Англии такое случись — о-го! А у нас не Англия какая-нибудь, у нас Россия-матушка. Веревка слабая, да зато дух тверд, как скала. Про обычай-то знаешь старинный: коль оборвался повешенный, значит, воля Божия на то — помиловать надобно. Но государь у нас без сантиментов. Перевесить велел, не моргнув глазом.
Крут государь наш молодой!
Только с супостатами кончил, как ему доклад всеподданнейший от князя Хованского, генерал-губернатора Смоленского, Витебского да Могилевского. Про младенчика, в Велиже замученного.
Ох, и осерчал государь, прочитав тот доклад! Вот оно, оказывается, что происходит! Все они, оказывается, заодно! Пока масоны открытый бунт против Господом данной власти устраивают, евреи тайно младенцев христианских режут!
И в самый корень, в суть самую устремил государь орлиный свой взгляд. Ведь ежели всякого, то есть просто любого может он на ноготке своем раздавить, так ведь это же значит, что все равны перед лицом государевым! Полное братство и равенство получается, и никакой, выходит, разницы между православным народом и нехристями погаными! Слыханное ли дело — такое якобинство в державе терпеть?
Должна быть разница, решил государь! И не думая долго, волею царскою отлучил евреев от самого Господа Бога. Так и начертал державной своей рукой император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая. Так и начертал: «В страх и пример другим все школы еврейские в Велиже опечатать и впредь до особого повеления не дозволять служить Богу иудейскому — ни в самих тех школах, ни при них».
Так-то вот. Разговор у нашего государя короткий! Тело-то всякое он может раздавить или удавить — что еврейское, что христианское тело — тут, точно, полное равенство и братство наблюдается. Ан ведь душа еще остается! Раздавит государь тело, а душа на небо и упорхнет. Что ж! Христианская душа пусть упархивает: государь наш щедр и милостив, ему не жалко. А вот еврейская душа — нет! Ее он на небо пущать не желает. Пущай тут же и корчится под ноготком, аль под сапогом кирзовым. Сапогом, говорю, да прямо в еврейскую душу! Что? Съели, пархатые? Где Он, Господь ваш Единый, Творец неба и земли, мышцею твердой и рукою простертой выведший вас из Египта? Где Он, заключивший завет с Авраамом, Исааком, Иаковом и избравший вас, чтоб завет Его вы хранили и были Ему народом священников? Где Царь Царей, защищающий вас от врагов ваших? Заперт в опечатанной синагоге, цепью железной оцеплен, да стража к нему выставлена! Крепче, чем братья ваши в остроге, следователем Страховым заперт! То-то, как мыши в подвале, затаились вы по домам вашим, и тишина во дворах ваших, словно вымерли все.
А следователь Страхов-то как повелением государевым ободрен! Даже хлыщ столичный, что в Витебске вокруг невесты его увивается, — и тот перестал тревожить Страхова. Благодетель князь Хованский ведь от слова своего не отступится, особенно теперь, когда столь несомненное доказательство имеется, что сам государь все меры, Страховым принимаемые, высочайше одобрять изволит.
Ну, держитесь, евреи. Теперь-то следователь с вами все сделать может!
Операцию по закрытию молелен Страхов с городскими властями в строгой секретности разработал, обнаружив немалый стратегический талант. Главным в плане была внезапность. В один день и час, сразу во все молельни чины с подчинами нагрянули, чтоб не могли евреи успеть свои книги бесовские попрятать да по домам растащить или другие какие-нибудь предприимчивости предпринять.
А сверх того, в развитие, так сказать, Высочайшего приказа, Страхов строго-настрого запретил и по частным домам евреям для молений собираться. А так как не разберешь, для какой такой надобности они собираются, то и вовсе бывать друг у друга Страхов им запретил. Да приказал, чтоб и на улицах не собирались. И вообще — чтоб не останавливались на улицах. Идет еврей своей дорогой, так пусть себе и идет — это можно. А остановился — тотчас в участок его! Такие вот правила заведены были в Велиже.
И выполнялись со строгостями — Страхов о том особо старался.
Дом его евреи за три улицы обходить стали. А если случайно повстречают где, так словно таракашки, во все стороны разбегаются да во всякие щели прячутся.
Вот как круто поставил дело следователь Страхов!
Острог небольшой велижский, что на краю города, при Смоленском тракте расположен, давно уж заполнен арестантами. Так Страхов два дома по соседству со своим заарендовал на казенный счет, на клетушки разгородил да окна заколотить приказал, стражу выставил. Арестантов в клетках тех разместил — так-то удобнее дознание производить. А то — посылай конвой в острог да веди каждого через весь город. Народ, пока их ведут, сбегается, суматоха возникает — никакие строгости не помогают. Тут и записку легко передать, и словом перемолвиться. А так — все шито и крыто, и даже поздно вечером, попив чаек с учителем Петрищей да усладившись приятной беседой, можно подследственных навестить. Шибко приохотился Страхов к поздним таким навещаниям, и скоро весь город про них узнал, потому как вопли дичайшие раздаваться стали в ночной тиши. Обмирали евреи в домах своих, прислушиваясь к тем воплям. Кто посмелее, тихонечко к казематам подбирался, чтоб распознать, кого это из узников на сей раз удостоил посещением следователь. Крепко, видать, работал он маленьким своим кулачком.
Далеко за полночь возвращался к себе Страхов, раздевался до пояса, долго плескался у рукомойника, остужая разгоряченную голову и грудь, с наслаждением растирал тщедушное тело свое мохнатым полотенцем, услужливо подносимым человеком его Степаном, и как подкошенный валился в постель.
Только вот сон вещий чуть не каждую ночь снова и снова снится Страхову.
…Государь высокий, стройный, в блистательном мундире, среди сверкающего огнями, зеркалами, хрусталем зала стоит; мимо пары проносятся в лихой мазурке; веселье, смех, эполеты, бриллианты, веера, обнаженные девичьи плечи, и среди этого великолепия — старуха костлявая в грязных лохмотьях к государю подбирается, прямо в сердце его удар свой нацеливает, и никто не видит этого, один Страхов видит, да он словно приклеен к полу, и рот его словно зашит — ни шагу ступить, ни крикнуть, и только вкрадчивый голос Петрищи шепчет ему в самое ухо: «Ежели погибнет Россия, то не иначе, как через евреев».
Просыпается в поту Страхов, и все на том же роковом месте, где старуха ножом в сердце священное государево целит; да как вдруг однажды рассердится на себя. Что за напасть, в самом деле! Пусть уж зарежет скорее костлявая ведьма священную особу, но муки же эти невозможно же каждую ночь терпеть.
«Будь что будет, а сон до конца досмотрю и от наваждения избавлюсь!» — сказал себе Страхов, решительно на другой бок повернулся, укутался с головой в одеяло да зажмурил глаза.
И заснул. И стал сон досматривать.
…Старуха нож к самому сердцу государеву приставила… «Ну, давай!» — торопит ее мысленно Страхов, боясь, что опять проснется и не досмотрит сна. «Жми, старуха, на нож свой, кончай скорей дело!»
Ждет Страхов: вот рухнет государь на пол всей священной тяжестью своей… Только — что это? Стоит себе, как стоял государь… А старуха к Страхову повернулась, зверскими глазищами на него глядит и длинным сухим пальцем ему грозит. Обомлел Страхов, чувствует, волосы его прилизанные на голове поднялись и шевелятся. Ясно ему, что греховные его мысли старуха знает и не миновать ему теперь погибели. Вот оно какое, жид о-масонское коварство! Это они нарочно сон ему такой подсунули, чтоб крамольные — противу особы государевой — мысли внушить. Сейчас старуха государя зарежет, а на него, как на сообщника, покажет и тем от велижских извергов удар отведет, потому как один только Страхов может в злодействе их уличить.
И ведь как точно рассчитали удар коварные иудо-масоны! И государя, и Страхова — одним разом…
Пока размышлял так Страхов и оплакивал уже участь свою, широченный рот старухин до самых ушей раздвинулся; нос крючковатый еще сильнее загнулся и острым концом своим в рот въехал; а глаза-то, глаза огромные, злые, студенистые, заискрились бесовским весельем.
Старуха Страхову подмигнула и давай хохотать, аж пританцовывает от хохота. Попался, мол, голубчик! Да пальцем длинным, сухим, негнущимся у головы своей вертит.
Рехнулся, мол, ты, братец, не иначе — рехнулся! А нож от сердца государева все не отымает, стерва, даже движения делает, будто хочет на него нажать и государя погубить. Приналяжет на нож старуха — душа Страхова в пятки упрыгает. А она пуще прежнего хохотать и пальцем сухим у виска, чуть выше бородавки темно-вишневой вертеть: «Дурак, мол, ты, дурак! Мне твоего государя священного и даром убивать не надобно!» Чуть начнет приходить в себя Страхов, а она опять будто на нож нажимает, пока не сообразил Страхов, что дразнит его коварная жидовка.
А как сообразил, она хохотать перестала, от сердца государева нож отвела, вниз опустила, да вдруг как полоснет серебряным черенком по священным панталонам государевым, как схватит свободной рукой священный уд детородный государев, да махом одним его и оттяпала… Повернула опять к Страхову зверскую свою рожу, язык длиннющий ниже колен выпустила и, размахивая над головой священным удом государевым, бежать припустилась.
В этот самый миг Страхов дар речи обрел и закричал:
— Лови ее! Лови! — а ноги все еще приклеены, сам сдвинуться не может.
Тут суета поднялась, вопли, все кинулись старуху ловить, один только Страхов стоит приклеенный, и каждый, кто мимо пробегает, толкает его рукою или плечом. Все гуще толпа становится, и все сильнее толкают Страхова, и от толчков этих он отбиться не может, и первое, что видит в предрассветной мгле: лицо человека своего Степана, который за плечи его трясет и озабоченно приговаривает:
— Ваше благородие! Ваше благородие!
— Ты что это! — рявкает на него Страхов, садясь в постели.
— Дюже кричать изволили, ваше благородие, — отвечает виновато Степан. — Вот я и осмелился, ваше благородие…
— Ладно, ступай…
С тяжелой головой поднялся Страхов и ходил потом сам не свой, даже допросы вовсе в тот день отменил.
Вот и толкуй, что сей сон значит!.. И главное, никому не расскажешь, потому как, с одной стороны, срамота, с другой же, — масонская крамола…
Оно, конечно, такого закона нет, чтобы за сны на ноготок класть, с другой же стороны, ежели всякому такие сны станут сниться…
Вечером, как обычно, учитель Петрища пожаловал с книгой своей, только вполуха слушал его Страхов. Видит Петрища — опять сам не свой следователь. Решил развеселить его забавнейшей из сказок своих про жида вороватого. Огладил белой, почти девичьей рукой бороду и начал, как всегда, издалека.
— Ицка, жид вороватый, домой воротился, а сам до смерти перепуган встречей с гайдамаком бородатым. Жена Хайка накормила его локшанами, лапшердаками, напекла ему куглей, и, наконец, все улеглись на пуховиках и под пуховиками же, на глиняном
полу, в грязной, тесной, чесноком напитанной комнате. У Ицки сердце все еще стучит вслух. Он заснул, и видится ему страшный бородатый гайдамак с ножом в руках.
При словах этих Страхов почему-то вздрогнул, что не ускользнуло от наблюдательных глаз Петрищи.
— Ицка закричал во всю жидовскую глотку, — продолжал Петрища, — и схватил жену за горло; она, обороняясь, ухватила его за бороду.
— Хайка, меня держат и собираются резать, — закричал Ицка, жид вороватый, — это, верно, гайдамак!
— Ицка, меня держут и режут, — отвечала она, — это гайдамак.
— Что же мне делать? — спросил он.
— Соберись с силами, — отвечала Хайка, — поднатужься, возьми гайдамака за ноги и выкинь его из окна.
Ицка вскочил впотьмах, ухватил жену свою Хайку за ноги и махнул ее за окно…
Петрища сделал паузу, прихлебнул чаек, ожидая обычной реакции Страхова, но тот лишь едва улыбнулся.
— Жид вороватый поспешно опустил оконце и припер его шестком, чтобы гайдамак не влез снова, а сам забился под перины, — продолжал повествовать учитель. — Хайка на улице кое-как встала, подперлась руками и подняла такой жалобный и тоскливый вой: «Ой, вей мир! Ой, вей мир!», — что весь кагал жидовский сбежался с каганцами, с сальными огарками в руках. Все обступили заливающуюся в три ручья Хайку и спрашивали друг у друга, покачивая головами и потряхивая пейсами: «Вус ис дус? Вус ис дус? — Что это? Что такое?» Хайка рассказала, захлебываясь, что гайдамак бородатый, дай ему Бог, чтоб на том свете ему тяжко икнулось, чтоб весь век ему цибули не бачить, чтоб он свиным ухом подавился, выкинул ее из собственной хаты и принялся резать мужа.
Потолковавши всем кагалом, жидки положили: поймать гайдамака бородатого непременно, а как, несмотря на стук их у дверей, испуганный Ицка не отзывался, то они присудили: самому бойкому жидку Гершке завзятому лезть в окно, и обещали все последовать за ним дружным оплотом.
Петрища огладил нежной белой рукой бороду, но Страхов опять не проронил ни слова, и учитель поспешил продолжить:
— Ицка решился отстаивать донельзя добро свое. Полагая, что гайдамак бородатый лезет снова к нему в гости, он стал у окна, распустил десяток костлявых пальцев своих и ожидал врага в этом отчаянном положении.
Петрища опять было замолк, ожидая реакции, но рассеянно блуждал где-то взгляд следователя.
— Лишь только Гершка завзятый головою своею полез в оконце, — видя, что его почти не слушают, Петрища повысил голос, — как Ицка вцепился ногтями в длинные кудри его и начал с отчаянной силой стучать и возить бедного Гершку рылом по оконничной доске, да со страху так одурел, что не слышал жалостного крика и визга бедного Гершки, и продолжал толочь его морду до тех пор, пока весь кагал жидовский, вся их дружина не вытащила бедного Гершку за ноги из оконницы, вырвав силою его из рук кровожадного гайдамака. А Ицка, жид вороватый, в неукротимой мести своей до того распетушился и расходился, что выскочил, заревев не своим голосом, в погоню за людоедом. Увидев за собой впотьмах полунагого человека с дубинкой, жидки кинулись все сломя голову прямо к раввину Аврааму на двор. Здесь ворота были заперты, да подворотня не вставлена; все жидки, ринувшись ниц, проползли под воротами и бесчувственного Гершку почти протащили. Но тут разъяренный Ицка настиг его, сильной мышцей загнул его ноги от земли кверху, к воротам, а как Гершку волокли брюхом кверху, то Ицка рукочинством своим перегнул Гершкины ноги вопреки природному устройству коленного сустава, из-за чего Гершка завзятый стал ходить как леший, сгибая колени в обратную сторону, и потому он на всю жизнь свою получил прозвище «Разбитый на задние ноги».
Петрища даже руками показал, как были вывернуты колени у Гершки, но и это, по-видимому, не заняло Страхова.
— Господин следователь! — решительно прервал себя Петрища. — Что-нибудь нехорошее у вас случилось? Опять что ли жиды запираются?
— Причем тут это! — махнул рукой следователь.
— А что тогда?
— Да так, — неопределенно ответил Страхов.
— Сон?! — в упор спросил Петрища.
— С-о-н, — растерянно ответил Страхов, очередной раз потрясенный проницательностью своего друга.
И неожиданно для самого себя горячим шепотом стал выкладывать подробности.
— Только пусть это промежду нас останется, господин учитель, а то дойдет до ненужных ушей, — и Страхов настороженно огляделся по сторонам, словно удостоверяясь, что никого третьего в комнате нет.
Учитель понимающе опустил веки и задумался глубоко, даже лоб его гладкий наморщился от напряжения мысли.
— Говорите, уд детородный государев жидовка ножом отчекрыжила? — деловито переспросил наконец Петрища. — А может, так только показалось вам? Может, она только кожицу на конце срезала?
— Ну, а если бы кожицу? — опять оглядевшись, спросил Страхов.
— Тогда истолковать ваш сон нетрудно было бы.
— Как же это? — заинтересовался Страхов.
— А так! — Петрища многозначительно огладил бороду. — Не простым каким-нибудь способом погубят евреи Россию, а особо коварным, через то, чтобы русскую власть объевреить!..
Страхов даже чаем поперхнулся от неожиданности такого простого истолкования. Не в то горло чай пошел. Зашелся кашлем Страхов, щеки его пунцовыми сделались, и даже носик курносый заметно порозовел от натуги. Долго не мог отдышаться Страхов, а отдышавшись, вздохнул с величайшим сожалением.
— Нет, — говорит, — я хорошо видел. Весь уд под самую мошонку ведьма жидовская оттяпала, да потом еще, удом тем размахивая, убежала…
Глава 15
Гуляет по Велижу сапожник Азадкевич, радостный огонь в желтых глазах полыхает, злобные гнусавые речи из уст его извергаются.
Гуляет по Велижу учитель Петрища, гладко, неторопко, вкрадчиво говорит, из книжки своей читает и евреям как бы даже сочувствует.
Гуляет по Велижу Марья Терентьева, регулярно к священнику Тарашкевичу посылаемая.
Но — не сознаются никак арестованные евреи!
Уж Марья Терентьева про еврейского лекаря Орлика Деница вспомнила и про жену его Фрадку: это она переодела Марью в еврейское платье и привела в синагогу. Там видела Марья тех же евреев, что солдатского сына убивали, и начевку с кровью его видела. Сливала Марья по приказу Орлика Деница отстоявшуюся воду из той начевки, и кровь размешивала и разбалтывала, и вылила ее в поданный старухой Миркой бочонок, и мочил Орлик в остатках крови два белых холста, и разрезал Орлик тот холст на куски, и раздал Орлик всем по такому куску, и бочонок с кровью Марья отнесла в угловой каменный дом под зеленой крышей да в особую комнату поставила.
Вот какие важные подробности вспомнила Марья Терентьева после священнических увещеваний!
— Ась? — спросила Авдотья Максимова, когда Страхов ей показание Марьино прочитал, да тот же час все то же самое вспомнила.
А еще припомнила Авдотья, что хозяйка ее Ханна Цетлин много раз просила никому не рассказывать про солдатского сына, и хотя Авдотья обещала ей то, Ханна все сомневалась и, дабы совершенно уверенной быть, уговорила Авдотью принять еврейскую веру.
— Что! — подпрыгнул в кресле своем следователь, радуясь неожиданному повороту сюжета. Обратили вас в еврейскую веру?!
— Обратили, батюшка! Вот крест святой, обратили! — повторила Авдотья.
Ну, после такого признания да очередного священнического увещевания Марья Терентьева тоже припомнила, да с подробностями великими, как и ее в еврейскую веру обращали да Хаима Хрипуна в мужья определили — читателю про то уже ведомо.
Писарь кончик языка прикусил, потеет от усердия, перо скрипит, дело бумагами полнится, от важности раздувается.
Только никак не сознаются жестоковыйные евреи. Бледнеть-то бледнеют на очных ставках. И за головы хватаются. И в конвульсиях бьются. А сознаться в преступлениях никак не желают!
Но не таков следователь Страхов, чтобы пред еврейскими предприимчивостями пасовать. Когда кулачок свой он окончательно отбил, за плеть принялся. А так как ночные посещения арестантов вызывали лишь чрезвычайные вопли и ужасные стоны, но не приводили к признанию, то он прямо днем при официальных допросах стал собирать всех подследственных, выстраивал их кругом, а одному приказывал на лавку лечь, да по заднему месту, по оголенной спине велел плетью стегать, да чтоб со свистом плеть шла, и чтоб каждый удар кровавый рубец оставлял на жидовской шкуре… Не шутки же шутить послал его в Велиж благодетель князь Хованский.
Оно не положено по закону — чинить допросы с пристрастием. Дак по одному лишь закону многого ли добьешься?
Но евреи — они всюду пролезут, всюду нужных людей найдут да всякими предприимчивостями золотишко свое всучат. Вот уж и до высочайших государевых ушей вопль тот из велижского застенка докатился.
Нахмуриться изволил император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая:
— Разве то дело еще не кончено? Уж полгода прошло, как князь Хованский в докладе всеподданнейшем сообщал, что евреи изобличены в злодействе. А их, выходит, недозволенными способами изобличают! Уведомьте-ка князя Хованского о высочайшем моем повелении без малейшего отлагательства дать делу законный ход и евреям дозволить, ежели имеют ясные надлежащие доказательства о пристрастии при следствии, представить оные для рассмотрения правительствующему Сенату.
Глава 16
Государь! Милостивец ты наш ненаглядный! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая! Ить ты любого, государь, можешь на ноготочек положить да кишочки и выпустить.
Только ведь до Бога высоко, а до тебя далеко, государь. До князя Хованского-то поближе, государь, а ведь он, князь, от тебя поставлен!
Вот и орудует в трех губерниях твоим именем.
Есть, к примеру, грамота, от предков твоих, государь, дарованная дворянству. Никто не смеет, в той грамоте означено, дворянина арестовать иначе как по уголовному преступлению. А вот генерал-губернатор князь Хованский про грамоту ту знать не желает. Сколько дворян Витебских, Могилевских да Смоленских на гауптвахте пересидело за то только, что, встречая генерал-губернатора, шапку нерасторопно спешили сымать, — этого не сосчитает никто. Это он, генерал-губернатор, от доброты на губу их сажает.
— Я ж могу, — говорит, — судебное дело супротив каждого организовать да в Сибирь упечь. А я только по пятнадцати суточек определяю.
Адъютант князя возвращался из дальней поездки, да требуя, как всякий русский, от ямщика быстрой езды, на камень наскочил и вывалился из коляски. Ну, пустяки, двумя синяками отделался. Да как увидал те синяки генерал-губернатор, так и решил отеческую заботу об адъютанте проявить.
— Где, — спрашивает, — ты выпал и где лошадей перед тем менял?
И тут же распоряжение сделал: послать на почтовую станцию нарочного, смотрителя арестовать и в Витебск на гауптвахту доставить!
Добро бы жидом каким завалящим оказался тот станционный смотритель, тогда бы понятно было. Ан, нет! Смотритель дворянином оказался, отставным майором, за службу военную государеву многие отличия имел!
Вот тут и раскидывай умишком — как быть с государевым недовольством на счет пристрастия… Государь далеко, а князь Хованский-то туточки. Ить он, князь, благодетель истинный есть! И ордена обещал, и карьеру в самом Петербурге, и дочь свою обещал единственную. И такого благодетеля не ублажить! Такого благодетеля не уважить! Нет, не таков следователь Страхов, чтобы неблагодарной свиньею быть…
Не сознаются арестованные евреи, так мы других еще заарестуем — может, те сознаются.
Гиршу Берлина — арестовать!
Его жену Шифру Берлин — арестовать!
Зятя их Янкеля Гиршу Аронсона — арестовать! Нет нужды, что он безбород еще, что в год несчастного того происшествия ему лет 13, от силы 14 было. Его-то и надо построже держать: а ну, как всю правду докажет!
И за шляхетку Козловскую Прасковью пора сызнова приниматься, да со всей строгостью.
Ага! Вот уж она признается, что подавала воду для обмывания мальчика… И в другом помогала. А вот и новость великая: мальчик-то не в доме Берлиных и не в доме Цетлиных был умерщвлен, а в синагоге, в самом доме Божием иудейском! Вот они какие мучители! Терентьева и Максимова иначе показывали, ну ничего. Они не так упрямы, как шляхетка Прасковья. Их к священнику послать, и они все по слову Прасковьи припомнят…
Нет, не зря бьется Страхов уж больше полутора лет! Вот, наконец, картина жестокого преступления, по показаниям трех христианских доказчиц стараниями следователя восстановленная. Волосы дыбом подымаются да на голове шевелятся.
За неделю до пасхи еврейской Ханна Цетлин просила Терентьеву Марью, за вознаграждение знатное, привести к ней христианского мальчика. Встретив на улице солдатского сына, Maрья ту просьбу исполнила. Ханна, в присутствии мужа своего Евзика, дочери Итки, няни-еврейки Риси, посадила мальчика на стол, а Терентьеву и Максимову наградила примерно и напоила вином. Пока бабы пили, Ханна уговаривала их никому не рассказывать про солдатского сына, но Марья отвечала ей, что хоть и взяла деньги, а если узнает, чей мальчик, то непременно расскажет. Потом бабы заснули.
Проснувшись, Авдотья Максимова не нашла в доме ни Ханны, ни ребеночка. Куда они ходили, ей не ведомо. Сама же Авдотья пошла к реке, а когда воротилась, то застала их дома.
Выпив опять вина, Терентьева и Максимова отнесли мальчика к Славке Берлин.
Всю святую неделю евреи Терентьеву вином потчевали да ласкали, потом в иудейскую веру обратили, нарекли Саррою и дали в жены Хаиму Хрипуну.
Максимову тоже обратили, и похожим же образом, только в жены никому не дали, а вместо того приступили к мучительству солдатского сына.
Еврей Поселенный срезал кожицу на кончике уда.
Еврейка Шифра Берлин срезала ногти на руках и ногах.
Приказчик Берлиных Иосель Мирлас, вынув днище привешенной к потолку бочки, велел положить туда ребеночка, после чего он и Терентьева, став по сторонам, ту бочку качали. Потом христианок (бывших) напоили водкой, и все дружно отправились в синагогу. Здесь мальчика голого положили в начевку и, в виде поругания, били его легко по щекам, а потом, под руководством лекаря Орлика, стали колоть его чем-то светлым, похожим на гвоздь. Приказчик Иосель Мирлас подвел Козловскую к шкапику, обратил ее тоже в еврейскую веру, научил еврейским молитвам и назвал Лыей.
Ребенка кололи, пока он не умер. Затем его обмыли, так что на тельце остались видны только маленькие, круглые, величиною с горох, раночки, в коих кровь остановилась.
Иосель Мирлас подвел бывших христианок к кивоту и велел им присягнуть, что никогда не расскажут о происшедшем, а также приказал впредь молиться только по-еврейски, потому что еврейская вера «крепче христианской».
Максимова и Терентьева унесли ребеночка в лес, а на возвратном пути встретили Мирласа и Хаима Хрипуна, скакавших на бричке, запряженной парой лошадей, к месту, где был положен ребенок. Там они остановились, подошли к трупу и тотчас уехали обратно. Когда Марья с Авдотьей вернулись в синагогу, оба были уже в ней. Тогда же Славка Берлин предупредила бывших христианок, что если они донесут, то им все равно не поверят, так как евреи от всего отопрутся.
Вечером Терентьева и Максимова перелили кровь из начевки в бочонок, а часть разлили по бутылкам, в остатке же Орлик вымочил холст, разрезал его на куски и раздал всем присутствующим.
На другой год осенью евреи собрались у Орлика и просили Терентьеву отвезти вместе с другими евреями бочонок с кровью в Витебск. В дороге поили ее водкой, вечером остановились в Витебске в еврейском каменном доме, и хозяйки — одна старая, другая молодая — пригласили Терентьеву к себе. Старуха разбавила кровь водой и в ней мочила холст, который раздавала собравшимся евреям, а остаток крови разлила по бутылкам, и две из них Терентьева отвезла в местечко Лезну, и там было проделано то же самое.
Максимова с евреем Белецким также отвозила кровь в Витебск…
Вот какую картину сумел восстановить следователь!
Упружистым шагом ходит он по кабинету, руки довольно потирает… Нет, не выскользнут эти скользкие евреи. Не таков следователь Страхов!
Иоселя Мирласа, приказчика Шмерки Берлина — арестовать!
Носона Берлина, брата Шмерки — арестовать!
Шмерку Гиршова Аронсона, брата Славки Берлин — арестовать!
Жену его Васю — арестовать!
Рувима Нахимовского, горбатого сторожа синагоги, дядю содержащегося под стражей Ицки Нахимовского — арестовать!
Орлика Деница, лекаря — арестовать!
Его жену Фрадку — арестовать!
Рохлю Янкелевну Фейгельсон — арестовать!
Рохлю Фофановну Ливинсон — арестовать!
Янкеля Черномордика по прозванию Петушок — арестовать!
Его жену Эстер — арестовать! Абрама Киссина — арестовать!
Рисю Мельникову, няню Итки Цетлин — арестовать!
Хаима Гиршева Хрипуна, мужа Марьи Терентьевой — арестовать.
Хасю Ицковну Шубинскую — арестовать!
Зусю Руднякова — арестовать!
Его жену Лию Мееровну — арестовать! Не с кем оставить грудного ребенка?.. Может взять его с собой в острог.
Ицку Фульерсона — арестовать!
Его жену Фейгу — арестовать!
Полоцкого мещанина Иоселя Гликмана, который на бричке приезжал — арестовать!
Генемелиху Янкелевну, замужнюю дочь Черномордика-арестовать!
Блюма Нафанова — арестовать!
Хайку Черномордик — арестовать!
Малку Бородулину — арестовать!
Лейзера Зарецкого — арестовать!
Ицку Беляева — арестовать!
Двух домов давно уже не хватает следователю, так он еще восемь арендовал да под тюрьму оборудовал. В деньгах на то Страхов не знает нужды: только и делов — благодетелю князю Хованскому отписать, и вот они, денежки, хоть весь Велижград в тюрьму обрати!
Весь, не весь, а улица целая уже занята казематами. Ее и перекрестили в городе: вместо Ильинской (к Ильину храму ведет) Тюремной теперь называют.
Только — не сознаются евреи!
Твердят одно: если бы и замыслили какое-нибудь злодеяние, пропойных баб в компанию бы не брали.
А Хаим Хрипун, этот хитрый предусмотрительный Хаим, даже насмешничает над следователем! Под плетью только зубами скрежещет, а как поднимется, гремя цепями, с вымазанной кровью скамьи, так ухмыльнется белыми губами.
— Всю, — говорит, — Талмуд-Тору я превзошел, а никогда не встречал указаний, чтобы из человеческой крови можно было делать какое-нибудь употребление.
Слишком хитер ты, Хаим, со своей Талмуд-Торой! Только следователь Страхов хитрее. Строг следователь, но справедлив, жидовские козни за версту чует. Ну-ка, как заговорите вы, когда вас лицом к лицу с доказчицами поставят?
— Итак, Терентьева Марья! Вы утверждаете, что евреи обратили вас в свою веру.
— А как же батюшка! У меня ноги все еще болят, как проходила через их жидовский огонь.
— В три года твои обожженные ноги не могли зажить! — кривится в усмешке уличаемый Янкель Черномордик по прозвищу Петушок.
«Ага! — записывает в протокол следователь. — Можно не сомневаться в его соучастии в преступлении».
— Итак, Авдотья Максимова! Вы утверждаете, что лекарь Дениц Орлик колол младенца светлым металлическим предметом.
— Ась? — вскрикивает Авдотья. — Он командовал, а все кололи.
— Ой! — брякает оковами Орлик. — Что такое она говорит! Я могу только кричать «гвалт»! Она завтра скажет, что я еще кого-то загубил!
«Не знает ли Максимова и о других его преступлениях?» — записывает следователь.
— Итак, Евзик Цетлин! Доказчицы смело и подробно показывают против вас.
— Я и сам вижу, что они показывают смело и подробно, — подавленно отвечает Евзик, опустив голову.
«Так и есть! — решает следователь. — Он полностью признался в своем участии».
А это ведь только слова, коими преступники себя выдают!
А что такое слова? Что значат голые слова! Надо же слышать эту гамму интонаций, видеть эти еврейские жесты. А какое богатство мимики в проходящих перед следователем лицах!
Вот Ханна Цетлин. Она как полотно бледнеет при одном виде доказчиц! А как они говорить начинают, так она всем телом дрожит. Один раз без чувств грохнулась. Разве все это не уличает ее сильнее всяких слов!
А Славка Берлин — эта наоборот! С какой злобой, с каким остервенением отвечает на обвинения Максимовой! Одна эта злоба, от которой она вся в лице изменилась, явным образом обнаруживает ее соучастие.
Страхов ей так и сказал:
— Ты в зеркало на себя посмотри, как исказилось твое лицо. Сразу поймешь, что запираться тебе бесполезно: все одно, вина твоя на лице написана.
И подал ей зеркальце. Она посмотрела, так пуще прежнего лицо ее перекосилось. Но — упорная же еврейка!
— Все, — говорит, — показания против меня есть одна неправда!
А Евзик Цетлин, муж Ханны Цетлиной! Как только взглянул на Терентьеву, так сразу встревожился, побледнел весь, словно покойник, и стал лепетать дрожащим голосом, что отроду эту бабу не видел.
А чего, спрашивается, пугаться, ежели не видел?
Марья-то, Марья-то молодец какая! Как начала рыдать и стенать, и в злодействах каяться, и сильными уликами его уличать. А он все отпирается, да в страхе на дверь озирается, точно боится, что кто-то вдруг войдет и окончательно его изобличит.
Тут Марья рыдать перестала, слезы утерла, подошла к нему, да как рванет за бороду:
— И ты правду говоришь?
— Зачем ты бороду дерешь! — кричит в испуге Евзик.
И добавляет к вящему своему уличению:
— Я не говорю, что я правду говорю, я говорю только, что я ничего не знаю…
И вдруг стал что-то несвязное выкрикивать, да так натурально, что следователю показалось, будто он умом тронулся. Дело даже особое пришлось завести: о сумасшествии Евзика Цетлина. Лекаря Левена для освидетельствования пригласили. И — пожалуйста! Признан нормальным!
Нет, с ними строгость, одна только строгость надобна.
Вот Ицка Нахимовский тоже на сумасшедшего стал похож. Два года Страхов в одиночке его продержал, так он от всякой тени шарахается. Ну, сжалился над ним Страхов, на прогулки стал выпускать. Однажды ворота были открыты, надзиратели зазевались, и Ицка этот за ворота прошмыгнул. Никто не заметил того — запросто мог убежать! И что же? Сам вдруг остановился да назад в острог воротился!.. Надо же такую еврейскую предприимчивость предпринять! Скажите после этого, что он не помешанный!.. Ан, лекарь Левен свое дело тоже знает. Обследовал Ицку и признал одно пустое притворство!
А то еще раз чуть не разжалобился Страхов.
Итку Цетлину все три доказчицы дружно уличали. Молоденькая совсем эта Итка, дочь Ханнина, хорошенькая. Слушая уличения, держалась твердо сперва, а потом — как брызнут слезы у нее из глаз и рыдания из груди как прорвутся!.. Упала на колени перед Максимовой да башмаки ей давай целовать.
— Авдотьюшка, — кричит, — миленькая, за что же ты на меня такое наговариваешь, за что молодость мою губишь, грех на душу берешь? Ведь ты же в доме у нас как родная жила, меня с пеленок нянчила, я же на руках твоих выросла. Бога надо помнить, Авдотьюшка! Ты ведь старая уже, помирать скоро, а Бога ты позабыла. До этих двух баб мне дела нет, потому что не знаю я их. Но ты-то как можешь? Если б сама не слыхала от тебя, так никогда бы не поверила. Неужели я только тем и занималась, как ты говоришь!
Замолкла, да так и осталась лежать на полу без чувств. И главное, так натурально — у любого сердце дрогнет. У Максимовой подбородок так и прыгает, да и сам Страхов не знает, куда глаза спрятать, нервно бумаги на столе перекладывает… Отпустить, что ли, еврейку, думает. Мала ведь была еще в тот год, когда солдатского сына убили. Если и видала чего, могла ведь не понимать.
Вечером поделился Страхов мыслью своей с учителем Петрищей. Тот крепко задумался, сидит ссутуленный, бороду нежной рукой не оглаживает, а теребит. Потом говорит вкрадчивым своим голосом.
— Правы вы, господин Страхов, тысячу раз правы в желании вашем христианское милосердие проявить, и я, как христианин, всячески доброту вашу одобряю и пуще прежнего вас за оную уважаю. Так бы и следовало вам поступить, кабы не еврейское было дело. С этими же нужен принси́п! Великую непоправимую ошибку сделаете, если отступите от принси́па. Сами видите, как упорно они отрицаются. Вы девицу по милости своей освободите, а они христианское милосердие ваше по-своему истолкуют и только сильнее духом своим жидовским воспрянут. Да и что может девица сия представить в свое оправдание, ежели по совести рассудить? Ничего, кроме собственных уверений.
Нелегко Страхову с Максимовой. Вообще-то она смела, но как с кем из Цетлиных сводишь ее, так сразу робеет Авдотья, все на следователя оглядывается. Уж он ее так настращает перед очной ставкой, что будь она каменной — и то все, что требуется, показала б. Ан, неспокойно Страхову! Все-то она «Ась?» выкрикивает, да на лавке ерзает, да на следователя озирается!
Правда, Евзика Цетлина она здорово уличила! Он, как и дочь его Итка, ушам своим долго не верил, что Авдотья, служанка его, может против него говорить. А как поверил, так завопил благим матом.
— Я не в силах удержаться от злобы, — кричит, — потому что если ты у меня в доме жила, и можешь так драть мне глаза, то всякому другому ты их совсем выдерешь.
А Янкель Черномордик по прозвищу Петушок от сильных улик Авдотьи Максимовой, противу него доказанных, в такое глубокое отчаяние пришел, что только бледнел и краснел и бормотал:
— Это беда — это напасть — Бог знает, что она говорит… А под конец упал на колени и повторял:
— Помилуйте, помилуйте…
Молодец, Авдотья Максимова! Одно слово: молодец! Хоть и на ухо туга, и глупа, и вечно свое «Ась?» не к месту вставляет, а Страхов ею доволен. Хотя и не так, как Марьей Терентьевой. Но Марья — это Марья. Такую доказчицу поискать!
Бывает, соберет следователь в кабинете своем за раз десять-пятнадцать обвиняемых (всех теперь не соберешь, всех слишком много), подержит часок без всяких объяснений… Они оковами позвякивают, опасливо перешептываются: чья, мол, очередь сегодня на скамью ложиться… И тут Страхов Марью на них и напустит.
Она войдет, медленно так обернется, всех евреев по очереди пламенным взором ожгет, да как закричит, как забьется вся.
— Я-а-а… я-а-а… Марья Терентьева… этими вот руками… колола и резала мальчика!.. Вместе с тобой, Ханка! И вместе с тобой, Евзик! И с тобой, Рувим! И с тобой! И с тобой!..
Слезы ужаса и раскаяния душат Марью, стесняют дыхание, грудь ее сотрясается от рыданий, но она превозмогает себя, подбегает к сбившимся в кучу евреям.
— Ты, Славка, подостлала под ним белую скатерть! Ты, Шифра, маленьким ножичком обрезала ему ногти на руках и ногах плотно к телу! Ты, Орлик, подал мне светлое, похожее на иглу со шляпкой железо, и я первая кольнула мальчика в левый бок! Ты, Поселенный, бритвой или похожим на бритву ножом отрезал у него кончик кожицы с уда! Ты, Иосель, подвел меня к шкапику, перед которым вы молитесь Богу! Ты, Рувим, заставил меня перейти через жидовский огонь! Ты, Янкель, положил передо мной тетрадку с ликами святых и приказал плюнуть в них девять раз! А ты, ты, Хаим, ласкал меня, как ласкают жену!
Марья падает замертво посреди кабинета, евреи затравленно молчат, ясно обнаруживая тем злостную жидовскую стачку; а в протоколе новые записи появляются про то, как кто-то из них «побледнел зверским образом», другой возражал на улики с «остервенением и злобой», третий, «схватившись за живот, пришел в совершеннейшее изнеможение», четвертый «смотрел на присутствующих блуждающими глазами и, наконец, упавши вниз лицом, стал повторять: „Ратуйте! Ратуйте!“».
Славка Берлин — вот главная злодейка: это давно уже ясно следователю. На допросах злится, от всего отпирается, на доказчиц и даже на самого Страхова нападает. Но Марья не робеет, Maрья ей свою правду режет:
— Как ты Бога не боишься, Славка, запираешься, что колола мальчика. Ты как тогда говорила, что от всего отопрешься, так и делаешь.
А Меира Берлина как уличила доказчица! Когда поставил их лицом к лицу следователь, он говорит ей:
— Ты меня никогда не знала, и я тебя не знал. Марья ресницами лишь мотнула:
— Ты меня знал, когда я была Саррою!
Тут он пошатнулся да спиной к стенке прислонился; стоит онемевший, руки себе ломает, да слезы у него на глазах.
— Как ты можешь это говорить?.. — выдавливает, наконец, из себя. — Этого никогда не было. Ты сама ничего не знаешь, ты научена.
А горбатый Рувим Нахимовский уже к смерти готовится — вот как Марья его уличила!
— Ты врешь, — говорит он ей, — ты показывать сие научена. Кровь евреям не нужна.
Но сколько робости, сколько неуверенности в голосе, сколько обреченности в маленькой жалкой фигурке!..
— Я знаю, — говорит, — что надобно умереть, — и смотрит вниз, и голос его рыдания перехватывают.
Потом с решимостью поднимает влажные глаза на следователя — аж привстал под тем взглядом употевший от напряжения Страхов… Вот он, миг торжества! Сейчас сознается уродливый горбун…
Но опять опускает голову Рувим:
— Нет! Я не могу этого сказать. Я не могу этого говорить… Надобно умереть…
Вот упрямство еврейское! Ведь сколько раз объяснял ему следователь: стоит только сознаться, и помилует государь! Нет, он готов смерть принять, но только жидовские злодейства не выдать.
Глава 17
Ну, а как Хаим Хрипун? Хаим-то — как, Талмуд-Тору всю превзошедший?
Представьте себе: с гордо поднятой головой перед следователем стоит!
Черная борода серебряными нитями прошита. Лицо пышет гневом. А глаза большие выпуклые еврейские, так и сверкают на следователя. Со стороны поглядеть так и не преступник он вовсе, а сама попранная невинность… Ох и хитер! Прямо как змей-искуситель хитер этот предусмотрительный Хаим!
— Не спал, — говорит, — я с Марьей Терентьевой' Не было, — говорит, — этого и быть не могло потому что противно сие еврейскому закону и ни один еврей не может быть на одной кровати с другой женщиной кроме своей жены.
— Так Марья и есть твоя жена! — парирует следователь. — Ее же в еврейскую веру обратили и тебя на ней обженили!
— Не было этого! — кричит Хаим Хрипун. — Не было и быть не могло, потому как есть у меня жена Рива, и что бы там писарь в бумагах ваших со слов этой Марьи ни писал, а я, Хаим Хрипун, ничего подобного не знаю. Здоровье мое — говорит этот предусмотрительный Хаим, — сильно пошатнулось в тюрьме, но три вещи остались в полном здравии: память язык и душа. Память моя будет помнить, язык будет говорить, душа сказывать правду про обиду свою, про мучения свои и про все дело. Я буду ратовать не за себя одного, но за людей. Если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я? Если не теперь, то когда? Человек дорог Богу, как и государю, потому долг мой говорить об этом. Бог не зря меня мучит. Бог знает правду и для того меня мучит, чтобы и государь правду узнал!
Вот как говорит Хаим Хрипун, пыша гневом, размахивая длинными ручищами и гремя оковами своими.
Тихо Хаим Хрипун! Ша. Успокойся. Запахни рубаху твою на волосатой, неумолимо седеющей груди твоей.
Помни, Хаим: следователь Страхов тоже знает свои долг и исполнит его до конца. Ты не смотри, Хаим, на милый курносенький носик следователя, махонькими веснушками, словно хлебными крошками, присыпанный. Ты не смотри, Хаим, на пухлые, почти детские губы следователя да на прилизанные один к одному волосики. Ты в глаза следователю загляни — в маленькие, глубоко сидящие зеленые глазки его, и тогда поймешь ты, Хаим, что не тебе, с Талмуд-Торой твоей, приручить этого волчонка. За благодетелем своим следователь Страхов виляя хвостом побежит, тебе же, лживый и вероломный еврей, готовый все переврать и от всего отступиться, потому как по вере своей бесовской ты в мыслях своих от любой данной присяги можешь отрицаться, следователь никогда не поддастся!
Следователь Страхов маленькими зелеными глазками евреев насквозь видит. А как сердечные дела свои устраивает — любо-дорого посмотреть! Не то, что ты, Хаим, учинивший целый тарарам с жидовским огнем для того только, чтобы полежать с Марьей Терентьевой. Невеста Страхова в Витебске его дожидается, так что ж ему в Велиже — аскетом прикажешь жить, плоть свою молодую укрощать? Дураков в ином месте поищи, Хаим!
Приглянулась Страхову евреечка молодая, из числа арестантов, Шифра Берлин, невестка Славки и Шмерки Берлиных. Так следователь ее от прочих арестантов отделил и в своем доме запер. Муж ее Гирша в остроге, а она — в доме следователя. Муж волосы на себе рвет, а следователь забавляется. Ни одна женщина к Шифре не допускается и ни один мужчина, конечно. И что там делает Страхов с Шифрой в доме своем — про то никто не ведает на всем белом свете.
Вот как умеет устраивать Страхов дела! И невеста ждет его не дождется; и будущий тесть о наградах хлопочет; и еврейка пригожая в обширном доме следователя, на казенные деньги нанятом, в полной власти его содержится; и никакого тебе страха Господня…
Позднее-то выяснится, что не шибко угодить старалась Шифра следователю. Никак не хотела отступать от закона еврейского, что запрещает лежать на одной кровати с мужчиной, кроме собственного мужа. Ну, и повозиться пришлось с нею следователю. Оно ведь и утехи больше, коли баба сопротивляется. А коли не сопротивляется — так разве ж то удовольствие!
Понатешился Страхов, да и выпроводил Шифру в такой же, как у других, каземат. Она уж еле на ногах к тому времени держалась. А на допросах, на очных ставках с доказчицами, при предъявлении «вещественного доказательства», то есть куска красной материи, якобы кровью пропитанного, она только будет рыдать, да стенать, да в истерике биться. А когда уж не в силах будет вовсе с койки тюремной подняться, следователь, из великого усердия своего, прямо в ее темницу дознание переместит: сам пожалует, да с писарем, да с доказчицами.
При виде их грудь Шифрина забьется, затрепещет, да рука вперед выставится, точно отстранить от себя захочет страшное что-то. И ужасом смертным засверкают на Марью Терентьеву расширенные, почти вылезшие из орбит глаза.
— Боже мой! — вскрикнет Шифра. — Того, что она показывает, и на свете никогда не было!
И сильно задергается ее столь пригожее еще недавно следователю Страхову, а теперь осунувшееся, обескровленное лицо.
Поведет на это плечами Марья Терентьева, следователю опахалами подмигивает и, приблизившись вплотную к койке, скажет спокойно, глядя на Шифру воловьими своими глазами:
— Слушай, Шифра! Меня Бог наказал бы давно, если бы я хоть одно слово напрасно сказала. Я правду одну говорю и на себя, и на евреев и потому крепка и здорова, и так, как ты, Шифра, не мучаюсь.
И выйдет, покачивая бедрами, из Шифриной темницы — аж залюбуется ею Страхов, и мысль у него шевельнется — отработавшую свое Шифру Берлин Марьей Терентьевой заменить — не одному же Хаиму Хрипуну гужеваться…
Впрочем, соблазнительная сия мысль лишь на минутку одну посетила Страхова, да он тотчас шуганул ее к чертовой матери. Что ж он, Страхов, безвольный что ли раб страстей своих, чтобы такую неосторожность совершить? Евреи и без того кричат, что доказчицы им научены, так неужели он даст им повод жалобы слать, будто он их в постели своей научает? Ведь жалобы те прямым ходом князю Хованскому переправлены будут, а он ведь не только благодетель Страхову, но как-никак будущий тесть!
Нет, такой глупости Страхов не сделает. Он евреев насквозь видит, как рентгеном, волчьими глазками их черные души просвечивает. Так что не шебаршись ты, Хаим Хрипун, не мечись по темнице твоей, гремя оковами твоими, не кричи «гвалт» всей силой голоса твоего.
Очень ты хитрый, Хаим! Ты думаешь, по еврейской гордыне твоей, что всех можешь перехитрить. Ты суешь дурковатому надзирателю медные пятаки, и он, озираясь пугливо, приносит тебе мятые клочки бумаги. Ты даешь ему серебряные пятиалтынники, и он, быстро-быстро крестясь, приносит тебе перо и пузырек с чернилами. Ты обещаешь ему золотые рубли, и он, шепча молитвы, прячет записочки твои в шапку, чтобы снести их жене твоей Риве, а она уж передаст их, думаешь ты, нужным людям.
Ох, Хаим, Хаим! Ты Талмуд-Тору всю в голове держишь, и думаешь, что ты всех умнее. Ошибаешься ты, Хаим! Жестоко ошибаешься ты, если думаешь, что всякую христианскую душу можно купить на пятаки да пятиалтынники.
Нет, Хаим. Дать деньги дурковатому надзирателю можно, но купить надзирателя нельзя! Заруби это на еврейском своем носу. Дурковатый надзиратель следователю Страхову преданно служит, потому что следователь запросто может на ноготок свой его положить, да другим ноготочком и раздавить. А он, следователь, не давит. Не давит следователь! Это ведь только с вами, с евреями, он крут. А ты, Хаим, поглубже в душу его загляни, и увидишь тогда, что душа у него мягкая, ласковая, жалостливая. Надзирателю-то он милостиво улыбается, братцем величать изволит.
— Ну, как дела, братец? — спрашивает.
И похлопывает по плечу.
Страхов надзирателю благодетель есть, и ни в жисть надзиратель благодетеля своего не огорчит.
Он хоть и дурковат, а добро помнит и по-христиански отвечает добром на добро. А ты туда же, Хаим, со своими пятиалтынниками. Да надзиратель их в шинке за милую душу просадит, а записочки твои прямехонько следователю принесет.
Ну, а следователь Страхов поглядит на бесовские каракули твои, Хаим, да тотчас, не мешкая, особым курьером, в Витебск, благодетелю своему генерал-губернатору трех губерний князю Хованскому записочку твою отошлет. А генерал-губернатор трех губерний князь Хованский с другим курьером отправит ее в стольный град Санкт-Петербург — начальнику штаба Его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу. А генерал-адъютант барон Дибич переправит записочку в департамент духовных дел и исповеданий. Вот сколько важных чинов носиться будут с твоей записочкой, Хаим!
Зато в департаменте духовных дел и исповеданий попадет она в руки сведущего человека. Он записочку твою, Хаим, с бесовского твоего языка с великим усердием переведет. И отправится записочка в обратный путь. Из департамента духовных дел и исповеданий — к начальнику штаба Его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу. От генерал-адъютанта барона Дибича — к Витебскому и других двух губерний генерал-губернатору князю Хованскому. А от генерал-губернатора князя Хованского — в Велижград, к следователю Страхову.
Ну-ка? О чем это ты кричишь там в своих записочках?
А кричишь ты, Хаим, что с ума ты сойдешь от стыда и срама, если поверит кто-нибудь из собратий твоих, будто спал ты с Марьей Терентьевой. Ай, Хаим! Не пудри мозги! Кому это интересно? Даже Риве твоей это не интересно.
— Чтоб я так жила, — говорит Рива твоя соседкам, — если мне это интересно!
Голова твоя, Хаим, забита одной Талмуд-Торой, и кому о том лучше знать, как не Риве твоей! С Талмуд-Торой всегда ты ложился и с Талмуд-Торой вставал. Сколько раз говорила тебе Рива:
— Хаим! Есть у тебя жена, или Талмуд-Тора тебе жена, что ты с нею ложишься и с нею встаешь?
Кто-кто, а Рива твоя знает, сколько хитростей и предприимчивостей надо употребить, чтобы ты вспомнил, что кроме Талмуд-Торы на свете имеются еще кое-какие удовольствия!
— Чтоб я так жила, — говорит Рива, промокая платком не просыхающие глаза. — К Талмуд-Торе я ревную, но не к подзаборной бляди.
Так что успокойся, Хаим, не устроит тебе сцены твоя Рива. Нет, ты не можешь успокоиться в темнице твоей.
— Караул! — кричишь ты в твоих записочках. — Караул, евреи, гвалт! Беда, — кричишь ты, — стряслась великая. Злые люди, — кричишь ты, — хотят истребить весь народ Израилев. Вставайте, — кричишь ты, — братья Израилевы, сыны Иакововы, милосердные дети милосердных. Пусть не думает кто из вас, братья, что если его самого пока не трогают, так не о чем ему стараться. Наша беда, — кричишь ты, — это и ваша беда. Бегите, — кричишь ты, — по всем местам, где только рассеян народ Израилев, и громко вопите: «Горе, горе народу Израилеву!» Чтобы жертвовали жизнью и старались о нас.
Уймись же ты, наконец, Хаим! Пора уже начать кое-что понимать!
Жаловались и без твоих призывов евреи, до самого государя вопль их дошел. И думаешь, без ответа оставил тот вопль государь император Всероссийский, царь Польский, Великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая? Нет, Хаим, меры приняты, флигель-адъютант государев подполковник Шкурин в Велиж прискакал, чтоб в деле порядок законный навести. Так что и без тебя, Хаим, все нужное делается…
Но не спеши радоваться, Хаим. Ох, не спеши ликовать! Подполковник-то Шкурин неспроста во флигель-адъютанты при новом государе выбиться сумел. Сотоварищи его на виселицу, в каторжную работу, под пули черкесские отправлены, а он — во флигель-адъютанты! К особе царственной приближенным быть удостоен. Тут, Хаим, особый талант надобен: это тебе не над Талмуд-Торой качаться. Тут волю начальства не по словам, а больше по тому, что промеж слов остается, уметь надобно понимать да к исполнению принимать.
Что духу еврейского государь не переносит, про то каждому ведомо. Это врожденное у государя. Тут ни прибавить, ни убавить. Полная несовместимость. А вот поди ж ты, почет евреям решил оказать государь — рекрутскую повинность на них распространить.
Оно ведь на Руси как заведено? Народов всяких под державою царей скопилось видимо-невидимо, но в рекруты берут только русских, христиан, если точнее сказать. Инородцы же повинность сию особой податью отбывают. Они иго российское на себе несут, и оттого в лихую годину всяких измен от них ожидать должно. Потому не изволят государи российские ненадежным сим элементом свое славное войско поганить.
Однако ж с евреями статья особая.
За много лет до того как стал государем, когда еще даже наследником престола не числился, потому как в законных наследниках Александра Павловича состоял цесаревич Константин Павлович, а юный Николай был всего лишь великим князем, изволил он развлечения ради путешествие совершить по матушке-России, да в том путешествии журнал изволил вести и драгоценные свои соображения обо всем виденном в оный журнал заносить. Ну, и с крайним неодобрением изволил об инородцах всяких отзываться — о поляках, конечно, и особливо о евреях… Злокозненный, мол, народец — вечно всякие вредные умыслы противу христиан предпринимает! Одно только озадачивало будущего государя императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая. Наполеона тогда три года всего как прогнали, всюду следы нашествия, и на каждом шагу, к величайшему своему изумлению, видел Николай Павлович яркие доказательства тому, что в самую лихую для России годину, когда полчища французские саранчою на русскую землю надвинулись, презренные из презреннейших инородцев не только не стали служить врагам отечества по примеру тех же поляков, но отменною верностью Российской державе отличались.
Наполеон-то во Франции своей полное равноправие евреям даровал. А русский царь, напротив, их в черном теле держал. Там не живи, здесь не торгуй, двойную подать по сравнению с прочим населением плати, и вообще — знай, жид, свое место и не высовывайся… А еще массовое выселение евреев из деревень затеять изволил государь перед самой войной и единственно из-за войны этой остановил. Тут бы, кажись, и переметнуться евреям на сторону вторгнувшегося супостата! А они всякую помощь русскому войску оказывали, да нередко с опасностью для жизни…
Загадка странного сего поведения осталась неразгаданной для великого князя, однако же, он про все то запомнил и вот, став государем через десяток годов, милостиво приказать изволил рекрутскую повинность на евреев распространить. Чтобы не одними податями, а и кровью своею отечество защищали.
Ох, какой вопль подняли неблагодарные евреи! «Вей мир, вей мир!» — плач на всю вселенную. Депутатов своих в Петербург отрядили, чтоб в ногах у государя и вельмож всяких валялись да напасть от народа своего отвратили.
Куда там! Не только что сам государь говорить с обрезанными не стал, но даже умник англицкий — и тот их просьбам и мольбам не внял.
Уж как они обхаживали умника-то!
— Милостивый государь, — говорят, — Николай Семенович! Вы самый справедливый, — говорят, — на всем белом свете человек есть. Уж мы за вас всем кагалом еврейским будем Бога молить, авось дойдет наш вопль до престола Всевышнего. Где же это видано, чтобы целый народ в черном теле держать, бесчисленные стеснения и ограничения на него накладывать, и в то же самое время заставлять его кровью сынов своих отечество защищать. Мы, — говорят, — рады будем нести тяжкую повинность сию наравне с христианами, но тогда только, когда и в правах нас уравняют. Заступись, — говорят, — отец, потому как ты не раз за справедливые дела заступался и о нас, евреях, тоже не раз хлопотал.
Слушал те речи Мордвинов Николай Семенович, что в молодости в Англии морскому делу обучался и с тех самых пор все на англицкий лад в России-матушке переиначить старался. Сидел в просторном вольтеровском кресле, большой рукой на трость с серебряным набалдашником опирался, а руку его старость крупным ячменем посыпала, и одышка уж мучит адмирала.
«Эх, молодость, молодость, — думал про себя адмирал, — куда ты подевалась, моя англицкая молодость?»
А сам из-под мохнатых седых бровей умными, молодыми совсем глазами на бородатых да пейсатых депутатов смотрит.
— Ко благу вашему государь рекрутчину заводит! — возражать депутатам стал. — Правильно вы говорите: не может быть такого положения в государстве, чтобы инородца в воинской повинности уравнять, а в правах его не уравнять. Будут, стало быть, вам и права — только дайте срок. В Англии тоже не все сразу делалось. В преобразованиях надобно наблюдать постепенность. Так то! Пусть докажут еврейские рекруты усердностью в учении и храбростью на поле брани любовь народа своего к своему государю, тогда и поставим вопрос о правах, и я первым вашим ходатаем стану. А теперь — с глаз долой, из сердца вон. Воля государева такова, чтобы евреев в отбывании рекрутской повинности с христианами уравнять. Закон о том все одно подготовлен, потому как пополнение войску требуется.
Веселые байки о той депутации подполковник Шкурин слыхивал в свете. Будто всучили-таки евреи адмиралу Мордвинову кругленькую сумму — за то только, чтобы при обсуждении закона молчал. Ну, адмирал будто бы и молчал, когда при государе закон обсуждали. Иные вельможи будто бы супротив рекрутчины еврейской горячо даже спорили. Нельзя, мол, доверять защиту отечества тем, кому Россия не матушкой ласковой, а злой мачехой доводится. Измен, мол, от таких защитников ожидать можно. И что хилы евреи телом да трусливы душой и потому к ратному труду вовсе негодны, — тоже будто бы говорили. Один адмирал Мордвинов будто бы молчал, словно язык проглотил. А государь на него, на адмирала, то есть, все поглядывать изволил с мрачным недоумением: почему это, дескать, молчит умник англицкий, любящий к месту и не к месту со своими «Мнениями» высовываться. Не выдержал, в конце концов, государь да в упор будто бы и спросил:
— Что же это ты молчишь, Николай Семенович? Ты же первый горячо за рекрутскую повинность евреев ратовал, а теперь сидишь, словно воды в рот набрал.
— А я, государь, слово дал молчать, — будто бы ответил на то Николай Семенович.
— Кому же это ты слово дал? — еще больше изумился и нахмурился государь.
— Евреям, — будто бы ответил Николай Семенович. — Они мне за молчание мое двести тысяч новенькими ассигнациями отвалили.
При этих словах неподкупный адмирал будто бы толстые пачки денежек на стол выложил.
— А сколько заплачено тем, кто так красноречиво сегодня их здесь защищал — про то мне не ведомо, — добавил будто бы с невозмутимостью.
Рассмеялся будто бы тем словам государь, а прочие вельможи смутились. Одно слово — потеха!
С того самого дня и вышел закон, в коем прямо черным по белому начертано:
«В отбывании рекрутской повинности евреев с христианами уравнять».
Да ведь в том вся и хитрость, что так только в строках написано, а верит строкам только тот, кто промеж строк читать не умеет.
А подполковник Шкурин обучен! Не зря ведь он во флигель-адъютанты выбился. Он про то уравнение мигом уразумел.
Коренным-то россиянам закон велит семерых человек от двух тысяч ревизских душ поставлять, а евреям — по десяти от тысячи! Из коренных россиян лишь взрослые мужики могут быть отданы в рекруты, а из евреев — дети да юноши от двенадцати лет. Ну, а ежели где десятилетних и даже осьмилетних сдадут, так ведь кто ж их годам счет-то ведет?
Опять же та особенность, что еврейских рекрутов сам еврейский кагал обеспечивать должен и за то ответ держать. Любые подмены может кагал производить — с одним только условием, чтобы заместо еврея другой еврей в рекруты сдавался, а законная ли произведена подмена и какова ей причина, это властям знать неинтересно. Так что если какой-либо богач, чьему сыну очередь в рекруты идти, хорошо кагалу заплатит, чтобы его сына бедняком заменили, так то ихнее, еврейское дело; властям в него встревать резону нет.
Что из этого воспоследует, угадать заранее можно. Кагалы особых ловцов заведут, и будут ловцы те, как волки голодные, по городам и местечкам рыскать, прямо на улице еврейчиков хватать да в рекруты поставлять. Ну, а малого ребеночка легче схватить, чем большого, и пойдут в службу почти сплошь семи да восьмилетние малютки. Вой, плач, стон стоять будет в еврейских местечках и городах, а детишек тех обрядят в тяжеленные шинели да сапожища, да и погонят их через всю Россию — в Архангельск, Тобольск и дальше в студеную Сибирь, в особые школы — воинскому искусству обучать. А ежели перемрет их половина дорогой, другая же половина в самих школах помирать будет, так что их, жиденят-то, жалеть? Они ведь христианских детей без всяких жалостей режут…
Или какой-нибудь умник вопить по сему поводу начнет: головотяпство, измена, подрыв государственной мощи! Закон, мол, велит еврейскими рекрутами войско, а не кладбища пополнять…
То-то и оно, умник, что между строк читать не умеешь. Ведь вовсе даже и не надобны евреи для государева войска, потому как только измен и неприятностей всяких от коварных жидов ожидать надобно. И школы те учреждены вовсе даже не для военной, а для богоугодной надобности. Чтоб из жиденков добрых христиан делать! Тут цель великая: перековка и переплавка душ! На добровольных началах, конечно, потому как у нас на Руси все добровольно: один добровольно на ноготок взбирается, другой добровольно ему кишочки выдавливает.
В школах-то тех порядки заведены строгие, и добровольные мастера дело свое разумеют. Жиденков муштруют с примерным усердием, голодом их вымаривают и секут, конечно, сил не жалеючи.
Встаешь — бьют, учишься — бьют, обедаешь — бьют, отказываешься гнилую капусту есть — бьют, а поел гнилья и животом заболел — вдвойне бьют. О том, что болеть дозволяется, в законе не записано.
По субботам детишки полы моют в казармах. Бог иудейский запрещает им по субботам работать, да ведь до Бога высоко, а унтер — вот он, с розгою за спиною стоит. Выстраиваются в шеренгу детишки, по команде кальсоны холщовые выше колен подворачивают, потому как кальсоны казенные, их беречь надобно; по связке жестких прутьев каждый получает и, ползая на голых коленках, ребенок прутьями теми и опилками должен свою полоску пола оттереть. А унтер сзади расхаживает, зорко за каждым следит да, чтоб усерднее терли, ласково по плечам, по спине, по заднему месту розгой постегивает… Стараются детишки вовсю, кожу на голых коленках, по опилкам-то елозя, до кости самой сдирают. Потом короста покрывает колени, гноятся они, а если заикнешься про то — живо тебе полсотни ударов отсчитают… А ночью, когда все улягутся, главное и происходит. Возьмет унтер двух-трех детей да на саднящие колени у койки своей поставит. Сам лежит, а дети на коленях стоят. Час стоят, другой, третий…
— Дядь, отпусти! — попросит один несмело.
— Примешь, жиденок, христианскую веру — отпущу, — лениво отвечает унтер. — Токмо шоб добровольно мне…
Чу, а кто примет добровольно, тому новая обмундировка, и пряники медовые, и от тяжелой службы и битья полное освобождение; и самое сладостное — медовых пряников слаще! — право товарищами своими с того дня помыкать…
Вот она в чем, главная мысль, запрятанная между строк! Зловредный народец преобразовать через его детей! А для того детей тех с малолетства, пока не набрались еще полностью пагубного еврейского духа, от родителей отымать да в христиан добровольно переделывать. И потому пущай хоть девять из десяти еврейских рекрутов подохнут, зато из десятого примерный солдат и христианин получится. Вот как понимать надобно мудрое государево «уравнять»! Любой полковой ротмистр, да и унтер, да и ефрейтор так именно и понимает. Что же говорить о подполковнике Шкурине, во флигель-адъютанты пробившемся!
Ты, Хаим Хрипун, Талмуд-Тору всю изучил и думаешь, что всякого можешь перехитрить! Чет, Хаим. Не для того подполковник Шкурин сотни верст из столицы скакал, чтобы теперь под твою дудку плясать. Опять же, про генерал-губернатора князя Хованского не забывай, коему представиться подполковник в Витебск завернул. Это при прежнем государе всякие утонченности да иносказания в цене были; теперь же только в законах иносказания. Теперь-то и при дворе о многом с солдатской прямотой говорится, а в провинции и подавно. Незачем князю Хованскому в кошки-мышки с флигель-адъютантом играть; куда как проще прямо объяснить, что молодому следователю Страхову, который с примерным старанием труднейшее еврейское преступление распутывает, он, князь, самолично покровительствует, и не критики его действий, а деловой помощи от столичного эмиссара ждет.
— Поезжай, поезжай, голубчик, — закончил генерал-губернатор аудиенцию, переходя на фамильярное «ты». — Нелегко молодому чиновнику воевать с целым полчищем еврейским. Скользкие они, как лягушки — это я по своему опыту знаю. Кажется, уж ухватил их, ан нет: выскальзывают! Они у меня вот где сидят! — и попилил князь Хованский ребром княжеской ладони своей по крепкой княжеской шее своей.
Чего же ты хочешь, Хаим? Чтобы ради тебя и Талмуд-Торы твоей флигель-адъютант Шкурин против ветра плевал и блестящей придворной карьерой рисковал?
Скажу тебе по секрету, Хаим, с ней и так не полный порядок — с карьерой то есть. Брат есть старший у Шкурина, он в генералах давно. Послали его крестьянский бунт усмирять в одном из питерских уездов. Ворвался он с молодцами своими в деревню да, не долго думая, дотла всю спалил. И, почитая сие за доблесть великую, молодецки о подвиге своем самому государю отрапортовал. А тут выяснилось, что бунтовала совсем даже другая деревня. Словом, небольшая ошибка случилась у генерала Шкурина. С кем не бывает! Не ошибается тот, кто ничего не делает — это тебе, Ха-им, должно быть известно. Только государь возьми и разгневайся. Даже высочайшее замечание приказал генералу Шкурину сделать за учиненное самоуправство. То, что деревни он перепутал, государь ему милостиво простил: ошибка у каждого произойти может. Однако бунтовщиков, оказывается, по-отечески учить надлежало, розгой то есть, а не пожаром!
Ну, у нас на Руси брат за брата не отвечает, Хаим, — ты это знаешь. Однако хмуриться стал изволить государь на флигель-адъютанта своего Шкурина. Как увидит, так про брата его вспоминает и — изволит хмуриться.
Шкурин видит — карьера его рушится на глазах. Что делать? Он к благодетелю своему барону Дибичу бросился — спаси и помилуй. Тот и подсказал государю в Велиж его послать.
— Надобно тебе, подполковник, — объяснил Шкурину, — с глаз государевых на время убраться. Пусть неловкость брата твоего немного забудется. Велижским делом государь сильно изволит интересоваться, так что тебе не только можно там пересидеть, но и отличиться немалый шанс имеешь.
Вот он, подполковник Шкурин! Сидит против тебя, Хаим Хрипун, рядом со следователем Страховым. Полное розовое лицо его гладко выбрито и пышет здоровьем; усы аккуратно подкручены, как положено тому, кто при воинском мундире состоит. Глаза искрятся весельем, а ямочка на округлом подбородке выдает доброту и мягкость характера. При эполетах, золотом шитых, при аксельбантах и орденах восседает подполковник, чтобы большее на тебя, Хаим, произвести впечатление — не то что этот тщедушный волчонок Страхов в потертом зеленом сюртучке с тусклыми пуговицами и без всяких отличий.
Безукоризненно вежлив подполковник Шкурин, предупредителен, «вы» тебе говорит и не то что рукоприкладства не позволяет себе, а даже голоса никогда не повысит. Опять же, субботы и прочие еврейские праздники уважает.
Уж как настрадались из-за праздников этих евреи! С рыданиями молили пухлогубого Страхова, руки целовали ему, чтоб только не понуждал к святотатству. Нет, он нарочно по субботам да праздникам еврейским протоколы допросов подписывать заставлял. Часами на коленях держал несчастных, ногами топал, бил по кривым еврейским носам маленьким своим кулачком, с плетью набрасывался в бешенстве. Сам измучается, жертву свою мучаючи. Ничего не добьется, конечно, потому как правоверный еврей удавить, зарезать, на куски разорвать себя скорее позволит, нежели в Божий день какую-нибудь бумагу подпишет. Но — упорен следователь Страхов, в другую субботу новую жертву мучает.
— Фи! — поморщился на все это флигель-адъютант Шкурин, распространяя запах французских духов. — Фи, господин Страхов, зачем подавать повод к лишним жалобам и нареканиям?
Зато записочки твои, Хаим, подполковник Шкурин вместе со Страховым перед тобою раскладывает с торжественностью:
— Ну-кась, извольте-ка объяснить, в чем состоит вина ваша великая, коли вы так громко кричите в ваших записочках…
Спокойно, Хаим! Спокойно!.. Ты на кого это замахиваться вздумал! Ты на кого это глазищами своими сверкаешь?
— Разбойники! — кричишь ты, потрясая оковами. — Обманщики! Это вы мучаете и убиваете нас, вы хотите пить кровь нашу и наших детей! Я, — кричишь ты, — вас не боюсь! Я никого не боюсь! Можете меня повесить! Пусть будет так, как угодно Богу, от Него надо принимать и хорошее, и худое.
И Шкурину, подполковнику, флигель-адъютанту государеву, в аксельбанты и эполеты его, в полное пышущее здоровьем лицо с ямочкой на закругленном подбородке, выдающей мягкость характера:
— Тебя государь не любит! Государь правду любит, для того и прислал тебя, а ты ее спрятать хочешь! Твои наговоры все равно пойдут в жопу, а моя будет правда. Бог правду видит, и правда откроется. Тебя государь тогда не помилует!
Вот каков ты, Хаим Хрипун! Ты веришь в правду! Ты убежден, что правда откроется.
Что же сказать тебе на это, Хаим? Ты прав! Тысячу раз прав! Не зря ты Талмуд-Тору прилежно так изучал, что из Витебска к тебе приезжали евреи, а если б из Вильны самой кто пожаловал, так не пожалел бы. Откроется правда, Хаим. Падут тяжкие оковы твои. Рухнут темницы. Потому что в сорочке родился ты, Хаим, с серебряной ложкой во рту!
Вот Шифра Берлин родилась без сорочки: ей, ты знаешь, уже не дождаться правды.
А про юношу чахоточного Янкеля Аронсона слыхал? Или не ведаешь ты, сидя в темнице твоей, что в соседних темницах происходит? Янкелю во время того несчастья с солдатским сыном, как и Итке Цетлин, всего-то тринадцать годков было. Но не посмотрел на то следователь Страхов и на чахотку его не посмотрел. В самую темную, самую сырую темницу запрятал, да такие тяжеленные оковы наложил, что юноша ни ногой, ни рукой шевельнуть не мог. Крысы не спеша ползали по немощному телу, деловито обнюхивали, а у него сил не было руку поднять и отогнать их. Недолго продержался так Янкель, захлебываться идущей горлом кровью стал, но и тогда не позволил Страхов снять с него оковы. Ах, как умоляли родственники, прознавшие как-то про ту беду! Как рыдала, в ногах валяясь, не старая еще мать, тоже в остроге сидящая! Об одном просила следователя, чтоб дозволил ей принять последний вздох сына, приблизившегося уже к минутам смерти. Как упрашивали представители еврейского общества разрешить умирающему исполнить долг последнего покаяния, что, по ело-вам их, есть неотъемлемое право всех подсудимых даже в самых грубых нациях!..
Был бы уже в Велиже Шкурин, так, может быть, и дозволил бы. Но Страхов с учителем Петрищей посоветовался и остался твердым, как гранитный утес. В общем, не дождаться уж Янкелю Аронсону правды: без сорочки он на свет Божий явился.
С остальными неясно пока: скольким из них еще не дождаться правды. Много ведь годков еще ее ждать, ой как много, Хаим!
Скажу тебе по секрету: не дождется правды купец третьей гильдии Шмерка Берлин — первый на весь Велиж богач… Ты ведь знаешь Шмерку, какой он богатырь. Так знай же — вытащат его из острога, как поганую падаль.
И Янкель Черномордик по прозванию Петушок — тоже не дождется правды.
И Малка Бородулина — прямехонько из темницы проследует в лучший мир.
И даже Зейлик Брусованский не дождется правды, хотя он, Зейлик, пока что даже неправды не дождался и ведать не ведает, что сгущаются над ним тучи, что ждут его оковы, темницы, допросы и — позорная смерть!
Да что там евреи, когда и сам следователь Страхов не дождется правды твоей, Хаим Хрипун! От холеры ли, что, еврейскими кознями вызванная, на край нагрянет; или от огорчения, что не его правда верх берет; или от другого огорчения, что благодетель перестал быть им доволен, да невеста ждать устала и за хлыща столичного вышла; а может, от всего вместе, но скорее — от отравы, злокозненным жидовьем через масонов в самовар подсыпанной, — только отправится следователь Страхов к праотцам, не завершив великой миссии своей…
Но ты дождешься правды, Хаим Хрипун! Ты дождешься! Выйдешь ты из темницы твоей, воссияет опять над тобою солнце, запоют снова для тебя птицы, и состарившаяся располневшая Рива, кусая высохшие губы свои, уронит голову на твою поседевшую грудь. В сорочке ты родился, Хаим, с серебряной ложкой во рту.
А пока что замолкни, Хаим! Перестань кричать «гвалт» и греметь оковами твоими. Ша! Тихо жди своей правды! Жди и надейся! А следователь Страхов да флигель-адъютант Шкурин (вместе они — «комиссия») свою правду добывать будут.
Опытный Шкурин все дело многотомное переворошит и неопытному Страхову отменным наставником сделается.
Доказчицы-то, к примеру, показывали, что в Витебск кровь отвозили. А привлек кого Страхов к ответу из Витебска? Нет, не привлек. Упущеньеце по неопытности допустил… Так это все поправимо. На то и кругозор столичный, чтобы молодому провинциалу помощь оказать.
— В нашем деле, господин Страхов, широта подхода необходима. Всесторонность нужна и охват! — объяснил Шкурин и широко разведенные руки решительно сдвинул, как бы охватывая кого-то.
И вот «комиссия» в Витебск доказчиц доставляет.
…Ай да Марья Терентьева! Клад драгоценный, а не доказчица! Другая растерялась бы в большом городе. А эта мигом каменный дом отыскала и как вошла в него, так враз опахалами мотнула да в старуху-еврейку перст уставила.
— Она в крови холст мочила.
Старуха, конечно, запираться. Впервые, мол, эту бабу вижу. Страхов как подскочит к ней, да как кулачок свой маленький ей под нос сунет, да как затопает на нее! Насилу унял флигель-адъютант Шкурин разбушевавшегося сотоварища.
У Шкурина-то своя метода. Мягко, деликатно, почтительно даже стал в угол загонять еврейку.
— Посмотрите, — говорит, — получше на эту бабу. Откуда у вас уверенность, что никогда не встречали ее? Дело давнее, уже четыре года прошло, как она вам бочонок с кровью христианской привозила. Может быть, вы запамятовали за четыре года?
Замолкла тут старуха, Марью разглядывает, словно припоминает. А Шкурин усы подкручивает да Страхову подмигивает: учись, молодежь, перенимай опыт наставника, пользуйся щедростью нашей и добротой!
— Куда же ты мне четыре года назад бочонок-то привозила? — еврейка, припоминая, Марью спрашивает.
— В этот самый дом — куда же ище! — Марья дерзко ей отвечает. — Ты меня водкой поила, а в крови холст мочила и разным евреям, что в дом набились, холст тот лоскутьями раздавала. Нешто не припомнишь! — ухмыляется Марья, опахалами хлопая.
Выслушав все это, старуха головой покивала, руки в бока обширные уперла да на Марью вдруг двинулась.
— Чтоб тебя гром разразил на этом месте, и чтоб горела ты огнем. Чтоб все мои болячки посыпались на твою голову. Чтоб язык твой отвалился, и чтоб печень твоя высохла, и чтоб пожелтела ты вся и согнулась, и чтоб искры посыпались из нахальных твоих глаз, и чтоб сдохла ты под забором, чтоб ворон глаза твои выклевал. Я тебе такой бочонок покажу, что до конца дней своих будешь меня помнить.
Тут схватила старуха какой-то ухват, и если бы Шкурин вовремя руку ее не перехватил, то одной доказчицей меньше бы стало у следователей.
Долго унимала разбушевавшуюся старуху «комиссия», а уняв, выяснила, что она с семейством своим второй год всего в Витебске. Жила раньше в Киеве, но как приказ от государя вышел всех евреев из Киева выселить, то и переселилась семья ее в Витебск, и про все то в полицейских книгах записано, а потому и не составит труда проверить.
Погрозил Шкурин пальцем Марье Терентьевой да приказал Авдотье Максимовой «свой» дом указать, куда она две бутылки крови доставила.
Ну, Авдотья — не Марья. Мало что на ухо туга, так ведь еще годы свое берут, память отшибают, легко ли отыскать в большом городе дом, куда один раз всего давным-давно наведаться пришлось?
То в одну кривую улочку велит свернуть лошадей Авдотья, то в другую, то в третью… Да на всякий вопрос поросячьи глазки таращит, ухо ладошкой оттопыривает и громким «Ась?» выстреливает. Аж в животе заныло от тоски этой канительной у флигель-адъютанта Шкурина, он уж ворочаться почти приказал, как вдруг вскрикнула, подскочила Авдотья.
— Вот, — говорит, — дом под зеленой крышей. Здесь Лейба Штернзанд живет. Жена его Дворка как раз и есть та злодейка. Это ей я две бутылки крови доставила, а она в тесто все вылила да замесила!
— А не ошибаетесь вы? — переспрашивает недоверчиво подполковник Шкурин.
— Ась? — вскрикивает Максимова. — Вот те крест святой, батюшка: тот самый дом и есть. Под зеленой крышей!
Лысый седобородый еврей, беззубым ртом шамкающий, дверь «комиссии» отворяет.
— Я! Я есть Лейба Штернзанд, — шепелявит. — Провалиться мне на этом месте, если это не я! Я вас спрашиваю: кто лучше может знать, кто есть Лейба Штернзанд, если я есть Лейба Штернзанд?
— А раз так, — подскочил к старику Страхов, — то говори, где твоя жена Дворка? Да живей у меня, а то бороду твою жидовскую выдеру!
— Дворка? — пожевал беззубым ртом Лейба, и седые брови его полезли высоко на взрыхленный морщинами лоб. — Дворка! — крикнул он куда-то вглубь дома. — Иди скорее сюда! Тут важные господа пришли, у них до тебя дело!
Прокричав все это, старик замолчал, прислушался.
— Дворка-а! — крикнул громче. — Ты слышишь меня? У господ до тебя дело!
Старик опять прислушался.
— Ну, что вы на это скажете, господа хорошие? — обратился он к Страхову и Шкурину. — Не отзывается! Что бы это значило, я вас спрашиваю. Похоже, там нет никакой Дворки, а? Ох, моя бедная борода, придется мне с тобой распрощаться.
Старик беспомощно развел руками.
— Хватит болтать! — заорал Страхов, не на шутку взъярившись. — Подавай сюда Дворку, а то хуже будет.
— Э-хе-хе! — печально вздохнул старик. — Еврею всегда хуже. Где я возьму вам Дворку, если у меня никогда не было жены Дворки? Моя жена Шайна! Я вас спрашиваю: кому лучше знать имя моей жены? А? Что вы об этом думаете?
И Лейба снова развел руками.
— Дворка или Шайна — это нам без разницы, — с не свойственной ему грубостью закричал вдруг Шкурин; его рассердила болтливость старика и его странная, оскорбительная, как показалось Шкурину, еврейская улыбка. — Давай скорей сюда жену Шайну!
Повернув удивленное лицо к Шкурину, Лейба странно как-то подмигнул одним глазом и покачал головой.
— Эх, господин начальник, господин начальник! — сказал он укоризненно. — Зачем так громко кричать, я вас спрашиваю? Вы думаете, я глухой? Так я открою вам маленький секрет! Я совсем не глухой. Может быть, вы мне жену мою дадите? Нет, господа начальники, даже вы мне жену вернуть не можете, потому что взял ее Тот, кто посильнее вас… Ее взял, а меня никак не возьмет, — печально вздохнул старик.
Переглянулись тут Шкурин со Страховым.
— И давно померла старуха? — флигель-адъютант спрашивает, в душе укоряя себя за неуместную горячность.
— Старуха? — изумляется Лейба. — Чтоб я был таким стариком, какой она была старухой! В тот год померла, как француза прогнали… Живу я с тех пор один, а зачем живу, это вы мне можете сказать?
Да, дела! Выходит, жена старика Лейбы вовсе не Дворка, а Шайна, и померла она за одиннадцать лет до того, как Авдотья ей кровь младенца Федора привозила…
Последняя надежда у «Комиссии» на местечко Лезну осталась: туда ведь тоже Марья Терентьева две бутылки доставила.
Привезли Марью в Лезну. Но тут она вовсе отказалась что-либо узнать. А как попробовал надавить на нее в мягкой своей манере Шкурин, так она вдруг окрысилась:
— Что вы от меня хотите? — завопила. — Зачем вы меня сюда привезли и заставляете узнать то, чего нельзя узнать! Назло вам, против евреев не буду показывать!
Так и вернулась «Комиссия» в Велиж несолоно хлебавши.
Однако Господь справедлив. Вознаграждает Господь всякое старание и упорство.
Едва возобновила «Комиссия» допросы евреев, как Фрадка Дениц, жена лекаря Орлика, по доброй воле своей такое вдруг рассказала, что онемели на время оба следователя.
Пока не было их, надзиратели-то пораспустили узников, послабления всякие стали допускать, и случилось так, что на прогулке во дворе Фрадка с горбатым Рувимом Нахимовским встретилась. Тут и поведал ей Рувим по величайшему секрету, как умертвили ребеночка в Большой синагоге.
— Никто из евреев в том не признается, — предупредила «Комиссию» Фрадка. — Рувим первым от своих слов отречется, потому как все зло у него в горбу сидит. Но мне он поведал, что мертвого мальчика Евзик Цетлин из синагоги под полою своего кафтана вынес, а нож, которым его зарезали, у резника Верки Зархе хранится.
Ага! Не зря, стало быть, следователи давно уже на Фрадку глаз положили.
Сильно подорвало ее одиночное заключение, шарахаться стала от всякой тени, так что доктора Левена несколько раз приходилось призывать для ее освидетельствования. Однажды во время прогулки она на виду у всех к воротам кинулась, а схваченная и допрошенная показала, что сделала сие с досады и огорчения, потому что от содержания в одиночке бывают у нее видения и частые обмороки. В другой раз она окошко разбила да осколком стекла горло пыталась себе перерезать — хорошо, надзиратель шум в камере услышал и успел ее остановить.
На допросах Фрадка обычно рыдала, обвиняла в своих несчастьях других заключенных, но выкрикивала в истерике такие несвязные фразы, что из них никак не удавалось сплести что-нибудь похожее на показание.
И вдруг — такое признание!
Мигом нагрянула «Комиссия» с обыском к резнику Верке Зархе, в ужас повергнув его многочисленное семейство. Верку, правда, не увели, зато все ножи его отобрали, чтобы тщательно их исследовать.
Ну, ножи как ножи: для резки скота предназначены, но один нож, с серебряным черенком — точь-в-точь такой, что в Петрищевой книге описан. Рукоять тонкой резной работы, черенок серебряный, в роскошный сафьяновый футляр упрятан, а на футляре — о радость следователям! — надпись еврейская выделана, неразгаданностью своей таинственно манит…
Вот, наконец, улика из улик, первое в деле вещественное доказательство!
Для начала Верку Зархе «Комиссия» призвала: говори, еврей, почему один нож от всех других отличается?
— А потому, — отвечает Верка, — что нож этот особый. Теми ножами мы скот режем, а этот, в футляре, — для обрезания еврейских младенцев предназначен. Как велит нам религия в восьмой день весь мужской пол обрезать, то вот таким ножом обряд этот и совершается.
Записала «Комиссия» показание Верки, подписать приказала и домой отпустила. Да ведь не такие же простаки Шкурин и Страхов, чтобы всякому еврейскому объяснению верить! И отправился нож с серебряным черенком в дальний путь.
Из Велижа — специальным курьером в губернский город Витебск, к генерал-губернатору князю Хованскому.
Из Витебска, от князя Хованского — другим курьером в стольный град Санкт-Петербург, к начальнику штаба его императорского величества генерал-адъютанту барону Дибичу.
От генерал-адъютанта барона Дибича третьим курьером — в Департамент духовных дел и исповеданий…
В Департаменте надпись ту перевели и в обратный путь нож отправили. Из Департамента — генерал-адъютанту барону Дибичу. От барона Дибича — в Витебск князю Хованскому. А от князя Хованского — в Велиж, в «Следственную комиссию».
Вот он, лежит на столе: ручка резная тонкой работы, серебряный черенок в роскошный сафьяновый футляр упрятан, а рядом — лист гербовой бумаги, витиеватым писарским почерком перевод таинственной надписи на бумаге той обозначен.
«Благословен еси, Иегова, Бог наш, Царь мира, освятивший нас заповедями своими и давший нам заповедь о введении младенца сего в сонм отца нашего Авраама».
…Черт побери! Выходит, и вправду сей нож для еврейских младенцев, а не для христианских предназначен…
Ну, да может же быть, что надпись сия — всего лишь уловка жидовская! Они ведь и не такие предприимчивости изобрести могут…
Допросила «Комиссия» Рувима горбатого — он от всего отпирается, потому как все зло у него в горбу сидит. Допросила Евзика Цетлина, что под полою мертвое тело вынес — он только кулаками голову себе бьет и ни слова не говорит.
Фрадку Дениц на очную ставку с запиральщиками привели, а она печальные еврейские глаза выпячивает: ни о чем, мол, не знаю, ничего не ведаю. Если и говорила чего, то не помню, потому что в помешательстве была.
Вот и жди награды от Господа за великое свое усердие!
Глава 18
Однако нет, не провести евреям «Комиссию», особенно многоопытного Шкурина! Не желают брать на себя кровь младенца непорочного Федора Иванова — тем хуже для них. На солдатском сыне белый свет клином ведь не сошелся.
В том и ошибка главнейшая молодого следователя, что он на один тот случай усилия свои направлял, тогда как в следственном деле широта нужна и охват. Ведь ежели евреи христианскую кровь в мацу добавляют, так они каждый год армию целую младенцев должны вырезать — одним-то на много ли напасешься. Проговорился же лекарь еврейский Орлик Дениц на очной ставке с Максимовой, что она его и в других преступлениях уличить может. Вот и допросим старуху сызнова.
И Марью Терентьеву снова допросим — это уж само собой.
И упрямую шляхетку Прасковью Козловскую, хоть от нее и меньше толку добиться можно.
— Какие еще еврейские преступления вы открыть можете — ради спасения ваших душ христианских? Не торопитесь, бабоньки, подумайте. Храм Божий посетите, священническое увещевание отца Маркелла выслушайте, покайтесь хорошенько, да после и выложите с божьей помощью, что там у вас на душе.
…Ну, вот, видите! Это ж другой разговор.
Стало быть, во времена далекие, на другой год после француза, Марья Терентьева к покойнице Мирке Аронсон двух мальчиков приводила, сынов крестьянки Настасьи; вместе с евреями их в бочке качала и затем умертвила…
Прекрасно! Молодец, Марья Терентьева!
А еще через несколько лет дворянку Дворжецкую заманила Марья к еврею Табелю, а на следующую весну в лесу, под сосною, нашли руку, голову и косу женскую…
Оч-чень хорошо! Отменные новости Марья Терентьева сообщает!
А потом еще в корчме еврея Шолома, в местечке Семичево, девочку христианскую умертвили, по воспоминанию Марьи Терентьевой.
Даже не одну девочку, а двух — это уточнение вносит Авдотья Максимова.
Ай да Авдотья! Ай, да старушенция! А «Комиссия»-то уже тебя полагала вовсе неспособной что-либо припомнить от старческого твоего скудоумия! Прими, Авдотьюшка, чарку водки, для тебя специально из еврейского шинка доставленную, выпей, Авдотья, за спасение душ христианских и за скорейшее жидов в злодействах их уличение.
Ну, что еще сообщить имеете, бабоньки, после нового священнического увещевания?
Ага!.. Еще, стало быть, двух мальчиков и двух девочек замучили евреи!.. Правильно. Так их! Ату! Что это все по одному младенцу им мучить? Парами-то оно веселее! Тут та подробность важна, что в одной бочке сразу двоих качали, да головами врозь клали. Неотразимейшая улика! Неясно только, о каких двух девочках сообщают доказчицы — о тех ли самых, что в корчме Шолома замучены были, или еще о двух? Что? Не припомните точно? Ну да — разве всех зарезанных вами деток упомнишь!
Зато вы помните с точностью, что всякий раз после убийства обеих вас в жидовскую веру обращали?.. Оч-чень хоррошо! Итого, Марью Терентьеву три раза обращали, а Авдотью Максимову четыре раза… Или наоборот: Авдотью три, а Марью четыре? Да это все одно: от перемены мест слагаемых сумма, как известно всякому образованному человеку, измениться не может. Ишь ведь как хитро у коварных жидов делается! У нас-то, христиан простодушных, один раз окрестили тебя, и довольно. А у них — нет! Зарезал ребеночка, и снова веру принимай. Чтоб крепче верилось!
Вон страсти какие насообщали доказчицы, испытывая всякий раз после священнического увещевания полное (теперь-то уж наиполнейшее!) раскаяние и имея неистребимое (теперь-то уж наинеистребимейшее) желание совесть свою от самого последнего пятнышка отчистить.
И чтобы уж совсем-совсем, до блеска чтобы полного совесть отчистить, сообщили доказчицы, что не убийствами только пробавлялись всю жизнь совместно с евреями, но еще и святые тайны из церквей похищали, евреям их поставляли, а евреи — о-о-о! — тайны эти топтали ногами, прутиками секли, огнем палили и всякими другими предприимчивостями над ними надругались…
Много месяцев длинных припоминают доказчицы, много месяцев скрипят гусиные перья, том за томом бумагами полнится, а Страхов и Шкурин донесения строчат: один — благодетелю своему князю Хованскому, другой — благодетелю своему барону
Новости во всеподданнические доклады перекочевывают, двумя потоками к государю стекаются. Не угодно ли будет императору Всероссийскому, царю Польскому, великому князю Финляндскому и прочая, и прочая, и прочая, — не угодно ли будет ему приказать дознание вновь открытых «Комиссией» преступлений еврейских произвести?
Конечно, угодно! Какой может быть разговор!
«Надо непременно узнать, — накладывает резолюцию государь на докладе князя Хованского, — кто были несчастные сии дети. Это должно быть легко, есть ли все это не гнусная ложь».
«Строжайше исследовать все до корня» — пишет государь на докладе барона Дибича.
Глава 19
До корня, так до корня, государь! Это ведь как милость твоя соизволит. Потому как ты, государь, милостивец наш, самодержец ты Всероссийский есть. Мы их до корня, государь, до самого корня, можешь не сомневаться!
Волю твою самодержавную мы ведь с полнамека, даже вовсе без намека понимать выучены. Друг дружку локтями распихиваем, исполнять спешим. В одном что ли Велиже евреи разбойничают?
В Гродненской-то губернии тоже девочка десять годков назад пропала. Ну, да! То самое дельце, что брат твой державный вешать на евреев изволил не дозволить да по поводу коего губернатору высочайшее замечание сделал. Так то ведь при брате твоем, в Возе почившем, было, а это при тебе, государь. Мы ведь разницу понимаем! Брат-то твой, прости Господи крамольные мысли, по системе Руссо бабкой своею воспитан был. Опять же — мечтатель, конституциями увлекался, да и грех тяжкий убийства батюшки своего всю жизнь по монастырям замаливал. Ты же, государь, тверд и крут, особливо по части евреев. Так мы дело то, государь, возобновили. Да! Пустячок, конечно, в сравнении с Велижским, а все-таки приятно. Мы до корня докопаемся, будь спокоен, государь!
А еще, государь, мы одно дельце в Виленской губернии затеяли. Тоже пустячок, но приятно. Мы волю твою невысказанную понимаем и исполнить спешим, потому как ты государь самодержавный есть, а мы вошки мелкие, на ноготке твоем раздавленными быть вовсе даже недостойные. На ловца-то и зверь бежит, государь! В самый удобный для нас моментик схватили евреи в поле крестьянского мальчика да кровь из него всю до капли и выкачали. Думали, шито-крыто будет, ан пастушок один шестнадцатилетний все то злодейство своими собственными глазами подсмотрел да на евреев показал.
Так что уж не одно, а три дела расследуются, государь! В Витебской губернии, в Гродненской да в Виленской. Все три губернии друг с другом соседствуют, и все евреями густо заселены. Представляешь, государь, как волнуется христианский народ! Как радуется сапожник Азадкевич! Вот проходу-то нет евреям на улицах!
Правда, в Виленской губернии осечка вышла. Не евреи вовсе, по расследованию выяснилось, а сами пастухи христианские мальчика того порешили да гвоздем искололи, чтоб на евреев свалить. Следователь о том Виленскому губернатору быстренько донес, а губернатор — старшему братцу твоему, государь, Константину Павловичу, наместнику твоему в царстве Польском. А братец твой, что два года всего назад трон Всероссийский рыцарски тебе уступил, к державным стопам твоим все сие поверг. Так и так, мол, братец мой государь, не вели казнить, вели слово молвить. Евреев я, сам знаешь, терпеть не могу, потому что скользкие они, как лягушки, и предприимчивостями всякими шибко мне досаждают. Но не повинны они в деле том, ибо наврал все пастушок шестнадцатилетний.
Так ты опять брови нахмурил, государь, и отписал братцу своему Константину Павловичу волю твою самодержавную, чтобы он, чего доброго, не свалял дурака и особое внимание обратил на дело сие, ибо сходство оно имеет с Велижским, где, по несчастью, подтверждается уже, что не один, а семь ребят замучены.
Так ты, государь, рукой своей и начертал: «Уже подтверждается».
Это вам не шутки шутить!
А в Велиже, меж тем, торжество великое. Потому как точно установила «Комиссия»: была, была дворянка Дворжецкая! Водку хлестать любила, по шинкам да корчмам песни распевала. И в том самом году, что Марья Терентьева указала, исчезла дворянка, о чем в протоколах полицейских надлежащая запись сделана.
Правда, про то, что останки ее под сосною нашли, в протоколах не значится. Да и из жителей такого никто не припомнит. И с евреем Табелем, к коему Марья Терентьева, по слову ее, Дворжецкую привела, тоже неувязочка получилась, потому как Табель в Велиже аж через пять лет после исчезновения дворянки поселился. Ну, это мелочи! Всего-то и делов — Марью к священнику Тарашкевичу еще раз направить, к раскаянию совсем уж окончательнейшему ее через священника побудить. И выяснится тогда, что Табеля она затем назвала, чтобы друга своего сердечного Янкеля Коршакова выручить. Добро одно Марья от Янкеля видела. И угощал он ее щедро, и денег давал, да не за какие-нибудь шуры-муры, а просто так, жалеючи бездомную бабу. Вот и она, грешница, пожалела его да Табелем заменила. Это у Марьи просто. Однако теперь, раскаявшись уж совсем окончательно, до самого то есть наисамейшего донышка совесть свою желая очистить, Марья голую правду показывает. Друг ей Янкель Коршаков, а правда Марье Терентьевой дороже. А посему:
Янкеля Коршакова — арестовать!
Мовшу Белецкого — арестовать!
Корчмаря Шолома — арестовать!
Корчмаря Зейлика Брусованского — арестовать!
Нахома Дукаровского — арестовать!
Крестьянина Василия Голубя, что служил у Шолома десять лет, — арестовать!
Мещанку Марью Ковалеву, участвовавшую в умерщвлении двух мальчиков в доме Мирки Аронсон, — арестовать!
Крестьянку Агафью Демидову — арестовать!
Чтоб рассадить по одиночкам новых арестантов, пришлось «Комиссии» еще пару домов прикупить на Тюремной улице — ну, да суммы на то отпущены, потому как истина дороже казенных денег.
Трое христиан — особо ценная добыча для «Комиссии». Ведь как прикажете расследовать еврейские злодейства без христианских-то соучастников? К ним сперва надобно с арестом нагрянуть да в самую сырую темницу их бросить!.. В оковах тяжких, на воде и хлебе пару недель выдержать! А потом ласково втолковать, что через жидов погибель их, через жидов они пропадают… Прощение, конечно, государево пообещать. Да священническим увещеванием все то закрепить! Ну, и пожалуйста: они уж готовы к чистосердечному раскаянию.
Страхов руки маленькие потирает, план свой Шкурину излагая. Так-то вот, господа подполковники, флигель-адъютанты государевы! Хоть и провинциалы мы неотесанные, и в молодых еще летах, и в чинах не тех, и французский наш изрядно прихрамывает, а тоже кое в чем разумеем; неспроста благодетель генерал-губернатор князь Хованский из всех чиновников нас отличил и к делу сему наитруднейшему приставил!..
— Итак, Голубь Василий, 47 лет, крестьянин, служивший в корчме Семичево у еврея Шолома. Что имеете сказать по делу о замучении евреями в означенной корчме двух девочек христианских?
— Ничего не имею, ваше благородие.
Василий Голубь, мужик крепкий, кряжистый, обстоятельный, долго высмаркивается в рукав и двумя ясными голубыми глазами без всякого смущения на следователей глядит.
— Но ты в корчме у Шолома служил? — строго спрашивает Страхов.
— Служил, — коротко отвечает Василий. И подумав, добавляет. — А вот девок чтобы каких убивали, про то не скажу, видеть не доводилось.
— И что же ты? — доверительно улыбается Шкурин, и на полных розовых щеках его обозначаются две нежные ямочки — точно такие же, как та, что присутствует на круглом его подбородке. — Разве ты не слыхал никогда, что евреи христианскую кровь из детей источают?
— Как не слыхать, ваше благородие! — всем своим кряжистым телом Василий оборачивается к Шкурину. — В народе-ить чего только не сказывают! Он-ить, народ-то, всякое сказать может. Я их благородию про корчму объясняю, что не видал ничего такого. Может, и было чего, врать не стану, токмо мне, говорю, про это неведомо.
— Так ты жидов выгораживать! — подскакивает к Василию Страхов, кулачок свой маленький под нос ему подсовывая. — Подкупили что ли тебя жиды?
— Виноват, ваше благородие, — Голубь немигучими глазами глядит на Страхова без всякой боязни. — Не обессудьте, ваше благородие, ежели что не так сказал. Народ-ить, ваше благородие, иной раз и не так сказать может. Не обессудьте, ежели что. А насчет деток малых, так мне ничего такого видеть не доводилось.
— А вот Марья Терентьева и Авдотья Максимова показывают, что и ты при том был, — всеми ямочками своими улыбается Шкурин.
— Это ихнее дело, ваше благородие. А ежели вы меня спрашиваете, то говорю, что ничего не ведаю.
Билась «Комиссия» с Василием, Страхов аж голос сорвал от неистовства, снова батистовый платочек стал вынимать — обтереть кулачок. Даже Шкурин не утерпел — по глазам его нахалючим пару раз съездил. Заплыли оба глаза у Василия, однако упрям оказался мужик: все на своем стоит!
Шкурину даже интересно стало: отчего это он так запирается?
Как и Страхов, Шкурин обыкновение имел камеры зэков обходить — только без плети и рукоприкладства. Он просьбы-претензии все выслушивал да беседовал по душам. Немаловажные для дела подробности оседали в голове его после каждого такого обхода. То Марья Терентьева что-нибудь новенькое припомнит, то Авдотья Максимова, то шляхетка Прасковья Козловская… А то и из евреев кто-нибудь словцо какое неосторожное обронит.
Но дольше всего у Василия Голубя задерживался флигель-адъютант.
— Ты пойми, глуп человек, — простецки пытался держаться Шкурин, — что в полной ты моей воле. Что захочу, то с тобой и сделаю. Ты доброту мою христианскую оцени. Вон Страхов давно уже свои меры применить к тебе хочет, а я не велю покамест; мужик, говорю, хороший, одумается. Смотри, не серди меня, Василий. Ежели и дальше запираться станешь, так придется приказать, чтоб отсчитали тебе двадцать плетей. А мало будет, так и еще двадцать.
— Это ваше дело, ваше благородие, — отвечал спокойно Василий.
— Мое-то мое, да от тебя зависит! — терпеливо объяснял Шкурин.
— Нет! — возражал Василий. — От меня никак не зависит.
— Что ж ты — и под плетью отпираться будешь?
— И под плетью.
— Да, упрям ты, Василий, ан меня не переупрямишь. Мы ведь и до смерти засечь могем.
— Это ваше дело, — отвечал Василий.
— И не боязно тебе под плетью смерть принять?
— Боязно, ваше благородие, — признавался Василий. — Как же — не боязно! Только в грехе-то жить боязнее.
— Эка сказал — в грехе жить! Христос-то милостив! Покаешься, и любой грех простит. А человек, Василий, человек! — Шкурин делал многозначительную паузу и подымал вверх палец, — не простит!
— А это его дело, ваше благородие.
— Что ты все заладил — «ваше дело», «его дело»?
— Виноват, ваше благородие, ежели что не так сказал. Народ, он-ить и не так сказать может. Я к тому, значит, что кажён должен по правде жить и всякое свое дело с правдой сверять. А ежели кто не по правде, то мне об этом заботы нет, потому как ему самому ответ держать перед Господом. Его, стало быть, дело и есть. А мое дело — по правде жить и Бога бояться.
— Да ты философ, Василий! — шумно изумлялся Шкурин и однажды священника Тарашкевича с собой привел, чтоб показать ему тюремного философа.
— Выходит, ты, Василий, всю жизнь по правде живешь? — затрубил густым басом отец Маркелл. — И думать так не смей! Грешно так думать! Нет такого человека, чтобы ни разу не согрешил, а если бы и был такой, то Господу он не угоден. Господь наш Иисус Христос грехи мира на себя принял, за это смерть лютую через евреев претерпел, да воскрес во плоти, чтобы грехи верующих в него и далее на себя принимать. Тот, кто грешит да в грехах своих кается, угоднее Господу, нежели вовсе безгрешный и в гордыне своей не кающийся.
Выслушал мудрую эту речь Василий, покраснел аж от напряжения, стараясь в смысл ее вникнуть, да и затрясся весь от хохота.
— Это я что ли безгрешным себя почитаю? — заговорил, покачивая головой. — Хватит у меня грехов для покаяния, не изволь в том сумлеваться, батюшка! Токмо грех от греха рознь — вот я как разумею. Ежели я по неведению или по слабости согрешу, тут самый раз покаянную молитву Господу вознести. А то нарочный грех, для того, значит, чтоб потом в нем покаяться. Нет, батюшка, такого греха Господь не простит, никакая молитва в том не поможет, потому как не покаяние то будет, а одно лицемерство.
— Это ты мне, священнику, про грехи да молитвы объяснять смеешь! — возмущенно загремел Тарашкевич.
— А хоть бы и тебе, батюшка, — ответил Василий нимало не смутившись. — Божья правда простая, она всякому открыта, кто душой разуметь ее хочет.
— И потому ты жидов выгораживаешь? — не вытерпел, вмешался в разговор Шкурин.
— Не выгораживаю я, ваше благородие, а правду говорю. Ибо сказано в Писании: «Не лжесвидетельствуй».
— Так ты и Писание читал? — спросил Тарашкевич.
— Не читал, потому что читать не обучен, а Христову правду я знаю.
— Но евреи-то в Христа не веруют!
— Это ихнее дело, — ответил Василий.
— А младенцев резать — тоже ихнее дело? — опять вмешался Шкурин.
— А резали они али не резали — это ваше дело выяснить. Мне про то ничего не ведомо.
— Да вот показывают же бабы на корчмаря Шолома и на тебя, что ты в том деле был и им помогал! Может, ты наказания боишься и оттого запираешься? Так я же объяснял тебе: ежели признаешься да покаешься, государь помилует. А запираться тебе бесполезно, мы все одно про все знаем.
— Это ваше дело.
— Видно, прав Страхов: подкупили тебя евреи. Не обижайся, Василий, ежели плеть по спине твоей погуляет.
— Мы привычные, — ответил Василий.
…Так и не добилась ничего «Комиссия» от этого Голубя.
С Агафьей Демидовой тоже морока одна получилась.
Поглядишь на нее — в чем только душа пребывает! Щеки впалые, губы белые, скулы торчат. Ручки-ножки тонюсенькие, как лучины, а стан — что былинка лесная, вот-вот переломится. Словно не крестьянка-работница перед следователями, а монашка, долгим постом и веригами плоть свою изнурявшая. А с другой стороны, и не монашка совсем. У той-то ведь дух успокоенный должен быть, а у этой — в глазах испуг, и пальцы тонкие бегают, бегают всё шаль теребят. Веревки, кажется, вей из такой перепуганной бабы. Ан, уперлась, что тебе пень невыкорчеванный посередь дороги.
— Лучше безвинно пропасть, — говорит, — нежели за дело. Как это я признаюсь в том, про что не ведаю… Да лучше принять кнут, дать себя зарезать… Мне себя не жаль, — говорит. — Дочь у меня малолетняя, вот ее жаль, но и ради дочери я греха принять на себя не могу. Хоть два, хоть три года моя мука продлится, а правда кривду все одно пересилит.
Ни угрозами, ни ласками, ни священническим увещеванием так и не смогли следователи Агафью эту переломить. Особые меры Страхова тоже не помогли нисколько.
Вот и толкуй после того, что русский человек завсегда всякой силе и угрозе покорен! Точно не из русских людей воинства Пугачевых да Разиных происходили, точно и теперь не бунтуют мужики супротив помещиков, ежели оные всякие произволы и притеснения им чинят.
Сила, конечно, солому ломит, да не всякий человечишка согласен соломою быть! Простой народ российский — он разный бывает, как, к примеру, и образованное общество. Один помещик последние соки из крестьян своих жмет, а другой — своей же пользы ради — трех шкур с мужиков не дерет, двумя ограничивается, и почитают его за то мужики паче отца родного. Третий — лихоимец и лизоблюд, а четвертый честен и горд, чуть что не по нем, всякого готов к барьеру вызвать да пулю в лоб получить. Пятый жидов люто ненавидит, а шестой — ничего, говорит, немалая польза может быть отечеству от шустрого сего народца, потому как, веками гонимый, он особую сноровку в ремеслах, промыслах и всяких предприимчивостях приобрел и очень может споспешествовать развитию промышленности, торговли, привлечению капиталов, в чем главная нужда в отечестве как раз и есть. А у седьмого, у седьмого душа так устроена, что страданиями человеческими дюже уязвлена бывает. Он, седьмой то есть, вовсе весь строй государственный перевернуть возмечтает, да не корысти своей ради, а ради народа; и за любовь к народу во глубине руд сибирских заживо теперича сгнивает. Вот она какая вся разная — Русь-матушка, и какой разный народ в ей обитает!
Вся надежда на Марью Ковалеву осталась у «Комиссии», ну и взяли ее в оборот следователи.
Уж как рыдала Марья Ковалева, горючими слезами заливаясь, как малолетством своим во времена приписываемого ей злодеяния отговаривалась! Однако после многих священнических увещеваний и обещаний полного прощения призналась-таки, что несмотря на тогдашнее малолетство свое, в умерщвлении двух мальчиков в доме Мирки Аронсон точно участие принимала.
Ну, а как призналась, с ней уж иной разговор пошел! Про бочку пришлось припоминать, про инструменты, какими детей кололи, и имена, имена называть еврейские.
Каждый новый вопрос в отчаяние великое Марью приводит. По всему видно — не до конца еще раскаялась злодеятельница.
Но — усердны, терпеливы следователи! Опять к священнику шлют, и снова в «Комиссию» призывают. По слову, по крупице судебную истину из уст доказчицы исторгают.
Все до конца, до самого донышка откроет теперь злодеятельница, никуда не денется!..
Только делась вдруг Марья Ковалева, делась!
Пошел опять по камерам Шкурин, особую надежду на новую доказчицу возлагая. Засовы гремят, надзиратель дверь в темницу распахивает. Шкурин плечи раздвигает, грудь колесом выкатывает, голову выше дерет, чтобы вид его соответственное чину величие имел… Шаг в темную камеру — да как отпрыгнет вдруг флигель-адъютант, потому как в темноте ему по носу чем-то холодным, отвратительно-тошнотворным съездили.
Пригляделся к темноте подполковник, и видит: голая пятка Марьи Ковалевой напротив носа его болтается… А сама доказчица, в чем мать родила, под потолком висит!.. Платье, вишь, с себя сорвала, удавку из него скрутила да на крючке, из потолка торчащем, повесилась. Так и пропала через евреев. Такие дела! Еще одна живая душа не дождалась правды Хаима Хрипуна.
Пришлось злодеев с прежними доказчицами на очных ставках сводить. Сперва новеньких перед ними поставили: а ну как слабину какую-нибудь обнаружат… Куда там!
Что корчмарь Шолом, что Мовша Белецкий, что Нахон Дукаровский… Краснеют, бледнеют, всем телом дрожат, чем участие свое в преступлениях бессомненно и обнаруживают. Однако твердят одно: не знаем, не ведаем! А Янкель Коршаков, призревавший по-дружески Марью Терентьеву, заявил с наглостью, что никакой такой Марьи никогда до ареста не знал и понятия не имел о ее существовании. Однако, увидев ее в лицо, тотчас приметно смутился, головою поник, что и зафиксировала в протоколе «Комиссия» к вящему его уличению. Зейлик же Брусованский бедностью своею «Комиссию» в заблуждение хотел ввести.
— Как это может быть, — говорит, — чтобы такие богачи, как Шмерка Берлин, меня близко к себе допускали и тайные дела со мною делали?
Как будто не ведомо «Комиссии», что евреи все заодно: хоть бедные, хоть богатые — друг за дружку держатся!
— Как, скажите, — гнул свое Зейлик, — я мог этой бабе пятьдесят рублей дать, если я отроду таких денег в руках не держал и видеть не видывал?
Складно говорит хитрый еврей, однако ежели бы в его словах правда была, то отчего, спрашивается, он в таком замешательстве пребывает?
То же и старые знакомые.
Славка Берлин как услыхала про тех двух мальчиков, что врозь головками в бочке лежали, так зашаталась от слабости, голос даже ей перехватило. Все это неспроста! Разве испугалась бы так, ежели б не была виновата?
Потом, правда, оправилась Славка: дерзости опять стала говорить. Откуда только берется в ней столько прыти! Мать ее, старуха Мирка, еще до арестов с перепугу помереть успела. Муж Шмерка, хоть и выглядел богатырем, в тюрьме окочурился; племянник чахоточный Янкель Аронсон тоже отправился в лучший мир, а до него еще — невестка Шифра, с коей, пока в силе была, следователь Страхов забавлялся. Сын овдовевший Гирша — в оковах; все братья — в оковах; братья мужа — в оковах. Да и у самой Славки руки-ноги железом до костей проедены… Давно бы уж, кажется, в отчаяние ей впасть да ничего уж не ждать от загубленной своей жизни. А она стоит перед «Комиссией» — гордая. Глазищи огненные таращит — что тебе пророчица Дебора, прозванная матерью всего Израиля.
— Лгут все доказчицы! — кричит Славка. — Вы сами, — кричит, — научили их, они и врут. Будет время — я опять стану Славкой, и все евреи опять будут дома! Бабы сами скажут, что они вами научены.
Евзик Цетлин аж затрясся весь, как предъявили ему обвинения в святотатстве. Не так младенцы зарезанные испугали его, как святые тайны.
— Вы с ума сошли, — бормотал он, обращаясь к доказчицам. — Где и когда это было?.. Я не знаю, что такое тайны и как можно над ними надругаться…
И при этом еле стоял, и рукой дрожащей пот со лба утирал. Потом, однако, и он стал храбрее.
— Одумайся, — говорит Авдотье, служанке своей. — Скажи, что ты солгала, потому что Страхов тебя научил. Не думай, что везде тебе будут верить, как здесь. Придет время, дело в суд перейдет, там будут у нас еще очные ставки — что ты там станешь говорить?
И все это потребовал в точности в протокол записать.
— Иначе, — говорит, — не подпишу, хоть режьте меня на куски. Вот как расхрабрились евреи!
Хаим Хрипун, как услышал новые обвинения, так за живот схватился, и ну хохотать, хохотать, аж скрутило его от хохота.
— Пощадите, — говорит, — господа следователи, уморите вы меня. Я целую жизнь Талмуд-Тору изучал, а слыхом не слыхивал про святые тайны. Как, говорите, мы их?.. Прутиком, прутиком секли?.. Тайны, значит, секли прутиком… Ха-ха-ха! Нельзя так, господа! Такими шутками до смерти уморить можно…
С трудом великим унял свой смех жидовский Хаим Хрипун. Брови сдвинул и к бабам обратился.
— Вы, — говорит, — не жалеете себя. — Страхов одно обвинение доказать не смог, так теперь новые выставляет, а вы его слушаетесь! Придумать не шутка, только придется вам и в другом месте ответ держать — что вы тогда скажете?
Насилу остановили да в камеру отправили расходившегося Хаима…
Даже Нота Прудков, маленький, юркий, трусоватый Нота с бегающими глазками, — и тот вдруг речи горячие стал говорить да в протокол требовал их заносить. От кого-кого, а уж от Ноты Прудкова не ожидала «Комиссия» такой строптивости.
Он и под арест-то из трусости одной угодил. Его и не думал забирать Страхов, да он, как стряслась та беда, голову потерял, ночами спать перестал: лежит и от шороха всякого вздрагивает. С перепугу отправился к учителю Петрище.
Тот как раз в крохотном садике своем возился. Страстишку невинную имел учитель — розы в садике разводил самых диковинных и редких сортов, а роза — цветок нежный, капризный, особого ухода и обхождения требует, вот учитель и возился с ними: окучивал, навоз к корням подсыпал широкой совковой лопатой, да так и застыл с лопатой в руке, увидев перед собой юркого Ноту: давно уж евреи за три улицы дом его обходили, а этот самолично пожаловал.
— Удивляетесь моему появлению? — затараторил Нота, бросая в разные стороны руками, как только учитель провел его в дом. — Не удивляйтесь, сейчас я вам все объясню. Вы, господин учитель, большое влияние на еврейское дело имеете. Не возражайте, не скромничайте, про вашу дружбу со следователем Страховым весь город знает. Поэтому я и пришел к вам. Я делу желаю помочь и интересное предложение имею сделать. Следователю будет хорошо и мне будет хорошо — всем будет хорошо. Нет, господин учитель, прямо к нему я пойти не могу, потому что если узнает кто-нибудь, что я был у следователя, все будет испорчено. Наберитесь терпения и выслушайте! Главное я беру на себя — пусть только господин следователь не приказывает меня арестовывать. Евреи мне доверяют и обо всем откровенно мне говорят, и я хочу помочь раскрыть это страшное преступление.
Запыхавшись от своей скороговорки, Нота перевел дух и продолжал:
— Вы человек образованный, господин учитель, и знаете, что еврейский закон запрещает употреблять кровь — не только человеческую, но и животных. Еврейские резники особую выучку проходят, как скот резать, и смысл выучки в том, чтобы животное меньше мучилось и чтобы вся кровь до последней капли из него вышла, потому что правоверный еврей скорее умрет от голода, чем станет есть мясо, не освобожденное от крови.
— Что из этого следует, господин учитель? — неожиданно спросил Нота и затем сам ответил. — А то, что если господин следователь думает, что евреям нужна христианская кровь для религиозных целей, он истины не откроет. Возникает вопрос: зачем же они убили мальчика? Пока я этого не знаю. Но они мне доверяют, и я могу незаметно выспросить и через вас следователю передать. Только пусть наши с вами отношения будут в секрете и, главное, пусть меня по ошибке не арестуют…
Говоря все это, Нота жестикулировал с каким-то азартом. Петрища же слушал молча и недвижно, опираясь о лопату, которую так и не выпустил из рук. Так и не сказав ни слова, Петрища молча выпроводил Ноту Прудкова через черный ход.
И в ту же ночь пришли за Прудковым! Сам, выходит, напросился в каземат. Через одну свою трусость!
На допросах, конечно, стал отпираться, юлить, того, что Петрище говорил, не подтверждал. И столько еврейских предприимчивостей с перепугу навыдумывал, что доставил бездну хлопот. Как пришли за ним, чтобы очную ставку с Марьей Терентьевой провести (надо же было признать его доказчице, что тоже мальчика мучил), он за щеку схватился: зубы, говорит, разболелись, мочи никакой нет, дозвольте хоть полотенцем подвязаться. Ему и дозволили по христианскому милосердию. А как признала Марья его, не моргнув глазом, он вдруг и говорит:
— Коли ты меня так крепко запомнила, то скажи-ка господину следователю, есть у меня борода или нет?
Забегали тут, заметались марьины опахала — то на следователя, то на Ноту, то снова на следователя. Сквозь полотенце не видно Марье, есть ли борода у Ноты, один только нос длиннющий еврейский виден. Зарыдала Марья, забилась в конвульсиях от этакой хитрости, Христом-Богом поклялася, а про бороду так ни слова и не сказала. Вот какая получилась еврейская предприимчивость!
Пришлось особо Страхову поработать с Нотой: и маленьким своим кулачком, и плетью, и темным погребом, где на воде и хлебе Нота сам не знал какой срок отсидел, до тех самых пор, как флигель-адъютант Шкурин в Велиж пожаловал. Он и приказал Ноту из погреба выпустить.
Как полоснул Божий свет по отвыкшим нотиным глазам, глупый еврей пуще прежнего перепугался да поскорее заявил, что имеет важное признание сделать. Но не иначе как самому генерал-губернатору князю Хованскому.
Возликовала «Комиссия», предчувствуя скорое окончание дела: давай, выкладывай, Нотка, чего там к князю ездить, ты тут все выложи, мы в протокол запишем, а князю, не сомневайся, все честь по чести донесем! Однако уперся Нота: или самолично князю, или никому.
Пришлось в Витебск везти упрямого еврея. Только ничего важного он и князю не показал. Руками размахивал, брызгал слюной, уверял, будто не надобна евреям христианская кровь…
Из-за такой ерунды обеспокоить заставил благодетеля-губернатора!..
Проучил его Страхов примерно, как воротилися в Велиж. Три ночи подряд учил, а флигель-адъютант Шкурин на то время удалился из города по неотложному делу. Не спускать же такого фортеля хитрющему еврею! Ну, а если откроется что про незаконность дознания, то его, Шкурина, при том не было.
Затих Нота после той науки, так затих, что решила «Комиссия»: впрок наука пошла. И только через полгода открылось, что Нота тем временем ход подземный из своего каземата ухитрился прорыть, через него сообщался с волей, куда передавал все, что в «Комиссии» происходило, и оттуда получал важные для их дела вести. А весною, как лед на Двине сошел, он и вовсе решился бежать да полтораста верст за одну ночь на утлой лодчонке отмахал. Задумал до Петербурга добраться да самому государю в ноги упасть.
Ноту, ясное дело, изловили и в каземат опять водворили. А Страхов и вовсе озверел после того побега. Шкурин даже и отлучаться не стал из Велижа. Разделал Страхов Ноту Прудкова — чистая получилась работа. Весь, почитай, в кусок сырого мяса превратился еврей. Взмолился под конец Нота, прохрипел с трудом, что Святое христианское крещение желает принять!
Дала ему отдышаться «Комиссия», месяц прошел, пока следы истязаний кое-как затянулись на Ноте, и можно стало прислать к нему священника.
— Какое крещение? — изумился Нота. — Не знаю ни про какое крещение!
Как услышал Страхов о новой коварной еврейской предприимчивости, так схватил плеть и ринулся в Нотину темницу, но Шкурин с кислой гримасой его остановил:
— Черт с ним, пусть в аду жарится нехристь, будем еще нервы трепать из-за трусоватого еврейчика…
Конечно, после всех этих выкрутасов Нота тише воды, ниже травы. Только и он вдруг, повернувшись к писарю, продиктовал показание, предупредив, что если не будет записано все слово в слово, он протокола не подпишет.
— Здесь нет законов, нет правды, — диктовал Нота, — верят распутным бабам. Государь не тех людей прислал. Я только оговорен в убийстве, а вы меня допрашиваете, как разбойника. Это не следствие, а насильное нападение на евреев. Вы научили баб говорить против нас, чтобы истребить всех евреев, потому что если докажете, что мы убили мальчика, то не мы одни, а все евреи будут виноваты! Но мы не боимся вашей неправды. Пусть только дело выйдет из «Комиссии», и с нами ничего не будет, а вас будут судить за то, что делаете все беззаконно!..
Сговорились! Не иначе, как, даже упрятанные в казематы, сговориться сумели евреи, чтобы речи крамольные перед следователями говорить да требовать, чтоб в протокол их вносили.
…Да если бы одно это портило кровь членам «Комиссии».
На запросы-то об убиенных младенцах отовсюду ответы поступать стали, и конфуз один для следователей из тех ответов выходит.
Помещик, правда, один сообщил: точно, бежала от него крестьянка по имени Настасья с двумя сынами малыми, да как в воду все трое канули. Ну, Шкурин со Страховым возликовали безмерно: вот, стало быть, те два мальчика, про коих Терентьева показывает, что на базаре их встретила и к Берлиным заманила! Ан, по уточнению оказалось, что пропажа та у помещика лет на семь-во-семь позднее произошла. Не те, стало быть, были мальчики…
От других двух мальчиков и двух девочек, что в корчме Шолома были замучены, тоже не осталось никаких следов, словно и не жили на свете!
А если и вправду не жили?..
Морщит лоб от великой мозговой натуги подполковник Шкурин, и видится ему, как, брюхо надрывая, приседая от смеха, по ляжкам себя лупцуя, хохочет Хаим Хрипун.
— Ой, не могу, — кричит, — уморили вы меня, господа следователи! Были ли вообще мальчики и девочки те?
Заседает «Комиссия», бумаги молча перебирает. Страхов Шкурину в глаза испытующе смотрит: твоя, мол, затея, флигель-адъютант паршивый! Тоже мне со столичными советами явился! «Широта! Охват!» Вот и расхлебывай теперь твою широту!
Шкурин, однако, глаз не отводит, холодный блеск в них и решимость в лице, даже мягкий округлый подбородок его квадратным сделался, и ямочка, выдающая мягкость характера, вовсе изгладилась. «Не думаешь ли ты, вошь провинциальная, — весь вид его говорит, — меня козлом отпущения сделать? Может, на покровителя своего князя Хованского надеешься? Так не забудь, что мои покровители у самого подножья трона сидят! Ага, заметались, забегали волчьи глазки твои! Испарину ты уж со лба утираешь!..»
И снова добродушен флигель-адъютант Шкурин, снова подбородок его привычные округлые очертания имеет, и на месте своем законном ямочка, выдающая мягкость характера.
— А как вы полагаете, господин Страхов, в чем сила евреев, с коими мы столько лет бьемся, а одолеть не можем? В том, голубчик, что они друг за дружку держатся! Вот и нам, господин следователь, друг за дружку надобно держаться, потому что в деле сем мы с вами одной веревочкой повязаны, и как только поврозь станем действовать, так вернее оба и пропадем.
— Так-то оно так, господин подполковник, — отвечает невесел о Страхов, — только думается мне, что и без того уж мы с вами пропали. Помните ведь повеление государево: «Узнать, непременно, кто были несчастные сии дети. Это должно быть легко, есть ли все это не гнусная ложь». Вот ведь как вопрос поставлен: либо подай детей убиенных, либо ложь все! А ежели ложь, то мы с вами, господин флигель-адъютант, последние олухи, потому как темные бабы нас за нос четыре года водят.
И замолк при этом следователь Страхов, и ничего не ответил ему следователь Шкурин: оба молитвенно руки сложили и взоры свои на портрет государя, что стену ликом своим благостным украшал, устремили.
Государь ты наш, батюшка! Император ты Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, и прочая, и прочая, и прочая! Ты ж самодержец наш!.. Не вели, государь, казнить, вели слово молвить. Через усердие наше великое, через старание чрезмерное, через бдение наше в угоду высказанным и невысказанным велениям твоим пропадаем теперь! Помилуй, государь, детей твоих неразумных! Неужто, государь, будешь ты суров с нами из-за каких-то паршивых евреев?!
Глава 20
И — словно не государь даже, а Всевышний сам услышал смиренный глас сей. Словно Христос сжалился над заблудшими овцами своими и послал ангела своего ради их спасения и вящего уличения неверных.
Ибо предстал вдруг перед «Комиссией» длинный, тощий, согнутый как вопросительный знак, в рубище рваное, вонючее выряженный, ангел Божий Антон Грудинский.
Обещали мы поведать о нем в самом начале повести нашей — вот и пришла пора обещание исполнить.
Ах, Антон, Антон, голь ты несчастная! Не был бы ты сейчас вовсе Антоном, а оставался бы ты просто Ароном, как нарекли тебя при рождении несчастном твоем. Оставался бы ты, говорю, Ароном, кабы не обычай местечковый еврейский- детей без спроса друг на дружке женить. Нареченную-то свою Хасю ты ведь только под хулой впервые и увидал. Выгодную сделку отец твой — голь перекатная — с отцом невесты твоей заключил, ибо вместе с Хасей отошла к тебе и торговля скобяным товаром. Только — увидел ты Хасю под хулой, и отшатнулся в диком испуге, и не мила тебе стала торговля скобяным товаром. Лицо-то у Хаси красное, мятое, как жеваный помидор; глазки жиром заплыли, нос, словно кукиш с маслом, лоснится, и зуб кривой желтый изо рта высунут.
Ладно, к жеваному лицу Хасиному ты бы как-нибудь притерпелся, Антон, то есть тогда еще просто Арон, да пищи стала от тебя Хася требовать.
Детишек горазда оказалась Хася рожать, подзатыльников им раздавать; дом на себе держит да торговлишку скобяным товаром в лавчонке ведет. Ты и оглянуться не успеешь, Арон, как новый ребятенок писк поднимает, рот огромнейший разевает. А скобяным товаром, Арон, ребеночка-то не накормишь.
Ну, Хася твоя, Арон, не промах, Хася с товаром кой-как управляется, да детишек кое-как кормит, да и ты, Арон, тоже не голоден. Только сердится Хася на тебя, велит и тебе пищу для семейства добывать. А где тебе пищи добыть, когда ты такой длинный и нескладный, и руки у тебя словно из глины вылеплены, все из них вываливается.
Пыталась Хася тебя к торговле скобяным товаром приспособить.
— Хоть какая-то польза, — говорит, — чтоб от тебя была.
Ну, торговал ты, как всякий торгует, только выгнала тебя Хася из лавки через четыре дня.
— Чтоб мне, — кричит, — столько грехов на том свете насчитали, сколько прибыли твоя торговля принесла!
Так и жили вы с Хасей, Арон. Торговля скобяным товаром — она; детишек рожать — она; кормить их, обмывать, одевать — тоже она; дом содержать — снова она. А ты из угла в угол ходишь, со стула на скамью пересаживаешься, руки свои глиняные в рукава прячешь.
Кажется, хорошо?
Все бы хорошо, если б не характер Хасин. Пока в лавочке скобяной сидит, так нет ее. А как придет в дом — волчицей на тебя набрасывается. И дармоед ты, Арон, и бездельник, и в огне бы тебе гореть, и голову бы сломать, и для погибели ее ты на свете живешь. И только бы словами тебя донимала!.. То тарелку тебе в голову бросит, то скалкой промеж лопаток огреет, а то и за кочергу схватится. И чем тише, чем печальнее, чем беззащитнее смотришь ты на нее грустными глазами твоими, тем пуще злится неразумная женщина.
— Хоть ты бы исчез куда-нибудь, несчастье ты жизни моей! — кричала на тебя Хася.
Ну, ты и исчез, Арон.
Соскользнул в одну теплую лунную ночь с супружеского ложа, на коем Хася твоя, утопая в высоченных перинах, после тяжкого трудового дня постанывала, очистил кассу скобяной лавочки, что в особом ящике комода хранилась, и зашагал ты, Арон, прочь от местечка Бабовны длинными, как у журавля, ногами твоими!
На тяжкую долю обрек ты себя, Арон Грудинский, ибо руки твои так и остались глиняными, ни к какой работе не приспособленными, и брюхо твое, Арон, все больше пустым оставалось, и просыпаясь поутру, не знал ты, где приклонишь голову свою ввечеру.
Не раз подумывал ты, Арон, восвояси воротиться. Однако, как вспомнится тебе мятая физиономия Хасина, да тарелка, метко рукою ее в голову твою запущенная, так затянешь ты потуже веревкой лохмотья на чреслах твоих, сверкнешь погасшим взором и скажешь в сердце своем, припомнив вдолбленные в тебя хмурым меламедом слова величайшего из пророков:
— Лучше свободным замерзнуть в пустыне, — скажешь ты, — чем горшки с мясом принимать из Хасиных рук!
И замерз бы ты, Арон, в кусок льда бы ты обратился, если бы не подобрала тебя у порога дома своего, одиноко среди полей стоящего, добрая душа Зося.
Не гордой вовсе оказалась полячка-вдова, тебя подобравшая. Собственными руками белыми в баньку истопленную она тебя сволокла, лохмотья вонючие с тебя сорвала, веничком душистым березовым косточки твои поразмяла, в бельишко, что от мужа-покойника осталось, всунула, да в собственную свою постельку спать уложила.
Прижился ты, Арон, на хуторе, и любовью великой воспламенилось к тебе одинокое Зосино сердце. Щедра на ласку оказалась Зося-вдова, не то что мегера Хася. Как приласкает тебя и приголубит, и ну сладкие речи тебе говорить.
— Я, — говорит, — Арон, удержать тебя при себе вовсе и не мечтаю. Молод ты, сокол мой, а я старухой скоро стану, даром что в матери тебе гожусь. Как надоем тебе, так и уходи, я поплачу только, а слова худого вслед тебе не скажу и помысла худого о тебе не помыслю. Об одном душа моя, Арон, сокрушается, что помру я, и ты как пришел сюда нищим, так нищим и останешься. Вот кабы был ты законный мой муж, то хутор после меня к тебе бы отошел!..
— Глупости ты говоришь, Зося, — возражал ей Арон. — Рано тебе еще помирать, к тому ж я еврей, а ты христианка! Нешто ты еврейскую веру, — ухмылялся Арон, — примешь, как Марья Терентьева, что в городе Велиже, говорят, детишек резала?
— Тебе все шутки шутить! — возражала Зося. — В еврейство мне поздно уж переходить, а вот тебе бы веру Христову принять! И достояние мое к тебе отойдет, и душу свою спасешь, и сожительство наше грехом не станет, и дело это святое, что ты через меня в веру Христову перешел, мне тоже зачтется. Глядишь, в рай Господь нас по милости великой своей и доброте определит, и мы с тобою в раю опять повстречаемся…
Такую вот ерундовину, уставши от ласк любовных, плетет баба в постели пуховой, к Арону телом своим горячим жмется, и хорошо Арону речи те слушать, да над глупой вдовой незлобно подтрунивать.
Только занемогла вдруг вдова, аж согнулась вся. И в правом боку у ней колет, и сердце заходится, и задыхается по временам. Тает, желтеет вдова на глазах Ароновых и все чаще, настойчивей речи ведет к тому, значит, чтобы креститься Арону, обвенчаться с нею да хутор ее унаследовать.
А Арон-то не прочь! Арон-то для куража и кокетства одного упрямится! У него ведь в душе стойкое отвращение к Талмуд-Торе, а с нею и ко всем обычаям-законам еврейским.
Пятилетним мальцом Арончика к меламеду в смрадную избу отвели, да не было радости ему от учения. Другие-то дети — кто ситничек с собой принесет, кто сыру или творогу, да как начнут в перерыве жевать, а у Арончика слюнки текут и голова от голода кружится — пойдет ли на ум учение? Меламед сердится; то линейкой по пальцам бьет, то цепелинкой протянет, а то и на горох коленками поставит. А сколько раз лоза березовая заднее место Арончику щекотала!.. Одна радость — суббота, когда в хедер не надо бежать, и стол скатертью белой накрыт, и отец, что все дни сердит и озабочен, в субботу весел и добр, шутит, молитвы нараспев произносит, и свечи субботние празднично горят, создавая радость и уют в убогом жилище.
Так что же — по воскресеньям что ли свечи хуже горят, чем по субботам?
Париж, черт возьми, стоит обедни — это великим человеком сказано! И пусть тех слов не слыхивал никогда Арон — до их смысла собственным умом дошел. Ну, а хуторок зосин — не тот ли же Париж для замерзавшего недавно бродяги?
Ан, коварству женскому укажешь разве предел! Едва обвенчался Арон, то есть уже Антон Грудинский с Зосей-вдовой, так все хворости ее и улетучились!
— То ангел небесный здоровье мне воротил за богоугодное дело, — смеялась Зося. — Теперь до ста лет буду жить!
Слово за слово, и призналась законная жена Аронова, то есть теперь Антонова, что и не хворала вовсе, что хитрость то с ее стороны была, ложь во спасение! Ибо шибко полюбила она Арона, то есть Антона, и о душе его заблудшей да об адских муках, на том свете ему уготованных, сердцем своим изболелась.
— Как говорила тебе, так и скажу, — шептала Зося, лаская своего Антона. — Уйдешь от меня — не попрекну ни словом, ни помыслом. Мне и того довольно, что ты теперь в истинной вере, и в раю мы с тобой опять повстречаемся.
Ничего не возразил ей Антон, только шибко задумчив стал. Зачем же надо было хитрить? Ведь он и так бы в веру ее перешел — что ему та вера! И незаметно, по капле малой, густая злоба в сердце антоновом стала копиться. И мысль привязчивая возникла. Долго мучился той мыслью Антон, гнал ее от себя, да она с другого боку в душу влезала. И житья не стало ему от той мысли, и решился однажды.
Соскользнул ночью глубокой с супружеского ложа и воротился назад с топором…
Зося мирно спит в высоких перинах. Седеющие волосы по подушкам раскиданы, на усталое после любовных утех, почти старушечье лицо матовый свет луны, пробивающийся сквозь неплотно притворенные ставни, сетку тонких морщинок, словно вуальку, накинул; слабого дыхания не слышно совсем; только еле заметно пульсирует жилка на шее.
Постоял Антон над спящей Зосей, топор уж над головою занес, да тошнота вдруг подступила к горлу, перед глазами круги пошли, и грохнулся на пол топор из глиняной его руки.
Вскочила в постели испуганная Зося, а Антон Грудинский бежать бросился из спальни супружеской, из теплого домашнего уюта, от стареющей вдовы, от погибели верной — ее и своей…
Не много деньков понадобилось, чтоб в рубище обратилось платье Антоново, а голод и холод еще прежде того железными тисками его охватили, согнули в вопросительный знак долговязую его фигуру. И опять не знает утром Антон, где приклонит голову ввечеру, и убеждается Антон, что на церковной паперти еще меньше подаяний соберешь, нежели в синагоге еврейской. И тяжка Антону жалкая участь его, вдвойне тяжка после зосиного хлебосольства. И целому свету за участь свою отомстить надобно…
— Господа следователи! Я имею заявление сделать.
И тотчас встрепенулся следователь Страхов, воспрял духом флигель-адъютант Шкурин — оба нутром почуяли: то ангел небесный с благой вестью к ним послан; ему ведь и положено — ангелу — в рубище рваном быть да длинный нос еврейский на лице нести.
А писарь, тоже что-то почуявший, уж торопится перо гусиное очинять да ножичком кончик его надвое расщепляет.
— Гиндома цирихим домей акум сельвицвес! — сообщает благую весть ангел небесный Антон Грудинский. — Так называется секретная книга Рамбана, в коей еврейские правила прописаны, как христианских детей замучивать. Книга сия во всякой синагоге есть и всеми евреями усердно изучается.
Глянул тут Страхов пылающим взором в глаза Шкурину, глянул Шкурин ликующе в глаза Страхову… Остановись, мгновение, ты прекрасно! Вот он, миг торжества! Вот награда великая за понесенные труды! Как мудр государь император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая! Кабы не приказал все школы еврейские печатями запечатать, так уж, верно, припрятали бы ту книгу евреи: они ведь, известно, всегда друг за дружку стоят. А теперь-то все проще пареной репы! В каждой синагоге, в каждой школе и молельне еврейской книг-то всяких — о-го-го! Нарядим-ка полицейских, пусть печати снимут да книги те поскорее доставят.
А Антона Грудинского накормить-напоить надобно. Да рубище смердящее приличным платьем заменить! Давно ведь уж ищет «Комиссия» книги те секретные, специальные суммы для этой цели ей выделены. Вот на счет этих сумм и привести в Божеский вид ангела-доказчика можно…
И — куда девался согнутый, как вопросительный знак, нищий оборвыш с впалой грудью, свалявшимися волосами и длинными грязными пальцами, вылезающими из полусгнивших лаптей! Где лихорадочный нездоровый блеск в воспаленных, измученных голодом и недосыпом глазах? Отъелся и отоспался Антон, как не отъедался и не отсыпался с той самой поры, когда убежал с вдовьего хутора. Чист теперь Антон и опрятен — хоть снова ступай под венец!
Вот следователь Страхов по левую руку от Антона сидит. Сколько людишек завалящих может он на ноготок свой розовенький положить, другим ноготком прижать да кишочки и выпустить! А как сжался весь, как впился в Антона волчьими своими глазками!..
Антон вроде и не глядит на него, да боковым зрением все подмечает. Неторопливо, спокойно, с нарочитой даже медлительностью берет Антон книгу из груды; перед собою кладет; открывает. И каждое движение его Страхов взглядом нетерпеливо-просительным провожает. Долго листает книгу Антон, губами шевелит.
— Ну, эта? Эта книга, что ли? — спрашивает взгляд Страхова.
Словно дразня его, покачивает головой Антон. Книгу в сторону отодвигает, не спеша за другой тянется. И как собачонка, ждущая куска от хозяйских щедрот, следователь ожидающим взглядом руку Антонову сопровождает. Ну? Эта? Эта? Может быть, изволит, наконец, рука Антонова бросить сахарную косточку?..
А справа от Антона сам подполковник Шкурин сидит, не кто-нибудь — флигель-адъютант государев! Эполеты золотом отливают, полные розовые щеки пышут здоровьем. Усы щеголевато подкручены. Тонкими французскими духами благоухает. Ежели пожелает подполковник, так весь Велижград завалящий может на ноготок свой розовый уложить! А ведь точно как Страхов: надежду на одного Антона Грудинского теперь имеет и так же по-собачьи каждый жест его провожает…
«Ну, что скажешь, мегера Хася? Это тебе не тарелки в голову бросать!» — ухмыляется Антон и чувствует, как, заметив ухмылку его, подобрался слева от него Страхов и как напружился справа от него Шкурин.
— Эта? Эта, что ли? — не выдерживают оба. Медленно новорачивает в левую сторону длинный свой нос Антон Грудинский, бывший Арон, долго вопросительно смотрит в глаза следователю Страхову, потом поворачивается вправо, смотрит в глаза подполковнику Шкурину.
— Не худо бы закусить, господа, на голодный желудок много не наработаешь!
День, неделю, месяц перебирает книги Антон Грудинский. Тепло и сытно Антону и спешить ему нет никакой надобности.
Однако все больше нетерпения проявляют господа следователи, все чаще переглядываются за его спиной, и невысказанная тревога в их взглядах: уж не насмехается ли над ними эта, хоть и перекрещенная, а все ж несомненно жидовская морда…
— Я вижу, вы не доверяете мне, господа, — спокойно произносит Грудинский. — Между тем, книга, о которой я имел честь вам доложить, имеется. Вот она, господа, держу ее в руках.
— Не может быть! — подскакивает Страхов.
— Невероятно! — приподымается Шкурин.
— Гиндома цирихим домей акум сельвицвес! — отчеканивает Грудинский, стукая твердым глиняным пальцем по твердому переплету. — Сочинение равви Рамбана. Не угодно ли ознакомиться с содержанием сего сочинения, господа? После обеда, конечно. Время, господа, закусить! А после обеда приступим к переводу наиважнейших мест. Могу, между прочим, и инструменты, в этой книге описанные, какими совершается злодеяние, изобразить, потому как не раз оные видывал…
И новая теперь работа пошла у Антона Грудинского!
Опять он сурового меламеда добром вспоминает, и из книги той переводит. Писарь пером скрипит, лист за листом диктовкой Грудинского заполняет. А следователи внимают, и волосы на головах их шевелятся. Книга-то, оказывается, такими деловыми подробностями наполнена, словно не об убийстве детей христианских, а об обычной какой-то работе в ней говорится. Кажется, у любого изверга заледенеет душа, а евреям — хоть бы что! Даже «Комиссия» не ожидала от них такого хладнокровного зверства. Все от пагубного учения их! Они же себя избранным народом почитают, а других вовсе за людей не признают. Вот и нет им разницы, что скотину резать, что детей христианских.
И мчит уже курьер, нещадно загоняя лошадей, донесение в Витебск, генерал-губернатору князю Хованскому. А из Витебска другой курьер летит в Петербург — к начальнику штаба его императорского величества барону Дибичу. А барон Дибич в неурочный час о новости необыкновенной, вековую тайну разрешающей, государю императору Всероссийскому торопится доложить.
— Хотя подполковник Шкурин и предполагает, что одна нищета и ожидание награды побудили Антона Грудинского открыть сию ужасную тайну, тем не менее, не угодно ли будет Вашему величеству признать поступок означенного выкреста заслуживающим всяческих похвал и, дабы побудить его к дальнейшему рвению, не сочтете ли соответствующим видам правительства примерно его наградить?
— Всенепременно, барон! — отвечает государь. — И подполковника Шкурина — тоже. Пусть все видят, как награждает русский царь верных своих подданных! Пусть подполковник Шкурин самолично доставит выкреста в Петербург вместе с его книгой. Затосковал, небось, флигель-адъютант в этом еврейском Велиже, так ему случай поразвлечься в свете. Рассказы про ужасы жидовские принесут ему немалый успех у дам.
А подполковник Шкурин, едва донесение о необыкновенных показаниях Антона Грудинского отправил да опомнился малость, как шлепнет себя рукой по лбу:
— Как это, — кричит, — мне раньше мысль сия в голову не приходила!
И только начал мысль свою следователю Страхову излагать, тот тоже — хлоп себя по лбу:
— Мне-то, мне-то, — кричит, — почему мысль сия за столько лет ни разу в голову не пришла!
Вечером, правда, когда сидели за чаем, учитель Петрища их несколько охладил. Выслушал, покачал головой, огладил бороду белой своей рукой и начал, как всегда, неторопливо, негромко и вкрадчиво:
— Нет, господа, воля ваша, и ежели этот Антон Грудинский такую услугу делу оказал, то тем лучше, однако же с выкрестами сугубая осторожность надобна. Доверять им нельзя. Это ведь только говорится так, что все зло еврейское в вере их басурманской; окрести, мол, евреев, и мигом злодейства их прекратятся. Точно крещением носы их длиннющие укоротить можно. Иной примет христианскую веру, а поди скажи что при нем супротив евреев — глотку готов перегрызть. «Как вы смеете, кричит, а еще образованным человеком считаетесь!» Вы ему про случай конкретный. Как еврей, к примеру, вашего знакомого купца на ярмарке облапошил. А он вам свое: «Правильно ли ваш купец факт изложил — это еще проверить надобно. Может, и наоборот было: он сам еврея обжулил. Вы, дескать, только одну сторону выслушали и уже вывод делаете. А если и верный тот факт, то кто вам право дает на целый народ его переносить? Евреи, мол, люди, а не ангелы; есть среди них и жулики, и злодеи, и воры, так ведь такого добра в любом народе достаточно. Почему, говорит, вы отказываете евреям в праве иметь своих негодяев? Разве не попадаются среди русских убийцы, насильники, мошенники? Не говорите же вы, что все русские-убийцы оттого, что один — убийца». Послушаешь такого выкреста, так евреи ничуть христиан не хуже! Зачем же ты, спрашивается, Святое крещение принимал? Может, для виду только, чтобы сподручнее было еврейство выгораживать да доверчивым христианам вредить? Оно, конечно, отмахиваться от них не след. Иные ведь прежних единоверцев своих лютее, чем коренные христиане, ненавидят и всякие предприимчивости еврейские наисильнейше изобличают. Взять хоть для примера бывшего раввина, что книгу эту наиполезнейшую сочинил, — и Петрища огладил белой рукой книгу, лежавшую перед ним на столе.
Книгу он давно уже вторично вслух для подполковника Шкурина перевел, но всякий вечер приносил с собой — то ли по укоренившейся привычке, то ли на всякий случай: вдруг господа следователи захотят что-либо припомнить или уточнить.
— Опять же — Антон Грудинский, — напомнил Страхов.
— Да! — согласился Петрища. — Так что действия ваши, господа, я всецело одобряю, но насчет общего принси́па согласиться никак не могу. Осторожность надобна с выкрестами. Сугубая осторожность! — и он стал большими глотками допивать остывший чай.
Подполковник Шкурин большущее уважение к учителю Петрище испытывал. С тех пор, как появился он в Велиже да познакомил их Страхов, они втроем вечера коротали. Страхов все уговаривал Петрищу сказки про жида вороватого флигель-адъютанту пересказать, но только отмахивался да отшучивался на это Петрища. Проницательным взглядом своим он углядел в Шкурине иного полета птицу: такая на сказочки не клюнет.
К философским рассуждениям склонность имел флигель-адъютант, и нередко целые ученые диспуты возникали у них за чаем. Подполковник линию представляемой им власти обосновывал, а учитель вкрадчивым голосом своим не то чтобы возражал ему — такой крамолы, чтобы властям возражать, учитель себе, конечно, не позволял — а все же как бы некоторые сомнения высказывал.
— То, что малолетних детей у евреев теперь в рекруты забирают, это хорошо, — рассуждал Петрища, прихлебывая чаек. — И то, что там, в службе, их добровольное крещение принимать побуждают, это еще лучше. Тут супротив ничего не скажешь — что можно сказать супротив? Однако ежели правительство те виды имеет, чтобы через рекрутскую повинность весь быт еврейский преобразить и нравственность сего зловредного племени улучшить — тут, господин подполковник, я сомнение большое имею, ибо знаю, как крепко евреи за законы свои держатся.
— Так ведь рекрутчина — только одна из мер правительства, — напоминал ему Шкурин. — Частная, так сказать, мера. Вы про главное не забывайте. Главное — это черта! Чтоб не расползлась еврейская зараза по всей России. Ведь за пределами бывших польских да малороссийских губерний евреям селиться не дозволяется. Да и в самих сих пределах власть, как вы знаете, не оставляет их без бдительного попечения. Вот повеление есть: из приграничной полосы, в пределах пятидесяти верст от границы, евреев всех выселить! Чтоб сношение их с единоверцами других стран пресечь!.. Опять же старается власть из сел и деревень в города и местечки их вывести, чтобы, значит, от мужиков их пагубное влияние отвратить. А из городов тоже будем выводить. Из Киева вон уже вывели. Теперь Севастополь и Николаев на очереди.
— Гнать — это хорошо, оглаживая нежной, почти девичьей рукой бороду, задумчиво соглашался Петрища. — Только при этом большая твердость требуется, ан твердости-то нам часто и недостает. Вон гнали их тут из деревень — хорошо. А как начали они болеть да помирать сотнями, скученные в городах, так сам же наш генерал-губернатор князь Хованский, по безграничному христианскому милосердию своему, приостановить то изгнание всеподданнейше запросил. И остается тот благодетельный приказ государя неисполненным. Опять же посудите: ну, выгоним мы их из деревень, так они ж города переполнят! А выгоним из городов — они по деревням разбредутся…
— Ну, хорошо, — горячился Шкурин. — А вы-то что предлагаете?
— Я-то предложил бы, — прикрыв глаза и оглаживая белой нежной рукой бороду, отвечал Петрища, — да человек я маленький, кто меня станет слушать?
— Ну, а все же, все же. Мы ведь с вами в философском плане рассуждаем. Что бы вы предложили сделать, господин учитель, если бы, к примеру, вас вытребовали в Петербург да сам государь бы вас принял и сказал бы: «Господин Петрища! Слышал я, что ты евреев хорошо знаешь и свое мнение по еврейскому вопросу имеешь. Как ты посоветуешь твоему государю с племенем сим зловредным поступить?» Что бы вы на это ответили?
— На это? — задумался Петрища. — На это я сказочку про жида вороватого государю бы рассказал.
— Сказку! — оживился давно уж скучавший Страхов и хлопнул себя по коленке.
— Нет, господин Страхов, — обратился к нему Петрища. — Не такая будет сказочка, какую вы ждете. Не веселая это сказочка и очень короткая. Слушайте.
— Ехал офицер проселком, в корчме еврейской приставших лошадей сменить остановился, да у корчмаря Ицки, жида вороватого, не достало лошадей.
Петрища замолчал, стал не спеша прихлебывать чай.
— Ну, и что офицер? — нетерпеливо спросил Страхов.
— Офицер, конечно, рассердился, — не торопясь продолжал Петрища, — и недолго думая, заложил в пристежку самого Ицку, жида вороватого. Ну, хорошо, это ничего. Ицка — везет. Но офицеру этого мало, он Ицку давай кнутом погонять. Хорошо, и это ничего: Ицка — везет. Офицер погоняет, да весело ему стало. Он и кричит Ицке:
— Завивайся! Завивайся!
— Ну, хорошо, что делать Ицке? Начал он завиваться на пристяжи. Завивался, завивался, потом затянулся, надорвался и — помер.
Петрища помолчал, посмотрел цепким взглядом своим на Страхова, явно разочарованного краткостью сказки, потом на Шкурина, и спокойным вкрадчивым голосом своим закончил:
— Вот вам, господа, окончательное и полное решение вопроса. В философском то есть аспекте.
— То есть, как это понимать? — спросил Шкурин. — Вы что же — предлагаете всех их… того?..
— Того, — кивнул Петрища. — По моему то есть разумению.
— И стариков, и женщин, и детей… малых? — горло Шкурину чем-то сдавило, и слова выходили с трудом, с каким-то шипением.
— Старикам все одно помирать, а детишек невинных жалко, — спокойно сказал Петрища, оглаживая бороду белой, почти девичьей рукой. — Только ведь если детей оставить, они вырастут и сызнова расплодятся.
— Нет, господин учитель! Нет и еще раз — нет! С этим мы никогда не согласимся! — Шкурин от волнения встал из-за стола и заходил по комнате. — Народец этот поганый, тут у нас с вами спору нет. Однако промысел Господен сохранил же его для какой-то надобности в течение стольких столетий. Пути Господни неисповедимы, и нам остается только подчиниться воле Всевышнего и позаботиться о сохранении сего вреднейшего из народов.
— Ну, ежели вы так вопрос ставите, — ответил вкрадчивым голосом своим Петрища, — то я вам в том смысле возражение могу сделать, что, может быть, Господь для того и сохранил евреев, чтобы нашими руками с ними покончить. Наш народ русский — главная опора истинной веры православной, вот нам, может быть, честь эта и предоставлена! В народе-то силища вон какая таится. В том все только дело, чтобы силе той верное дать направление.
— Направление! Вот именно: направление! — подхватил вдруг с неожиданным азартом Страхов. — Как вы это умеете, господин учитель, так ловко все выразить! Мне вот только неясно одно: как быть с выкрестами? Их и теперь уже порядочно развелось, а ежели мы станем их… того, так они валом в христианство повалят. Не все же такие упорные, как Хаим Хрипун! А ежели еврей христианство примет, так он уже как бы и не еврей, по закону-то. Его уж не только нельзя будет… того, а и в черте не удержишь. Вот и расползутся они со своими жидовскими предприимчивостями по всей России!
— С выкрестами сложное дело, — подумав, согласился Петрища. — Я бы их тоже всех… Я бы по носам! Носы бы измерял, и у кого длиннее положенного, того, значит… того. Вы правильно изволил и заметить, господин Страхов: сегодня он выкрест, а завтра опять в иудейство воротится. Лучше уж всех. Оно спокойнее будет. То есть сперва, конечно, упорных иудеев надо… того. Выкрестам же, напротив, всякие милости и льготы обещать — при условии, что они свою преданность христианству делами докажут. Вот и будут они из кожи лезть, всякими предприимчивостями помогая нам отыскивать и уличать евреев! Большая польза от этого может произойти. Пока силы есть у Ицки вороватого, пусть везет. А надорвется, тогда и… того.
— Значит, польза от выкрестов может быть? — спросил Шкурин.
— Ежели соблюдать сугубую осторожность.
Глава 21
«Комиссия» донесение генерал-губернатору отправила, а генерал-губернатор, всегда «Комиссии» помочь готовый, циркуляр по трем подвластным ему губерниям разослал: образованного выкреста из евреев разыскать да в Велиж доставить.
И вот уж на месте Антона Грудинского сидит между подполковником Шкуриным и следователем Страховым ксендз Подзерский — маленький, пухленький, в больших очках на неожиданно крохотном, кругленьком и твердом, как орех, носике. Пухленькими ручками книги перебирает, «Дело» листает да все на стуле своем подпрыгивает. То к следователю Страхову, то к подполковнику Шкурину наклоняется и говорит, говорит без умолку, словно горох сыпет:
— Что да, то да, господа следователи, а что нет, то нет! Разве я скажу «нет», если «да», и «да», если «нет»! Таки правильно господин Грудинский из книги вам переводил! Что да, то да! То есть я вам таки скажу: чтобы звезды с неба сгребать, так совсем нет! Meламед, я думаю, мало стегал господина Грудинского по мягкому месту. Что да — то да! Ошибок и неточностей в его переводе столько же, сколько звезд на небе, откуда господин Грудинский их не снимает. Разве я скажу «нет», если «да»? Таки я говорю «да», потому что в книге этой таки написано про кровь и про ножи, и в какое место ножи надо всаживать, чтобы кровь до последней капли вытекла. Это — да! А если да — то да! Разве я скажу «нет», если «да»?
Страхов и Шкурин торжествующе переглянулись за спиной Подзерского.
— Но тут возникает маленькое нет! — с жаром продолжал ксендз. — Ибо «гандома», как изволил прочитать господин Грудинский — слово вообще не еврейское и ничего не значит. «Цирихин» надо читать как «цирихим» — по-еврейски «нужно», «домей» — правильно будет «демей», таки означает «кровь», а «акум» — язычник. Остается — «сельмицвес». Это похоже на «шельмицвот», что означает «заповедей». Таки получается: «нужно кровь язычник заповедей». Как вам это нравится? Таки я же говорю: нет никакого смысла. Ни у Рамбама, ни у других еврейских писателей вы такой книги таки не найдете. Что нет — то нет. Разве я скажу «да», если «нет»?
При этих словах Страхов и Шкурин переглянулись с недоумением.
— Что же это за книга, из которой переводил вам господин Грудинский? — поворачиваясь направо и налево и все более увлекаясь своей диалектикой, спросил ксендз и тут же ответил. — Это книга об убое скота! Что да, то да: такая книга есть в любой синагоге, потому что еврей скорее умрет с голоду, чем съест кусок говядины, если он не уверен, что корова забита по всем правилам. У евреев строго на этот счет! Вы спросите, зачем такие строгости? Так я вам скажу: сколько я учился Талмуд-Торе, никак не мог этого понять. Я таки стал думать! Я стал сомневаться. И вот вам результат: я принял Святое крещение и имею честь быть сейчас с вами. — Ксендз одарил следователей лучезарной улыбкой, обнажившей крупные желтые зубы.
— Вы хотите сказать, что Грудинский только морочил нам голову? — спросил осторожно Шкурин, все еще надеясь, что не понял того, о чем тараторил ксендз.
— Таки нет! — подпрыгнул на стуле Подзерский. — Я не хочу этого вам сказать! Но я принужден вам это сказать, если вы хотите знать правду.
— Не может быть! — вскричал, вскочив со своего места, следователь Страхов.
— Никак невозможно! — воскликнул, поднимаясь, подполковник Шкурин.
Но ксендз твердил свое:
— Что да, то да, а что нет, то нет! Разве я скажу «да», если «нет»?..
Позвали Грудинского. Он на своем стал стоять, но вскочил тогда со стула и ксендз Подзерский, да как забегает, как забегает по комнате, размахивая короткими пухлыми ручками и что-то выкрикивая по-еврейски… Под этими выкриками поник головой ангел небесный Антон Грудинский и признался, что злую шутку разыграл над господами следователями…
Услышав сии слова, Шкурин бледностью мертвенной покрылся да голову руками обхватил. Ведь еще день-два, и повез бы он Антона Грудинского в Петербург на собственное свое посрамление…
А следователь Страхов кулачки маленькие сжал, затравленно озирается да как подскочит вдруг к ксендзу:
— Ах ты, еврейская морда, — кричит, — еще ухмыляться вздумал! Может, ты скажешь, что кровь христианская вовсе евреям не требуется, и обвиняем мы их по одному средневековому предрассудку? Смотри у меня! Нацепил крест на пузо и думаешь, мы твою еврейскую душу не распознаем!.. Еще разобраться надобно, какой ты ксендз и не кагалом ли ты к нам подослан!
Насилу Шкурин меж ними протиснулся да Страхова от бедного ксендза оторвал. Подзерский мячиком в дальний угол откатился, тяжело дышит, запотевшие очки тщательно стал протирать, и такое виноватое, жалкое лицо у него без очков сделалось, что даже Страхов, подталкиваемый, впрочем, Шкуриным, остыв после венышки своей, пробурчал что-то похожее на извинение.
В суматохе все трое не заметили, как исчез куда-то ангел небесный Антон Грудинский, да ведь ангелам так и положено — ниоткуда являться да в никуда исчезать. Да и кому он теперь был нужен!
Водрузив на свой кругленький носик очки, Подзерский обрел вид почти прежней уверенности, но в голосе его уже не было азартного оживления.
— Что да, то да, разве я скажу «нет», если «да»? Напрасно вы горячитесь, господин Страхов. Вы хотите, чтобы у евреев была тайна крови? Таки да. Разве я скажу «нет», если вы хотите, чтоб было «да»! Не кагалом, господин Страхов, а таки генерал-губернатором князем Хованским я к вам в помощь послан, а как смотрит на дело князь Хованский, вы таки знаете! Неужели я стану плевать против ветра? Вы обо мне нехорошо таки подумали, а о том, что, может быть, напротив, Антон Грудинский евреями к вам подослан, чтобы мнимыми разоблачениями все ваше дело запутать и погубить, об этом вы не подумали. Ага, господин Страхов, вы таки изумляетесь! — опять оживился ксендз. — Так я таки прав: такая мысль вам в голову не приходила! Что нет, то нет, и не говорите «да», если «нет». Мозгами надо шевелить, господин Страхов! Вы думаете, почему евреи такие умные? Таки потому, что мозгами шевелят. Кто шевелит мозгами, скажу я вам, тому нет-нет, а таки да: мысли в голову приходят.
И зашевелила мозгами «Комиссия». По совету ксендза Подзерского в новом направлении теперь работа ее пошла. В научном, так сказать, научно-исследовательском! Узники в темницах своих томятся, на допросы месяцами никого не вызывают, но «Комиссия» без дела не сидит — исследует.
Самое трудное ксендз взял на себя, как единственный в «Комиссии» знаток языка: книги еврейские изучает, намеки всякие на «тайну крови» выискивает. Ан много ли выищешь, ежели ту тайну заветную евреи в секретнейшем из секретов хранят! На высокой скале стоит дуб, на дубу сундучок хрустальный висит, в сундучке заяц притаился, а в зайце утка запрятана, а в утке яйцо золотое, а в яйце иголка серебряная, а в иголке той книга секретная, а в книге особым еврейским шифром та тайна зашифрована!.. Много книг еврейских перед ксендзом навалено, да все книги-то — несекретные. Все Талмуд, да Тора, да комментарии к ним разных ученых евреев. Вон сколько их за тысячи лет накопилось!
С грехом пополам наскреб ксендз из тех книг десяток отдельных фраз. Если крепко над ними подумать, да сзаду наперед прочитать, да наизнанку вывернуть, да в сокровенный их смысл проникнуть, да нужным образом истолковать, то можно таки углядеть в этих фразах пренебрежение «избранных» к прочим народам. Отчего не усмотреть, если очень хочется? Но что да, то да, а что нет, то нет. Даже и в этих фразах не пахнет христианской кровью.
Небогатый урожай собрал ксендз из еврейских книг, зато Страхов и Шкурин преуспели изрядно! Они, по совету ксендза, в иные книги углубились, а чего в книгах не отыскалось, то князь Хованский из архивов судебных за много прошлых веков для них вытребовал. А все, что по-польски писано, учитель Петрища для «Комиссии» переводил. На то специальные суммы «Комиссия» выхлопотала, и, кстати, хорошая прибавка к скудному жалованию учителя вышла. А уж как подначитались-то все!
И про то, как колодцы отравляли евреи, и как чуму с холерой на христианский люд насылали, и как с нечистой силой зналися… А о замученных христианах сколько в книгах-то понаписано!
Тут, конечно, не всякому слову верить надобно. Бывали, к примеру, случаи: пропал христианин. Тотчас хватают пяток евреев и — на костер. А христианин-то пропавший — туточки. На площади сквозь толпу протискивается да спрашивает: кого это и за что, мол, жгут? Он, виш, из дому на несколько дней отлучился да ворочается теперь.
Нет, не такие простаки флигель-адъютант Шкурин и следователь Страхов, чтобы всяким средневековым бредням верить… Однако же не такие они простаки, чтобы и вовсе не верить. В лесу не без зверя, в людях не без лиха, а пословка на ветер не говорится. Это учитель Петрища, усердно с «Комиссией» книги изучающий, частенько повторять любит.
— Дыма без огня не бывает, господа, — говорит он вкрадчивым голосом, оглаживая бороду нежной, почти девичьей рукой. — Пусть не все правда, что мы читаем; пусть только половина правды. Пусть половина от половины. Так ведь и этого довольно, чтобы каждого еврея, как Ицку, жида вороватого, на пристяжи запрячь и погонять его, погонять, и кричать ему «завивайся», пока не затянется, надорвется да и издохнет…
В царстве-то Польском сколько, оказывается, дел таких было об убиенных христианских детях! И не в седом средневековье — многое на памяти ежели не нашей, то отцов-дедов наших происходило. А как просто, как легко дела делались — позавидовать только!
Вот, к примеру, в селе Ступице младенец трехлетний пропал, да страшно изуродованным трупик его был найден неподалеку от корчмы ясновельможного пана Лещинского, а корчма та содержалась в аренде у евреев. Когда несли мимо корчмы тельце младенца, из всех его ранок вдруг кровушка христианская заструилась. И сразу ясно, кого предать суду! Поверье-то народное известно: сочатся раны убитого в присутствии убийцы.
А как на суде семь подсудимых евреев на все вопросы нахально отрицались, то суд постановил пытку к ним ради выяснения истины применить. Не то что Страхов — носы еврейские квасит, да все с опаской, как бы жалоба до петербургского начальства не дошла. А тут, пожалуйста — пытка постановлением суда!
Первым Эзика Мееровича на кобылице распластали — было у них такое приспособленьице пыточное, достижение передовой технологии. А как и на кобылице трижды отрицался еврей, так его на старинную дыбу подняли и, все члены его жидовские вытягивая, вопросы ему задавали.
Он благим матом вопит, а все отрицается.
— Я не убивал, — кричит, — не видел, нигде не был. Раввины меня не уговаривали. Уж лучше мне было голову сложить, чем тому ребенку пропадать. Лучше тому ребенку жить, чем мне такие муки переносить… Ни с кем я не был и сам не убивал. Не знаю, кто его убил, откуда мне знать!.. Ой, вей мир, ой, вей мир гешен! Как дитя пропало, не знаю… Я не знаю, где его держали, не знаю… Лучше мне черта проглотить, чем ту кровь пить… Не знаю, когда мы поймали; серденько милосердный — не знаю; что же мне делать? Кто держал ребенка три недели, не знаю! Как мучили, не знаю! Чем кололи, не знаю! Ой, почему гром меня не убил? Ой, тетеле… В знак чего отрезали руку, не знаю! Пусть мне нож вонзят в сердце, если знаю. Пусть света не увижу! Ни в какой сосуд не наливал. Ой, тетеле! В глаза не видел, ничего не знаю о том, куда дели; дома я сидел… Ой, вей, ой, вей! Что говорили! Правда, правда, что я заслужил… Никто, никто не убивал! Знаю! Не знаю! Не знаю! Знаю!
Ну, что ж, у суда и другие средства есть.
Палач тело жидовское свечами жгет, пока мясом жареным не запахнет, а суд все те же вопросы еврею ставит;
— Не знаю! Гвалт! — кричит Эзик. — Не знаю! Гвалт, голубчики мои. Не знаю, кто убил дитя! Не знаю! Не знаю! Не знаю! Серденько! Не знаю, кто убивал, серденько, не знаю!
Смотрят — он уж в беспамятстве… Ну, что ж! Его из ведра окатили и снова свечами жечь: закон до трех раз пытку повторять велит.
А как и это не помогло, то раскаленным железом правду стали извлекать из еврея. Он связанный корчится, мясо его жидовское, как масло на горячей сковородке, шипит; а он все свое твердит:
— Не знаю, не знаю, батюшки, не знаю! Ой, вей, гвалт! Не знаю, не знаю…
За Эзиком Мееровичем Гершка Давидович через то же самое прошел.
За Гершкой Давидовичем — Беньямин Лейбович.
За Беньямином Лейбовичем — Шмуэль Беньевич.
За Шмуэлем Беньевичем — Абель Якубович.
За Абелем Якубовичем — Псахелем Янкелевич.
За Псахелемом Янкелевичем — Рохля Безносек.
Сломаешь язык от этих имен жидовских!
Так и не сознался никто из подсудимых евреев… Даже Рохля, на что женщина, и та выдержала все… Ну, и пришлось суду мягким приговором ограничиться.
«Вняв голосу права и справедливости и принимая во внимание столько прецедентов в разных судах государства по делам о совершенных евреями, по обычному их вероломству, убийствах и истязаниях христианских детей, суд признает названных неверующих христианской крови губителей, указанного ребенка мучителей заслуживающими смерти… Признавая вышеозначенных неверующих заслуживающими большей кары, настоящий суд, однако, по милосердию своему, смягчил им наказание и приговорил их к отсечению головы. Неверующую же Рохлю Безносек, вдову, настоящий суд оставляет в живых, для изобличения других соучастников убийства и повелевает заточить ее в тюрьму при городской ратуше».
А в Красноставском городском суде какое дело исследовалось! Пятерых важнейших старшин иудейских с раввином Сендером Зыскелюком во главе в убийстве младенца обвинили, а пока разбирательство шло, к ним пастырей христианских для душеспасительных бесед присылали. Вначале узники грубостями либо высокомерным молчанием пастырям отвечали, но те продолжали богоугодное свое дело и побудили их к некоторому смирению. Дыбу, правда, все пятеро вынесли стойко, но как факелами их стали поджаривать, так и признались четверо в своем злодействе. Один только раввин продолжал упорствовать, а когда пришли за ним, чтоб каленым железом пытать, то повесившимся нашли его в камере.
Зато с теми четырьмя, что признались, простым отсечением головы уж никак нельзя было обойтись. Не принял бы народ такой снисходительности! Разве что жиды всенародно покаются да веру истинную пожелают принять…
Светлейший суд, ясное дело, приговорил всех четверых к четвертованию. А в день самой казни сопровождающие узников священники обратились с ходатайством о милосердии и получили ответ: для согласных перейти в веру христианскую четвертование милостиво заменяется отсечением головы, упорствующим же сохраняется вся суровость приговора.
На площади толпа многотысячная скопилась.
Подъехали четыре воза, на каждом преступник, окруженный стражей. Двое тут же приняли крещение и — надлежаще приготовленные к смерти и помолившиеся усердно только что обретенному новому своему Богу — один за другим покорно положили головы на плаху, под топор палача…
Тогда священники третьего преступника обступили и то ласковыми увещеваниями, то смиренной молитвой и вздохами, да указанием на опасность вечной погибели в геенне огненной после утраты земной жизни достигли, наконец, того, что и над этим упорным евреем Божья милость не пропала даром. Принял он всенародно крещение и под бурное одобрение толпы был лишен жизни через отсечение головы.
А вот четвертый преступник настолько закоснел в еврействе своем, что все старания и увещевания как будто ударяли в глухую стену.
— Бери меня, — гордо сказал еврей палачу и лег на доску для четвертования.
Но тут, по призыву одного из священников, многотысячная толпа пала на колени с молитвою, а другой священник воскликнул, обращаясь к нечестивцу:
— Взмолись хоть теперь к Богу и промолви: «Боже Авраама, Боже Исаака, Боже Иакова, смилуйся надо мной и дай мне по благости твоей нужное теперь просветление!»
Услышав, что ему предлагается вознести молитву своему старому иудейскому Богу, преступник повторил слова за священником, возвел глаза к небу, и тут произошло нечто, что привело толпу в неописуемый восторг. Еврей попросил, чтобы его поставили на ноги, и согласился принять крещение.
А мерзкий труп повесившегося раввина палач, согласно приговору, привязал к конскому хвосту, проскакал на лошади с волочащимся сзади трупом через весь город, а затем сжег на костре, а прах развеял по ветру.
А еще в Заславе разбирательство было. Нашли два крестьянина мертвое тело, в болото втоптанное да кучами мусора прикрытое. Народ, как водится, сбежался смотреть, и евреи тоже в толпе. Попович один и сказал им:
— Ваше это дело, жидовское дело!
Стали евреи поповичу возражать, да разве поймешь их? Все вместе кричат, руками размахивают, друг друга перебивают. Такой гвалт подняли — хоть уши затыкай!
Ну, их тотчас похватали да под стражу засадили. Тут один из них, Зарух Лейбович, призвал подстаросту и говорит:
— Зачем мне подвергать себя мукам? Все равно придется все рассказать, так я лучше сразу и расскажу. Я давно мечтал о счастье стать католиком, только случая подходящего не было, а михневский арендатор Гершон Хаскелевич, у коего я служу, мне уж три года жалования не платит. Так я вам всю правду скажу: это он христианина убил.
Пятерых евреев судили вместе с Зарухом Лейбовичем. Долго отпирались те четверо, однако под пытками сознались: и Гершон Хаскелевич, и Мошно Мейерович, и Лейб Мордкович. Один только престарелый Мордко Мордкович через все пытки прошел, но не сознался ни в чем, и даже когда сын его Лейб сказал ему на очной ставке: «Отец! И ты был в деле убийства покойного Антония!», то он продолжал во всем запираться, лишь опустил долу глаза.
Но суд не посмотрел на запирательства злодея. За пролитие христианской крови постановлено было посадить старика живьем на кол и оставаться ему на том колу до тех пор, пока птицы не съедят его тело и не распадутся его бесчестные кости. А если кто осмелится спрятать его кости, говорилось в приговоре, и предать их погребению, то будет подвергнут такой же каре.
Ну и с теми обвиняемыми, признались которые, суд не лучше обошелся.
С Гершона Хаскелевича палач четыре полосы кожи содрал, затем сердце из груди его вынул, разрезал на четыре части, прибил каждую из них гвоздями к столбам и столбы эти расставил вокруг города с четырех сторон. Голову же его посадили на кол и внутренностями тот кол обмотали.
«Все это, гласил приговор, должно висеть до тех пор, пока не будет съедено птицами; костей же его никто трогать не должен. А кто бы осмелился предать их погребению, тот будет той же смертью казнен».
Что же касается Лейбы Мордковича, то ему, сказано в приговоре, следовало бы рвать тело раскаленными щипцами, вынуть глаза, вырвать язык, пригвоздить к столбу. Суд, однако, проявил к нему милость — вероятно, за донос на собственного отца. С него только содрали две полосы кожи, после чего четвертовали, голову посадили на кол и кол обмотали внутренностями.
Ну, а главного доказчика Заруха Лейбовича суд вовсе признал невиновным и от наказания освободил.
А вот в Житомире дело случилось — уж совсем подстать Велижскому по размаху его. До тридцати евреев по нему проходило, только не чикались с ними, как в Велиже. 24 апреля младенец пропал, а 29 мая казнили последних виновников. Тридцать пять дней ушло на следствие, суд да на исполнение приговора! А ведь одиннадцать различных районов было охвачено следствием!
Все как обычно началось: перед пасхой у шляхтича ребенок четырехлетний пропал. Опечаленный отец отправился в костел и упал ниц перед чудотворной иконой Пресвятой Девы, да так и пролежал перед ней всю обедню. А потом встал и в беспамятстве, как бы ведомый какой-то силой, пошел он прямиком в рощу, меж деревьями, не разбирая дороги, шел и прямо на куст наткнулся. Под тем кустом и нашли тело замученного ребенка. А поскольку к несчастному отцу еще сотня лиц присоединилась, то все они чуду тому необыкновенному стали свидетелями.
Епископ Салтык самолично расследование начал, да и установил в тот же день (в тот самый день!), что похитили ребенка, конечно же, евреи, продержали у себя всю субботу, а как кончился их шабаш — приступили к истязанию. Раввин Шмайер проколол ему левый бок перочинным ножом несколько ниже сердца, затем прочел какую-то чертовскую, а вернее, богохульную молитву, а другие безбожники, пока он читал, небольшими гвоздиками младенца кололи, да кровь из него выжимали из всех жил в особую чашу, да попеременно истязали, загоняя ему под ногти тонкие гвозди, и каждый стремился принять позорное соучастие в гадком злодеянии.
Как стало о всем том простонародью известно, так проявилось такое усердие, что всех житомирских евреев чуть было не вырезали, и много хлопот выпало на долю епископа, чтоб пыл христианский несколько охладить.
А тело убиенного младенца долго в костеле оставалось; но не подвергалось тлению, и вместо зловония особый приятный аромат от него исходил. И аромат этот паче всяких иных улик евреев изобличал.
Потом епископ в суд дело передал, а суд, для полного исследования гнусного деяния злостных убийц, а также еврейского неистовства, затверделости сердца и упорства ума в отрицании своей виновности, постановил, как водится, упорствующих обвиняемых подвергнуть троекратной пытке, после чего вынес решение.
Милостив оказался суд: только шестерых из тридцати обвиняемых приговорил к четвертованию. Казнь, как всегда, вылилась в большой праздник. Сперва шестерых привели на рыночную площадь в самом центре города. Руки им обложили облитыми смолой щепками и обмотали до локтя паклей, а затем подожгли ее. Потом долго вели всех за город, к месту казни. И все это время пакля горела, облитые смолой щепки медленно тлели, и руки ведомых на казнь — обугливались.
При большом стечении народа с приговоренных содрали по три полосы кожи, потом отрубили руки и ноги, тела четвертовали и отдельные четверти каждого тела развесили на кольях…
— Интересуетесь, когда все это было, господа? — окончив переводить подробности, вкрадчивым голосом спросил Петрища. — Житомирское дело — 1753 год, Заславское — 1747־й, Ступицкое и Красноставское — 1759-й и 1760-й. А сейчас у нас, стало быть, 1829-й. Я же говорю — на памяти отцов-дедов наших. Да-да, господин Шкурин, в эпоху Вольтера, Дидро, Руссо, коих, как вам известно, государыня Екатерина высоко чтила.
— И все же это варварство, господин учитель, — попытался возразить Шкурин. — Эти ужасные казни… И пытки! Разве пыткой можно доказать истину?
— До-ка-зать?! — Петрища не повышает голоса, но весь напруживается, и взгляд его цепко впивается во флигель-адъютанта. — А вера, господин подполковник, на что? Вера народная? Этак вы еще доказать потребуете, что Иисус был непорочно зачат от Духа Святого и что он воскрес во плоти из мертвых!.. Вот это ваше «до-ка-зать» и подрывает веру христианскую, а с верой — и нравственность народную!
— Но позвольте! Причем здесь непорочное зачатие и прочие догматы веры! Мы же с вами про судебные дела говорим. Суд ищет виновных, ему доказательства нужны: кто, когда, зачем, при каких обстоятельствах?
— Вот про это я и говорю. Народ! — Петрища поднял вверх указательный палец с маленьким полудетским ноготком. — Народ — он, знаете ли, не доказательствами живет, а верой! Верит народ, что евреи младенцев губят! Ежели не с кровью, то с молоком материнским вера сия из поколения в поколение переходит, и никакие доказательства тут не надобны. А ежели всякий раз разъедающий народную душу скептицизм разводить да судебных улик требовать, значит — против народа идти. А я, господин подполковник, — при этих словах Петрища встал и, не повышая голоса, твердо закончил. — Против народа, господин подполковник, я никогда не пойду и никому того не позволю, даже, к примеру, и вам.
— Вы забываетесь, господин учитель! — подскочил к Петрище Шкурин и высоко задрал голову.
— Господа, господа! — бросился между ними Страхов.
Он уже привык к подобным стычкам, которые, однако, всегда кончались мировою. Они были чем-то вроде щепотки перца в их пресной провинциальной жизни.
— Ежели рассуждать в принси́пе, — заговорил Страхов, когда спорщики пожали друг другу руки, и инцидент был улажен, — то я, конечно, целиком на вашей стороне, господин подполковник. Пытки ушли в прошлое, и спасибо за то Господу. Однако я не отказался бы пожарить свечкой или хоть на дыбе растянуть кое-кого из наших подопечных. Славку Берлин, к примеру. А особенно — Хаима Хрипуна. А то неловко даже. Посечешь их плеточкой в сердцах, и спишь потом неспокойно: вдруг опять с жидовскими своими предприимчивостями до государя сумеют достигнуть и жалобой своей, будто ведем мы допросы с пристрастием, огорчат. И объясняйся потом, что все это одни только жидовские предприимчивости. При таких-то условиях — разве добьешься от них правды?
— Да, — задумался Шкурин. — Наши споры спорами, а вот хоть часть исследованных нами материалов о прошлых процессах в наш следственный отчет мы, разумеется, включим. В нашем деле главное — широта и охват! — он энергично сдвинул разведенные руки. — Пусть под пытками, а все ж сознавались евреи. Не всякий же раз оговаривали себя, иногда, может, и правду говорили.
— Такие речи ваши рад слышать, господин подполковник, — оглаживая бороду нежной, почти женской рукой, сказал Петрища. — Кстати, о младенце Гаврииле вы знаете?
— О каком Гаврииле?
— Дело, правда, очень уж давнее, полтораста лет ему, да зато мощи младенца до сих пор нетленные в Свято-Троицком монастыре близ Слуцка лежат, огромное число богомольцев ежегодно притягивают.
«Комиссия» о новости этой князю Хованскому сообщить поспешила, а князь незамедлительно с митрополитом снесся: так, мол, и так.
«И по обязанности звания, мною носимого, и по долгу христианина я озабочиваюсь представить Велижское дело сколь возможно полнейшим и яснейшим, а потому стараюсь подкрепить оное несколькими примерами подобных мучительств христиан в разных странах и веках, от евреев учиненных. Засвидетельствование о мучении младенца Гавриила, ознаменованного властью Всемогущего нетлением, было бы новым самым сильнейшим подтверждением и подобного бесчеловечья, совершенного евреями в Велиже над младенцем Федором».
Так черным по белому написал митрополиту князь Хованский!
Не долго заставил ждать митрополит. А князь Хованский, само собой, в Велижград ответ его переслал. И узнала «Комиссия», что мощи святого мученика Гавриила доподлинно имеются и составляют главную святыню Свято-Троицкого монастыря.
Лежит младенец в деревянном гробике, обе ручки обхватывают маленький металлический крест. Пальцы младенца исколоты, на них имеются рваные раны, а головка его отделена от туловища. Память его празднуется православной церковью ежегодно 20 апреля, но торжественное богослужение обычно приурочивают ко дню сошествия Святого Духа. Мощи в этот день обносят вокруг храма и ставят в середине церкви для поклонения, на которое стекаются массы крестьян — не только православных, но и католиков — из всех окрестных уездов. Поток богомольцев не иссякает до глубокой осени: только 22 октября мощи переносят в теплую домовую церковь монастыря — до следующей весны.
И каждый богомолец либо сам читает, либо, если неграмотен, просит, чтобы ему вслух прочли «Надгробок», что тут же над трупиком нетленным выставлен.
И узнают богомольцы из длинной стихотворной эпитафии, от имени самого убиенного Гавриила составленной, душераздирающие подробности о его тяжких страданиях через евреев:
— о том, как отец его, крестьянин простой, пошел в поле «орати»;
— как мать понесла ему в поле «бедны обед»;
— как в этот самый момент коварный «арендар — жид из Звенков» «схватил мя детину на свой воз»;
— как завез он младенца «до Белого Стоку», где «кровь много пущали из боку»;
— как мучить его «весь кагал собрался» и
— как бросили труп его потом в «жито»…
Откуда жито появилось в апреле, в эпитафии не говорится, зато подробно повествуется в ней про то, как «птицы плотоядны» слетелись клевать мертвое тело, да «псы зело гладны» «натуру свою песью переменили, от птичьего терзания мне стражею были»;
— про то, как схоронили младенца на православном кладбище, как через тридцать лет зачем-то откопали труп и увидели с изумлением, что он не истлел, почему и препроводили мощи в монастырь.
Вот какими важными сведениями обогатилось следствие благодаря митрополиту!
Ну, трепещите, евреи! Трепещи, Славка Берлин!
Трепещи, Ханна Цетлин, и муж твой Евзик, и дочь твоя Итка!
Трепещи, Рувим Нухимовский, и Орлик Дениц, и Нота Прудков!
Трепещи, Хаим Хрипун!
Дело-то вон как оборачивается. «Самым сильнейшим подтверждением» вины вашей выставляется теперь неведомый вам младенец Гавриил, полтораста лет назад неизвестно кем убиенный, да зато самим Господом отмеченный!
Глава 22
Трепещите, евреи велижские. Но и — надейтесь! Вся надежда ваша — на государя императора Всероссийского, царя Польского, великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая. Снова пробились братья ваши к умнику-адмиралу, что о законах печется да на англицкий лад благословенное отечество переделать мечтает. В ноги упали умнику братья ваши.
— Вот, — говорят, — Николай Семенович, какая история с рекрутчиной-то приключилась! Знаем, что вы не за то ратовали. Вы на англицкий лад хотели, чтобы закон один был для всех и чтобы равная на всех повинность легла. А у нас от того вашего хотения малых деток, что зверей лесных, отлавливают, на чужбину далекую гонят и до смерти замучивают. И нас же в убийстве детей, будто бы для надобностей религии нашей, хотят обвинить, что равносильно гибели всему народу.
Ну, умник пообещал помочь. Да и сдержал обещание: словечко перед государем замолвил, удобную выбрав минуту. И вот уж в другую сторону весы потянуло.
Недоволен следствием государь: долго уж больно длится, да к концу не близится. Указать государь изволит, что «Комиссия» наиболее основывает свои заключения на догадках, на толковании припадков и телодвижений, да на показаниях все тех же трех обвинительниц. Ни одного признания ни от одного из евреев за много лет не получено, никаких вещественных доказательств или иных судебных улик все еще не найдено. Теперь же, дошло уж до государя, «Комиссия» в старых книгах да архивах копается, прецеденты выискивает, забыв, вероятно, о том, что повеление в Возе почившего брата государева, чтобы обвинять не на основании предрассудков и предубеждений, а только на основе судебных улик, никогда отменено не было. Государь опасаться изволит, что «Комиссия» излишне увлечена своим усердием и некоторым предубеждением против евреев, а потому действует пристрастно. О чем начальник штаба его императорского величества барон Дибич и поспешил сообщить князю Хованскому, а князь Хованский — «Комиссии».
Узнали про ту высочайшую волю Страхов и Шкурин и заскребли в затылках. Никак в толк не могут взять, как же все это с прежними изъявлениями высочайшей воли согласовать? Вот тебе и младенец Гавриил! Год усердной работы кошке под хвост, выходит, отправить надобно. А главное — скорейшего завершения дела государь требует. Заключения по нему да направления оного в Правительствующий Сенат для решения участи обвиняемых. А как заключение-то прикажете составлять, ежели на сорок обвиняемых три свидетеля, да им сам государь не больше верит!
Тут поневоле ухватишься за ангела небесного Антона Грудинского, благо он сызнова в Велиже объявился да прямо перед «Комиссией» и предстал.
…Конечно, опять ободран, согнут, жалок Антон; голодный блеск в воспаленных его глазах; длинные грязные пальцы торчат из сгнивших лаптей.
— Имею, — говорит, — сделать новое заявление!
И сызнова Антон одет и обут, накормлен и в бане выпарен. Сызнова распрямились плечи его, спокойствие и солидность в Антоновой осанке.
«Что скажешь, Хася красномордая? Антон Грудинский — персона!»
Скрипит пером писарь, прикусывая язык от усердия; переглядываются Страхов со Шкуриным, ухмылка лица их бороздит.
Антон-то Грудинский, в бытность свою Ароном, вона, оказывается, скольких христианских младенцев собственными руками порешил! Раскаивается теперь в злодеяниях и с полной христианской чистосердечностью признается. Вот оно, собственное признание еврея — с неба, можно сказать, в самый нужный момент подоспело. Давай, писарь, скорее новое перо очиняй, да продолжай, записывай.
Ну? Чья взяла, евреи? Чья взяла, Хаим Хрипун?
Перед каждой христианской пасхой Антон Грудинский, то есть тогда еще Арон, убивал по младенчику!
Строго по еврейскому календарю!
В местечке Бобовне то было, в Минской губернии. Он, Грудинский, с детства раннего там воспитывался — у родственника своего Шапсая Турбовича. Шапсай по торговым делам в Москву наведывался частенько, и вот перед пасхой всегда мальчонку из Москвы привозил. Что ни год, то мальчонок! Кровь употреблялась на месте, а остатки развозились по окрестным еврейским селениям. Ну, а трупики детские зарывали прямо во дворе у Турбовича.
— Как это — зарывали? — встрепенулся Страхов. — Закон еврейский ведь запрещает трупы убиенных младенцев зарывать. Они же считаются падалью, и предавать их земле нельзя.
Обернулся к Страхову на эти слова Грудинский, долго презрительным взглядом его измерял:
— Насчет закона мне неизвестно, господин следователь, — произнес Антон с достоинством, — как это называется, я тоже не знаю. На этот счет вы у ксендза Подзерского справьтесь — он у вас по еврейским законам и книгам главный советчик. А я говорю про то, что сам видел и принимал в чем участие. Там, почитай, весь двор костьми тех младенцев вымощен.
— Ладно вам к мелочам придираться! — напустился Шкурин на Страхова, как только вывели Антона Грудинского. — Вы подумайте, какая удача нам привалила. Что ни говорите, а усматриваю здесь высший промысел!
— Сюрприз, конечно, приятный, однако я вас не совсем понимаю. К нашему-то делу как все это прикажете привязать?..
Шкурин минуту молчал, в изумлении глядя на Страхова, потом громко расхохотался. Уняв смех, сказал:
— Извините меня, господин Страхов, но я старше вас годами и званием, так что не обижайтесь. Вы, стало быть, находите, что к Хаиму Хрипуну и прочим нашим подследственным признания Грудинского никакого касательства иметь не могут. Ибо в местечке Бобовне то происходило, а это в Велиже. Туда младенцев из Москвы доставляли, а здесь местными обходились. Там злодеи — какой-то Шапсай Турбович с родственниками своими, а здесь — Ханна Цетлин, да Славка Берлин, да Орлик Дениц, да Нота Прудков, да Хаим Хрипун, да три десятка других евреев, и никто из них к Турбовичу никакого касательства не имеет. Так, что ли?
— Именно это я и хотел сказать, — подтвердил Страхов и несмело добавил. — По закону ежели…
— Ах, господин Страхов, — укоризненно возразил Шкурин, — сколько лет уже вместе работаем, а никак не приучу я вас к широкому взгляду. Охват в нашем деле — это первое. Нужен, — при этом слове Шкурин широко развел руки, — охват! — и он резко их сдвинул. — Евреи-то всюду евреи! Хоть в Бобовне, хоть в Велиже, хоть где. И сами они это лучше нас понимают! Помните, что заявил нам Нота Прудков, да еще нагло требовал в протокол записать? — Шкурин встал, снял с полки один из пухлых томов, быстро перелистал. — Вот! «Если докажут, что мы виноваты, то все евреи будут виноваты». И Хаим Хрипун, этот предусмотрительный Хаим, тоже был прав, когда кричал в своих записочках. Вот! «Пусть не думает кто из вас, братья, что если его самого не трогают, так не о чем ему стараться. Бегите по всем местам, где только народ Израилев рассеян, и громко вопите: „Горе, горе народу Израилеву!“»
Шкурин захлопнул и поставил на место том.
— Такое уж наше дело особое, господин Страхов, — продолжал Шкурин наставительным тоном. — Ежели в Велиже евреи младенцев режут, потому что жить им неможно без кровушки христианской, то отчего бы им и в Бобовне не резать? Ну, а ежели в Бобовне, то само собой, и в Велиже! Тут только бы одно звено ухватить, вся цепь и вытащится. Это ежели узко смотреть, то показания Антона Грудинского не имеют касательства к Велижскому делу. А ежели шире взять, то очень даже имеют!
Срочно «Комиссия» новое донесение шлет князю Хованскому, а князь Хованский спешит оное к стопам государя повергнуть.
Государь брови суровит, сердце его благородным гневом полнится на изуверства еврейские, однако — нет больше веры в сердце государевом к велижской «Комиссии». Даже к генерал-губернатору трех губерний князю Хованскому нет прежней веры у государя. Даже на начальника штаба своего барона Дибича не хочет больше полагаться государь.
Генерал-адъютанта графа Бенкендорфа он к себе призывает, верного человека велит в Велиж отправить, чтобы выкреста Антона Грудинского взял, в местечко Бобовню отвез да на месте всю правду и выяснил.
— Только верного человека пошли, Александр Христофорович: чтобы без всяких предубеждений.
И вот, как снег на голову, свалился на велижскую «Комиссию» жандармский полковник Рутковский. Строен, подтянут, сух, никакой фамильярности в обращении.
— Имеющимся у меня предписанием, господа, вам надлежит выдать мне содержащегося под арестом Антона Грудинского для следования его со мною в местечко Бобовню.
— То есть, как это — выдать? А мы как же? — спросил растеряно Шкурин. — Для расследования полагаю полезным, чтобы один из нас сопровождал вас, полковник.
— На этот счет предписаний не имею, — возразил Рутковский.
— Но, господин полковник! — вспыхнул вдруг Страхов. — Это же мы Грудинского разоблачили, мы о показаниях его донесли! И нас отстранить!.. Это похоже на оскорбление!
— Предписаний не имею, — холодно повторил Рутковский.
— Но вы, по крайней мере, уведомите нас о результатах вашего расследования? — спросил, нервно перебирая бумаги, Шкурин.
— Я таких предписаний не имею, господа, — опять с подчеркнутой сухостью возразил Рутковский. — Начальство же, ежели сочтет нужным, вас уведомит.
И в тот же день отбыл с Антоном Грудинским, отклонив приглашение вместе отобедать и даже едва раскланявшись.
— Это оскорбление, оскорбление, нам не доверяют! — метался по кабинету Страхов. — Все ваш широкий взгляд, ваш охват! — напустился он на Шкурина, да осекся, наткнувшись на жесткие глаза подполковника, на его окаменевший, опять ставший квадратным и без ямочки, выдающей мягкость характера, подбородок.
А в местечке Бобовне, куда жандармский полковник Рутковский явился с Антоном Грудинским, выяснилось, что Шапсай Турбович, купец, взаправду там проживает, но Антону Грудинскому он вовсе не родственник, и никогда Антон, то есть Арон, у него не жил и не воспитывался, и сын он, Антон, вовсе не тех родителей, чьим сыном назвался, и бродяга он беспаспортный, и двоеженец, и даже вообще его, Антона Грудинского, на свете белом как бы не существует, ибо ни в какой ревизской сказке он не записан, и никаких христианских детей он никогда не умерщвлял, и ничего про такие умерщвления ему неизвестно, а показания, данные им велижской «Комиссии», и изветы, им сделанные, от начала и до конца ложны и несправедливы, побужден же он был к такому поступку одной только несчастною жизнью своей, ибо не имел, чем существовать и кормиться, а в каторге ему прозябать все лучше, нежели замерзнуть под забором…
Выяснив все сие, жандармский полковник Рутковский в Петербург воротился, обстоятельный, по положенной форме, доклад составил, и на усмотрение Правительствующего Сената государь доклад сей поверг.
Наилучшим образом для Антона Грудинского все обернулось! Ибо определил Сенат, что за изветы да бродячую и распутную жизнь его следовало бы плетьми наказать да в Сибирь морозную навечно сослать, однако же, во исполнение высочайших повелений, предписывающих снисхождение и милость к подданным проявлять, Сенат постановил от плетей Антона Грудинского освободить, Сибирь заменить солдатчиной, а за женитьбу на двух женах местному духовному начальству надлежит поступить с ним по правилам духовным.
Ну, что ж! В солдатах не сладко служить, да все ж лучше, чем околевать от голода и холода!
А в Велиже, между тем, холера объявилась, не иначе, как евреями насланная в отместку за изобличение братьев их. Да вдобавок к холере — смута великая вспыхнула по соседству, в царстве Польском то есть. Из-за евреев, конечно! Потому как за ними глаз да глаз нужен; местная власть расследованием всяких злодейств еврейских так сильно поглощена была, что проглядела, как ляхи-паписты заговор устроили. Да и ударили вдруг!
Наместник и старший брат государев, что пятью годами раньше великодушно трон всероссийский братцу своему уступил, — так он посреди ночи чуть не в подштанниках одних из дворца своего улепетывал.
И в это тяжкое время письмо от невесты, дочери губернаторской, Страхов получил: «так и так, милый дружок, ждала я тебя долго, да увяз ты совсем со своими евреями, а у меня молодость зря проходит, мочи нет больше ждать, и выхожу я за другого, а по тебе слезы лью, век помнить буду».
Что это? Еврейский удар в спину. Не иначе ведь, за масона идет княжна, а масоны все евреями куплены и все для них сделать готовы.
Ну, а когда до Велижа известие докатилось о том, что полковник Рутковский в местечке Бобовне выяснил, тут такая тоска навалилась на Страхова и такие ужасные сны по ночам стали сниться, что не вынесло его разбитое сердце. Не добудился его в утро одно морозное человек его Степан…
Возликовали евреи велижские.
Упорный слух среди них пошел, что не своей смертью помер следователь Страхов, а что принял он яду, ибо дело, которое он с таким упорством вел много лет, полностью провалилось.
Возликовали евреи, ну, а больше всех — Хаим Хрипун.
— Я, — говорит, — смерти никому не желаю, но тут случай особый, тут знак Божий и возмездие за лютую гзейру, через которую хотели погубить Господу принадлежащий народ. Я, — говорит Хаим, — предсказывал ему, что придет возмездие, так, — говорит, — по слову моему и получилось.
Однако же рановато обрадовались евреи: ведь подполковник Шкурин еще на своем посту оставался.
Не сладко, конечно, одному кашу расхлебывать. Да он, Шкурин, столичная птица, тертый калач. Нервы-то у него из проволоки сплетены. Он не этот молокосос Страхов, который чуть что — в истерику кидается или, пуще того, яд заглатывает. Заключение обвинительное Шкурин быстренько накатал да князю Хованскому и отправил.
А князю тоже медлить никак уж неможно, потому что настойчив стал государь: какого-никакого, а окончания делу тому требует.
Листает пухлые тома князь да сокрушается.
Все улики, в деле изложенные, — от четырех темных баб. Это — ежели повесившуюся Марью Ковалеву считать. А по правде-то говоря, — только от трех.
Да и из трех шляхетка Прасковья Козловская очень мало чего показала.
Основных доказчиц всего две выходит.
Да и эти две столько раз показания свои меняли и путали, друг дружке и самим себе противоречили, что семь лет усердной работы потребовалось, чтобы кое-как их к согласию привести. И вот на таком основании надобно князю Хованскому сорока четырем человекам обвинение во многих смертоубийствах вынести!
Оно по закону ежели, то распустить бы обвиняемых по домам и концы в воду. Ан, разве можно с евреями по одному лишь закону? Скользкие они, как лягушки, из-под любого закона выскальзывают. Опять же сильно замешан в деле сем князь Хованский, генерал-губернатором над тремя губерниями поставленный. Неосмотрительно было с его стороны так громко уверенность свою в виновности евреев заявлять, да что теперь сделаешь! Скверно от всего этого внутри у генерал-губернатора, точно живую лягушку невзначай проглотил, и она нахально прыгает в губернаторской утробе. Однако отступать князю Хованскому все одно некуда.
Но — справедлив Господь! Господь правду видит и тем, кто за правду стоит, непременное снисхождение делает. В тот самый день, когда отправил князь последнее (как думал) донесение государю о Велижском деле — в этот самый день разверзлись небеса, и великое чудо Господне снизошло на грешную землю.
Нет, не в образе Антона Грудинского, что тянул уже два года солдатскую лямку, а в образе Александра Федорова, что три года солдатскую лямку тянул. В тот самый день, когда князь Хованский из Витебска курьера с обвинительным заключением своим в Петербург отправил, ничего не знавший о том рядовой лейб-гвардии Финляндского полка Александр Федоров явился в Петербургский ордонандгауз и заявил, что ему ведомо, как в 1824 году велижский раввин Смерка Берлин велел своему прислужнику Иосифу Мир-ласу привести христианского мальчика, как по приходе прочих еврейских старшин мальчика посадили в погреб, а на другой день нашли мертвым за городом. И так как мальчик был изранен, и у него была перевязана каждая жилка, то рядовой Федоров и полагает, что евреи убили его. И поскольку ему известно, что они в преступлении не сознаются, то он, упрекаясь совестью, и пришел рассказать обо всем.
Необыкновенное показание записали да тотчас донесли государю, а государь распорядился направить оное князю Хованскому.
Как получил князь срочный пакет, так на колени перед иконой Божьей матери плюхнулся. Чудо! Чудо свершилось Господне!
Нет нужды, что неведомый рядовой Федоров к 24-му году убийство отнес, хотя оное произошло в 23-м. Нет нужды, что Шмерка Берлин никогда не был раввином и что не Иосель Мирлас мальчика изловил, а Марья Терентьева, что не к Берлиным она его привела, а к Цетлиным. Нет нужды и в том, что мальчик был исколот, а не изрезан и что вовсе не была у него «перетянута каждая жилка». Нет нужды и в том, что «Комиссия» уже дважды обожглась на другом выкресте Антоне Грудинском из-за излишнего доверия к его изветам. Что все это в сравнении с чудеснейшим знамением!
Чудо, чудо Господне! Так и написал князь Хованский о том государю:
«Тогда как злодеи-евреи, источившие кровь христианскую, обличенные всеми обстоятельствами и четырьмя христианками, упорствуют сознаться в своем злодеянии, является вдруг, вдалеке, прежний единоверец их, видевший страдальца-мальчика заключенным в погреб, и доказывает добровольно, по действию совести, что такое злодейство есть дело евреев! Самый случай сей есть чудесное даже событие, ибо только у Всемогущего нет ни времени, ни пространства. Много пролито евреями христианской крови в разных странах и веках и много было судейских определений о придании таковых суду и воле Божией; ныне воля Божия открывается явственно, и суд его будет праведен».
Ну, князь! Ай да князь Хованский! Поседел весь, погрузнел от долгих лет жизни да от нелегкой службы государевой! Дедом уж сделался князь, внуку «козу» строит. А сколько молодого задора, сколько искреннего негодования и петушиного торжества в уличении евреев!
Но до суда Божия предстоял еще суд Правительствующего Сената, и прежде чем показания рядового Федорова к делу приобщить, личность его выяснить и передопрос учинить закон требовал. А при повторном дознании Александр Федоров убийство младенца уже к 25-му году отнес, а на вопрос о том, каким же образом Иосель Мирлас мальчика изловил, ответил, что хитроумный Иосель рассыпал по двору чернослив, и когда восемь христианских детишек сбежалось его подбирать, евреи одного схватили и унесли в дом, а других разогнали.
О самом же рядовом Федорове удалось выяснить, что сдан он в солдаты был Велижским еврейским обществом по первому рекрутскому набору за воровство и буйство. В солдатах принял крещение, но когда перевели его в другой полк, объявил себя снова евреем и потом еще раз крестился. А показание явился давать уже трижды крещеным…
Почесали в затылках чины питерские и за благо сочли сомнительные показания рядового Федорова к делу вовсе не приобщать, как путаные и продиктованные мотивами личной мести.
Тем и завершилось следствие. Чудом, в облике Архангела Михаила, оно началось, чудом и кончилось.
Глава 23
Началось судебное разбирательство в Правительствующем Сенате. С серьезностью великой подошел к решению многосложного дела Сенат. Без бюрократизма и формалистики. В книги, изобличающие евреев, вникали седоголовые сенаторы, да не как-нибудь, а с тщательной проверкой всех обвинений. Выяснили сенаторы, что тех мест в еврейских книгах, на кои указывают изобличители, либо вовсе не оказывается, либо они совсем иной смысл имеют.
Из этого одни мудрые седые головы тот вывод делали, что изобличители просто клевещут на евреев. На что другие, не менее мудрые седые головы возражали, что, может быть, места те в еврейских книгах нарочно пропущены и в каких-то особо секретных старинных изданиях все же имеются… Третьи мудрые седые головы полагали, что все вообще евреи в постоянных убийствах христианских детей все же, по-видимому, неповинны, но что, вероятно, есть среди них изуверская секта, которая кровью христианской и упивается. А четвертые мудрые головы к той мысли пришли, что прежде чем выносить приговор Славке Берлин, да Ханне Цетлин, да Хаиму Хрипуну, да прочим велижским евреям, надобно непременно общий вопрос о ритуальных убийствах разрешить. Пятые же вовсе особые мнения высказывать изволили.
И путешествовало дело из одного департамента Сената в другой департамент, на общие собрания выносилось и вновь в департаменты заворачивалось.
А пока тянулась обычная канитель, в Велиже своим чередом жизнь текла. Арестованные евреи в казематах решения участи своей дожидались, не арестованные — того же ожидали на воле. Христианский люд лютовал на евреев, подстрекаемый сапожником Азадкевичем да учителем Петрищей. Подполковник Шкурин ожидал отзыва из проклятого Велижа в столицу, но то ли сердился на него государь, то ли вовсе про него все забыли, только приказа не поступало, и он все больше верхом скакал по окрестностям, чтобы не размышлять о том, как тает, как растворяется в воздухе из-за евреев блестящая его карьера.
А блаженная девка Нюрка Еремеева вдруг ни с того ни с сего богатые, золотом расшитые ризы принесла в дар Николаевской православной церкви.
Нищенка, побирушка, с паперти на паперть в рубище перекочевывающая, да вдруг — такие дорогие подарки дарить!
Заинтересовалась местная власть странным сим поступком, призвала больную девку к ответу. Как и почему, и откуда у тебя такие капиталы, чтоб дорогие ризы дарить?
— Сама сшила, — отвечает Нюрка, — из великой любви к Господу нашему Иисусу Христу и Святой его православной церкви.
— А материал где добыла, серебро-золото для роскошного шитья? — спрашивает чин.
Нахально глядит на чина Нюрка, не знает, что сказать, да вдруг как зальется слезами! И призналась, что не ее это ризы, что крестьянин Козлов из сельца Сентюры, через нее, Нюрку, то роскошное приношение сделал.
— Почему же, — спрашивает чин, — крестьянин Козлов от себя их не подарил?
— А потому, — объяснила Нюрка, — что много я ему ворожила и мои предсказания помогли ему разбогатеть, и он хотел мне подарок дорогой сделать да все спрашивал: «Какой тебе, Нюрка, подарок сделать?» А я говорю: «Не надобно мне ничего, а как моя ворожба от Господа, то сделай ты приношение в церковь». Он и ответил: «Будь по-твоему, Нюрка, только приношение мое через тебя пусть идет».
Вызвали крестьянина Козлова из сельца Сентюры, и он нюркины слова до последнего подтвердил. Обнаружилось тут, что давние и прочные узы связывают разбогатевшего пожилого крестьянина с юной нищенкой. Он и в остроге ее посещал, угощения носил, а как дочь у него в те дни родилась, так никого другого не захотел — Нюрку, несмотря на заточение ее, заочно восприемницей сделал. Оказалось, что знал он Нюрку еще ребенком, и, бывая в Сентюрах, всегда она у него, Козлова то есть, жила!
К еврейскому делу все это касательства не имело, однако закопошилось что-то в памяти подполковника Шкурина. Вроде бы, когда он в Велиж прибыл да с делом стал знакомиться, мелькнуло где-то в самом начале первого тома имя девки блаженной Нюрки, какие-то сны ее и предсказания…
Не обратил тогда особого внимания на чертовщину эту подполковник Шкурин, как-никак столичный человек, образованный, чтобы всякие суеверия всерьез принимать. Но теперь не утерпел Шкурин, вызвал к себе Нюрку Еремееву. А ну как что важное обнаружится и появится повод о себе Петербургу напомнить.
Ну, Нюрка опять ему про сны да припадки давнишние, про архангела Михаила да младенца, на которого шипела змея.
Шкурин сказкам тем не поверил, ласково, спокойно, улыбчиво, простыми вопросами Нюрку в угол стал загонять. И, наконец, созналась она, что про архистратига все выдумала, а про убийство потому заранее знала, что однажды невзначай в дом Ханны Цетлин вошла да и услышала из передней разговор: Марья Терентьева обещала что-то евреям принести. Потом дверь открылась, все вышли в переднюю и увидели ее, Нюрку, отроковицу двенадцати лет. Нюрка испугалась шибко: знала сызмальства про еврейский обычай христианскую кровь употреблять, и подумала — не о ней ли только что речь шла за дверью. Когда спросили ее, кто такая, она назвалась крестьянкой одной помещицы и едва ноги унесла из еврейского дома. Однако же шибко взяло любопытство Нюрку: захотелось узнать, о чем это говорили евреи с Марьей Терентьевой. И вечером, превозмогая страх, от коего дрожали коленки, она опять пробралась в Ханнин дом, притаилась в углу и слышала разговор Авдотьи Максимовой и Марьи Терентьевой.
Авдотья говорила, что евреи очень хотели захватить девку, приходившую днем, то есть Нюрку, но она им отсоветовала, сказав, что помещица станет искать свою крепостную и быстро все обнаружится. Марья ответила, что видела, какие жадные взгляды бросали евреи на девку, Нюрку то есть, да им не о чем беспокоиться, потому как она, Марья, приведет к ним мальчика, как обещала, и он будет умерщвлен в доме старухи Мирки.
Долго Нюрка ни слова не говорила никому о том, что слышала, ибо шибко боялась евреев, но как ей жаль было будущую жертву, то стала она разглашать про замышляемое злодеяние иносказательно, будто бы через сны и видения.
Такие вот показания блаженной девки Нюрки Еремеевой занесены были в протокол по указанию подполковника Шкурина.
А вечером, в возбуждении великом, пересказал Шкурин показания блаженной девки учителю Петрище, с коим смерть Страхова его еще больше сблизила.
— Ну, и что же из показаний сих следует? — спросил вкрадчивым своим голосом Петрища, цепко вглядываясь в взволнованное лицо Шкурина и оглаживая бороду белой почти девичьей рукой.
— Как — что следует! — воскликнул Шкурин, удивляясь непонятливости друга, чей ум привык оценивать высоко. — Ведь ей тогда было двенадцать годков. Слыханное ли дело, чтобы ребенок, насмерть перепуганный, ночью, по собственной воле явился в дом, где, по его понятиям, его могут зарезать! Да и Марья с Авдотьей ни слова о девке, что к Цетлиным приходила, ни о разговоре, ею подслушанном, никогда не показывали. Так что брешет бесстыжая каналья. Завтра же устрою ей очную ставку с бабами и в брехне уличу!
— И чего вы этим добьетесь? — настороженно спросил Петрища, выслушав возбужденного флигель-адъютанта.
— Многого добьюсь! — воскликнул подполковник, еще более удивляясь петрищиной непонятливости. — Ведь ежели она брешет, значит, имеет что скрывать! А Нюрка сия первая слух распустила об убийстве младенца евреями — еще за месяц до самого убийства. Ежели предсказание о преступлении сбывается с такой поразительной точностью, то где же преступников искать, как не рядом с предсказателем? Пророчествовала-то она в доме крестьянина Козлова, и с ним ее какие-то странные узы соединяют. Не Козлов ли есть тот архистратиг Михаил? Вот тропка, ведущая к истине! В нашем деле, знаете ли, широкий подход нужен. Охват! Этого наш молодой друг господин Страхов, царство ему небесное, никак не мог понять. Я теперь абсолютно уверен, что ежели мы связи крестьянина Козлова выявим, то дело оное до конца раскопаем — новых преступников к находящимся под арестом присовокупим, а главное, неопровержимые улики добудем, так что никто уж в преступности евреев усомниться не сможет!
— А не опасаетесь ли вы, господин подполковник, — как-то по-особому ухмыляясь, спросил Петрища, — что тропка сия совсем в другую сторону завести может?
— В какую это другую? — не понял Шкурин.
— Мало ли в какую! — с необычными для него дерзкими нотами в голосе ответил Петрища.
Он огладил бороду и продолжил:
— Выяснится, что означенный крестьянин Козлов в большой дружбе, к примеру, — тут Петрища запнулся, как бы подыскивая пример, — к примеру, с сапожником Азадкевичем, который и научил его девку подговорить!..
Сказав это, Петрища внезапно замолк, ожидая, пока услышанное уляжется в голове Шкурина, и неотрывно вглядываясь в его лицо потемневшими глазами. Увидев, что сказанное дошло до сознания подполковника, Петрища заговорил с еще большей дерзостью в голосе:
— А мальчонку, опять же к примеру, Азадкевич самолично пообещал изловить… А потом выяснится, к примеру, что Азадкевич точно изловил мальчонку, но при истязаниях только держал его, — медленно, словно гвозди вколачивая, выкладывал слово за словом Петрища. — А колол гвоздем и душил его другой человек, и этим другим человеком окажется вовсе и не еврей, а, опять же к примеру, — тут Петрища понизил голос до свистящего шепота, — учитель Петрища! — и он многозначительно прищурил один глаз.
— Представляете сцену, господин подполковник, — в голосе Петрищи послышалось торжествующее злорадство. — Азадкевич держит его, а я, к примеру, колю! Малец как уж извивается, мычит, потому как рот у него шарфом завязан, а я колю да приговариваю: «Терпи, казак, атаманом будешь, прямой дорогой в рай попадешь, потому как назначен ты Господом пострадать заради уличения врагов Христовых». Так в руках Азадкевича он и затих, и холодеть стал…
Петрища помолчал, но недолго; что-то заставляло его говорить.
— Вы, конечно, понимаете, господин подполковник, что все это я говорю только к примеру… Между прочим, о наших с вами сношениях и о том, что вы попали под полное мое влияние, евреи множество раз высочайшему начальству доносили, — Петрища откинулся на спинку стула и побарабанил белыми пальцами по столу. — И получится, что я вот этой самой рукой, — Петрища вытянул руку, и Шкурин увидел, как мелко подрагивают простертые над столом его нежные девичьи пальцы, — вот этой самой рукой ребеночка укокошил, и ею же — следствие восемь лет направлял, и не только этим глупым мальчишкой Страховым, царствие ему небесное, но и вами, господин флигель-адъютант его императорского величества, как куклой деревянной вертел.
И он громко захохотал, чего раньше никогда за ним не замечалось.
Пораженный странной речью Петрищи, подполковник Шкурин сидел минуты две молча, глубоко озадаченный, с низко отвисшей челюстью, а потом ударил себя по коленкам и тоже принялся хохотать.
— Ну и шутник вы, господин Петрища, ну и шутник!.. Столько лет уж вас знаю, а не думал, что вы такой шутник.
Шкурин всегда спал глубоко, без сновидений. Но в ту ночь он сильно метался, и все виделась ему нежная белая почти девичья рука учителя Петрищи с тонкими, словно длинные гвозди, подрагивающими пальцами.
Встал Шкурин вялый, с головной болью и тяжестью во всем теле. И не то чтобы какое-то значение придал вчерашнему разговору с Петрищей, а просто решил, что миссия его давно окончена и нечего ему все заново затевать. Ну, а чтобы напомнить о себе, достаточно и вчерашних показаний Нюрки Еремеевой: их тоже можно и князю Хованскому в Витебск препроводить, и в Петербург Правительствующему Сенату.
И как бы последний итог подводя следствию, вспыхнул в Велиже огромный пожар. Полгорода выгорело, и вместе с другими вся Тюремная улица.
Подполковник Шкурин отменную распорядительность проявил на пожаре. Казематы вовремя были отперты и перепуганные заключенные выведены из огня. Неожиданным благом пожар обернулся для несчастных узников. Пришлось всех перевести на окраину города в острог. Небольшой острог переполнился, и уж об одиночках речи не могло быть. Да и нужда в них отпала ввиду окончания дознания.
Могли теперь узники в тревожном ожидании участи своей словом друг с дружкой перемолвиться, шутки невеселые шутить, долю свою горькую оплакивать, надеждами делиться. Маленький Лейзер Рудняков, коего мать младенцем принуждена была с собою взять в заточение, стал бойким озорным мальчишкой и общим любимцем. Даже надзиратели любили Лейзера, позволяли ему подолгу играть на тюремном дворе. А Хаим Хрипун грамоте его обучал и не спеша, глава за главой, проходил с ним священную Талмуд-Тору. Торопиться-то им все одно было некуда.
Долгих три года разбиралось дело в Сенате, однако как ни лениво раскручивается веревочка, а концу все же быть. Собрались сенаторы и постановили: признать велижских евреев виновными в убийстве солдатского сына Федора Иванова и других шестерых христианских детей, включая дворянку Дворжецкую, а также в надругательствах над Святыми тайнами.
Но дело и тем не кончилось.
Виноватых-то надобно наказать по их вине, однако в мнениях о мерах наказания решительно разошлись высоколобые сенаторы.
Некоторые стояли за бичевание кнутом и ссылку в каторжные работы.
Другие, напротив, стояли за милосердие, то есть за сечение плетьми и ссылку на вечное поселение.
А один сенатор даже робко заметил, что участие евреев в убийствах не доказано, и ежели подходить по закону, то обвинять их можно только в том, что дерзили следователям, а за это можно вменить достаточным наказанием многолетнее пребывание в темницах, и потому всех арестантов следует распустить по домам.
В общем, не столковались сенаторы.
А поскольку то не в Англиях каких-нибудь происходило, где решения принимаются большинством голосов, а в России-матушке, где только единогласные определения Сената могли иметь силу, то особой чести удостоились велижские евреи: перекочевало их дело в Государственный Совет. И одному Господу известно, сколько бы еще годков ждал правды в темнице своей предусмотрительный Хаим Хрипун, если бы не попало оно сразу же в Департамент духовных дел и исповеданий, коим тот умник-законник заведовал, что в молодые годы в Англии морскому делу обучался и с тех самых пор на англицкий лад все в отечестве перекроить норовил.
Трех государей пережил адмирал Мордвинов, и каждого «Мнениями» своими атаковал. И про финансы, и про торговлю, и про развитие промышленности, и про политические права лиц разных сословий, и про отдельные судебные дела — у него свое мнение. И мнений тех он при себе не держал: каждое в Государственный Совет направлял, да государю, да сверх того всякому любопытствующему давал читать, да и переписать, так что в тысячах копий расходились «Мнения» его по России. Такой вот, понимаете ли, Самиздат.
Уж старик он древний, выбелен весь годами, ан как бессмертный Кощей при уме своем англицком состоит; живыми черными глазками из-под белых мохнатых бровей глядит безбоязно, голову высоко держит, на ноготок взлезать не торопится.
А ежели неугодное что в его «Мнениях», так он — пожалуйста — завсегда готов в отставку выйти да частным лицом в имениях своих поселиться. Имений-то у него почитай с целую Англию, так что дело себе он отыщет!
Ну, и выпроваживали его в отставку. И при Екатерине-матушке, когда он с самим Потемкиным схлестнулся, и при Павле Петровиче, и даже при Александре Павловиче Благословенном, когда друг его, такой же, как он, умник-законник Михаил Михайлович Сперанский в немилость впал и немилость та на него срикошетила.
Только вот странное дело. Сколько раз списывали адмирала Мордвинова с корабля, сколько раз осиновый кол в карьеру его вколачивали, а два-три годика проходило, и опять он в Государственном Совете, и в Комитете министров на первых ролях, и «Мнения» свои неугомонные снова строчит.
Прежние государи недолюбливали умника, а нынешний вовсе его не переносит. Да все ж терпит при особе своей, даже милостями одаривает, вот в графское достоинство на склоне лет возвел, потому как здорово умник мозгами шевелить умеет и сила какая-то тайная, магнетическая от него исходит.
Так и с Велижским делом вышло, что двенадцать лет десятки мелких и крупных чинов, орденами обвешанных, исследовали. Прочел умник все толстенные тома дела сего — не поленился, и мнение свое изложил. Коротко, ясно, толково, и с такой твердой англицкой логикой, что никуда ты от нее не денешься и из-под нее не выскользнешь.
Поскольку генерал-губернатор князь Хованский в своем заключении по Велижскому делу утверждал, что евреи — враги христиан и что они в течение веков много пролили христианской крови; поскольку такая точка зрения, ежели она водворится в правительстве в виде доказанной истины, с неизбежностью приведет к важным последствиям для всех обитающих в России евреев, то сперва-наперво умник общий вопрос рассмотрел: употребляют ли евреи христианскую кровь?
И заключил, что подозревать в этом вообще религиозных евреев абсурдно, ибо закон Моисеев строго-настрого всякую кровь, а не только человеческую, употреблять запрещает, и никто не испытывает такого сильного отвращения к крови, как евреи. В первые века христианства, указал умник, язычники приписывали кровавые оргии христианам, когда же христианство одержало верх и стало господствующей религией, оный абсурдный извет был перенесен на евреев. В позднейшее время, когда стало больше известно о еврейских законах, стали обвинять не всех евреев, а сектантов, которые уклоняются от запрета употреблять кровь. Однако наличие такой секты ничем не доказано, да и нельзя предположить, чтобы евреи, в течение веков терпевшие бедствия от ужасных правил той тайной секты, не открыли бы сами существования оной, особенно при той ненависти и нетерпимости, какую они вообще питают к сектантам. Известно, к примеру, что секта хасидов долгое время была предаваема проклятьям, а сочинения их публично сжигались.
Поскольку суждение князя Хованского основывалось в большой части на книгах и судебных делах прежних времен, то умник рассмотрел эти книги и дела и нашел, что все это не может быть принято в соображение ни в качестве исторических сведений, как произведения ума, омраченного предубеждениями, ни в виде судебных доводов, как наполненные противоречиями и разительными несообразностями.
Второй вопрос, поставленный умником, касался убийства солдатского сына Федора Емельянова Иванова, роли в оном евреев и трех христианских доказчиц.
Умник заметил, что из показаний Марьи Терентьевой явствует, будто она продолжала выполнять тайные преступные поручения евреев даже после того, как стала публично их уличать. Это, разумеется, невозможно. Аж через полтора года после убийства солдатского сына Терентьева и Максимова возили, по их словам, его кровь в Витебск, хотя из научных опытов установлено, что кровь, как жидкость органическая, быстро разлагается, теряя свои свойства и цвет, так что ее невозможно узнать, то есть данные показания тоже ложны. Из материалов первых допросов видно, что христианки почти ничего не помнили, с течением же лет, по мере удаления от события, они припоминали мельчайшие подробности даже о тех случаях, при которых, по их же словам, присутствовали мертвецки пьяными. Это тоже невозможно.
Итог: показания доказчиц несогласны между собой, с обстоятельствами дела, с медицинским свидетельством и, наконец, со здравым смыслом. Все это вытекает из материалов самого дела, из коих видно, что даны показания под посторонним влиянием, причем очевиден умысел оговорить евреев.
Убийство солдатского сына умник признал нераскрытым вследствие того, что, руководствуясь сильным предубеждением, все следователи с самого первого шага становились на ложный путь.
Что касается других убийств и надругательств над Святыми тайнами, то в деле не только нет юридических доказательств вины евреев, но даже то, что якобы убитые дети когда-либо существовали, не установлено.
Изложив все сие, умник предложил содержащихся под стражей евреев признать невиновными и немедленно их освободить. Еврейские школы, синагоги, молельни в городе Велиже открыть и дозволить в оных богослужение.
Трех христианок, также не повинных в убийствах, за ложные доносы и изветы умник посчитал достойными наказания кнутом и каторгой. Однако, учитывая, что доносили они под сильным посторонним влиянием, он нашел возможным от кнута их освободить, а каторгу заменить поселением. Что же касается крестьянской девки Еремеевой, то, по мнению умника, ее следовало сослать в монастырь на исправление.
Особо же необходимым он посчитал подтвердить повеление предыдущего государя, запрещающее обвинять евреев в ритуальных убийствах христианских детей, ибо обвинения эти основываются лишь на бытующих предрассудках и предубеждениях.
И, наконец, предложил умник освобождаемых из-под стражи велижских евреев, невинно в темницах томившихся, отчего, несомненно, торговые и прочие дела их в сильнейшее расстройство пришли, впредь на восемь лет освободить от государственных податей.
Вот как рассудил по-англицки!
Да в заседаниях Государственного Совета то «Мнение» свое доложил.
И с такой твердой логикой, что никто даже пикнуть супротив не посмел. Единогласно постановил Совет «Мнение» утвердить.
Кроме, конечно, последнего пункта. Потому как ежели тех евреев от податей на восемь лет освободить, то ведь великий урон для казны государевой может выйти!..
И что ж, вы думаете, умник?
На своем стал стоять даже и в сем последнем пункте! Особое «Мнение» на усмотрение государево поверг.
«Власть государственная, — написал в 'Мнении', — коя карает виновных, обязана вознаграждать невинно от нее страдающих». Справедливость то есть требует сатисфакцию, по-англицки-то выражаясь, невинным страдальцам дать. Так-то вот!
«Быть по сему», государь на решении Государственного Совета державной своей рукой начертал, а на «Мнение» отдельное умника лишь брезгливо поморщился. Вечно он с англицким своим выпендроном… Вознаграждать! Может, потребует еще, чтобы император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, в ноги паршивым жидкам поклонился! Будто и вовсе неповинны они ни в чем перед христианами! Опять же — секта… Что бы ты, умник, там ни писал, а я, однако же, государь самодержавный и мне полагать угодно, что ежели даже среди нас, христиан, к прискорбию нашему, изуверские секты имеются, то среди евреев тем более всякие такие секты должны быть! Не известны же оные потому, что евреи друг за дружку крепко стоят и сектантов покрывают. Это верно, что хасидов они анафеме предавали и даже ложными доносами на них правительство замучили. Ан, кто их там разберет. Может быть, это одна предприимчивость иудейская! Доносят друг на друга, чтоб взаимную еврейскую смычку замаскировать. А ты, умник англицкий, уши развесил и на хитрость жидовскую попался!
Глава 24
28 января 1835 года (по еврейскому календарю 18 числа месяца шват) прибывший в город Велиж из Петербурга фельдъегерь занял номер во втором этаже гостиницы Орлика Тевелева, что заново была отстроена после пожара на углу Базарной площади и Смоленской улицы.
Через час уже весь город знал о потрясающей вести, доставленной фельдъегерем. Толпы народа стали стекаться к дому Тевелева, запрудили всю улицу и прилегающую часть базара. Долго стояла, гудела толпа, а потом двинулась по городу стихийная процессия. Уже стало смеркаться, многие зажгли особые крупные свечи и понесли их над головами, как факелы.
Процессия, собравшая почти всех до единого велижских евреев, двигалась по Духовской улице к Большой синагоге, а впереди всех неясно маячила в сумерках фигурка маленькой старушонки в толстой ватной кофте. Она притопывала, хлопала в ладоши, кувыркалась в снегу и громко выкрикивала, почему-то по-русски:
— Наш Бог! Наша школа! Наш Бог! Наша школа!
Следом за старухой бежали мальчишки. Они толкались, смеялись и спрашивали друг друга:
— Ну, как тебе нравится старая Циреле?
Старую Циреле знал весь город: с утра до вечера она торговала на базаре дегтем, которым пропиталась ее ватная кофта.
Однако те, кто шел за мальчишками, уже с трудом различали в надвигающейся тьме фигуру старушки. Резкий запах дегтя от ее кофты сюда тоже не доходил, и в толпе говорили, что там, впереди процессии, танцует и кувыркается от радости та, что и должна с веселием великим идти впереди, то есть старая Мирка Аронсон, поднявшаяся на один этот вечер с еврейского кладбища.
У Большой синагоги возвышались сугробами горы нечищеного снега, и толпа должна была остановиться. Но уже через пять минут снег разгребли руками, черная железная цепь была порвана, печати сломаны, засовы отброшены, и тяжелая дубовая дверь, нехотя подавшись, со скрипом распахнулась перед благоговеющей толпой.
Внутри, среди холода и запустения, царил беспорядок, который возник девять лет назад, в тот момент, когда внезапно нагрянула полиция, получившая приказ опечатать синагогу. Скамьи были сдвинуты, часть из них — опрокинута. Разбросанные повсюду священные книги отсырели и наполовину истлели. Оторванный от стены рукомойник валялся на полу. Тяжелая скатерть наполовину сползла со стола, обе дверцы кивота были открыты, внутри не было священных свитков, взятых девять лет назад в полицию.
Однако быстро стал наводиться порядок. Замерцали кем-то принесенные свечи, и высокий зал с узкими сводчатыми окнами, застекленными разноцветными стеклами, осветился неярким светом. Слепой кантор Рувим поднялся на биму и, выталкивая изо рта белые клубы пара, запел:
— Благословите Господа, Он же благословен…
Слепой Рувим ждал этого часа долгих девять лет. Девять лет назад ворвавшиеся полицейские прервали его пение, и он дал обет не петь до того дня, пока молельни не распечатают вновь.
Этот день наступил. Неописуемая, неземная радость и благодарение вырывались из груди слепого Рувима, и две теплые струйки бежали из его невидящих, но сияющих глаз.
Все! Кончено девятилетнее позорище. Не будет больше секретных сборищ в тайно вырытых погребах, где только шепотом можно было разговаривать с Богом да ждать полицейской облавы со страхом великим в душе… С этим покончено. Не отдал Господь на поругание униженный свой народ.
Ну, вот и дождался ты правды, Хаим Хрипун! Пали тяжкие оковы твои, и постаревшая Рива омочила слезой твою поседевшую грудь. Опять светит солнышко, Хаим, и птицы поют, и духом смолистым тянет с сосновых лесов. И нет нужды в том, что спина твоя, познавшая плеть, сделалась круглою; что истончилась длинная шея твоя, и поникла тяжелая голова; нет нужды, Хаим, что тихая вековая печаль навсегда поселилась в большущих твоих глазах, что складка залегла над переносьем и не пышет больше праведным гневом пожелтевшее твое лицо. Все от Бога, Хаим, а от Него следует принимать и хорошее, и худое. Хорош Божий мир, Хаим, хорошо жить на свете Божием, хорошо величие Божие и мудрость Его святой Торы постигать!
Ты, Хаим, раввином поставлен на место усопшего раввина. Пришло твое время, Хаим, потому что всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, Хаим, и время умирать. Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время обнимать, и время уклоняться от объятий.
И потому — смейся, Хаим Хрипун! Пляши, люби, не уклоняйся от объятий, Хаим! Вникай в сокровенный смысл Талмуд-Торы твоей. Что делает Бог, то пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его.
Едва успел ты к волюшке попривыкнуть, Хаим, как новая весть Велижград потрясла. Князь Хованский, что столько годков волен был три губернии на ноготке своем раздавить, в немилости вдруг оказался. Уволен с почетом в сенаторы! Видать, сильно подорвало дело ваше, Хаим, доверие государево к князю Хованскому.
А тут еще недород за недородом, губерния Витебская в запустение пришла, недоимки огромные накопились. Крестьяне бедствуют — не приведи Господь! То там, то тут бунты возникают, и не на кого бедствия народа свалить, потому как сильно усердствовал все годы генерал-губернаторства своего князь Хованский, делом жизни своей положивший евреев из деревень всех вывести. И преуспел в том деле немало: освободил от евреев большинство уездов. А вместе с тем торг оживленный, что искони вела губерния разными товарами с многими городами российскими да и с самой заграницей, потихонечку захирел. Потому что помещики, лишившись обычных своих посредников, доходы стали терять да сильнее крестьян прижимать, дабы восполнить потери; а крестьяне, не имея кому продукт свой сбыть, всякого интереса в работе лишились. И стали кричать помещики, что витебский мужик совершенно туп, ленив и ничем более не занимается, как пьянством. Только ведь криком, Хаим, делу не поможешь, и вот сельская промышленность почти вовсе в губернии прекратилась. Ни помещикам, ни крестьянам, Хаим, изгнание евреев из деревень пользы не принесло, только тех и других разорило. А заодно и города, переполненные обездоленными выселенцами, в упадок приходить стали. Кое-где в них еще попадаются куски камнем вымощенных улиц. Но это следы былого благополучия, Хаим. Давно уж по бедности никто не мостит улиц в городах процветавшей когда-то губернии. Вот и весь невеселый итог долголетнего генерал-губернаторства князя Хованского…
Слава Господу, Хаим, новый генерал-губернатор иные порядки стал заводить — легче будет теперь и евреям. Не то чтобы он очень любил вас, Хаим, однако ж, он местом своим дорожит, ошибок предшественника повторять не желает. Ожидать можно, что меньше стеснений будет теперь собратьям твоим, Хаим Хрипун. Так и объясняй народу твоему.
Учи народ твой, Хаим, славить Бога и благоговеть перед лицом Всевышнего. На всех краях Земли, которую соорудил Он глаголом Своим, все собираются сонмами для благоговейного служения Ему. Он открывает из мрака глубоко сокровенное; иссекает пламена и молнии, освещающие и озаряющие вселенную. От дуновения Его расступаются горы; утесы и твердыни не выдержат ярости Его; от страха перед Ним расседаются долины, тают и расплавляются подобно воску. Вихри и бури крутятся вокруг пути Его; туча, подобно пыли, обволакивает стопы ног Его. Искупление послал Он народу, прильнувшему к Нему; Он навеки произнес завет свой с любимцами Своими, Им приобретенными и десницею Его объятыми, следующими за Ним и прилепляющимися к Нему. Он слышит вопли их из глубины, Хаим, Он могучая краса, Роза долин.
Кто, Господи, подобен Тебе! Кто подобен Тебе, Всесильный и Избавитель? Кто подобен Тебе, Изрекающий правду и Всесильный во спасении? Кто подобен Тебе, Облекающийся в красу и величие? Кто подобен Тебе, Подавляющий грех и вину? Кто подобен Тебе, Пречистый среди высших сил? Кто подобен Тебе, Преблагий и Благотворящий? Кто подобен Тебе, Благодетельный и Праведный? Кто подобен Тебе, Громоздящий в груды воды морские? Кто подобен Тебе, Избавляющий из морской пучины? Кто подобен Тебе, Прославляемый шумом бегущих волн? Кто подобен Тебе, Мчащийся на облаках? Кто подобен Тебе, Помогающий и Ведающий уповающих на Тебя? Кто подобен Тебе, Творящий спасение? Кто подобен Тебе, Внемлющий взывающим к Тебе? Кто подобен Тебе, Чье имя свято и грозно? Кто подобен Тебе, благоволящий к народу Своему? Кто подобен Тебе, Сохраняющий завет и милость? Кто подобен Тебе, Хранящий верность Свою Иакову и Оказывающий милость Свою Аврааму?
Нет подобного Тебе, о Господи, меж Богами, и нет сравнения делам Твоим!
Итак, будем славить Тебя с благоговением, славословить Тебя с благоразумием, величать Тебя по величию Твоему, искать Тебя изведанием, прославлять Тебя благодарением, восхвалять в собраниях, вспоминать Тебя песнопением, возглашать могущество Твое с трепетом, превозносить Тебя с разумением в чистоте, проповедовать единство Твое со страхом, чествовать Тебя коленопреклонением, усердствовать Тебе в учении Твоем, воцарить Тебя царством, торжествовать с восторгом, величать Тебя господством Твоим, прославлять Тебя со смирением, украшать Тебя возгласом пения, возглашать Славу Твою ликованием, святить Тебя усердным взыванием, неустанно твердить хвалу Твою.
Гордо ходят евреи по Велижу, смело в глаза соседям своим глядят. Большая синагога переполнена, слепой кантор Рувим соловьем заливается, славит народ Господа торжественным песнопением.
Радуйся, ликуй, Хаим Хрипун!
Восторжествовала правда, пришло время, Хаим, опять доказал свое могущество Бог единый Израилев.
Мил, опрятен Велижград, уютно к реке Двине притулившийся; город тихий, набожный, торговый, со множеством церквей да заведений питейных. Характер купцов и мещан велижских добрый, но вместе — крутой. Многие ведут жизнь довольно разгульную. Нетрезвость широкие размеры имеет, а отсюда и бедность. Домашние ссоры и буйства доходят до обыкновенности. Старики-родители часто жалуются на побои детей, а жены — на жестокость мужьев. Так колошматят добрые велижане супружниц своих, что преждевременные роды и скидывания — очень нередки. Люди достаточные и благонадежные здесь те из купцов и мещан, кто сам трудился над своими приобретениями. Потомственные же сынки и внуки купеческие, получив без труда отцовские и дедовские капиталы, торгуют без пользы и проводят дорогое время в разных маевках и вечеринках, усиливаясь стать в ряду небольшого образованного общества, а в праздничные зимние вечера выходя на удалые кулачные бои.
Ну, а виноваты в тягостях велижан, конечно, евреи! Это они добродушеством жителей как нельзя лучше пользуются; всякими предприимчивостями и коварствами, с великой противу христиан злобой, прибирают к липучим рукам все заработки.
Такой вывод, Хаим Хрипун, еще через два десятка годов сделает Православный Исследователь.
Генерал-губернатор-то опять сменится в Витебске, и новая метла по-своему станет мести.
Так что — ликуй, Хаим Хрипун!
Ликуй, пока твое время, ибо иные времена грядут.
Время искать, Хаим, и время терять; время раздирать, и время сшивать; время разбрасывать камни, и время собирать камни. Все возвращается, Хаим, на круги свои.
Что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, Хаим, о чем говорят: «Смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, Хаим, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после.
Спит вечным сном следователь Страхов; отозван, наконец, из Велижа подполковник Шкурин; совсем спился с круга сапожник Азадкевич, все больше по придорожным канавам бороденку всклокоченную в блевотине мочит да пускает пузыри. Зато по-прежнему свеж и деятелен учитель Петрища. На уроках в приходской школе он детишкам, ученикам своим, сказочки про жида вороватого сказывает, к щенячьему их восторгу, а по вечерам в лучших домах велижских, куда его наперебой чай пить приглашают, из книги старинной польской разные места переводит, бороду нежной, белой, почти девичьей рукой оглаживает да объясняет вкрадчивым голосом своим, как погибать будет Россия через евреев.
Но ты не печалься тем, Хаим Хрипун.
Ты радуйся, Хаим. Веселись, ликуй в сердце твоем, потому что сейчас твое время.
Ведь нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это — доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?
Москва, 1975-1979
Кровавая карусель
(Исторический роман в двух частях)
Часть I. УСЛУГА ЗА УСЛУГУ
(Павел Александрович Крушеван)
А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб.
Исход: 21, 23-25
Пролог
Карьера Павла Александровича складывалась необычно.
Литераторы его поколения, как правило, начинали свой путь скромными газетными хроникерами. Тех, кому удавалось себя зарекомендовать этой незаметной работой, допускали составлять безымянные обзоры, а после того, как они набивали руку неблагодарной поденщиной, им позволяли изредка выступать с собственными (то есть подписанными их именем) статьями, фельетонами, рецензиями. Особенно удачливые или талантливые со временем становились ведущими обозревателями или публицистами, но только самые отважные из них решались, в конце концов, порвать с газетой и вступить на скользкий, но очень заманчивый путь свободного художника-беллетриста.
А Павел Александрович начал как беллетрист. Его рассказы, повести, романы появлялись в солидных журналах, выходили отдельными книгами. Шумного успеха не было, однако постепенно Павел Александрович приобретал репутацию даровитого сочинителя, которому есть что сказать почтенной публике. Павел Александрович считал, что достоин большего внимания со стороны читателей и критики, но, во всяком случае, его никак нельзя было причислить к тем литературным неудачникам, — озлобленным, завистливым и полуголодным, — которые носят из редакции в редакцию увесистые рукописи и всюду получают холодный и не всегда вежливый отказ. (Он, кстати, вывел этот хорошо знакомый ему тип в одной небольшой повести.)
Однако роль стороннего наблюдателя жизни не удовлетворяла Павла Александровича. Его томило какое-то беспокойство, стократ усилившееся с тех пор, как рухнула единственная в его жизни любовь. Как часто бывает в таких случаях, он пытался забыться в картах, вине, в объятиях продажных женщин. Но это длилось недолго, потому что купленная любовь в его глазах стоила слишком дешево, и всякий раз, когда наступало отрезвление, он чувствовал еще большую тоску и пустоту. Иногда ему вспоминался опыт, показанный на уроке физики в Кишиневской гимназии: к небольшому колокольчику подвели электрический ток, а затем поместили под стеклянный колпак и особым насосом стали выкачивать воздух. Звон колокольчика быстро ослабевал и скоро совсем не стал слышен, хотя язычок продолжал биться о его стенки. Павлу Александровичу представлялось, что его душа тоже находится в безвоздушном пространстве: она кричит от боли, но звука не слышно.
Он думал привыкнуть, примириться, но годы шли, а одиночество делалось все более невыносимым. Он понял, что излечиться сможет только одним путем — если, как в омут, бросится в самую гущу жизненной борьбы и из наблюдателя станет ее прямым участником. Для писателя это значило — начать издавать газету.
Вероятно, следовало сразу обосноваться в Петербурге, но он предпочел милую его опустошенному сердцу Бессарабию — хлебосольный край, где он вырос, где все хорошо знал, имел родных и друзей и мог рассчитывать на поддержку.
Его «Бессарабец» приобрел огромное влияние в губернии и даже во всем южном крае. Тираж достиг шести тысяч — случай, почти невозможный для провинциальной газеты. Сначала ощущалась нехватка денег, особенно из-за козней врагов, старавшихся погубить его детище, но Павлу Александровичу удалось приобрести достаточное число клиентов, нуждавшихся в рекламе. За счет объявлений газета стала себя окупать.
Он выпестовал надежных сотрудников и уже мог на недели и даже месяцы отлучаться из города, уверенный, что и без него дело будет вестись так, как надо. Он даже стал снова выкраивать время на беллетристику: написал несколько рассказов и начало большого романа. Однако ему уже становилось тесно в провинциальном Кишиневе.
Не выпуская из рук «Бессарабца», он переехал в столицу, где основал еще одну газету — «Знамя».
Он хорошо понимал, чем всероссийский масштаб отличается от масштаба губернии. Он понимал, что такое конкурировать с десятком упрочивших свое положение изданий. Он сознавал, каково начинать газету с таким мизерным капиталом, каким он располагал, потому что всегда был бессребреником и никаких накоплений не имел. Он знал, что не сможет привлечь маститых журнал истов — и из-за непопулярности своего направления, и из-за невозможности платить высокие гонорары. И все же он пошел на этот безумный риск, потому что верил, что не деньги правят в этом мире — не должны править деньги. Энергия и самоотверженность способны сломить любые преграды, а у него имелось в избытке и то и другое.
Все его опасения подтвердились с такой точностью, словно он внутренним взором читал в книге будущего… Кое-кто из маститых предлагал ему помощь: рады, мол, послужить русскому делу, но каков гонорар-с? Сами понимаете, Павел Александрович, если мы у вас хоть раз напечатаемся, нас ни в одну другую газету не пустят-с… С презрением отверг Павел Александрович изъявление патриотических чувств за приличное вознаграждение. Сам он безвозмездно трудился. Он и Бука, и Homo, и Vega, и, конечно, П.Л.Крушеван — един во множестве лиц. Оно и не очень солидно для столичной газеты, но пока приходилось с этим мириться. До глубокой ночи сидел Павел Александрович не разгибая спины, а потом еще с типографщиками лаялся до света, чтобы газета не опоздала к читателям.
Однако Павел Александрович не жаловался на перегрузки. Он вообще ни на что не жаловался, разве только на то, что в последнее время стало пошаливать сердце. Его сердце, на которое жизнь наложила столько зарубок, но которое оставалось нежным, трепетным и горячим, сжимали по временам в груди чьи-то враждебные пальцы, и тотчас же испарина выступала на лбу, тоска затхлого безразличия заливала душу, словно кто-то окунал ее в холодную болотную жижу. И хотелось только одного: доползти до дивана и смежить отяжелевшие веки.
«Вот так и наступит конец!» — думалось тогда Павлу Александровичу. Но мысль эта совсем не страшила и не волновала его, а если что страшило, так именно полное безразличие к собственной жизни.
«И наступит конец, и некому будет говорить правду, и погибнет Россия», — пытался одолеть безразличие Павел Александрович.
Но и гибель России тоже не волновала и не пугала. «Что же это все значит? Как же так?» — пытался понять себя Павел Александрович, хотя понять было несложно, ибо то давала себя знать бесконечная череда бессонных ночей и тонны исписанной бумаги. Сердце сдавало, и самое главное — исчезал пыл, страсть, тот двигатель вдохновения, который наполнял смыслом всю его каторжную деятельность.
«А это даже хорошо, — думал он, — умереть не от какой-нибудь долгой чахотки, а вдруг, внезапно, словно от пули, как умирают солдаты на поле боя. Чтобы так и написали в некрологе: „Он умер как солдат!“»
И ему представлялся большой газетный лист, обрамленный траурной каймой, и на нем портрет — тот самый, удачный, что он поместил в альманахе «Бессарабец», и еще одна фотография: он лежит в гробу, усыпанный цветами. И, конечно, целый ряд статей и воспоминаний — их напишут друзья, те немногие, кто верен ему и готов продолжить его дело…
Что, однако, напишут они в прощальном слове?..
Под влиянием этого мысленного вопроса Павел Александрович предавался воспоминаниям о прожитой жизни, а под впечатлением нахлынувших воспоминаний забывал о злобе сегодняшнего дня и даже о сердечной боли, уложившей его на диван. А когда возвращался к действительности, то обнаруживал, что боль давно утихла, сердце бьется ровно и спокойно, он полон энергии и снова готов к своему каторжному труду.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. 1903 года, апреля 9-12 дня, и. д. Судебного Следователя по важнейшим делам округа Кишиневского Окружного Суда, при нижеподписавшихся понятых, производил осмотр города Кишинева, с целью установления количества домов, поврежденных во время уличных беспорядков, происходивших 6–8 апреля 1903 года, и степени их повреждения, причем оказалось нижеследующее:
Город Кишинев расположен на возвышенности, постепенно спускающейся к берегу высыхающей речки Быка и пролегающему по берегу названной речки полотну Юго-Западной железной дороги, и разделяется на пять полицейских частей, из которых четыре обнимают город в тесном смысле слова, а пятая вмещает в себя предместье города Кишинева, за исключением расположенного близ вокзала предместья Гуцулевки, Табалерии и Негриштии, входящих в состав четвертой части, и Скулянской Рогатки, разделенной между первой и третьей частями. Первая часть, населенная по преимуществу достаточным классом, где еврейское население составляет незначительный процент, сравнительно мало пострадала от беспорядков, которые в названной части выразились лишь в разгромлении ряда еврейских магазинов по Пушкинской улице, в части ее, находящейся против Николаевского бульвара, нескольких магазинов на Николаевской улице, между Пушкинской и Синадиновской, торговых заведений и частных квартир в Полицейском переулке, тринадцати лавок и винных погребов в верхней части Мещанской улицы (между Львовской и Подольской), нескольких отдельных бакалейных лавок на других улицах, еврейских домов и лавок на Скулянской Рогатке и разбитых стекол в окнах некоторых домов по Александровской и другим улицам. Чуфлинская площадь и, в трех кварталах от последней, Новый Базар, где впервые возникли уличные беспорядки, пострадали более всех других. Здесь нет ни одной улицы, ни переулка, в которых все дома сохранились бы невредимыми. Особенному опустошению подверглись улицы, составляющие границы второй части с восточной и южной стороны, Николаевская и Кировская, а равно и прилегающие к ним Армянская, Свечная и Гостиная. Всюду на этих улицах разбросаны осколки мебели, зеркала, изуродованные самовары и лампы, части одежды и белья, матрацы и перины с выпущенным из них пером. Улицы, словно снегом, покрыты пером, которое носится по воздуху и садится на деревья. В третьей части, в которую входит Старый Базар, торговые улицы: Харлампиевская и нижняя часть Пушкинской и густо населенные беднейшим еврейским людом улицы: Азиатская, Синагоговская, Фаризейская и другие, особенно сильно пострадали: Минковская улица, по количеству разгромленных домов, Пушкинская, по размерам убытков, и входящая сюда часть упомянутой Скулянской Рогатки. В четвертой части наиболее разгромленные местности: Кожуховская, Остаповская и восточный конец Николаевской улицы, куда направлялось движение буйствовавшей толпы от вокзала железной дороги и с предместьями Мунгештской дороги, и Бальшевского улица, в которую шли громилы с Бендерской Рогатки. Четвертая часть сплошь населена беднейшим еврейским классом, на котором погром отразился особенно чувствительно. В пятый входят предместья: Мунчештская дорога, Бачойская дорога, Молестриу, Ганчешская дорога, Скиносы, Измаильская дорога, Малая и Большая малины и др. Здесь особенно пострадавшими оказались жилые помещения на заводах Мунгештской и Бочайской дорог и дачи богатых евреев на Малой Малине. Население последнего предместья, а также Мунчештской дороги, Кавказа и Молестриу и составляет главным образом тот контингент, который 6 и 7-го апреля производил беспорядки в городе…[1]
Глава 1
Выйдя на улицу, Павел Александрович зажмурился от яркого света, потом взглянул на часы (была половина четвертого) и, поколебавшись мгновение, решил не брать извозчика. Больно уж день был хорош, и Павлу Александровичу захотелось пройтись.
«День был не жаркий, но солнечный, ясный, из тех ясных солнечных дней, какие даже в начале лета не часто выпадают в Петербурге», — мысленно сказал, а точнее мысленно написал Павел Александрович и даже представил себе эти строчки, занесенные на бумагу его тонким почерком. Он любил подобные обороты и знал за собой маленькую слабость: нередко злоупотреблял ими.
«Это был старый помещик-аристократ, из тех старых аристократов, какие…». «Это была коротко остриженная курсистка, из тех юных курсисток, какие…». Подобные повторения включали в себя и подмеченную острым глазом художника подробность, и обобщение мыслителя, умеющего подняться над мелким фактом, и придавали всему оттенок замечания, брошенного как бы вскользь, между прочим, и вместе придавали фразе и глубинную значимость и особого рода певучесть…
Впрочем, мысль Павла Александровича не остановилась на этих соображениях. Они проплыли в голове легкой волной, словно клубы быстро тающего тумана.
Позади была почти бессонная ночь и две большие статьи, написанные с утра, но Павел Александрович давно не ощущал во всем теле такую легкость и бодрость. Он чувствовал себя так, словно хорошо выспался, принял ванну и выпил две чашки крепкого кофе.
Улица была, по обыкновению, пуста: только две мрачные фигуры, о чем-то разговаривавшие друг с другом впереди Павла Александровича, замедлили шаг и, чертыхаясь, стали спускаться в полуподвальную лавочку — очевидно, купить папирос.
Поравнявшись с лавочкой, Павел Александрович машинально заглянул в открытую дверь, но в полумраке не увидел ничего, кроме двух пар ног в грязных ботинках.
Небо было высокое; легкие пушистые облака плыли в шелковой голубизне. Мимо с громким цокотом пронесся экипаж, докатил до перекрестка и повернул на Невский. Глаза уже привыкли к солнцу, и их совсем не слепило. Дышалось легко и свободно.
«Какая это, однако, роскошь — вот так, не спеша, пройтись по Петербургу, и как редко я могу себе это позволить!» — подумалось вдруг Павлу Александровичу, и он по-настоящему остро пожалел себя.
В те времена, когда он еще писал беллетристику, Павел Александрович имел обыкновение «выхаживать» свои произведения. Во время ходьбы его воображение рождало более яркие картины и образы, чем за письменным столом, и он гулял по много часов ежедневно, нисколько не ценя и даже не замечая этого счастья.
Теперь же он был почти полностью лишен того, что доступно последнему бродяге, даже вору и злодею, ибо и арестантов, говорят, положено выпускать на прогулку.
Прохладный ветерок живительной струей втекал в легкие; незлое петербургское солнце пригревало так ласково, как в Бессарабии бывает только ранней весной, и Павел Александрович был полон избыточных сил, словно не за спиной остались долгие годы изнуряющей литературной работы, а все они лежали перед ним в будущем.
Враги думали, что он сломлен и уничтожен. Они ликовали с того дня, как он объявил о скором закрытии газеты. Рано радуетесь, господа! То была лишь минутная слабость Павла Александровича. И даже не слабость, а тонкий расчет. Деньги, проклятые деньги! Все упирается в презренный металл. Две недели назад он не смог вовремя рассчитаться с рабочими, и газета не выходила четыре дня. Казалось, что это конец, но он вывернулся. Раздобыл полторы тысячи и заплатил самые срочные долги, рассчитался с рабочими. Однако пришлось публично приносить извинение читающей публике. Признаться пришлось всему свету в денежных затруднениях. И самое главное — он опять остался без гроша.
Всякий бы дрогнул.
Вот Павел Александрович и заявил: хватит! Ныне отпущаеши раба твоего.
Конечно, не деньги он выставил главной причиной закрытия газеты. Признал себя побежденным врагами. Шесть лет лили на него грязь, он привык к этому, однако с тех пор, как он начал «Знамя», травля стала невыносимой. Не было дня, чтобы в нескольких газетах не печатали оскорблений по его адресу. Всюду его преследовал этот позор, который он заслужил лишь бескорыстным стремлением работать во имя России. Каждый сказал бы, что сказал Павел Александрович: «Всякому терпению есть конец. Пускай найдутся другие охотники продолжать дело. Думаю, что большинство, особенно те, у кого есть семья, не рискнут. Я рисковал потому, что я один, и потому, пожалуй, что меньше ценю свою личную жизнь, чем свои убеждения и долг совести».
Вот так, прямо и открыто, как он всегда говорил с читателями, без хитростей и околичностей. Пусть его откровенность вызывает только насмешки. Пусть снова вопят о его мании преследования с гаденькими намеками на трусость, как это уже было, когда он сообщил об анонимных письмах, в которых ему угрожали смертью. «Не такая вы важная птица, Павел Александрович, чтобы кто-то вздумал покушаться на вашу драгоценную жизнь. Уж не сами ли вы шлете себе эти анонимки, чтобы подогреть интерес к собственной персоне и поднять тираж вашей жалкой газетенки? Если так, то просчет допускаете. В простодушной провинции, может быть, такие штуки и проходят, да нас, столичных воробьев, на мякине не проведешь!..»
Ладно, пусть забавляются! Пусть считают его простодушным провинциалом. Тем лучше. Еще неизвестно, кто хитрее: простодушный ли Павел Крушеван или их хитроумные мудрецы. Они не гнушаются никакими средствами. Ухватились даже за Кишиневские беспорядки и выставляют его главным их вдохновителем, хотя его в то время даже не было в Кишиневе. Да, его «Бессарабец» — единственная газета в губернии, и она пользуется огромным влиянием. Она пробудила общественное самосознание в апатичном населении обширного края. Так можно ли ставить ему в вину то, чем каждый газетчик вправе гордиться?
Разве его газета могла скрывать от простого народа ту страшную угрозу, какая нависла над ним? Молчать об этом — значило бы совершить гнусную измену. У него был голос — он должен был говорить. Он видел неправду — и обязан был кричать о ней.
Им самим надлежало сделать выбор, и он прямо говорил им об этом. Увещевал, уговаривал, настаивал, требовал. Перестаньте эксплуатировать христианское население, а то терпение лопнет. Перестаньте подбивать народ на бунт, а то бунт падет на ваши же головы…
А какой выбор они сделали?
Достаточно полистать подшивку «Бессарабца», чтобы увидеть, чем они ответили: в газете все зафиксировано. И как нападали группами на солдат гарнизона. И как потасовки устраивали, избивая мирных жителей… Говорят, факты те не подтверждались, ибо ни одно такое дело не дошло до суда. Как будто неизвестно, как умеют они подкупать полицию и заминать преступления!
А сколько горя причинили они лично Павлу Александровичу! Писали жалобы, требуя закрыть «Бессарабец»… Отказывались помещать в нем объявления… Однажды даже окна побили в типографии… Павел Александрович на все это, стиснув зубы, молчал. Никогда он не призывал к насилию!
Теперь вопят, что Кишиневский погром — прямое следствие его агитации. Но Павлу Крушевану не привыкать к нападкам. Да, он писал в прошлом году: «Еврейский вопрос в Бессарабии принял острый характер и грозит евреям страшной и, увы, неизбежной трагедией». Он так писал! Что ж, он лишь трезво оценивал обстановку и предупреждал о возможных последствиях.
Они не вняли его голосу. Они устроили в Кишиневе тайную типографию, тысячами экземпляров печатали подстрекательские прокламации от имени какого-то «Бессарабского отдела социал-демократов», призывали к ниспровержению существующего порядка, к анархии, к борьбе против правительства. Таким вот коварством пытаются расшатать все верования, все устои, на коих веками зиждется историческая жизнь государства. Но даже и это простой народ молча терпел. Только подспудно копилось раздражение — стихийное, дикое, мрачное. И выплеснулось восстанием… Они хотели вызвать бунт — он и разразился.
…Павел Александрович свернул на Невский и очутился в потоке говорливой толпы, снующей здесь с утра до позднего вечера. Шаг его был уверенный, широкий, но неторопливый; время от времени он выкидывал вперед изящную палку с серебряным набалдашником. Было видно, что Павел Александрович не из тех праздных щеголей, которые скучают, не зная, как убить время, но он и не из тех, кто спешит на другой конец Петербурга, не имея возможности потратить двугривенный на извозчика. Каждый, кто дал бы себе труд остановить внимание на Павле Александровиче, тотчас определил бы, что этот безукоризненно одетый господин идет куда-то по важному делу, но у него есть в запасе немного времени, и он может себе позволить подышать свежим воздухом.
…Уж если на то пошло, он мог вызвать погром и год, и два года назад. При том влиянии, какое имел в губернии «Бессарабец», ему стоило лишь пальцем пошевелить. Но он был против этого, да и теперь удержал бы неразумный народ, если бы не перебрался в столицу. Ведь погромом христиане самим себе куда больше навредили.
Так отвечает Павел Александрович на обвинения. Категорически отрицает свою причастность к погрому и вроде бы вовсе не отрицает. Нравится ему это словесное фехтование! Он в глубине души даже рад обвинениям. Чует, стало быть, иудино племя его силу, если считает способным поднять целый город! Хотел он кровавой бани или не хотел, а сделанного не воротишь, так не жаться же ему испуганно в угол. Он непримиримый враг евреев, он никогда не скрывал этого. И если теперь его называют кишиневским громилой, то даже есть что-то притягательное в этой зловещей славе.
Павел Александрович бодро шагает вдоль выстроенных по ранжиру зданий. Под ярким солнцем нарядные витрины отливают всеми цветами радуги. В одной из них выставлены модные ткани, доставленные из Франции, в другой — тонкий китайский фарфор, в третьей — вина, балыки, колбасы… Хлопают двери бесчисленных магазинов, погребков, кофеен, ресторанов. Экипажи беспрерывной чередой мчатся по проспекту, тащат рядом с собой густые неровные тени.
Три размалеванные женщины фланируют недалеко друг от друга. Они резко выделяются в толпе. Помахивая веерами, они обстреливают прохожих нескромными взглядами. Две из них белокуры и голубоглазы, может быть, сестры; третья — жгучая брюнетка, смуглая, с резкими чертами лица и двумя огромными кольцевидными серьгами. На ней пестрое платье, бусы в несколько рядов. Манерами, да и всем видом она хочет походить на цыганку, но Павел Александрович в миг признает черты Израилева племени.
Женщина заметила, что на нее обратили внимание.
Приветливой улыбкой одаривает она Павла Александровича, подается к нему гибким телом, но он брезгливо отстраняет ее рукой. Уж нет ли здесь какого-нибудь гешефта?.. Проституцией еврейкам разрешено заниматься по всей империи, так они иногда пользуются со свойственным им пронырством. Недавно еще писали в газетах: задумала одна шустрая учиться стенографии и приехала в Петербург, не имея законного права жительства. Ее выела-ли, да она снова приехала. Ее опять выслали. Тогда она выправила себе желтый билет, живет в Петербурге, учится стенографии. Однако дворник пригляделся — клиенты к ней вовсе не ходят! Дал знать полиции, к ней с обыском нагрянули, в больницу забрали, обследовали, и оказалось сия проститутка девицей! Вот на какие обманы способно развратное племя…
Павел Александрович минует проституток, а его обгоняют мужчины и женщины, одетые просто, с несмываемой печатью озабоченности на лицах. Такие же идут навстречу: их на Невском большинство.
Павел Александрович приглядывается к ним, и в груди его поднимается теплая волна сочувствия, жалости, горячей любви к этим простым людям, вечно занятым добыванием насущного хлеба. Хоть бы вот этот худощавый господин, уже немолодой, бедно, но очень аккуратно одетый, с темными припухлостями под глазами.
«Можно биться об заклад, — думает Павел Александрович, — что он мелкий служащий с мизерным жалованием. У него на руках семья. Трое, а то и четверо детей, и всех надо кормить, одевать, пристроить в гимназию… А у него, может быть, еще есть и старуха-мать, которую надобно содержать… А жена, замученная нуждой, злая, ворчливая жена, может быть, даже в чахотке… Почти непременно в чахотке!.. Вот и мается он в поисках случайного заработка… Между прочим, неплохой сюжет для небольшого рассказа!..»
Павел Александрович глубоко вздохнул. Неплохой сюжетец, очень неплохой, но ему теперь не до рассказов. Было время — у него не хуже, чем у иных именитых беллетристов, получалось. Оставить пришлось все это до лучшей поры. Пускай господа Чеховы, горькие, короленки занимают публику художествами. Им ведь все равно, какому Богу молиться, им бы только слава, успех, да чтобы денег побольше платили! И еще порядки российские бы осрамить путем какого-нибудь скандала, а себя еще больше возвеличить. Выбрали их в почетные академики, да им такого почета мало. Горького, воспевающего босяков, государь в академиках не утвердил, так Короленко и Чехов тотчас в отставку. Не хуже евреев друг за дружку держатся!
Ну, что ж, господа отставные академики, угощайте почтенную публику изящной словесностью. А Павел Крушеван другим занят! Ему не то важно, чтобы поведать публике, как мелкий служащий из сил выбивается, добывая копейку для несчастного своего семейства; ему важно служащему этому объяснить: оттого ты, братец, бедствуешь, что кроме собственного семейства на шее твоей сидят десять миллионов кровопийц, лютых врагов тебя самого, твоей христианской веры и твоего родного отечества! А беллетристика- потом. Когда-нибудь. Если останутся силы. Потомство рассудит Павла Александровича с Чеховыми и короленками. Русский народ скажет свое слово! Русский народ всем воздаст по заслугам — и тем, кто в трудную для отечества годину дарованный Богом талант продавал за еврейские деньги, и тому, кто не меньший, может быть, художественный талант в землю зарыл, да личной жизнью пожертвовал, и весь, без остатка, ринулся в беспощадную драку — за простого русского человека, за незыблемость веками освященных российских традиций, за установленный от Бога порядок вещей!
«Хороший денек, — думает Павел Александрович. — Хорошо дышится, хорошо думается. Величав и красив Невский проспект с его постоянной сутолокой среди застывших, как на параде, зданий… Когда еще придется так вот пройтись по улице? Опять затянет газетная тина, сиди, строчи по листу печатному ежедневно… А какой-то Дзинев еще недоволен, что я поздно материалы приношу!..»
В душе Павла Александровича всколыхнулась жгучая обида, когда сами собой сжимаются кулаки. От кого-кого, а от рабочих он такого предательства не ожидал. Ведь как отец родной к ним относился. Когда нанял, банкет устроил по случаю Нового года и нового своего начинания. Очень понравилось это рабочим. Метранпаж Дзинев даже адрес от их имени поднес — в нем прямо сказано о полной поддержке не за страх, а за совесть. А с какой преданностью смотрел Дзинев в рот Павлу Александровичу, как восхищался его статьями! Так, мол, их, не отдадим на поругание Святую русскую землю!
Оно, конечно, не метранпажа дело — одобрять или не одобрять направление газеты. Его дело — проворнее верстать полосы, а верстал флегматичный Дзинев так, словно спал у станка, на что и указывал ему Павел Александрович. Порой, чего греха таить, указывал с раздражением. Да все ж приятно было слышать бесхитростное изъявление чувств простого русского человека. И вдруг — отказался работать из-за двухдневной задержки жалования да всех остальных на это подбил. Ну, Павел Александрович вывернулся, заплатил, работу они возобновили. Но после того случая — как подменили их. Ни прикрикни, ни выбрани в сердцах, ни пригрози… Дзинев уволился и в суд обратился. Тут, конечно, не обошлось без коварных наущений. Павел Александрович двести рублей предложил Дзиневу отступного, а он — ни в какую. Сразу ясно: евреи больше ему посулили.
Нехороший привкус у этой истории. Чего-то грязного и мелкого. Ведь Павел Александрович за рабочий народ стеною стоит. Он всегда заодно с народом, о народе болит у него душа.
Как отшумел злосчастный погром — все кругом за головы схватились: ах, бедное многострадальное еврейское племя!.. О своих вовсе позабыли. Павел Александрович и напомнил! Громили-то евреев, в основном, бедняки, и теперь из-за этого страдают. Конечно, грабить и убивать нехорошо, хотя бы даже и евреев. Преступники арестованы, их будут судить. Но семьи-то их в чем виноваты? А ведь многие остались совсем без кормильцев; их положение куда более бедственное, чем разгромленных евреев, которым со всех концов земли шлют щедрую помощь. Вот и христианам так надобно!
Немалое мужество требовалось, чтобы выступить с таким призывом. Ну, Павлу Александровичу не занимать мужества. Он стоит за сплоченность всех русских людей. Только единение всех сословий народа может спасти Россию — это он не перестает повторять. И вдруг выплыло, что он сам конфликтует с рабочими, так что дело дошло до суда!.. Нехороший привкус.
И ведь какого адвоката наняли евреи Дзиневу!
Едва началось слушание, и судья, как водится, предложил сторонам примирение, адвокат этот и говорит:
— Мой доверитель согласен, но при условии, если господин Крушеван внесет двести рублей (двести! это намек на сумму, что он наедине предлагал Дзиневу) в пользу пострадавших от погрома кишиневских евреев.
Будь сам Павел Александрович при этом, зааплодировал бы такому противнику. И ответил бы соответственно. Согласен, мол, внести и две тысячи, если еврейские покровители Дзинева внесут столько же в пользу семей погромщиков!
Но — не ходить же самому Павлу Александровичу к мировому по всякому пустяку. А поверенный его Плахов только и пробурчал:
— Не согласен.
Точно дело не в принципе, а действительно в двух сотнях рублей!
А как пошел допрос свидетелей, Плахов и вовсе сплоховал.
— Дзинев верстал, а Крушеван грозил размозжить ему голову…
— А когда Дзинев пришел за расчетом, Крушеван грозился его убить!..
— Он часто рассчитывался с рабочими с револьвером в руке…
— Крушеван ругал Дзинева нецензурной бранью. Опаздывает газета, вот он и ругается. Слова выбирал внушительные!
— А метранпаж виноват не был. Виноват сам Крушеван. Дает рукописи в три часа утра и хочет, чтобы в пять уже развозили газету.
— Крушеван грозил Дзинева застрелить. «Как я могу служить, если мне грозят револьвером?» — это Дзинев не раз повторял.
— Я и сам боюсь Крушевана. Войдешь в кабинет, и просто жутко становится. Большой такой револьвер лежит на столе…
И на все это Плахов не нашел что возразить. С трудом сумел отложить дело.
…Пока другие газеты не подхватили, Павлу Александровичу пришлось самому обнародовать всю историю, придав ей, конечно, иронический оттенок: все, мол, неправда, Дзинев и свидетели куплены на жидовские деньги.
…Еще два квартала, и Полицейский мост. А за ним еще через квартал — Цензурный комитет. «Может быть, дальше пройтись, а в Комитет — на обратном пути? — думает Павел Александрович. — Отчего не продлить прогулку на десять-пятнадцать минут?.. Семь бед — один ответ».
Зачем, однако, пригласила его эта хитрая лиса Адикаевский? Опять какая-нибудь пакость, как с «Сионскими мудрецами», коих он так решительно зарубил. Как будто опасность для трона и общественного порядка — разоблачить злодейский заговор против христианского мира! Ничего, борьба еще не окончена… Другие люди будут решать! На другом уровне. Павел Александрович не допустит, чтобы какой-то крещеный еврейчик распоряжался в его газете.
«Сионские мудрецы» — это новая бомба, которую готовит Павел Александрович. Удалось бы только взорвать! «Протоколы заседаний франкмасонов и сионских мудрецов» — таково полное название документа. «Протоколы…» Это звучит солидно.
Одну службу они уже сослужили: спасли газету, когда она висела на волоске. Взял тогда Павел Александрович пухлую рукопись и поехал в Эртелев переулок, хотя именно там ему позарез не хотелось появляться. Сложные отношения связывали его с «Новым временем». Вроде бы всегда они вместе, всегда заодно выступают. «Новое время» никогда не бранило ни «Бессарабца», ни «Знамени», похваливало даже. Однако в похвалах чувствовался сдержанно-снисходительный тон, и это высокомерие за живое задевало Павла Александровича. Не выдержал он разок, съязвил еще в прошлом году, в «Бессарабце»: «Господин Суворин за деньги готов пятки чесать евреям». Зря, конечно! Не так много у него союзников, чтобы ссориться с ними. Суворин, правда, смолчал. Но этим еще большее высокомерие обнаружил по отношению к Павлу Александровичу: стоит ли реагировать на тявканье какой-то провинциальной моськи? А теперь Павел Крушеван шел на поклон к хитроумному старцу.
«Только не к нему лично!» — решил Павел Александрович.
Войдя в редакцию «Нового времени», он спросил Михаила Осиповича Меньшикова, благо знал его еще с той поры, когда незрелые опыты печатал в «Неделе», где Меньшиков был ведущим публицистом и делал журналу тираж.
— Рад приветствовать старинного друга, — весело воскликнул Меньшиков, моргнув маленькими глазками на широком лунообразном лице.
— Я тоже. Очень рад.
Павел Александрович сдержанно пожал протянутую руку и положил на стол пухлую рукопись.
— Готов уступить ради общего дела. Об условиях договоримся, когда прочитаете. Завтра приду за ответом. Засим, имею честь.
И откланялся, ни словом не напомнив о «добром старом времени».
Пусть Меньшиков не думает, что он хочет расположить его в свою пользу, трогая сентиментальные струны. Он пришел с деловым предложением. Опытный газетчик должен ухватиться за такой острый материал. Не надо привносить сюда посторонних соображений, а то еще будет считать, что облагодетельствовал Крушевана.
На другой день Павел Александрович сразу увидел, что проиграл. По преувеличенной сердечности, с какой приветствовал его Меньшиков, по той предупредительности, с какой усаживал в кресло, по тому, что начал разговор с «доброго старого времени».
— Нет, нет и нет! Мы этого не поместим, — решительно сказал Михаил Осипович, когда они, наконец, приступили к делу.
— Но отчего? — вспыхнул Павел Александрович. — Ведь это же бомба! Или вы с Сувориным тоже боитесь евреев, и я был прав, когда выругал вас в «Бессарабце»?
— Какой вы, однако, горячий! — Меньшиков хохотнул в мягкие усики, и его маленькие, лишенные ресниц глазки замаслились и повеселели. — Впрочем, вы всегда были таким, южная кровь, я понимаю… Поймите же и вы, голубчик: мысль хороша, но топорно сработано. Словно по нашему с вами заказу.
— Как прикажете вас понимать, милостивый государь! — Павел Александрович вскочил с кресла. — Уж не хотите ли вы сказать, что я сам составил эти протоколы?
— Ну, ну, не задирайтесь и сядьте. А то разговора у нас не получится, — спокойно сказал Меньшиков. — Здесь все ясно изложено. Я бы сказал, слишком ясно, — он прихлопнул маленькой рукой лежавшую перед ним рукопись. — Евреи хотят подчинить мир своему невидимому правительству. Они презирают христиан, как низших существ, даже не считают их людьми и обращаются с ними, как со скотом. Эксплуатировать, обирать, обкрадывать христиан по их религии вовсе не грех, а высоконравственный подвиг, угодный иудейскому Богу. Подкупами и обманом они заманивают в масонские ложи самых умных, талантливых, образованных христиан, которые даже не догадываются, что масонство служит евреям. Они кричат о свободе, демократии, равенстве, братстве, правах человека и прочих утопиях, но все это только приманка, чтобы вызвать смуту, анархию, а затем подчинить себе весь мир. Они вносят раздоры в наши ряды и губят нас нашими же руками… Таков ведь смысл этих протоколов, я правильно понял?
— Правильно, — подтвердил Павел Александрович и сухо добавил. — Меня удивляет то спокойствие, с каким вы говорите об ужасном заговоре, в котором они сами впервые здесь признаются.
— В том-то вся штука, что сами! — воскликнул Меньшиков. — Все эти козни мы с вами давно разоблачили без всяких их протоколов! Мы говорим, что евреи коварны, скрытны и дьявольски умны, поэтому им и удается морочить христианский мир. А тут выходит, что мудрейшие сионские мудрецы — дураки набитые: не мы их зловещие замыслы разгадываем, а они свои тайные планы составляют по нашим подсказкам. Словно ничего сверх этого и придумать не могут! А как выражаются неосторожно! — Меньшиков водрузил на маленький носик большие очки и стал листать рукопись. — Вот! — он прочитал: «Гои идут в масонские ложи из любопытства или в надежде пробраться к общественному пирогу, а некоторые лишь для того, чтобы высказать перед публикой, хотя бы в небольшом сборище, свои мечтания: эти последние ищут рукоплесканий, на которые мы все щедры, потому что для нас полезно приучить их к эмоции успеха». — Он снял очки и, прищурившись, посмотрел на Павла Александровича. — Судя по названию протоколов, заседание совместное, франкмасоны в нем тоже участвуют. Как же можно им в лицо высказываться так откровенно? Напротив, умные иудеи должны хитрить и льстить. У вас же тут и хлеще написано… Вот! — Он опять водрузил на маленький носик очки: «Мы их ныне уже казним за непослушание, да еще так, что только братия может заподозрить экзекуцию, да пожалуй, они сами; для публики они умирают вполне естественной смертью. Умирают эти лица, когда нужно. Братья не смеют протестовать, таким образом, мы вырвали из среды масонов семена протеста». — А о будущем?.. Где тут это место?.. Да, ладно, вы помните. Там говорится, что в будущем, когда евреи захватят власть над всем миром, они всех масонов, которые им в этом помогут, в тюрьмах и ссылках сгноят! Что они так и поступят, мы с вами не сомневаемся. Но возможно ли допустить, чтобы они сами же перед масонами раскрывали такие злодейские планы?.. А ваше вступление! Вы пишите, что протоколы обнаружены во Франции, но где находится подлинник, не сообщаете. Кто снял копию, вам неизвестно. Даже имя переводчика вы не указываете… «Новое время» — газета солидная; позволять себе такое мы не можем.
Меньшиков помолчал немного, поколебался, затем, понизив голос, продолжил совсем доверительно:
— Учтите и то, что студенческая история еще не забыта. Вы, конечно, знаете: за искаженное будто бы освещение тех событий Суворина в Союзе писателей подвергли суду чести. Очень Короленко старался, и в результате — общественное порицание… Случись подобное со мной или с вами, мы бы только посмеялись над этим еврейским порицанием. А Алексей Сергеевич страдает. Все же старого закала человек. Нет, он ни за что не согласится… И потом, я не возьму в толк, зачем вы принесли это нам. У вас своя газета, так и печатайте на здоровье!
— В отличие от многих других, — с вызовом ответил Павел Александрович, — интересы отечества для меня дороже личных. Что такое мое «Знамя»? Пока еще это едва вылупившийся из яйца птенец. Правда, очень задиристый, но кое на кого это производит даже комическое впечатление. Насколько весомее прозвучат эти «Протоколы», если они появятся не у меня, а у вас!.. Вас читают многие тысячи и в столице, и в провинции. Даже несогласные с вашим направлением охотнее других газет выписывают «Новое время», сам объем позволяет вам публиковать всю текущую информацию. Словом, «Новое время» — крупнейшая газета России. Этим все сказано.
— Но именно поэтому, милейший Павел Александрович, мы не можем себе позволить то, что позволяете вы. — Меньшиков произнес последнюю фразу мягко, но с оттенком назидания, точно прописную истину втолковывал школьнику.
Наступила пауза. Тема разговора была исчерпана, но что-то удерживало Павла Александровича в удобном кожаном кресле. На круглом ухмыляющемся лице Меньшикова читалось, что он ни на минуту не поверил в то, что Крушевана привели к нему только «патриотические» соображения. Обычно в таких случаях Павел Александрович взрывался. Он слишком горд, чтобы позволить кому-либо сомневаться в своей искренности. Однако в тот момент ему почему-то подумалось: «И что это меня понесло ломаться и выставлять интересы отечества… Высокопарно и глупо». И вдруг, неожиданно для себя, он сказал:
— Что ж, я буду до конца откровенен. Конечно, я никому не уступил бы чести обнародовать эти протоколы, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Мне срочно нужны три тысячи. Если в течение недели я не уплачу по векселям, мне придется продать газету. Не только эти протоколы, а вообще ничего не напечатаю. Подумайте, в ваших ли это интересах. Самые беспощадные нападки еврействующей прессы теперь сыплются на меня, так что я для вас вроде громоотвода. А что такое три тысячи — не в качестве гонорара, конечно, а в долг! Материалу этому цены нет, хотя бы и были в нем те недостатки, о коих вы говорите. Я готов уступить вам его бесплатно: просто чтобы скрепить сделку. Десять дней будете печатать из номера в номер, десять лет потом будут о нем говорить, и через сто лет не забудут, потому что сколько бы ни кричал и о его подложности, всегда найдутся люди, готовые верить в подлинность таких документов. Я расстаюсь с этим материалом только потому, что попал в отчаянное положение.
— Рукопись вы заберите, будем считать этот вопрос решенным, — поправляя очки, сказал Меньшиков. — А о деньгах… надо подумать. Три тысячи — сумма немалая, но при наших оборотах… Я поговорю с Сувориным. Полагаю, он не откажет. Надо же нам проявлять солидарность против еврейской сплоченности, — в лице Меньшикова вновь появилась хитроватая усмешка…
«Знамя» было спасено, и протоколы остались у Павла Александровича. Тем лучше! Он бы уже начал печатать, если бы не твердое «нет» Адикаевского. Проклятый еврей! Пакостит «Знамени» как только может. Но ничего, у Павла Александровича есть и другие каналы. «Протоколы» теперь у самого фон Плеве. Обещал выкроить время, ознакомиться, а потом и аудиенцией удостоить. Как-то повернется разговор на аудиенции?..
Мысленно Павел Александрович не раз уже «проигрывал» предстоящую беседу со словоохотливым российским диктатором, но теперь снова вернулся к ней, так сильно она его занимала.
— Прочел, господин Крушеван, прочел с большим интересом, — скажет фон Плеве. — И с пользой для себя. Большое вам за это спасибо.
— Мне бы хотелось, ваше высокопревосходительство, чтобы и вся читающая Россия могла извлечь пользу из этого документа. Народ должен знать, какую погибель готовят ему сионские мудрецы и продавшиеся им масоны.
— Это ваше желание я понимаю, господин Крушеван, и больше того, вполне разделяю, — скажет фон Плеве. — Пришли бы вы с этим два-три месяца назад!.. Но теперь, после кишиневских событий… Не думаю, что это будет полезно, особенно в вашей газете и с моего личного разрешения. Ведь не удастся же нам удержать в тайне, что цензурное разрешение получено не обычным путем, а исходит от меня лично!.. Если хитроумные сионские мудрецы не сумели уберечь свои секретные протоколы, — хмыкнет фон Плеве, — то где уж нам с вами, а? — и он подмигнет большим умным глазом. — Ведь мы с вами и без того вроде как молочные братья. Вас объявили главным вдохновителем погрома, а меня — главным организатором. Вы знаете, какой вой подняли в заграничной печати! Даже секретную телеграмму опубликовали, будто бы мною посланную кишиневскому губернатору. Я будто бы заранее предупредил его о предстоящих беспорядках, да не пресечь потребовал, а напротив…
— Но правительство опровергло эти еврейские инсинуации против вашего высокопревосходительства! — скажет Павел Александрович.
— Правительство-то опровергло… Да ведь кто верит правительству? Все знают, что официальные заявления лгут. Их, скажу вам, и составлять приходится с расчетом, что их будут считать ложными. А что прикажете делать? Произошла, допустим, какая-то стычка на восточной границе — потери шестьсот человек. Как прикажете оповестить о том публику? Напечатай мы правду, так начнется паника, будут думать, что там полегла вся русская армия, и враг уже подходит к столице. Мы печатаем в «Правительственном вестнике»: в стычке ранено шесть казаков. Публика читает и тотчас догадывается: не шесть, а шестьсот, и не ранено, а убито. Цель, таким образом, достигнута: общество знает правду. Однако публика уверена, что мы намеренно вводим ее в заблуждение… Что же она должна думать об официальном опровержении? Пришлось сделать большее — уволить в отставку губернатора. Однако этим мы как бы подтвердили, что в погроме повинна власть, пусть только местная. Государю очень этого не хотелось, но не было иного выхода. Однако бездействие местной власти все равно толкуют в том смысле, что губернатор имел указание. Вы же знаете, как у нас любят страдальцев. Фон Раабен уже попал в герои: он-де стрелочник, которого я принес в жертву вместо себя. Кровью кишиневских евреев мы с вами вместе замараны, и нам уж от нее не отмыться. Побратала нас эта кровь, так что вернее будет сказать, что мы с вами не молочные братья, а кровные, — и фон Плеве зальется мелким дребезжащим смешком. — И вы, выходит, ко мне, как к брату, с этими протоколами обратились.
— Но неужели же, ваше высокопревосходительство, честный русский писатель не может высказать то, что думает о врагах отечества и человеческого рода! — скажет Павел Александрович. — В конце концов, это просто странно, если не сказать больше: крещеный еврей Адикаевский защищает интересы России от русского патриота Крушевана!
Да, да, Павел Александрович непременно ввернет в разговоре что-нибудь в этом роде. Как-то отреагирует Плеве? Наверно, посмотрит удивленно и опять рассмеется.
— Ну, какой, скажите на милость, Адикаевский еврей! Это старый служака, имеющий заслуги. Грешит излишним формализмом, слишком буквально толкует законы о печати — с этим я, пожалуй, согласен. Но зачем же его так сразу записывать в евреи? Эдак вы и меня евреем объявите, если чем-нибудь придусь не по нраву. Нет, господин Крушеван, цензурным требованиям вы должны подчиняться. Или вы тоже добиваетесь свободы печати?
— Почему «тоже», ваше высокопревосходительство? — вспыхнет Павел Александрович.
— А потому, что вспомнился мне такой же вот разговор с господином Михайловским. Он точно так же, как вы, в этом кресле сидел и делал невинные глаза: какая крамола может исходить от литературы, если за нею цензура смотрит? Вы бы, говорит, посмотрели корректуры, искореженные цензором Адикаевским… Да, кстати, имейте в виду: именно Адикаевским, которого вы объявляете евреем. Им больше всего недовольны господа прогрессисты и оппозиционеры… Понимаете, какая дерзость! Я ему внушение делаю, что их журнал сеет смуту в обход цензурных требований, а он в ответ заявляет, что надо вообще отменить контроль над печатью. Вы, выходит, того же мнения?
— Нет, ваше высокопревосходительство, — не примет шутливого тона Павел Александрович. — Я не против цензуры, только надо, чтобы цензура оберегала Россию от ее недругов, а не наоборот. «Русское богатство» Михайловский и Короленко превратили в богатство еврейское, журнал их давно пора закрыть, но цензура с ним нянчится, а патриотическим изданиям чинит препятствия. Враги трона и России, какие-нибудь Михайловские и короленки, и защитник русского народа Крушеван одинаково ущемлены цензурой!
Павел Александрович попытался представить себе, какое впечатление отразится при этих его словах на полном, немного одутловатом лице Плеве. С министром надо говорить именно так: уважительно, но без подобострастия, твердо и смело, как с равным, как союзник с союзником…
Что, однако, ответит всесильный Плеве на выпад против цензуры?
— По-моему, вы несколько прямолинейны, господин Крушеван. На что я сторонник твердой линии, да и то — маневрирую. Учитесь у ваших врагов разнообразию тактических приемов. Цензурный комитет один, да в нем кабинетов много. На Адикаевском свет клином ведь не сошелся. В политике не всегда нужно идти напролом.
— Но я не политик, ваше высокопревосходительство, — возразит Павел Александрович. — Я всего лишь честный литератор, не боящийся говорить правду…
Воображаемый разговор подошел к кульминации… Собственноручного разрешения через голову цензурного комитета осторожный Плеве, пожалуй, не даст. На это Павел Александрович и не рассчитывал. С него было бы достаточно, если бы Плеве пообещал неофициально содействовать…
Павел Александрович не успел «проиграть» разговор до конца, как чьи-то руки вдруг обхватили его сзади и сильно сдавили шею.
«Что за дурацкие шутки», — с раздражением подумал Павел Александрович и попытался повернуть голову, чтобы посмотреть, кто это позволяет себе такую фамильярность. Однако прежде, чем успел оглянуться, он услышал несильный треск у своего правого уха, словно кто-то порвал плотную парусину; и в тот же миг Павел Александрович ощутил, как что-то холодное и острое коснулось шеи немного ниже уха. Он не почувствовал боли, но с несомненностью понял, что его сзади ударили ножом.
«А ведь меня убивают!» — подумал Павел Александрович.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. (Продолжение)… При осмотре Нового Базара наблюдаются следующие повреждения, учиненные вечером 6-го апреля и около 2-х часов дня 7-го апреля, причем в первый день беспорядков толпа большей частью ограничивалась лишь разбитием стекол в еврейских домах и витрин, опрокидыванием киосков для продажи табаку, фруктов, минеральных вод и проч., а на второй день перешла к разгрому домов и насилию над личностью. Опрокинуты 9 лавочек-рундуков для продажи хлеба, 44 лавки для продажи мелких железных изделий и посуды, разбиты и разграблены более 60 лавок галантерейных, бакалейных, посудных. Всюду разбросаны куски изорванных материй, ситцев, изломанные зонты, черепки битой посуды, лампы и т. д. Из более крупных магазинов разбиты: бакалейный Зельцера, оптово-бакалейный Учителя и посудный Киселевича. Здесь же находится галантерейный магазин Лейзера Лопушнера, который громилы, после разграбления его, пытались поджечь; окна и двери этого магазина выломаны, стены закопчены дымом. Около одного из магазинов готовой обуви разбросаны пар восемь старых ботинок и сапог, оставлением громилами взамен взятой ими новой обуви. Лавки, принадлежащие неевреям, уцелели; не разрушен и так называемый «фруктовый» ряд. Густонаселенная евреями Армянская улица, где погром начался 7-го апреля в 11–12 дня, сильно пострадала. Погрому и разграблению здесь подверглись 15 домов, а в 35 домах выбиты стекла в окнах; особенно разгромлены дома: Томмазского, Алтера Неермана, пекаря Фейгеля и мастерская портного Кобрина. Совершенно разбиты и разграблены небольшие бакалейные лавки, аптекарский магазин и погреб Фельдштейна. Вся улица возле последнего магазина сплошь усеяна осколками бутылок; много бутылок от шампанского и ликеров. Окна и двери этого магазина совершенно разбиты и вырваны. Разбиты и разграблены мастерские портных: дамского — Шустера и военного — Бродского. Особое внимание обращает на себя большой двухэтажный дом 6 Этензона на углу Львовской улицы, где громилы хозяйничали в продолжение нескольких часов, ломая внутри и выбрасывая со второго этажа все, что можно выбросить в окно: зеркала, кресла, столы и т. д. На улице, около дома — груды поломанной мебели и пуха, внутри — полнейшее опустошение. По Кировской улице разбиты 13 домов и выбиты окна в 8-ми домах. При разгроме дома Оббельмана (№ 52) были убиты Одко Крупник и сын его Меер Крупник. По Свечной улице разгромлено 17 домов, ив 2 домах выбиты стекла. Особенно пострадали дома Зильбермана, Вайнберга, Рабиновича и Вайсермана, в доме Паскаря (№ 20) убиты Герш Болгар и Герш Лыс. По Измаильской улице разгромлены 25 домов, и в 9-ти домах выбиты окна. Внимание останавливается на разоренной винной лавке в доме № 16, где не только совершенно разрушена вся обстановка, довольно убогая, но и печь разобрана до основания. В погребе разбиты бочки вина; оно еще не успело впитаться в землю и стоит лужами. Возле дома, на деревьях висят клочки одежды. Рядом сильно разгромлен большой дом Мелеля, во дворе разрушен флигель, где убит Ицко Вайнштейн. На стене узкого коридора, ведущего со двора во флигель, видны большие кровавые пятна и отпечатки залитых кровью рук. Очень разбиты дома Малявского, Квасмана, Шнейдера, большой двухэтажный дом Иося Ройтмана; возле последнего дома и внутри его разбросаны обломки богатой и изящной мебели. В доме Вайнштейна (№ 48), кроме вдребезги разбитой мебели, опрокинут и разломан рояль; отбиты ножки, разбиты на мелкие части дека и крышка, струны порваны, не уцелело ни одного клавиша.
По Килийской улице разгромлены 34 дома, ив 8 домах разбиты окна. В доме Шварцмана поломана изящная резная мебель, остатки которой разбросаны по улице. Разбита Гуцельская баня. В доме Лейбы Оберштейна совершенно разгромлены 16 еврейских квартир. В лавке Шлемы Целика не уцелели даже массивные железные шторы, закрывающие дверь и окна. В доме Абрама Шварцмана (№ 56) убит Шмуль Урман. По Бендеровской улице насчитывается и разбитых и разграбленных домов и в 11 домах побиты стекла. Здесь погром начался 7-го апреля около 11-ти часов дня. Поразительную картину разрушения представляет дом Левита (№ 17). Вся мебель и домашняя утварь разбита на мелкие части, одежда и белье изорваны, печи во всех комнатах разобраны; в галерее, выходящей во двор, не уцелело ни одного стекла, переплеты рам поломаны, во дворе разбиты даже старые бочки от вина, старые корыта и т. п. Сильно разбиты дома Фельдмана и Чулака. В парикмахерской Ройтенберга разбиты зеркала, мебель, расхищены парикмахерские принадлежности. В аптеке Шапиро и в еврейском молитвенном доме против базара разбиты все окна. Болгарская улица пострадала, главным образом, в части, расположенной возле базара; на протяжении всей этой улицы разбиты 7 домов и выбиты стекла в окнах 17 домов. На улице поднят убитым Ихель Зельцер Бричанский. По Михайловской улице разгромлены две лавки и квартира при них, и в 30 домах выбиты стекла. Между прочим, наряду с еврейскими домами, пострадали некоторые, обитаемые русскими, например, квартира приезжего поверенного Ожоги. По Гостиной улице разгромлено 30 домов, и разбиты окна в 59 домах. Особенно пострадали: дом Мильмана на углу Измайловской улицы, Штейнберга, Финира, где разбиты машины в заведении искусственных минеральных вод, Паскара, Брухля, Сисмана, где совершенно раздроблена дорогая обстановка квартир Герша Боюканера и Ноэха Ширмана; плетеная мебель, резной шкаф для посуды, большой письменный стол — все разрушено и разбросано. В доме Паскаря разломана желез-пая решетка, защищающая дверь, и произведены опустошения внутри дома. В доме Зельцермана, в котором помещается механическая мастерская обуви, разрушена вся обстановка мае-терской, и совершенно разбиты три швейные машины для строчки обуви. На углу Полицейского переулка, в доме Кенигшаца, разграблены магазины ювелира Дорфмана и бакалейная лавка Зельцмана. По Гостиной же, в так называемом железном ряду, убиты извозчик Иось Гринберг и мальчик Григорий Останов. Во дворе дома Литвака (№ 66) убиты Арон Брохман и зять его Ицко Розенфельд и тяжело ранена жена первого, Рися-Ривка Брохман. В доме № 33 убиты: Бенцион Галантер, Давид Драхмай и Беньямин Баранович.
Николаевская улица в части, расположенной по направлению к вокзалу, на расстоянии нескольких переулков, сплошь завалена обломками мебели, домашней утвари, обрывками одежды и белья. По всей улице разгромлено 37 домов и выбиты стекла в 41 доме. Двухэтажный дом Мошки Прессера и мебельная мастерская Шмаи Прессера около Кировской улицы подверглись опустошению, мебель выброшена на улицу. Рядом бакалейная лавка того же Прессера в таком же виде. В том же состоянии дом Мундера, кроме выброшенной на улицу и разбитой мебели, согнуты чугунные перила на лестнице и сломаны оконные рамы и двери. На углу Болгарской улицы разгромлен дом Сруля Мазура, в котором помещается еврейский хедер и квартира частного поверенного Бенца. В доме Сруля Рожковского перебиты все стекла, несмотря на то, что на стене и дверях нарисованы кресты. В доме Вальфплессера, на углу Минковской улицы, разграблен киоск для продажи табаку. Во дворе дома № 36 убит Сруль Шелестян. По Александровской ул. разгромлена нижняя часть к вокзалу; разрушен 21 дом; окна выбиты в 39 домах. Опрокинуты и разбиты витрины фотографов Раппопорта, Шлаина и Леккера. Опрокинуто несколько табачных киосков. Около часового магазина Градбрука, близ Синадиновской улицы, разбиты висячие часы. По Киевской улице разбито 22 дома, и выбиты окна в и домах; особенно пострадали: дом Оксмана и помещающаяся в нем бакалейная лавка Рабина, москательная лавка Брухиса и дом Шильдкрета. Из имеющихся в последнем около 25 квартир уцелели лишь три, занятые русскими, остальные, еврейские, разбиты и разграблены. По Подольской улице разбито 19 домов, и выбиты стекла в 8-ми; по Львовской разбито 3, а выбиты стекла в 4-х, в том числе в синагоге на Сенной площади; по Кузнечной разбито 6, и стекла выбиты в 5-ти. По Садовой улице разгромлены 3 дома, из коих особенно пострадал дом Григоровского. Харлампиевская (Золотая) улица в начале, близ Измайловской, не повреждена. Далее, к Бендеровской улице, выбиты стекла в 4 домах, причем на углу Бендеровской совершенно разрушена гостиница «Новая Бессарабия». На другом углу Бендеровской улицы дом Зухера Фрейдеса представляет картину полного разрушения, с поломанными рамами и разбитой мебелью. На том же квартале, с противоположной от дома Фрайдеса стороны, уцелели лишь 4-й полицейский участок и дом священника, в остальных домах выбиты стекла. На углу Болгарской улицы разгромлен дом Малятера и квартира живущего в этом доме частного поверенного Португейса. В остальной части Харлампиевской улицы, в разных местах, выбиты стекла в 32 домах, разграблены 3 магазина: ювелирный Атацкого, мануфактурный Файнберга и бакалейный Дорфмана. Здесь в беспорядке разбросаны сорванные вывески, обрывки одежды, обуви, картона и т. п.
По Яковлевской улице (Якимановский переулок), между Харлампиевской и Николаевской, биты стекла в 12-ти домах. По Кожуховской улице (Балановская), на углу Кимтской, разбита бакалейная Шлемы Школьника; на улице валяется синька, крупа, бобы. Напротив, на другом углу Кимтской улицы, разгромлена винная лавка Хаи Бейлис, причем разбиты бочки с вином. От Кимтской до Измайловской, на всем квартале (в 15 домах), кроме дома Кишиневского однодворного управления, выбиты стекла. От Измайловской, до Остаповской разгромлены дома Кивы Померанца и Айзика Эдельмана, выбиты стекла в двух других домах, вдребезги разбито имущество в 9-ти домах, между прочим, в домах Абрама Фиштейна, Шаи Сироты, Боруха Брикера, Блюмена Геккера, Алтера Мордоковича и в двух бакалейных лавках. Во дворе дома № 36 убит Хаим-Лейб Голдис.
Глава 2
Ресторан Соловьева помещался на углу улицы Гоголя и Гороховой, как раз напротив редакции «Знамени». Вот уже вторую неделю Пинхус Дашевский приходил сюда ежедневно около часу дня и устраивался за столиком напротив окна. Ресторан в это время бывал почти пуст, и официант с готовностью устремлялся к посетителю. Дашевский заказывал кружку пива и дешевый завтрак и углублялся в газеты.
Еженедельник «Восход» — единственная еврейская газета на русском языке — за подписью какого-то Криммера, мелким шрифтом печатала очередные сообщения из Кишинева с новыми подробностями разыгравшейся там трагедии. Но основное место в номере занимал скандал, разразившийся между лидерами сионизма. Один из них написал фантастическую книгу о райской жизни в будущем еврейском государстве; другой нашел эту жизнь вовсе не райской и книгу язвительно раскритиковал; третий напал на второго, обозвав его ренегатом и изменником, но получил отпор от четвертого…
Дашевский попытался вникнуть в смысл спора и был поражен тем, как много пыла и страсти отдается пустякам, далеким от жизни, как звездные миры… Как можно думать и говорить обо всем этом, да еще с такой горячностью, с взаимными нападками и оскорблениями? Есть люди, умеющие ничего не замечать. Они готовы потратить жизнь на выяснение химического состава какой-нибудь звезды или на расшифровку надгробных надписей на могилах тех, кто жил три тысячи лет назад… Пинхус Дашевский таких людей не понимал. О, да, будет время, наступит! Все будут сыты, справедливы, счастливы, все будут любить друг друга. Вот тогда- да, понятно! Тогда можно будет заниматься атмосферой Юпитера или свадебными обрядами скифов. Почему не заняться, если кому-то захочется? Но сейчас, сегодня, когда негодяи пляшут звериный танец над неостывшими кишиневскими трупами… Нет, этого Пинхус не мог, не хотел понять…
Он отложил «Восход» и развернул «Биржевые ведомости». Ну, конечно, господин Проппер хранит молчание. Ни слова о еврейском вопросе. И даже о кишиневских событиях. Как вчера, как позавчера, как все эти два месяца… Ничего, кроме двух-трех сдержанных перепечаток из других газет. Господина Проппера и без того попрекают еврейским происхождением, так он не хочет устраивать демонстраций. Он издает русскую газету и никакого особенного пристрастия к еврейским делам не обнаруживает. Трус! Жалкий трус! Хочет спастись своей кротостью!.. В Кишиневе тоже все были кроткими… Их таскали за бороды и проламывали им черепа, а они униженно просили пощады. Их жен насиловали и истязали, а они прятались по погребам…
Пинхус взял из пачки следующую газету… «Новое время»! Эти молчать не будут! Что приготовил на десерт господин Суворин? О захвате евреями помещичьих земель в Псковской губернии? Это, кажется, было вчера… О щупальцах еврейских банкиров?.. Это было на прошлой неделе… Может быть, о фальшивомонетчике с многозначительной фамилией Коган?
Нет, сегодня еврейским вопросом занимается Меньшиков — значит, что-то заковыристое и непременно со сладким сиропом… Ага, мирная беседа в интеллигентном доме… За столом офицер, журналист, философ. И даже еврей среди них — крещеный, конечно; иного они за свой стол не посадят. Говорят о Кишиневе.
Ого, это что-то новое! Оказывается, в бесчинствах повинны все-таки не «сами евреи»! Кто же тогда? Неужели те, кто проламывал им черепа? Они ведь «христиане» — как же это Меньшиков против своих? Ах, вот оно что! Те христиане неистинные, ибо истинные признают только закон любви и всепрощения. Но где им взяться — истинным-то христианам? Будь все верующие во Христа истинными христианами, давно уж воцарился бы рай на Земле!..
(Так, по воле Меньшикова, говорит журналист.)
Масса народная лишь называется христианской, но в ней сильны звериные инстинкты. Ну, и набрасывается она иногда на тех, от кого исходит опасность. Можно ли эту массу слишком строго судить? Совместная жизнь двух народов тяжела, вызывает взаимные недоразумения и упреки, так не лучше ли мирно разойтись, как в Библии Авраам с Лотом: «Ты иди направо, а я налево»?
«К чему, однако, все это говорится?» — читая, недоумевал Пинхус.
…Евреи совсем особый народ, поддерживает журналиста философ. Это нация без земли, нечто глубоко трагическое и страшное. Земледелец эксплуатирует природу, а человек без земли эксплуатирует человека…
«Так, так, эту песню мы уже слышали, — думает Пинхус, — что же дальше?»
Оказывается, философ желает добра евреям. У него сердце обливается кровью, когда он вспоминает их многострадальную историю: гонения, каким они подвергались и в христианском, и в мусульманском мире. Но гонители так же мало виноваты, как и гонимые. Виною всему безземелье евреев. Оно представляет опасность, которую все чувствуют, даже если не сознают. Спасение самой еврейской расы — возвращение к земле.
— Вы в этом совершенно совпадаете с сионистами, — печально говорит слушавший все рассуждения крещеный еврей. — Они тоже мечтают о возвращении в Палестину, где намерены создать свое государство.
— И в добрый час, ей-Богу, — говорит философ. — Отчего, в самом деле, вашим миллионерам не откупить Палестину у султана?
Так вот к чему клонил Меньшиков! Да, тут в самом деле есть что-то новое! Юдофоб заодно с сионистами…
«Нет, господин Меньшиков, — мысленно заговорил Пинхус. — Эмигрировать ли евреям в Америку или создавать свое государство в Палестине — об этом пусть ваша голова не болит. Оставьте это нам самим решать! Но пока еще мы живем в России и мы требуем человеческих прав здесь. Слышите, Меньшиков, не упрашивать мы вас будем, не хранить скорбное молчание, как господин Проппер, терпеливо ожидающий ваших милостей за примерное поведение. Мы будем добиваться, требовать! Вы правы, господин Меньшиков, ждать христианского отношения нам не приходится. В этом жестоком мире каждый располагает лишь тем, что способен защищать. Даром мы ничего не получим. Пробовали. Научены. Значит, будем драться. Око за око, зуб за зуб, как сказано в наших древних книгах, которые и вы почитаете как священные. Погром может повториться еще не раз, но позора больше не будет. А кишиневский позор будет смыт. Сегодня же. Это я вам обещаю!»
Дашевский чуть не ударил кулаком по столу: сегодня!
Он уже столько раз приходил в этот полупустой ресторан, отсидел за этим столиком столько часов, просматривая газеты, но ни на минуту не выпуская из поля зрения окна, за которым хорошо виден кусок улицы и освещенный солнцем подъезд противоположного дома, что почти перестал надеяться и уже не был так напряжен, как в первые дни. Он уже приходил сюда как бы по инерции, вовсе не ожидая, что именно этот день будет последним. И вот теперь словно кто-то шепнул ему в самое ухо: сегодня!
План его был продуман до мельчайших деталей. Да, собственно, план его был настолько прост, что и продумывать было нечего. Он полистал кое-какие книжки и понял, что убить человека, в сущности, очень легко. Трудно скрыться с места происшествия — именно на это обычно направлены все усилия заговорщиков. Ну, а он не намерен был скрываться.
Приехав в Петербург, Пинхус первым делом зашел в книжную лавку и спросил альманах «Бессарабец» — «роскошное», как рекламировало «Знамя», издание под редакцией П. А. Крушевана, с большим числом иллюстраций и фотографических портретов известных губернских деятелей.
Ему подали действительно роскошный фолиант в красном кожаном переплете, с золотым тиснением на корешке и золотым обрезом, с отменными иллюстрациями на первосортной бумаге… Не поскупился господин Крушеван!
Галерею портретов открывал губернатор фон Раабен. Бодрый, фертом стоящий старик в генеральском мундире, с выпяченной грудью, увешенный звездами и крестами, с орденской лентой через плечо, он небрежно опирался рукою о край стола; у пояса была привешена сабля с рукояткой тонкой резной работы.
За губернатором следовал епископ с моложавым лицом и пышной бородой; за ним еще какой-то генерал, бывший бессарабский губернатор, а теперь чин в Петербурге; дальше — начальник военного гарнизона генерал Бекман. За ним следовал полицмейстер Ханженков, предводитель дворянства Крупенский, городской голова Шмидт… Далее председатель суда… Прокурор судебной палаты… Совсем незначительные чиновники… А где же — он? Неужели поскромничал, не поместил собственного портрета?.. Ага, вот он — самый последний! «Павел Александрович Крушеван, редактор, издатель газет „Знамя“ и „Бессарабец“» — так гласила надпись.
Пинхус стал вглядываться в лицо, отличавшееся редким благородством и красотой.
Безукоризненно прямой нос с тонкими хорошо очерченными крыльями был словно выточен из слоновой кости. Небольшая черная бородка служила как бы естественным продолжением лица, удлиняя и еще больше облагораживая его, и даже в круто поднятых д'артаньяновских усах не было нарочитой лихости. Высокий выпуклый лоб постепенно переходил в обширную лысину, но и это не безобразило лица. Особенно приковывали к себе глаза, великолепно получившиеся на портрете: широко расставленные, большие и темные, как спелые сливы, они смотрели немного вбок; в них была затаенная грусть, задумчивость и одухотворенность.
Заплатив два рубля, Пинхус вышел из лавки, но тут же остановился, раскрыл книгу и снова стал вглядываться в эти изумительные черты. Он ожидал увидеть что-то косматое, узколобое, с дегенеративным взглядом и бульдожьими челюстями, а на него смотрело мудрое, печальное, совсем беззащитное лицо легко ранимого идеалиста с тонкой нервной организацией. Этот человек должен был многое пережить, передумать, перестрадать, но не от физической немощи, а от горьких разочарований.
Выбирая тихие отдаленные переулки, Пинхус целый день бродил по Петербургу с толстой книгой под мышкой и никак не мог одолеть охватившей его растерянности. К тому же оказалось, что «Знамя» перестало выходить, и Крушеван, вероятнее всего, уехал из Петербурга.
Неожиданное осложнение озадачило Пинхуса, и вместе с тем он испытал облегчение. Оставаться в столице было не только бессмысленно, но и опасно: первая же проверка документов повлекла бы за собой арест и высылку по этапу. Он поспешил удалиться — все равно куда, лишь бы в черту оседлости.
Он переезжал из одного уездного городка в другой, останавливаясь в каждом на день или полдня. Всюду царило то постоянное оживление, которое было характерно для перенаселенных городков черты. Составляя до половины, а то и до двух третей их населения, евреи — почти все ремесленники, факторы или мелкие торговцы, не имея простора для приложения своего труда, с утра до вечера бегали и суетились в поисках копеечного заработка. Нервные, шумные, размахивающие руками, они придавали этим городкам особый колорит. Каждый городок походил на встревоженный муравейник, в отличие от сонного царства таких же городков вне черты.
Переезжая с места на место, Пинхус как бы случайно оказался в Ковеле.
В глубине души он знал, что ничего случайного в этом нет, потому что он страстно хотел повидать Фриду. Но он не признавался себе в этом; ведь он твердо решил навсегда вычеркнуть ее из памяти, хотя, если до конца быть честным перед собой, это она так решила…
Еще совсем недавно он жил в этом городе, давая частные уроки в нескольких богатых семьях и снимая дешевую комнатенку в развалившейся хибаре Ривки Меерсон — рано состарившейся вдовы, обремененной четырьмя детьми и маленькой лавочкой, относительно которой у нее было только одно желание, чтобы она скорее «провалилась сквозь землю». В комнатенке, которую она едала Пинхусу, было подслеповатое окошко, железная проржавленная кровать со сбившимся тюфяком, стол и керосиновая лампа. Лампу ему дозволялось жечь сколько угодно, потому что керосин он покупал на собственные деньги, сверх платы за жилье. Этого, однако, нельзя было сказать о дровах. За топливо Ривка ничего не брала, но печь, выходившую к Пинхусу задней стенкой, топила так редко, что у него всегда царил холод.
Вот в эту холодную комнату и приходила по вечерам Фрида.
Она снимала меховое пальто, развязывала платок, особым, только ей свойственным движением откидывала за спину тяжелые каштановые косы и, деловито обхватив его шею руками, чуть пригнув его голову и приподнявшись на цыпочки, жадно припадала к его губам. Поцелуй ее был долог и почти мучителен. Она прижималась к Пинхусу всем своим маленьким упругим телом, и они стояли так долго-долго, у него даже начинала кружиться голова.
Отстранялась она всегда неожиданно и резко. Выкрутив маленькими, почти кукольными пальчиками фитиль, задувала лампу и начинала решительно раздеваться…
Кровать была узкой, скрипучей, тюфяк горбился спиною верблюда, но они не замечали этого… Утолив первый порыв переполнявшей их страсти, они долго лежали в темноте, утомленные и немного напуганные собственным безумием, и Пинхусу хотелось плакать от чувства нежности к этому маленькому созданию, дарившему ему столько тепла.
Фрида первая приходила в себя. Подвигавшись на скрипучей кровати, она устраивалась поудобнее, подпирала голову согнутой в локте рукой и, дунув на непокорную прядь, говорила низким грудным голосом:
— Ну-у?
Пинхус заботливо натягивал одеяло на ее оголившееся плечо и начинал рассказывать…
Об аккуратном маленьком домике на Подоле и о садике возле дома, который мать содержала в идеальном порядке.
О младшем брате и младшей сестренке, которая скоро уже станет барышней.
О своем друге Мойше Либермане с толстыми доверчивыми губами и большими оттопыренными ушами.
О глухом еврейском местечке, куда Пинхуса часто отправляли на лето к деду, и где озорные еврейские мальчишки ни слова не говорили по-русски, а его, плохо говорившего по-еврейски, дразнили «шейгецом».
О том, как дед иногда приезжал в Киев, и с его приездом в домике на Подоле воцарялась торжественно-праздничная атмосфера…
Пинхус даже не подозревал, что все еще помнит все это. Но в те изумительные ночи, которые он проводил с Фридой на узкой кровати, в нем как бы начинали фонтанировать давно, казалось, иссякшие и заваленные скважины, выбрасывая на поверхность памяти то, что навсегда, вроде бы, было погребено в ее недрах.
…Когда приезжал дед, в дом набивалась целая куча бородатых евреев в неловко сидящих на них «субботних» костюмах, которые они, однако, отваживались надевать далеко не каждую субботу, так как берегли их для самых больших праздников. Это все были дальние родственники — портные, башмачники, кровельщики, точильщики, то есть народ бедный и всегда озабоченный. В обычное время они не отваживались появляться у Дашевских. Не решались лишний раз напоминать о своем существовании, приберегая родство с «самим ребе доктором», словно скопленную по грошам десятку, «на черный день», если, не дай Бог, в семье кто-нибудь заболеет или стрясется другая беда. Однако с таким дорогим гостем, как дед, все бесчисленные родственники должны были повидаться. Они держались чинно, скованно, не зная, куда девать темные заскорузлые руки.
Дед сидел во главе стола, на самом почетном месте, и все смотрели на него с неподдельным восторгом. Дед читал нараспев молитву, говорил «лехаим» и все выпивали «абысале бромфен» и пели нестройными голосами «ло мир але инейнем, инейнем…» Дед был в своей стихии. Он много говорил, а все смотрели ему в рот и одобрительно покачивали головами. Дед слыл ученым талмудистом и пользовался общим почетом. Отец и мать старались оказывать ему «кувыд», то есть всячески ублажали его, и знаки внимания тешили бесхитростное тщеславие старика. За его спиной мать и отец обменивались насмешливыми взглядами, но он этого не замечал.
Отец, как и многие интеллигенты-евреи, вспоминал о талмудической премудрости редко, и не иначе как со снисходительным безразличием; так вспоминают о старой рухляди, которую свалили на чердаке, но все не соберутся, а может быть, и немного жалеют выбросить.
Когда-то, в древности, говорил отец, талмудические предписания имели, вероятно, немалый смысл. Несомненно, например, гигиеническое значение правил о кошерной пище. Но теперь эти правила вполне можно заменить другими, основанными на научных данных. Масса следует старинным предписаниям, не понимая их смысла, из присущего ей консерватизма. То же отец говорил и о других религиозных запретах и повелениях.
— Но все же он верил в Бога? — тихо спрашивала Фрида, которой хотелось побольше знать о своем Пинхусе, а значит, и о его близких.
— Не знаю, — подумав, отвечал Пинхус. — Вероятно, он серьезно не думал об этом. Он был врач и верил в физиологию. В синагогу ходил неохотно, только затем, чтобы на него «пальцем не по-называли». Так он говорил. Но некоторые праздники очень любил, особенно Пейсах. Обстановка первого Седера, когда горят пасхальные свечи, и красное вино на столе, и маца на большом серебряном блюде, и горькие травы, и эти четыре вопроса, которые дети должны были ему задавать… Отец в это время очень походил на деда; это особенно бросалось в глаза, потому что он восседал за столом на том самом месте, куда сажали деда в его редкие приезды.
«Запомни, Пинхус, запомните все! — торжественно говорил отец. — Пейсах — это праздник нашей свободы…»
— Но тебе, наверное, это неинтересно? — спохватывался вдруг Пинхус, обращаясь к Фриде.
— Глупый, мне про тебя все интересно, — отвечала Фрида и добавляла: — Все, все!
Фрида требовательно привлекала к себе Пинхуса, и неодолимая сила инстинкта снова брала верх над их молодыми телами.
…Отец хотел, чтобы Пинхус, как и он сам, стал врачом. Отец считал, что это лучшая профессия для еврея. Она давала и обеспеченное существование, и право повсеместного жительства, и общее уважение, потому что перед лицом болезни и смерти несть эллина и иудея: никто не хотел болеть и, тем более, умирать.
С десяти лет отец стал брать Пинхуса с собою в больницу, чтобы приучить к обстановке и виду человеческих страданий. Но больница лишь напугала Пинхуса, а стойкий запах карболки вызывал у него тошноту. С годами отвращение к медицине росло, но отец не хотел этого замечать. Когда Пинхус наотрез отказался подавать на медицинский, отец воспринял это как тяжелый удар и даже слег в постель. Теперь, когда отца не было в живых, Пинхус испытывал перед ним чувство неискупимой вины.
— Но тебе все это неинтересно, — спохватывался Пинхус.
— Мне все интересно, глупый, — возражала Фрида и без видимой связи с тем, что только что слышала, добавляла:
— Знаешь, за что я тебя полюбила? За то, что у тебя такие мягкие глаза.
— Но ведь сейчас темно, Фрида! — срывающимся голосом говорил Пинхус. — Ты не можешь видеть моих глаз, Фрида!
— Мне и не надо видеть, милый. Я помню. Иногда Фрида просила:
— А теперь расскажи о твоем подвиге, — и в ее низком голосе слышались поддразнивающие нотки.
— Но я уже столько раз рассказывал, — улыбался в темноте Пинхус.
— Расскажи еще раз. Я хочу! — капризно настаивала Фрида.
И он начинал рассказывать про то, как однажды вмешался в уличную свару, а когда полицейский обозвал его «жидом», одним ударом свалил того с ног.
Фрида тихо хихикала и требовала подробностей, хотя давно уже знала, как выглядел крепыш-полицейский с бессмысленными пуговичными глазами и отвислой челюстью, «какую найдешь не у всякой лошади»; как вели Пинхуса в участок; как почти полтора месяца продержали его под арестом «за оскорбление действием представителя власти»; как завели еще отдельное дело в связи с обнаруженной при обыске брошюрой Леона Пинскера «Автоэмансипация». Брошюра была написана лет двадцать назад, в ответ на волну еврейских погромов восьмидесятых годов; в ней выдвигалась идея создания еврейского национального очага на древней земле предков, которую каждый настоящий еврей, по убеждению автора, носит в своем сердце; Пинскер утверждал, что такова единственная возможность избавить еврейский народ от погромов и всяких иных притеснений. По какому-то недоразумению брошюра Пинскера числилась запрещенной, и Пинхусу пришили за нее дело, хотя и выпустили до суда.
Фриду очень веселила вся эта история. Выслушав ее в очередной раз от начала до конца, она говорила с оттенком иронического назидания:
— Ну вот! Будешь знать, к чему приводят несвоевременные выступления одиночек.
Маленькая, с почти детским открытым лицом, Фрида была немного старше и много опытнее Пинхуса. Она с первого дня знакомства взяла на себя руководство их отношениями, и он безропотно этому подчинился.
Они встречались на виду у всего города.
Пинхус чувствовал неловкость, когда на улице их обстреливали гневными осуждающими взглядами. Пинхус хорошо представлял себе стыд и горе родителей Фриды, готовых «сгореть в огне» из-за вызывающего поведения дочери, но боящихся единым еловом ее попрекнуть, так как она была не из тех, кто потерпел бы подобные упреки.
Однажды он сказал, что им не следовало бы афишировать свою связь, но Фрида такими колкостями осыпала его обывательскую добропорядочность, что он больше об этом не заикался.
Держась за руки, они целыми днями бродили в овчинных тулупах и валенках по заваленному снегом городу, а иногда уходили далеко в лес — смеющиеся, озорные, румяные от мороза, а потом прямо шли в его холодную комнату «греться», и Фрида оставалась до утра.
Она почти ничего не рассказывала о себе. Пинхус знал только, что она родилась здесь, в Ковеле, росла в зажиточной семье, но была настолько своенравна, что когда, в пятнадцать лет, ей нашли «хорошую партию», решительно отвергла жениха и «осрамила» семью. В восемнадцать она и вовсе убежала из дому. Сдала экстерном за гимназию, поступила на Высшие женские курсы, но не окончила, так как ее выслали на родину под надзор за революционную пропаганду.
О том, как она пришла к своему «делу», Фрида никогда не рассказывала, зато о самом «деле» говорила охотно и несколько поучительно, не скрывая, что намерена «навести порядок» в мозгах Пинхуса.
— В тебе еще много буржуазного, поэтому ты так озабочен еврейским вопросом и не можешь смотреть на него спокойно, с более общей и единственно правильной точки зрения. Ты увлекаешься путаными идеями сионистов, которые только вносят раскол в рабочее движение, — втолковывала Фрида. — Общественная борьба может принимать вид национальной, религиозной и какой-то еще вражды, но это всего лишь оболочка, под ней всегда скрывается борьба классов. Кучка богатеев не работает и живет за счет тех, кто работает. Они всеми средствами стараются сохранить то, что имеют. А пролетариат, напротив, стремится сбросить с себя ярмо эксплуатации. Вот и все!
— Эксплуатация, эксплуатация, — сердился иногда Пинхус. — Скажи еще — «еврейская эксплуатация», и твои теории полностью совпадут с тем, что проповедует Крушеван.
— Как ты смеешь прибегать к таким параллелям! — возмущалась Фрида. — Крушеван хочет подменить классовую борьбу национальной, а заодно разделаться с еврейской буржуазией, как с опасным конкурентом. Но крушеваны обречены. Они хотят повернуть назад колесо истории, а это еще никому не удавалось. Будущее принадлежит пролетариату.
— Ты мне все уши прожужжала своим пролетариатом, — не сдавался Пинхус, — а говоришь о нем, какими-то чужими, заученными словами. Я согласен — это благородно: защищать угнетенных от притеснения угнетателей. Но для тебя угнетенные — это только фабричные и заводские рабочие. А возьми вдову Ривку, которая морозит нас в нашей берлоге, чтобы сэкономить несколько вязанок дров. В своей жалкой лавчонке она продает товару на два рубля в день, а покупает его оптом за рубль восемьдесят. Ее доход двадцать копеек, и чтобы их заработать, она должна зазывать покупателей, отчаянно торговаться, то и дело выслушивать обвинения в своей особой жидовской алчности. У нее селедка с луком на обед — это праздник, а мясо ее дети видят даже не каждую субботу. И только потому, что ее лавочка никак не провалится в тартарары, о чем она ежедневно молит Бога, она для тебя буржуйка, у тебя нет к ней ни капли жалости и сострадания.
Фрида выслушивала такие филиппики с демонстративно спокойным, почти скучающим видом.
— Ах, ах! Сколько благородного негодования, — говорила она насмешливо. — Ты так горячишься, словно я собственными руками хочу задушить эту несчастную женщину. Пойми же, наконец! Все, что ты говоришь — уловки буржуазного прекраснодушия. Встань на научную точку зрения и задайся вопросом: каково будущее таких, как твоя хозяйка? Лишь единицы из мелкой буржуазии смогут разбогатеть, стать средними и крупными капиталистами, а большинство окончательно разорится и пополнит ряды пролетариата. Оттого что ты будешь лить слезы по твоей Ривке, ничего не изменится, ибо таков ход истории. Будущее принадлежит тому классу, которому нечего терять, кроме цепей. Ривке пока еще есть что терять, и потому она обречена. Кстати, при всей ее бедности, ей все же не следовало бы заставлять тебя постоянно дрожать от холода. Я бы на твоем месте ей об этом сказала. Но ты ведь очень «деликатный», тебе «неудобно»… Мерзнуть тебе удобнее.
Пинхус не всегда находил, что возразить, но внутри у него все сопротивлялось холодной фридиной логике.
— Хорошо, пусть будет так. Пусть то, что ты говоришь, и есть единственно верная, научная точка зрения. Но сколько же в России этого самого пролетариата? Большинство населения — крестьяне. Кто побогаче, кто победнее, но каждая крестьянская семья имеет свой надел, рабочий скот, инвентарь, то есть принадлежит к той же мелкой буржуазии, по твоим понятиям. А в городах? Много ли заводских рабочих в Ковеле?
Но у Фриды был готов ответ на любые возражения.
— Россия страна отсталая, в ней еще сильны феодальные пережитки, — отвечала она не задумываясь. — Капитализм только начал зарождаться, пролетариата пока немного, и он плохо организован. Но зато и буржуазия еще слабая. Поэтому, может быть, именно в России рабочему классу удастся сделать первый прорыв и начать мировую революцию…
Все кончилось между ними в тот день, когда известие о кишиневском бедствии перевернуло Пинхусу душу.
Фрида пришла к нему вечером, прикрыла за собой дверь и обвила его шею руками. Приподнялась, как обычно, на цыпочки, прильнула к его губам, а потом, резко отстранилась, загасила лампу и начала раздеваться.
Пинхус стоял как вкопанный и молча следил за ее привычными уверенными движениями, насколько их позволяла различать негустая темнота комнаты.
— Фрида! Ты сегодня читала газеты? — спросил Пинхус, когда она взялась за край одеяла, чтобы юркнуть в постель.
— Ты о Кишиневе? — Фрида обернула голову; ее белое ладное тело, слабо мерцавшее во мраке, застыло в полусогнутой позе. — Чего-либо подобного следовало ожидать. Власти нервничают и делают глупости. Но нам тоже придется сделать выводы. Надо будет разобраться, почему масса пошла за Крушеваном.
Фридина фигурка вздрогнула: она передернула плечами.
— Что-то сегодня особенно холодно у тебя. Видно, Ривка решила больше вообще не топить.
И она исчезла под толстым одеялом.
— И ты… ты можешь говорить об этом так спокойно? — охрипшим вдруг голосом спросил Пинхус в темноту.
— Что же мне — рвать на себе волосы? — в свою очередь сиро-сила она насмешливо.
И чуть помолчав, добавила нетерпеливо:
— Где же ты, Пинхус? Скорее согрей меня, мне холодно!..
Пинхус стоял не двигаясь и почти физически ощущая, как закипает в нем неистовая ярость. Неожиданная для суховатой Фриды игривость лишь взорвала его.
— Тебе холодно?! — вдруг выкрикнул он и не узнал своего голоса. — Разве тебе может быть холодно? Ты же… ты же полено. Кусок мяса! Гадкая похотливая тварь!
Он задыхался, и слова выходили наружу с каким-то тяжелым хрипом.
— Что с тобой, Пинхус? Ты понимаешь, что говоришь? — с испуганным изумлением спросила Фрида из темноты.
— Уйди! Слышишь? Уйди! — прохрипел он в ответ. — А то… А то…
Он резко отвернулся, стараясь подавить рвавшиеся наружу рыдания.
Фрида лежала притихшая, в молчаливом недоумении и ожидании. Он не двигался, только плечи изредка сотрясались, словно от судороги.
— Значит, ты хочешь, чтобы я ушла? — стараясь быть спокойной, спросила она.
Он не ответил.
Кровать заскрипела за его спиной; он понял, что она поднялась и, вероятно, натягивает чулки.
Она одевалась медленно, словно бы нарочно давая ему время опомниться. Но он так и не обернулся. Одевшись, она постояла за его спиной, потом решительно пошла к двери.
— Ты пожалеешь об этом, Пинхус, — сказала Фрида и вышла из комнаты.
Он пожалел сразу же, как она закрыла за собой дверь. Хотел броситься следом, обнять, принести назад на руках. Но тяжелые рыдания все еще душили его, он так и не двинулся с места.
К Фриде он пришел через три дня.
— А, Пинхус! — сказала она ласково и протянула руку. — Пойдем.
И они пошли, взявшись за руки, через весь город, под укоризненными взглядами евреев и евреек, словно по команде прерывавших при их появлении свою муравьиную суету и долго глядевших им вслед.
Фрида шла чуть впереди, ведя Пинхуса за руку, а он — чуть сзади, как бы немного сопротивляясь, и если бы Пинхус не был на голову выше маленькой Фриды, можно было бы подумать, что это мать уводит с улицы расшалившегося ребенка.
Миновав город, они долго шли полем, потом — березовой рощей, которая уже одевалась первой прозрачной листвой, и вышли к обрыву речки. Летом она обычно пересыхала, но в эти весенние дни неслась мутным бурливым потоком.
Фрида остановилась, повернулась к Пинхусу и отбросила обычным своим движением косы… Так страстно она еще не целовала его. Казалось, никогда не прекратится этот поцелуй, однако в конце концов Фрида отстранилась и долго еще с напряжением всматривалась в его лицо, близоруко щуря серые глаза.
— Ну, вот и все, Пинхус, — проговорила она. — Все. Больше мы никогда не увидимся.
— Я виноват перед тобой, Фрида! — взволнованно заговорил Пинхус. — Я… я потерял голову, Фрида! Прости меня, Фрида! Я очень виноват, но больше этого не будет, Фрида. Я буду тебя еще сильнее любить… Мы всегда будем вместе…
— Нет, Пинхус, — она покачала головой. — Ты ни в чем не виноват. Я все обдумала. Ты не можешь быть с нами. Для этого ты слишком впечатлителен. В тебе много интеллигентской мягкотелости. Я люблю тебя, Пинхус! Может быть, никого никогда так не буду любить. Но нам не по дороге. Рано или поздно наши пути разойдутся, а потому лучше порвать теперь. Позже будет больнее.
И прежде чем уйти навсегда, спросила с болью в голосе:
— Ну почему, почему у тебя такие мягкие глаза?..
…Только оказавшись в Ковеле, Пинхус признался себе в том, что привело его сюда. Однако — зачем? Он этого не знал. Вернуть все к прежнему невозможно, и он это слишком хорошо понимал. Рассказать ей о своем решении? Но она бы только высмеяла его. Он хорошо помнил, как она объясняла ему, почему «партия против террора».
— Но ведь ваш Балмашов убил Сипягина! — воскликнул тогда Пинхус.
Фрида от неожиданности вздернула змеевидные брови, и ее большие серые глаза округлились сильнее обычного.
— Неужели ты не знаешь, что Балмашов был эсером, то есть социалистом-революционером? — спросила Фрида.
— А вы разве не революционеры?
— Мы эсдеки, социал-демократы.
— Но вы тоже за революцию!
— Послушай, Пинхус, как ты не хочешь понять простых вещей? Мы — партия рабочего класса, а эсеры имеют претензию выступать от всего народа. Это мелкобуржуазный радикализм со всеми присущими ему противоречиями. С одной стороны, они примыкают к либералам, выпрашивающим у царя конституцию, будто этим можно что-либо решить, а с другой — пускают в ход бомбу и кинжал. Они не понимают, что революция победит лишь тогда, когда рабочий класс созреет, чтобы подняться на борьбу. Не раньше и не позже. Приблизить революцию можно лишь постоянной пропагандой в рабочих кружках и организацией рабочих выступлений. А шумовые эффекты с бомбометанием приводят лишь к тому, что на место тупого Сипягина садится умный и хитрый Плеве… Ты знаешь его программу: сначала умиротворение, а потом реформы, что означает на деле лишь усиление реакции и репрессий. Ни к чему другому террор и не может привести. Но эсерам не терпится. Они не владеют научной теорией и подменяют ее субъективными чувствами. Когда революция сметет прогнивший режим, нам еще предстоит борьба с ними не на жизнь, а на смерть.
…Нет, Фрида не могла отнестись к его замыслу иначе, как к вредной затее.
Но, может быть, он на то и надеялся, что она сумеет его остановить?..
Фриды в Ковеле не оказалось. Год высылки истек, и она уехала, не промедлив дня. Зато именно в Ковеле, спросив в грязной кофейне газеты, Пинхус обнаружил среди них возобновившееся «Знамя». И для него началась новая мука.
Каждое утро он прочитывал газету Крушевана от первой до последней строки, с болезненным сладострастием впитывая в себя весь источаемый ею яд ненависти, а затем раскрывал альманах «Бессарабец» и вглядывался в портрет, пытаясь совместить в одном человеке завораживающие темные глаза, подернутые меланхолической грустью, и кипящую злобу, смертоносной лавой стекающую со страниц газеты. Но совместить не удавалось. Перед Пинхусом было два Крушевана: один неистовствовал, но был невидим и потому недосягаем, а другой — молча смотрел печальными глазами из книги и был совсем беззащитен. И именно этого, беззащитного, надо было… убить!
Два не совмещающихся Крушевана рождали в самом Пинхусе два разных голоса, и они вели между собой нескончаемый спор.
«Нет, как это можно, напасть на безоружного человека», — говорил один голос, на что второй отвечал ядовито и зло:
«Ты просто разнюнился, сдрейфил и ищешь оправданий. Трус! Да, трус! Это главная черта твоего жалкого племени. Поэтому вас и топчут ногами, поэтому плюют вам в лицо, бьют и убивают, вышвыривают из окон ваших детей. Ты думал, что на это способны только звери. А они — люди, с нормальными человеческими реакциями. Просто они презирают трусов. Это вы не люди, а не они. Вы достойны презрения, вот они и презирают вас. А когда приходит охота — убивают!.. В Кишиневе шестьдесят тысяч евреев, это тысяч пятнадцать взрослых здоровых мужчин. И никакого сопротивления. „Знамя“, „Новое время“ кричат, что евреи тоже били погромщиков. Если бы так! Нет, они все трусы, и ты такой же, как все. Двинул раз полицейскому и вообразил себя Бар-Кохбой… О, да, будь у Крушевана физиономия гориллы, как у того полицейского, ты бы, пожалуй, не дрогнул. Велика храбрость — застрелить зверя!.. Но ты увидел осмысленный человеческий взгляд и разнюнился. Цыплячья душа! Где тебе поднять твою трусливую руку не на гориллу, а на человека, хотя ты и знаешь, что на его совести — муки и кровь твоих братьев… Нет, Пинхус, не тебе быть народным мстителем. Носом ты, Пинхус, не вышел, своим длинным еврейским носом!..»
Много раз мысленно Пинхус произносил подобные монологи, бичуя себя то презрением, то иронией и сарказмом, но что-то сопротивлялось внутри, и он не двигался с места. Пока однажды, перестав обличать и гневаться, он не сказал себе мягко, как обреченному: «Ну, ладно, хватит. Ты все равно не сможешь жить, если не сделаешь этого. Встань и иди».
И ему стало ясно, что отступиться от задуманного он не волен, потому что кто-то другой, более сильный и властный, посылает его.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. (Продолжение)… По Оргеевскому переулку (Кожуховская улица) разбиты окна в 6-ти домах. По Яковлевской улице разгромлен дом Хаима Мофриса на углу Измаиловской улицы, выбиты стекла в доме Мерли Ровнер на углу Титовского (Петровского) переулка и учинен полный разгром в доме Элика Розенберга на углу Георгиевской улицы; в последнем доме сперва были выбиты стекла, и после того, как Розенберг стал стрелять в нападавших, последовало полное разорение дома. В доме терпимости Попика на Янкелевской площади разбито свыше 20-ти окон. От Янкелевской площади до Минковской улицы выбиты стекла в 30-ти домах, но без разграблений имущества. По Вознесенской улице разгромлены 7 домов, между которыми выделяются 3 бакалейные лавки: Хромого на углу Георгиевеской улицы, Зельцера на углу Титовской и вблизи последней Давида Гольдштейна; стекла выбиты в 10-ти домах. По Большевской, от Бендерской рогатки до угла Титовской улицы, разгромлены дома: Элля Гринфельда и находящаяся в доме бакалейная лавка, товары в коей частью расхищены, частью разбросаны по улице и уничтожены; Бенциона Зильбердрута, где на улице перед домом валяются подушки и пух, и Берки Шапочкина, в 2-х домах поломаны рамы и в 3-х выбиты стекла. От Титовской до Инковской улицы (Ивановский переулок) сильно разгромлены дома Лейбы Вассерман, Иосифа Лехтмана, Мотеля Гриншпуна и Мошки Клеймана; все упомянутые дома стоят пустые, без имущества, с сломанными окнами и дверьми. На углу Инзовской улицы разбиты дома и флигель Исаака Хамудиса, на углу Кагульской улицы — его брата Мошки Хамудиса; обитатели и хозяева этих домов отсутствуют. Напротив разоренный и опустошенный дом и бакалейная лавка Рафули, через дом от Мошки Хамудиса бакалейная лавка Шлемы Мильнера, квартира Шмуля Вейсмана, пекарня и мучная торговля Иося Трахтенблойта также совершенно разгромлены и опустошены. На том же углу в 2-х домах разбиты стекла. От угла Кагульской улицы до угла Ставриевского и Белокосовского переулков пух покрывает всю улицу и деревья. Разбиты дом Сруля Уляницкого, два дома Вольфа Дортмана, где окна и двери выломаны и валяются на земле осколки зеркал и посуды, и Мотеля Дегтяря, в котором в комнатах лежит груда поломанной мебели. Занимающий угол Ставриевского и Белокосовского переулков дом Лейбы Ревинзона, в котором происходила продажа вина, сильно пострадал; около дома лежат поломанная детская коляска, самовар, мебель. Дом Мошки Махлера (№ 13), на углу Азиатской улицы, где были бакалейная лавка и 8 квартир, разгромлен. Хозяин дома убит. В том же доме были убиты Мотель Гриншпун и Говший Бернадский. В таком же состоянии виноторговля Зельмана Авербуха и дом Лейбы Лейбишева, близ того же угла.
(Продолжение следует)
Глава 3
У дверей особняка, который занимал Крушеван со своим «Знаменем», дежурить было опасно: улица Гоголя немноголюдна, его сразу приметили бы, особенно в длиннополом пальто, так не отвечающим уже начавшемуся летнему сезону.
Пинхус слонялся по Невскому вблизи того перекрестка, где его пересекает улица Гоголя, хотя ему казалось, что и здесь он очень заметен и городовой с подозрением поглядывает на него.
Павла Александровича он увидел внезапно и поразился полному его сходству с фотопортретом. Среднего роста, некрепкого телосложения, он даже одет был точно так же, как на портрете: элегантный черный пиджак с отутюженными бортами и черный галстук «бабочкой», подпирающий стоячий воротничок накрахмаленной белоснежной сорочки. Это было как наваждение и длилось несколько секунд, так что Пинхус даже усомнился: уж не пригрезился ли ему оживший портрет?..
На другой день ему дважды казалось, что он видит Павла Александровича в толпе, но оба раза он обознался. Изрядно потолкавшись на Невском, он решил не спеша пройти и по улице Гоголя, посчитав, что однократное появление на ней вряд ли может вызвать подозрение. Подходя к двухэтажному особняку, в котором помещалось «Знамя», он вдруг увидел, как дверь открылась, и Крушеван собственной персоной появился на пороге.
— Извозчик! — крикнул он резким гортанным фальцетом и махнул рукой. — Извозчик, скорей!
Пинхус замер в пяти шагах. «Может быть, я опять обознался!» — мелькнула в голове неуверенная мысль. Но в это время шедший впереди него высокий господин приподнял шляпу и негромко, но внятно сказал:
— Здравствуйте, Павел Александрович! Он! Сомнений больше быть не могло!
Извозчик, дремавший чуть дальше, на противоположной стороне улицы, развернул лошадь и подкатил к подъезду. Пинхус стоял очень близко; он отчетливо слышал, как скрипели рессоры, когда Павел Александрович поднимался в экипаж.
«Чего же я медлю!» — подумал Пинхус. Но Крушеван уже проехал мимо. Пинхус бросился к другому извозчику: — Следуй за тем господином! Живее!
Извозчик огрел лошадь кнутом, она рванула с места, но, пробежав несколько шагов, видимо, наступила на гвоздь, потому что стала припадать на заднюю ногу и вскоре отстала…
Нет, убить человека не так просто, как ему думалось! Требовалось все же составить четкий план и действовать по нему…
На следующий день он впервые появился в ресторане Соловьева, окна которого прямо смотрели на подъезд «Знамени».
Ширина улицы — шагов двадцать. Крушеван выйдет и позовет извозчика. Лошади здесь всегда стоят поодаль, на другой стороне улицы (на стороне ресторана). Пока «ванька» тронет застоявшуюся кобылу, пока развернется и подкатит к крыльцу, пройдет около минуты. Вполне достаточно, чтобы выйти, неторопливо сделать двадцать шагов и — разрядить револьвер…
В первый день Пинхус не отрывал глаз от входной двери противоположного дома и лишь для видимости держал перед собой газету. Дверь открывалась довольно часто, и всякий раз его напряженные нервы сжимались в тугой комок. Но Крушеван так и не появился… И вот уже восьмой, а может быть и девятый день Пинхус приходит на свой наблюдательный пост, но в часы его наблюдений Крушеван ни разу не выходил из дому. Видно, неудачное время. Пинхус приходил слишком поздно, а уходил рано… Проклятое право жительства! Без паспорта он не мог снять номер в гостинице…
В Петербурге был Мойша Либерман, но он не хотел ночевать у Мойши. Наверное, где-то здесь и Фрида, уж она смогла бы его устроить, но и ее он теперь не желал разыскивать. Он все решил окончательно, назад пути не было, и никто не должен был знать, что он здесь. Не надо было никого впутывать…
Спать он ездил в Ораниенбаум. Там большой превосходный парк, в котором ночью нет сторожей. А почему, собственно, следует спать в душной неопрятной комнате с нездоровыми испарениями и полчищами клопов? Ночи уже были теплые, и на скамье под столетним вязом, накрытый своим длинным пальто, Пинхус чувствовал себя превосходно. Правда, подолгу не мог заснуть: что-то тревожное было в шорохе листьев и в проглядывающих сквозь них звездах, изучению которых хочет посвятить жизнь его друг Мойша Либерман…
В последний раз они виделись месяц назад: Пинхус, после разрыва с Фридой, приехал в Киев из Ковеля, а Мойша к своим старикам — из Петербурга.
Прибежал обрадованный, взволнованный, и тут же, порывисто жестикулируя, стал рассказывать.
— Профессор мной очень доволен, хочет оставить при кафедре, будет хлопотать. Надеется, что это удастся, хоть я и еврей. Он сказал, что будет бороться. Не за красивые глаза, как ты понимаешь. «Не благодарите, говорит, я это делаю не ради вас, а ради науки. Вы талантливый и трудолюбивый молодой человек, такие науке очень нужны».
Мойша был так горд и доволен собой, что Пинхуса это стало раздражать.
— И ты всю жизнь хочешь заниматься звездами? — спросил он.
— Ну, конечно! — воскликнул Мойша. — Только бы ему удалось меня отстоять!.. Видишь ли, с тех пор, как существует астрономия, приходилось довольствоваться лишь внешним наблюдением за небесными светилами. Сначала просто невооруженным глазом, потом с помощью телескопа. Так тысячи лет! А недавно у нас появился спектральный анализ. Это значит, что отсюда, с Земли, мы можем определять химический состав звезд, разбираться, что там происходит. Ты понимаешь, что это сулит!
— И всю жизнь — одни звезды? — скривился в усмешке Пинхус.
— Я тебя что-то не понимаю, — обескураженный Мойша по-детски выпятил толстые мясистые губы, из-за чего лицо его сразу стало обиженным. — Во всяком случае, это лучше, чем слоняться без дела и перебиваться уроками, не имея ничего впереди. Кстати, что ты думаешь о своем будущем? Политехникум ты бросил-ладно, хотя причины я до сих пор не могу понять…
— Я же тебе объяснил, — ответил Пинхус. — Не хочу набивать мошну господину Бродскому. Он и без меня прекрасно с этим справляется.
— Брось, это все красивые слова! Между прочим, ты отлично знаешь, что господин Бродский отвалил в свое время сто тысяч, чтобы основать реальное училище, где мы с тобой получали образование. И политехникум тоже основан при участии его капиталов. Сахарные заводы Бродского обеспечивают работой несколько тысяч человек, из них почти половина — евреи, о которых ты так печешься. Конечно, они работают много и тяжело, а зарабатывают мало, но не будь у них этой работы, многие просто бы умерли от голода. Если бы ты окончил политехникум и стал инженером на одном из этих заводов, ты мог бы улучшить производство и тем самым облегчить труд рабочих. Это не звезды, а то практическое дело, о котором ты так мечтал. И вдруг — «не хочу набивать кошельки Бродскому»! К чему это привело? В образцовой казарме Луцкого полка тебе было лучше, чем на лекциях в политехникуме? Многому тебя там научили? «На пле-чо! Кругом! Тяни носок, жидовская морда!»
— Ну, жидовской мордой я никому не позволял себя называть! — перебил Мойшу побледневший Пинхус.
— Ты не позволял, но они все же тебя так называли. Если не в глаза, то за глаза, и ты это отлично знаешь. Но дело не в этом, а в том, что бессмысленной муштре ты отдал целый год. И только из одного каприза. Ну, хорошо, и это уже позади. Так ты теперь в каком-то захолустье перебиваешься уроками, теряя попусту лучшие годы…
— В Ковель я больше не вернусь, Мойша…
— Ну, и отлично! Садись за учебники, осенью приедешь в Петербург и поступишь в университет. Жить будем вместе. При твоих способностях тебе не страшна никакая процентная норма!
— А Кишинев?
Слово «Кишинев» стерло с лица Мойши всю его самоуверенность. Он сразу потускнел и ссутулился, даже стал ниже ростом.
— Но что мы можем сделать? Что мы с тобой (он подчеркнул это «мы с тобой») можем сделать?
Толстые мойшины губы снова выпятились вперед, словно у ребенка, которого больно и незаслуженно наказали. Это выражение было хорошо знакомо Пинхусу и всегда умиляло его, но теперь вызвало лишь злое раздражение.
— Что мы с тобой можем сделать? — язвительно переспросил Пинхус. — Конечно, изучать звезды! Профессор похлопочет и безусловно добьется своего. Тебя оставят в университете, несмотря на еврейское происхождение, и тебе даже не надо будет для этого нырять в купель. Тебя отправят на казенный счет за границу, ты вернешься с превосходной диссертацией и блестяще защитишь ее при большом стечении публики. Я в этом нисколько не сомневаюсь — ведь ты очень способный, трудолюбивый и организованный. А господин Крушеван получит великолепный повод заявить всему свету, что вслед за русской прессой и русской торговлей евреи захватили русскую науку.
Мойша смотрел на Пинхуса с полнейшим недоумением.
— Что за околесицу ты несешь? Кто такой господин Крушеван?..
Таков ближайший друг Пинхуса, и с этим ничего не поделаешь, другим Мойша быть не может.
Он появился у них в доме еще мальчиком, лет одиннадцать-двенадцать назад, в тот страшный год, когда евреев высылали из Москвы.
Их были тысячи, этих несчастных, испуганных бедняков с огромными узлами, вмещавшими весь их убогий скарб. Москва, конечно, не входила в черту еврейской оседлости, но там долгое время был добрый губернатор, и, выжимаемые постоянной нуждой из городков и местечек черты, евреи ехали и ехали в Москву, где становились главным источником дохода для снисходительной полиции. За деньги можно было без особых хлопот выправить документ на право временного жительства и продлевать его из года в год за соответствующую мзду. Можно было проживать вовсе без документа, лишь платя кое-что околоточному надзирателю, благо губернатор смотрел на такое беззаконие сквозь пальцы. Словом, можно было существовать! Можно было как-то кормиться!.. И евреи укоренялись в Москве. Старые умирали, молодые взрослели, у них появлялись дети, которые уже понятия не имели о местах приписки, откуда некогда выехали их отцы и деды и которые, тем не менее, считались местами их постоянного жительства.
И вдруг — сменили в Москве губернатора, и последовал приказ выслать всех, не имеющих права жительства…
Стон и плач стоял целый год над древней российской столицей. Кто был побогаче, за огромные взятки получал отсрочки, а бедняки за бесценок продавали свои дома, лавки, мастерские и, вконец разоренные, грузились в специально для них выделяемые эшелоны.
Все евреи России были потрясены бедой, нежданно-негаданно свалившейся на их московских братьев. Особенно тяжелая атмосфера воцарилась в Киеве, потому что Киев, хотя и находился в самом центре черты оседлости, сам в нее не входил, и большинство евреев жило в нем на тех же правах, что и в Москве: только благодаря попустительству власти, умеющей закрывать глаза на беззаконие, если оно приносит доход.
Отец Пинхуса, доктор Дашевский, вошел в комитет по сбору пожертвований для высылаемых из Москвы. Он заботился о временном устройстве тех, кто застревал в Киеве, а одну семью приютил, у себя.
Это и была семья Либерманов.
Отец Мойши, Исаак Либерман, был отменным часовым мастером. Через несколько месяцев он уже имел обширную клиентуру, так что мог снять квартиру и съехать от Дашевских. Но дети остались друзьями, тем более что стараниями доктора Дашевского Мойшу приняли в реальное училище, где учился Пинхус, и они оказались в одном классе.
Пинхус схватывал все на лету, но Мойша был много старательнее и скоро стал первым учеником. В старших классах они оба увлеклись химией и соорудили в сарае некое подобие лаборатории. Но Пинхус скоро к этому охладел, а Мойша увлекся еще физикой и астрономией. Окончив училище, он самостоятельно вызубрил не входящую в программу латынь, поехал в Петербург и поступил в университет, одолев барьер процентной нормы.
А вот в мальчишеских проделках Мойша всегда оставался пассивен. Он стоял в стороне и следил за происходящим удивленными, чуть испуганными глазами. Если возникала ссора и Пинхус бросался на обидчика с кулаками, Мойша хватал его за рукав, старался увести и потом долго уговаривал никогда ни во что не ввязываться.
— Как я могу не ввязываться? — кипятился Пинхус. — Он назвал меня жидом!
— Ну и что! — выпячивал губы Мойша. — Они всех нас так называют. Оттого, что ты с ним подерешься, что-нибудь изменится?.. Только уйдешь с расквашенным носом. Подумай сам, что мы с тобой можем сделать?
…Пинхус, собственно говоря, не хотел остановиться у Мойши вовсе не потому, что боялся впутать его в опасное дело. Если бы и выяснилось потом, что он проводил ночи у друга, не представило бы труда доказать, что Мойша ни о чем не догадывался. Но для этого надо было, чтобы он действительно не догадывался — иначе на следствии выдал бы себя с головой. То есть надо было утаивать от него истинную причину своего приезда, надо было прятать от его глаз оружие, скрывать многое другое… А ведь впереди Пинхуса ждали, если не растерзает толпа, арест, тюрьма, каторга… Каждый день мог стать для него последним, во всяком случае, последним днем свободы, и он хотел быть свободным по-настоящему, то есть свободным также от притворства. Гораздо проще и приятнее было проводить ночи в Ораниенбаумском парке, наедине со звездами и собственными мыслями, чем врать в глаза лучшему другу.
Только вот поезд поздно приходил в Петербург и рано уходил из Петербурга. Лишь к полудню успевал Пинхус занять свой наблюдательный пост в ресторане Соловьева. Если бы он мог предвидеть, что столько дней потеряет зря… Промедление грозило риском быть задержанным и высланным, а, кроме того, неумолимо таяли деньги. От ста рублей, с которыми он выехал из Ковеля, оставалось уже меньше двадцати…
…Когда Павел Александрович появился на улице и зажмурился от яркого света, Пинхус непроизвольно посмотрел на часы. Была половина четвертого… Не отрывая глаз от окна, он махнул официанту и подымаясь, быстро уплатил по счету.
— Премного благодарен-с! — официант склонился в поклоне, удивленный щедрыми чаевыми, каких никогда не получал от этого юноши.
Павел Александрович тем временем тоже посмотрел на часы, защелкнул крышку, сунул их в жилетный карман и — зашагал в сторону Невского.
«Какой же я идиот! — чуть ли не вслух выкрикнул Пинхус. — Как я не подумал, что он может взять извозчика не здесь, а на Невском!»
Он быстро накинул свое нелепое желтое пальто и выскочил из ресторана.
Павел Александрович шагал бодро и довольно быстро, хотя, по-видимому, не торопился. Он был уже шагах в тридцати, на другой стороне улицы. Стрелять было невозможно: наверняка промажешь, а то еще заденешь постороннего (хотя улица была полупуста, впереди Павла Александровича шли две мрачные фигуры, и один человек шел сзади него). С грохотом пронесся экипаж, на секунду закрывший от Пинхуса Павла Александровича. Мелькнула нелепая мысль: «он исчезнет, пока закрыт экипажем!» Но лошади промчались мимо, и фигура бодро шагавшего Крушевана опять показалась на тротуаре. Пинхусу ничего не оставалось, как двигаться за ним, стараясь, чтобы расстояние между ними хотя бы не увеличивалось.
Улица Гоголя влилась в Невский проспект. Павел Александрович свернул направо, прошел мимо дремавшего извозчика.
«Ага! Значит, он намерен идти пешком! — понял Пинхус. — Тогда еще не все потеряно!»
На Невском Пинхус смешался с толпой, но ни на миг не выпускал из виду черный пиджак и шляпу Павла Александровича. Ускорив шаг, Пинхус стал сокращать разделявшее их расстояние.
«Стрелять в такой толпе невозможно… Как хорошо, что я припас еще нож!» — подумал Пинхус.
В боковом кармане у него лежал финский нож.
Он сунул туда руку, и стал открывать его, не вынимая из кармана. После нескольких неудачных попыток ему это удалось.
Нож был куплен в Киеве через того же босяка, который достал Пинхусу револьвер. Что-то толкнуло его тогда: нож тоже может пригодиться…
Павел Александрович шел, не оглядываясь и не особенно торопясь, как человек, не желающий отказать себе в удовольствии немного подышать свежим воздухом. Большинство прохожих озабоченно куда-то спешило и двигалось быстрее, чем он, поэтому Пинхус, отдавшись течению людского потока, скоро приблизился почти вплотную к Павлу Александровичу.
«Я ведь не знаю, куда он идет, — подумал Пинхус, — что, если он шагнет сейчас в сторону и скроется в ближайшем подъезде?.. Медлить нельзя, а то я опять упущу момент…»
Однако он продолжал идти вперед в двух-трех шагах от Павла Александровича и ничего не предпринимал.
«Надо действовать!» — опять сказал себе Пинхус и вдруг почувствовал, что у него подгибаются колени и какая-то тепловатая тошнотворная муть подступает к горлу.
«Нет, я не могу этого, не могу!», — сказал мысленно Пинхус и тотчас услышал гневный полный презрения окрик:
«Трус! Мелкий презренный трус! Я знал, что ты сдрейфишь. Ты — собачье дерьмо, и останешься дерьмом, будешь доживать свою паршивую жизнь с этим позором!..»
Словно подхлестнутый ударом бича, Пинхус рванулся вперед, схватил Павла Александровича холодными пальцами за шею.
«Что я делаю! — тотчас пронеслось в голове. — Разве мне задушить его голыми руками?»
Он выхватил нож и саданул в шею.
«Ну, вот и все… Сделано!» — сказал себе Пинхус и вдруг почувствовал, что сбросил с плеч тяжеленную ношу.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. (Продолжение)… По Молдавской улице в 3-х домах выбиты стекла. По Георгиевской улице разгромлены 1 винная лавка, 1 аптекарский магазин Шлезингера и выбиты стекла в 4-х домах. По Синадиновской улице разбиты стекла в 9-ти домах. В еврейской школе (талмуд-торе), близ угла Николаевской улицы, выбиты более 15 окоп, в типографии Гурфинкеля около Александровской улицы сломаны все рамы. Полицейский переулок подвергнут сильному разгрому. Стекла выбиты в 10-ти домах, разгромлены 6 домов, между последними, в доме Шумской, пострадали винный погреб и табачно-бакалейная лавка, в которой на полу, между опрокинутыми прилавками, в беспорядке разбросаны бумаги, куски стекол, измятые гильзы, папиросы. Рядом с этими помещениями магазин оружейного мастера Воробьева, на дверях которого нарисован крест, совершенно не тронут. Против дома Шумской — дома Когана разбиты. Помещающиеся в названных домах квартиры Болтера, Юрковского и местного присяжного поверенного Гольдштейна приведены в состояние полного опустошения. В комнатах кое-где разбросаны куски хорошей мебели и большие каменья — орудия громил. В доме Лихтмана разнесен ресторан «Париж», внутри которого лежат груды разбитых бутылок, посуды, обломков стульев, разбитых зеркал, каменья; слышится запах пролитых спиртных напитков.
На Пушкинской улице, в верхней части, разгромлена лишь одна лавка между Львовской и Подольской улицами, и против нее в одной выбиты стекла, зато часть ее, ниже Александровской улицы, подверглась большому опустошению. Стекла выбиты в 14-ти домах, причем камни во вторые этажи, по-видимому, бросались от Николаевского бульвара. Пострадали квартиры евреев, и лишь в виде исключения, разбиты 3 окна в квартире нотариуса Писаржевского, где в окнах поставлены иконы, и одно стекло в магазине Жирардовской мануфактуры. Лондонская гостиница, контора нотариуса Залевского, парикмахерская Долголева и магазин Панаиоти совершенно невредимы.
Ниже Гостиной улицы начинается сплошное опустошение магазинов. В доме Шварца, в магазине обуви бр. Розенцвейг, валяются коробки и несколько пар старой порванной обуви, взамен расхищенной новой; в магазине Стоцкой «Парижские моды дамских шляп» разбиты зеркала, лампы, на полу несколько порван-пых шляп и сломанных картонок, лишь на одной из верхних полок уцелели пять рядов пустых картонок; в магазине Динера и Гринберга «Окончательная распродажа уцелевших от пожара сукон-пых и мануфактурных товаров» ничего пет кроме пустых полок, прилавков, пустого шкафа, стула и письменного стола. В последнем доме, принадлежащем тому же Шварцу, в магазине дамских мантилий Бирбалата на полу лежат: большое разбитое зеркало, опрокинутый стол с сломанными ножками, куски стульев и металлических частей ламп; в галантерейном магазине Казанского — на полу несколько дорогих игрушек и сломанных стульев, в магазине готового платья Брахмана — обломки стекла, куски коробок, в коих сохранились костюмы, и полок; в магазине Гликмана «Швейные машины Зингера» поломаны несколько машин и штук шесть велосипедов.
В доме Красильщика магазин часов M. Красильщика мало пострадал, благодаря прочным ставням, и отделался лишь несколькими разбитыми стеклами, зато помещающийся в том же доме магазин дамских шляп, галантерейный, а равно книжный магазин Шаха совершенно разгромлены; в последнем книги изорваны, залиты чернилами, письменные принадлежности поломаны; среди груды книг найдены брошенные громилами старый воротничок и старая туфля.
В следующем доме в том же состоянии Московский магазин мужского платья, где громилами примерялись новые костюмы и сбрасывались старые, часовой магазин Шрейдера, в котором расхищены часы, и магазин дамских платьев Сатинова. Рядом, в пустом «Варшавском» галантерейном магазине — обломки ламп и куски. Ту же картину представляют магазины Крита, Розенфельда, Радзивиллера, Богатырского и магазины часовые и ювелирные Зильбермана, Грабсдрука и Атецкого; в последнем на прилавках несколько согнутых и поломанных бронзовых и серебряных предметов и несколько разбитых вдребезги часов. Всего пострадало около 14-ти магазинов. По Екатерининской улице разграблено 12 домов и выбиты стекла в 11-ти. По Ильинской разграблено 4 дома и выбиты стекла в 13-ти. По Фонтанной улице сильно разбиты 6 домов. Здесь, недалеко от р. Быка, разбита баня Гильдебрандта, в которой разрушены лавки, чаны для воды и т. п. По Андреевской улице выбиты стекла в 12-ти домах, и разбито 6 домов, между которыми особенно потерпели дома Гольденштейна, Клеймана и Трахтенберга.
Очень пострадали Азиатская улица, где разбиты 14 домов. Часовенный переулок с 3-мя разбитыми домами и 9 с выбитыми стеклами, Куприяновская улица с 3-мя разбитыми и разграбленными и 14-тью домами с выбитыми стеклами и Каменоломная, главным образом, населенная русскими, где совершенно разграблены 4 еврейских дома, и побиты окна в домах. По Старо-Базарной, верхней части Когульской и Яковлевской улице выбиты окна в 9-ти домах. По Грязной улице опрокинута лавочка — будка и разбиты окна в еврейской школе. Здесь, около дома №13, 7 апреля убит Ицко Белицкий. Павловская улица на всем ее протяжении уцелела, и лишь в самом конце ее, у железнодорожного переезда, побиты окна в еврейской школе. По Глухому переулку разгромлены 2 дома и в 9-ти домах выбиты стекла, по Казацкому переулку побиты окна в 7 домах и по Маклерскому в 13-ти домах. По Антоновской улице разбит дом, и в 4-х выбиты стекла. По Семинарской улице, между Гостиной и Александровской, выбито одно стекло у портного Шитенштейна. По Ясской улице, между Львовской и Репинской, разграблена одна лавка; на улице лежат куски ящиков, рассыпаны крупа и изюм; близ Александровского сада разбито одно окно в доме богатого еврея Фукельмана. По Ранинской разграблены 3 лавки и выбиты стекла в 3-х, по Боюковской разбиты 3 лавки. По Мещанской улице, как выше упомянуто, пострадали 13-ть лавок, из них в 9-ти выбиты стекла, в 4-х разграблено имущество. В числе последних, около винной лавки Лейзера Драгуминского погнуты даже железные фонари при входе. Из городских предместий по количеству повреждений на первом месте следует поставить Гуцуловку, где разбиты стекла в 60-ти домах, хотя разграбленных среди них не замечается. Наиболее пострадавшее предместье — Скулянская рогатка, являющаяся продолжением Николаевской улицы с севера. Здесь почти подряд разгромлены самым безжалостным образом 28 домов, или, вернее, хижин. Перед бакалейными лавками всюду валяются сорванные и согнутые вывески, сломанные прилавки, жестянки для керосина, кучки угля, на земле пятна от выброшенной разноцветной краски, приготовленной к продаже на праздник Пасхи, от синьки и охры, везде рассыпана крупа, бобы, цибуля (мелкий лук). Среди разбитых домов лишь изредка усматриваются сохранившиеся, отмеченные начертанными углем крестами и с выставленными в окнах иконами. В доме Беренштейна, в еврейской школе, разорваны священные еврейские книги, поломаны скамьи и столы. В сарае дома Хацкелевича убиты хозяин Давид Хацкелевич, Симха Вулер и его старуха-бабушка Эля Бегер. Здесь среди сложенных колес и других частей повозок стоит обильно пропитанный кровью диван, под которым большая лужа крови. На стене большое кровавое пятно около 1/2 аршина в диаметре. Из домов особенно пострадал последний на Рогатке, принадлежащий Янкелю Рошко. В нем не осталось ни дверей, ни окон, печи разбиты, труба разрушена, и самая крыша частью разобрана; во дворе обломки мебели, повозки и сани разбиты топором. Позади дома небольшой завод для выжигания извести, в котором дымовая труба разрушена. В подвале разбиты бочки с вином. Недалеко от Скулянской рогатки, по направлению к линии железной дороги, подверглись разграблению два фруктово-виноградно-водочных завода Зониса и Мазура. На первом разбит контрольный аппарат и разграблено имущество еврея управляющего. В подвале разбита бочка коньячного спирта. На заводе Мазура разграблено и разбито несколько ведер разлитого по бутылкам спирта; в квартире жившего при заводе контролера Денисова — испорчено и разграблено имущество.
Глава 4
Павел Александрович сильно любил Бессарабию, любил той пронзительной, почти болезненной любовью, какая навсегда поселяется в сердцах гордых и страстных натур аскетического склада, не способных к легким, ни к чему не обязывающим привязанностям.
Он любил бессарабскую степь, залитую щедрым солнцем, колышущуюся под ветром, как изумрудное море, благоухающую ароматом трав, полевых цветов, душистого горошка, почти всюду обрамленную на горизонте грядою лесистых гор.
Он любил бессарабские виноградники, раскинувшиеся на уступах высокого берега Днестра наподобие гигантских лестниц, ступени которых спускаются к стремительной, серебром отливающей на солнце реке.
Он любил подернутые голубой дымкой бессарабские дали, открывающиеся с высоких холмов; разбросанные там и сям молдавские деревеньки с их крохотными белыми мазанками под соломой; стада, мирно пасущиеся на сочных пойменных лугах.
Он любил старинные дворянские усадьбы с их обширнейшими садами, с цветочными клумбами перед домом; с фамильными портретами в парадных залах.
Сам Павел Александрович принадлежал к небогатой, но очень знатной семье. Его род восходил к молдавским господарям и через них — к римским патрициям. Но это не мешало ему чувствовать близость к простому народу, одевавшемуся, как столетия назад, в барашковые шапки и обширные шаровары, перехваченные широкими красными поясами.
…Молдаване-простолюдины — смуглые, скуластые, черноволосые выходцы с юга, которые вобрали в себя, однако, и некоторые черты славянского племени, вызывали у Павла Александровича особое чувство нежной заботливости — сродни тому чувству, какое старший брат питает к младшему, когда тот обнаруживает в чем-либо детскую беспомощность. Простые молдаване, по наблюдениям Павла Александровича, при сухом мускулистом телосложении имели вялые неуклюжие движения и медленную тяжелую походку. Он считал, что им чужда удаль и энергия, зато свойственна беспечность, граничившая с равнодушием к собственной судьбе. То века угнетения, с грустью думал Павел Александрович, наложили отпечаток на национальный характер, как и на унылые песни народа, на его поверья и легенды. Южная натура проявлялась порой вспышками пылкости, мстительности и щекотливого самолюбия, но вообще молдаване отличались добротой и сердечностью. Хотя женщины, при беспечности мужчин, были расчетливыми и бережливыми хозяйками, однако и им свойственны бесхитростность и доброта…
Особенно трогательным представлялся Павлу Александровичу консерватизм народных обычаев, всего уклада народной жизни, что отличало и высшие, и низшие классы.
Одним из первых впечатлений детства Павла Александровича было празднование именин горячо им любимой матушки, которое длилось три дня и повторялось из года в год по одному и тому же строгому ритуалу.
Ему нравилась суета прислуги, таскающей на кухню из ледника и кладовых бесчисленное количество всевозможных припасов. И ломившиеся от снеди столы, освещенные восковыми свечами в тяжелых бронзовых подсвечниках тонкой художественной работы. И огромные блюда с жареными индейками, гусями, поросятами, между которыми возвышались серебряные вазы с горками фруктов, и бутылки старого молдавского вина из собственных подвалов, иногда тридцати-сорокалетней выдержки…
Гостей сажали столько, что кареты и фаэтоны едва умещались в три ряда вдоль длинного здания конюшен, а кучера, выводившие парами и четверками распряженных коней на водопой, шли к реке и от реки, почти непрерывающейся вереницей.
Обед затягивался далеко за полночь. В стороне, на особой скамейке сидели цыгане-музыканты и без устали играли народные молдавские танцы.
Веселье шло не только в парадных залах, но и на улице, под окнами. Деревенские парни и девушки танцевали булгаряску, русяску, сусяску и, конечно же, хору. Простой народ с таким увлечением отплясывал на голой земле зажигательные народные танцы, что, вспоминая об этом, Павел Александрович нередко недоумевал, куда же исчезала обязательная, по его понятиям, медлительность и неуклюжесть молдаван и откуда появлялась у них такая удалая энергия. Ранним утром второго праздничного дня у дальнего флигеля собиралась нестройная крестьянская толпа. Маленький Повалакий издали мог определить, из какого села какая группа крестьян, потому что от века заведенный обычай никогда не нарушался. Белый, как лунь, старик с черной индейкой подмышкой и стоящий рядом с ним такой же старик с полотенцем и белыми калачами в руках — из Фонтана-Алба: они каждый год приходили с калачами и черной индейкой. Из Раду-Ваки приносили барашка и пару голубей: голуби — это символ, во время потопа они были вестниками спасения. Из Новых Радовен крестьяне приходили с белой индейкой и белым гусем, а из Старых Радовен — с парами почти всех домашних животных как символом плодородия.
«Делегатов» от деревень принимали с почетом. Их приглашали в дом, и они проходили по балкону перед хозяином и хозяйкой, одна группа за другой, вручая подарки, неловко прикладываясь к господской руке и получая по чарке водки и по белоснежному калачу.
Так повторялось из года в год. Так было еще в те времена, когда Павла Александровича не существовало на свете. Так было еще при турецком владычестве, и до турок так было…
Павла Александровича сильно волновали воспоминания детства. Они наполняли душу тихой радостью, но в то же время поселяли в ней щемящую боль и горечь. Павел Александрович был убежден, что дорогие его сердцу обычаи длились бы вечно, если бы… если бы медлительность, безынициативность, беспечность молдаванина не пришли в соприкосновение с юркой неугомонной пронырливостью еврея.
При всей своей горячей любви к родному народу Павел Александрович был чужд какого-либо местничества или сепаратизма. Маленькая Бессарабия была для него лишь частицей великой России, а молдавский народ — родным братом православных славянских народов. Проблемы родного народа Павел Александрович рассматривал лишь как наглядный пример тех проблем, какие стоят перед всей Россией, и враги родного народа, по его глубокому убеждению, были те же, что у всей России.
А враги — о! — они были хитры и коварны. Но Павел Александрович их видел насквозь.
…В пансионе Первой кишиневской гимназии, куда десятилетним мальчиком отдали Повалакия Крушевана, кормили, как и во всех казенных пансионах: несытно и невкусно. Неизменный пансионный обед быстро надоедал гимназистам, потому что повторялся годами изо дня в день.
И изо дня в день, после обеда, в пансионе появлялся старый еврей Янкель.
Несколько выше среднего роста, с седой бородой «лопатой», в длинном засаленном халате, он держал в руках две большие корзины, полные вишен и черешен, или кистей винограда, или остро пахнущих оранжевых апельсинов — в зависимости от сезона.
Полуголодные барчуки-гимназисты с радостными криками обступали Янкеля, а тот, добродушно улыбаясь, доставал весы с маленькими чашечками и стрелкой посредине — точь-в-точь такие, что держала в руках статуя Фемиды в Кишиневском окружном суде, — и начинал отвешивать свой божественный, вызывающий обильное слюноотделение товар, останавливая качающуюся стрелку длинным согнутым пальцем.
Бывало, гимназисты так дружно наваливались на Янкеля, что растаскивали половину его товара. Но еврей не сердился, он добродушно улыбался. Иные из гимназистов не имели денег, но Янкель и им не отказывал в лакомстве. Он лишь извлекал из-под полы засаленного халата маленькую, тоже засаленную книжечку, сшитую из обрывков гимназических тетрадей, и протягивал ее юному покупателю вместе с огрызком карандаша, отточенного крепкими зубами самого Янкеля. Фамилию и сумму долга гимназист вписывал в книжечку сам.
Павел Александрович навсегда запомнил те острые мучительные переживания, может быть, самые острые и мучительные в его жизни, какие были связаны с книжечкой Янкеля Добродушного, как звали его гимназисты.
Как и другим гимназистам, деньги Повалакию дарили к праздникам, и, разумеется, в самом ничтожном количестве. Исчезали они очень быстро, в основном, в кондитерской Флорина, на углу Пушкинской улицы и Александровской, где можно было съесть пять-десять трубочек с кремом и запить чашкой горячего шоколада.
Деньги исчезали, а Янкель не исчезал.
Каждый день, ровно в три после полудня, в конце длинного пансионного коридора открывалась одна половина двери, и в ней показывалась тяжелая корзина, наполненная до краев и прикрытая рваной мешковиной, если дело было зимой, или обрывками бумаги с темными пятнами от раздавленных ягод, если летом. Вслед за корзиной в двери появлялась половина сутуловатой фигуры Янкеля. Затем — вторая его половина. И наконец вторая корзина, точь-в-точь, как первая.
Повалакию с пеленок внушали, что самый большой, самый страшный, самый непростительный грех на свете- это делать долги. Он так твердо усвоил эти внушения, что когда в гимназии стал изучать Закон Божий, то никак не мог понять, отчего это среди десяти главных заповедей отсутствует: «Не делай долгов». Однако соблазн был сильнее родительского запрета, сильнее страха Божьего, и Повалакий попал-таки в книжечку Янкеля.
Сознание совершенного преступления жгло детскую душу, а страх перед тем, что оно откроется, заставлял по ночам украдкой плакать в подушку… Но добродушный искуситель появлялся снова и снова, неизменно в три часа дня. И долг Повалакия удвоился. А на Рождество, когда мальчик надеялся получить денежный подарок, за ним из деревни никто не приехал, а просто был прислан экипаж. Ему пришлось прятаться от Янкеля и уехать из пансиона тайком, словно он проворовавшийся жулик.
Праздник был отравлен. А после рождественских каникул он смог отдать Янкелю только часть долга, доросшего до четырех рублей. Относительно другой части приходилось изворачиваться, врать, униженно просить подождать до завтра, а завтра опять изворачиваться и врать.
Янкель укоризненно качал головой, говорил, что обманывать нехорошо, грозил, что покажет книжечку отцу.
А Повалакий был горд и самолюбив! Товарищи знали, что он не терпит даже безобидных шуток в свой адрес. Учителю, который однажды прикрикнул на него на уроке, он громко сказал:
— Я Крушеван! Вы не смеете кричать на меня!
И только перед ничтожным евреем в засаленном халате он должен был заискивать и унижаться, потому что никак не мог обуздать себя и роковым образом снова и снова попадал в его книжечку.
Став взрослым, Павел Александрович понял, что это была болезнь, и не его одного, а всей Бессарабии, даже всей России. Он в шутку называл эту болезнь «янкелизмом». И в том, чтобы излечить от нее родной край и Россию, он видел свое предназначение.
Павел Александрович не упрощал исторического процесса.
Он знал, с чего начал рушиться вековой уклад жизни…
Поворотное событие почти совпало с его рождением: он еще лежал в колыбели, когда русский царь пожелал облагодетельствовать народ и даровал ему освобождение от крепостной неволи. Правда, бессарабские крестьяне не были крепостными, и манифест 1861 года их не касался. Но оставаться по-старому уже не могло: ведь в России крестьяне получили и волю, и землю, а в Бессарабий, хотя и были свободными, но своей земли не имели и за получаемый от помещика надел должны были отрабатывать барщину не хуже крепостных.
Повалакию было лет восемь, когда вышло новое повеление от царя, уже прямо касавшееся Бессарабии и требовавшее наделить крестьян землей. И он помнит, какое смятение охватило отца, да и других помещиков, бывавших в их доме и приносивших с собой пугавшие своей непонятностью слова: «кредит», «процент», «вексель».
Иным из помещиков пришлось отдать крестьянам до двух третей принадлежавшей им пахотной земли. За выкуп, конечно. Но на выкупные платежи давалась рассрочка, да и величина выкупа за десятину была определена по нормам средней России, то есть в половину истинной стоимости тучной бессарабской земли. А, главное, получив землю, крестьяне перестали выходить на барщину, а для найма рабочих требовались наличные деньги, которые приходилось брать в долг.
Однако Павел Александрович не сомневался, что беспечные бессарабские помещики преодолели бы все трудности, не явись им на помощь вездесущий Янкель со своей засаленной книжечкой.
Павел Александрович ясно представлял себе первое появление этакого Янкеля в воротах имения какого-нибудь кукону Тодерика, в излюбленный янкелями послеобеденный час.
Кукону Тодерика кайфует на крылечке после обильных бессарабских кушаний и возлияний, а оборванный, грязный, исхудалый, с тревожными бегающими глазами еврей еще у ворот снимает шапку и, кланяясь, не подходит, а почти подползает к кукону Тодерика, моля только о том, чтобы его не прогнали, как шелудивую собаку.
Янкель три дня не ел, три ночи спал под открытым небом. Он просит только работы. Любой. И за самое мизерное жалование. Даже вовсе без жалования, только за кусок хлеба…
Кукону Тодерика не любит евреев. Но послеобеденный кайф… И вообще… И в хозяйстве всегда сгодится работник, не берущий жалования…
Янкель вертится перед глазами кукону Тодерика, он готов по первому сигналу бежать выполнять любое поручение. Кукону Тодерика постепенно привыкает к озабоченной суетливости Янкеля, он уже справляется о еврее, если почему-либо не видит его… Проходит время, и Янкель — не мальчик на побегушках, а приказчик. Только ему доверяются важные поручения. Только он может достать денег для своего хозяина; только он умеет уговорить кредиторов взять меньший процент и дать отсрочку на платежи; только он теперь ездит в Кишинев совершать самые ответственные финансовые сделки…
Янкель пополнел, приосанился, приоделся. Где прежний затравленный вид, где униженные поклоны и заискивающий взгляд? Все кругом ломают шапку перед Янкелем. А кукону Тодерика просто влюблен в него. Без еврея он не делает шагу, потому что только Янкель умеет оградить его от кредиторов, только он еще умеет доставать деньги.
И вот уже Янкель — арендатор имения. Кукону Тодерика счастлив: ведь если бы не Янкель, имение продали бы с молотка. А так — все хорошо устроилось! Арендная плата — самый надежный и верный доход с имения: она не зависит ни от капризов погоды, ни от урожая, ни от переменчивой конъюнктуры рынка.
Правда, кукону Тодерика живет теперь скромно во флигеле. В барском доме поселилось семейство Янкеля и его компаньоны. Без них никак нельзя было устроить дело: ведь Янкель только Янкель, у него ничего нет, кроме умной еврейской головы на плечах!
И кукону Тодерика наивно верит всему этому. Он так и не узнает секрета еврейских махинаций. Он не узнает, что захват его имения произведен Янкелем по тайному постановлению кагала, предоставившего ему монопольное право эксплуатировать беспечного помещика…
Над Павлом Александровичем потешались, советовали лечиться от навязчивых видений. Кагалы, говорили ему, упразднены лет пятьдесят назад, да и раньше существовали лишь для удобства властей: чтобы исправно взимать подати с еврейского населения. Но на подобные жалкие возражения Павел Александрович лишь улыбался той особой скорбной улыбкой, когда смеются одни лишь губы, а глаза, большие, черные, как спелые сливы, смотрят с такой грустной серьезностью, словно кроме того, что видят другие, им дано видеть еще нечто такое, в чем и заключена суть вещей.
— Большинство бессарабских помещиков отдают имения в аренду евреям, — терпеливо объяснял Павел Александрович. — Закон запрещает евреям арендовать землю, но они находят подставных лиц, подкупают полицию и благоденствуют. Патриархальные отношения помещиков с крестьянами распадаются: между ними становится еврей — этот вечный разрушитель исконных устоев жизни. Окиньте взглядом историю Европы. Евреев гнали из страны в страну, и всюду они приносили с собой свою деловитую изворотливость, свои деньги и свое нервное беспокойство. Они заполняли брешь между высшими и низшими классами общества и развращали тех и других. Потом их изгоняли, но уже было поздно. Посеянные семена разложения прорастали бурьяном неверия, идеями свободы, равенства, демократии, что на деле означало лишь смуту, низвержение законных властей и — подчинение тайному еврейскому правительству. Россию Господь долго миловал от этой заразы, но после раздела Польши, погубленной, конечно, евреями, а затем и присоединения Бессарабии, где евреи поселились с первых веков христианской эры, огромные массы их стали подданными России. Господь надоумил государей установить черту оседлости, чтобы уберечь от разлагающего элемента хотя бы коренную Россию. Но они проникают и за черту, обосновываются в столицах, подкупами и обманом перетянули на свою сторону большинство образованного класса и ведут дело к революции. В черте оседлости они хозяева, несмотря на все ограничительные против них законы. Теперь они с наглостью добиваются полного уравнения в правах, и в этом им помогает либеральное русское общество, которое не хочет понять, что предоставление равных прав евреям означало бы гибель России. Мало кто осмеливается открыто говорить эту правду. Я осмеливаюсь, и они набрасываются на меня, готовые растерзать.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. (Продолжение)… В предместье Негрештены пострадало всего 3 дома. В двух домах побиты окна и поломаны двери, в доме же Хаима и Ищи Крейчмарей все уничтожено. В предместье Табакерия 6 домов разгромлено и в двух побиты (стекла). У Зелецмана Авербуха уничтожены товары в бакалейной лавке, все движимое имущество выброшено во двор и попорчено. Также все разгромлено в лавке Ханы Гуревич, Хаима Файермана, Иойны Бангука и в сапожной мастерской Нафтула Беймаса. Сильно пострадала еврейская школа, находящаяся в мастерской Беймаса. По объяснению местных жителей, толпа громил двигалась по направлению от вокзала, и к ней присоединились жители Табакерии. В предместье «Кавказ» разгромлено 11 домов. По Киевской улице совершенно уничтожены бакалейные продукты, и пролито из бочек вино у Бенциона и Хаскеля Авербухов и у Брунфинтена, у Сары же Брейтман все в квартире поломано и разбито. По Московскому переулку та же участь постигла и дом Мошки Базбойна. В остальной части «Кавказа» печальный вид разрушения представляют дома: Ицки Авербуха, Мордки Малера, Рухли Эйзнер, Файвеля Лернера, Иося Терпера и Кейля Коза. Все это — по большей части бакалейные лавки и виноторговли. Кейля Коза убита в своем доме. По Мунчештской дороге всех поврежденных домов 44. От вокзала до керосинного склада Товарищества Бр. Нобель все еврейские лавки и еврейские дома разграблены дотла. На улице лежат обломки мебели, рассыпаны бакалейные товары. Перед мануфактурными лавками на тротуарах и мостовой валяются разорванные бумажные коробки и обрывки материй и лент. В аптеке и прилегающем к ней аптекарском магазине, против вокзала, на полу разлиты лекарства. Среди домов сильно пострадал от пожара дом Михаила Сафрония, в котором скрывалось еврейское семейство Розенбергов. Весь дом сгорел; остались голые стены и потолок, над которым возвышаются две высокие почерневшие трубы. Сравнительно в лучшем состоянии находятся 3 дома, в которых только разбиты стекла. Против склада Нобелей, в разрушенном дотла доме Янкеля Туника убиты хозяин дома Туник и Арон Коган. Сильно пострадали жилые дома при складах керосина т-ва бр. Нобель и Лившица: все имущество лежит во дворе или улице, мебель изломана в куски, вместо дверей и окон жалкие остатки. Однако в складе повреждены лишь окна. Такой же вид имеет дом мукомольной мельницы бр. Гендрих. Склад при мельнице остался цел, но все мелкие инструменты в нем расхищены. Далее в доме Иося Шора, где помещается винный погреб, все уничтожено, в винном погребе выпущены частью вина. Следующие шесть домов, занимаемых евреями Бронфманом, Розенбергом, Крембергом, Ульманом и другими, совершенно разграблены. В доме Петракия убиты супруги Фонаржи, а в саду Бусуйка — Ульман. Всюду на улице и домах пух от подушек и перин.
По Бочайской дороге пострадало 27 домов. На повороте от Мунчештской дороги к Бочайской стоит дом Ицки Бронфмана, в котором все разграблено, и не осталось даже подобия ставен, окон или дверей. Обращает на себя внимание раздробленные в щепки мебель и домашняя утварь. На кафельном заводе Гугена, в жилом доме все уничтожено, посуда побита вдребезги, рояль расколот на две части, которые соединяются лишь 34 струнами. Кроме того, на самом заводе мебель поломана, та же участь постигла и кафельные плитки, из коих некоторые измельчены. На мыльном заводе Трахтенберга имущество изломанной грудой лежит в доме и вокруг дома. Совершенно разграблены населенные евреями дома Бумбу, Падураца, Веско, Сагуцина и др. Сильно пострадали дом учителя семинарии Глована, состоящий из двух квартир, в одной из которых живет еврей, а в другой сам хозяин. В последней квартире выставлены окна и двери, на полу лежат разорванные рукописи и книги, научные, духовные и др. По всей Бочайской дороге летает пух от перин и подушек. Городская бойня состоит из и строений: 5 жилых и 6 нежилых. Бойня подвергалась нападению дважды 7-го апреля, в 12 часов дня и в 3 часа дня, причем пострадали 2 квартиры евреев при кишечном и салотопном заводе и здание, где живет еврей-надсмотрщик. Они разграблены дотла. Остальные здания не тронуты. В конюшне кишечного завода в яслях убит Мотель Мендюк. В предместье Мелестриу разграблены 4 дома, занимаемых евреями, хотя 3 из них и принадлежат русским (Степана Негуры, Парна, Дмитрия Левешко). Три лавки совершенно разграблены, бакалейные продукты лежат на улице и во дворе, растоптаны, разлиты и размельчены. В хлебной лавке Данильченко разбиты только окна. Всюду пух от подушек и перин.
По Ганчештской дороге разгромлено 24 дома. В доме Степана Гаврилова пострадало 2 еврейских квартиры и бакалейная лавка. Все побито, лежит массами во дворе и в комнате, расколоченное, измятое и размельченное. В сундуке собраны грязные остатки меховых шуб. На простынях, подушках и тюфяках следы топоров. Всюду пух. Сильно пострадали винная торговля и погреб Янкеля Кигельмана. В квартире нет ни одной целой вещи, в погребе море вина. Та же участь постигла Дурлештера и Банимовича. Пострадало три дома Николая Прешеневского в квартирах, населенных евреями; в них разграблены 4 еврейских квартиры: мебель, изуродованная и расколоченная, лежит во дворе и комнате; в домах сохранилось лишь подобие окоп и дверей, остатки люстр и цепей от висячих ламп. В доме Дувида Рейтмана 2 комнаты уцелели, остальные разграблены дотла. В доме Мошки Неймана квартира наполнена одними обломками, и о жилом помещении говорят только две уцелевшие картины и круглый стол между ними. В другом его доме нет ни одной целой вещицы. В доме Кастакия Инкулиза 4 квартиры, занимаемые евреями, из них две под лавками. Все разбито и обсыпано пухом. То же и в доме Шмереля Фукса. В доме Пантелея Жено, в еврейской лавке в доме Игната Зверева рассыпана кукурузная мука и все облито керосином и уничтожено. Бочарный завод Бланка не тронут, контора же участи подверглась и еврейские квартиры остальных 6 домов…
(Продолжение следует)
Глава 5
Павел Александрович рванулся всем телом, резко обернулся: перед ним мелькнуло лимонного цвета пальто, бритое, бледное, почти юношеское, несомненно, еврейское лицо. Пинхус бросил нож, и он, звякнув, покатился по тротуару. Павел Александрович быстро нагнулся, чтобы его подобрать, и в этот миг почувствовал, как из раны заструилась его теплая кровь, заливая воротник крахмальной сорочки.
«Я ранен! Смертельно! Это конец!..» — вдруг понял Павел Александрович.
Как обычно при мыслях о смерти ему представился газетный лист с широкой траурной каймой, со скорбными статьями, воспоминаниями, некрологами, повествующими о его жизни, о его героической борьбе, о главных его идеях. Но все это тотчас было отодвинуто другим, необычайно сильным и заполнившим все его существо чувством.
«Жить! Жить! Обязательно — жить! Любой ценой — жить, жить, жить!..»
А жить значило немедленно действовать. И по властному велению этого нестерпимого желания он бросился за убийцей, чье длинное пальто лимонного цвета уже мелькало где-то впереди, среди прохожих.
«Не дать уйти. Не дать уйти еврею!»
— Держи! Держи его! Городовой! — закричал Павел Александрович, размахивая финским ножом, подобранным с тротуара, и своей щеголеватой палкой.
Прохожие шарахались в стороны, а городовой сонно скучал на углу и, видимо, не слышал обращенного к нему призыва. Еще несколько секунд, и преступник навсегда растворится в толпе.
— Городовой! Городовой! — еще громче, срываясь на фальцет, закричал Павел Александрович, но городовой не обнаруживал никакого интереса к происходящему.
Однако злоумышленник не растворился. Павел Александрович видел, как, поравнявшись с городовым, он остановился и что-то ему сказал.
Городовой повернул голову в сторону человека в лимонном пальто и уставился на него, явно не понимая, что тому нужно. Молодой человек еще что-то сказал, но в этот миг к ним подбежал Павел Александрович и схватил желтое пальто за рукав.
— Городовой! Ты что же стоишь, как пень на дороге? Держи его, а то он убежит!
Павел Александрович запыхался от быстрого бега и от пережитого страха, который он еще не успел в себе побороть. Городовой перевел взгляд на Павла Александровича и уставился на него с тупым удивлением. Нижняя челюсть городового отвисла, и из-под пышных усов выставились черные прокуренные зубы.
Дашевский тоже уставился на Павла Александровича. Он видел перед собой бледное лицо с растрепанной бородкой и заметно трясущимися бледными губами. В больших черных глазах не было грустной меланхолической задумчивости; они горели гневом, и в то же время в них было что-то тревожное и жалкое. Это был гнев затравленного зверя.
Губы Дашевского расплылись в широкой улыбке. Он сказал тихо, спокойно, с расстановкой, почти приветливо:
— Не надо нервничать, Павел Александрович. Я не затем сдался городовому, чтобы вдруг убежать.
…Через полчаса арестованный был допрошен судебным следователем. Он назвался Пинхусом Срулевичем (или Петром Израилевичем) Дашевским, бывшим студентом Киевского Политехнического института, двадцати трех лет. Он подтвердил факт совершенного им нападения на Полицейском мосту на Павла Александровича Крушевана, издателя и редактора газет «Знамя» и «Бессарабец», с целью лишить его жизни, но виновным себя не признал. Личных счетов с потерпевшим он не имел, знаком с ним не был и увидел его впервые уже после того, как задумал убить, полагая своим правом и даже обязанностью отомстить за кровь кишиневских евреев, так как считает его главным виновником погрома. Действовал он один, в свои намерения никого не посвящал, в Петербурге со времени приезда ни с кем не встречался. Сдался властям добровольно — в полном соответствии с первоначальным замыслом. На вопрос о том, почему не употребил в дело найденный при нем револьвер, Дашевский ответил, что опасался ранить кого-либо из случайных прохожих, а на вопрос, почему ударил ножом только один раз, ответил, что сам того не знает.
Пострадавший был допрошен через два часа после происшествия и в основном подтвердил эти показания. Он лишь сказал, что преступник был задержан, а вовсе не сдался по доброй воле. Наиболее важное различие в показаниях состояло в том, что, по мнению Крушевана, нападавших было двое: один схватил его двумя руками за шею, а другой нанес удар. Однако второго из нападавших Павел Александрович не видел, а Дашевский, вызванный для передопроса, усмехаясь, сказал, что Крушевану это померещилось со страху.
Происшествие на Полицейском мосту стало главной темой обсуждения прессы в следующие дни. Больше других газет о происшествии писало, конечно же, «Знамя». Павел Александрович подробно повествовал о том, что случилось с ним до и после покушения; какое участие приняли в нем прохожие, особенно какой-то офицер, у которого он в горячке не спросил фамилии. Офицер завел его в ближайшую аптеку, но когда над ним склонилось встревоженное лицо вызванного провизором врача, Павел Александрович отшатнулся от него, так как признал в нем еврея. Вторая и третья аптеки тоже оказались еврейскими, поэтому Павел Александрович, так и не получив первой помощи, попросил посадить его на извозчика и, зажимая рану рукой, поехал к себе в редакцию. Неожиданное появление окровавленного издателя переполошило сотрудников, некоторые из них даже рыдали, чего Павел Александрович также не скрыл от читателей. Он получил повод еще раз порадоваться тому, что не имеет семьи, которую происшедшее с ним несчастье повергло бы в страшное горе.
Через полчаса пришел врач Стеценко, служивший при градоначальстве и вызванный по телефону: в безупречно-христианском происхождении этого врача Павел Александрович не сомневался. Стеценко промыл рану и наложил на нее повязку. Рану он признал не опасной.
Крушеван сообщил читателям, что нанесенная ему рана имеет глубину три-четыре сантиметра, но он сильно преувеличивал. Позднее, когда в суде зачитали акт экспертизы, оказалось, что рана была только в полтора сантиметра, и не глубиной, а длиной. То есть представляла собой легкую царапину…
Однако факт состоял в том, что дерзкое нападение произошло «среди бела дня, в столице России, в самом центре ее, на Невском проспекте в присутствии тысячной толпы». Так с негодованием писал Павел Александрович, и многие тревожились за него. Позднее стало известно, что о его здоровье ежедневно справлялся сам государь.
Со свойственным ему талантом Павел Александрович извлек из случившегося максимальный эффект. Поступок Дашевского он трактовал в свете всеобщего заговора, направленного в первую очередь на уничтожение наиболее опасных для еврейского владычества русских патриотов, к которым он, разумеется, себя причислял.
«Итак, номер первый сошел „благополучно“. Очередь за следующим! Милости просим. Но все-таки, господа, вы убьете только меня, вы никогда не сможете убить саму правду. А эта правда всегда и на каждом шагу будет кричать вам, что вы все больше и больше вооружаете против себя тех, кого судьба обрекла жить с вами. И я убежден, что в то время, когда вам удастся уничтожить меня, найдутся другие, которые станут говорить вам ту же правду, и вы никогда никуда не сможете уйти от нее. Богу угодно было сегодня защитить меня от вас. Я верю, что он тем более защитит от вас и весь русский народ. Вы пролили мою кровь. А я, как видите, продолжаю говорить: так велика моя вера в мой долг и святое дело, которому я служу». И дальше он сравнивал себя с Галилеем, который не дрогнул перед судом инквизиции…
Кое-кто иронизировал над тем, как пышно Крушеван разукрашивает незначительное происшествие. Высказывали даже шуточное предположение, что Павел Александрович инсценировал нападение, наняв в ночлежке какого-то босяка. Однако большинство газет выражало сочувствие потерпевшему. Либеральная печать всегда выступала за гласность, за свободный обмен мнениями, за то, чтобы с идеями боролись одни лишь идеи. Не могла же она изменить своим принципам только оттого, что в данном случае от нетерпимости к свободному слову пострадал ее противник.
«…По-видимому, евреям надоело служить приниженными жертвами… Леккерт-еврей стрелял в фон-Валя[2], Дашевский покушается на Крушевана… По-видимому, Дашевский — интересный и новый тип среди еврейской интеллигенции», — записал в дневнике на следующий день после происшествия Владимир Галактионович Короленко.
Короленко жил в Полтаве, но ни отдаленность от Петербурга, ни положительная оценка личности Пинхуса Дашевского не помешали ему точно понять смысл случившегося. Тогда же он записал:
«Крахмальная сорочка ослабила удар, и Крушеван дешево попал в герои. Трудно было оказать лучшую услугу этому изуверу».
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
ПРОТОКОЛ. (Продолжение)… В сел. Скиносах разграблена лавка Баруха Геревицкого, в коей выломаны двери и окна. По Измаильской дороге, на даче бр. Дубинских все расхищено. Большая часть частокола выдернута и исчезла без следов. В доме Василия Кожухаря разгромлен еврейский винный погреб, бочки плавают в вине. На Малой Малине совершенно разбиты лавки Луднера и Барбалета. На даче доктора Когана побиты окна. На даче Перльмутора посуда разбита вдребезги, висячая лампа сорвана, мебель изрублена на части и выброшена из окон. В парнике разбиты стекла и вырваны цветы. На даче частного поверенного Зальцмана разбита статуя в саду. В доме все разграблено, разорваны все дела и бумаги, в погребе выпущено 20 бочек вина. На даче присяжного поверенного Мохрика вся мебель изломана, зеркала разбиты, картины порваны, книги и деловые бумаги изорваны на мелкие куски. В окнах нет рам, двери изрублены, электрические батареи повреждены, и проволоки согнуты и рассечены. Все шкафы пусты, не тронуты лишь стенные шкафы. Погреб состоит из 3 мин. Вино из бочек выпущено, и бочки плавают в вине. Помещение для выделки вина (крема) и кухня разгромлены, и машины для выделки вина испорчены. Дом Эля Каушанского в таком же состоянии. Занавеси и гардины сорваны и порваны на части. В столовой сохранились осколки висячей лампы, а на веранде — фонаря. В доме разбиты стекла, погреб разграблен. В другом доме того же владельца все разбито. Около дома найден убитым неизвестный русский человек. На Большой Малине, на даче Страхилевича и Златопольского в еврейских квартирах все разгромлено. В доме Прилика и 2-х прилегающих к нему еврейских домах побиты окна. Боюканы, где беспорядки происходили 8 апреля, и местные евреи имели время, приготовившись к ним, спрятать более ценное имущество, пострадали сравнительно мало; 5 домов отделались только выбитыми стеклами, a 9 разгромлены, причем поломана убогая мебель, разбита посуда и расхищен кое-какой товар из лавок, да выломаны двери и окна.
Из осмотра города Кишинева и его предместий усматривается, что беспорядки были направлены исключительно против еврейского населения, обрушившись на их торговые помещения, квартиры, молитвенные дома и школы, и если подвергались нападению помещения, занимаемые лицами, не принадлежащими к еврейскому племени, то такие явления, чисто случайные, вызванные лишь близким соседством с квартирами евреев или другими причинами случайного характера. Даже в наиболее разгромленных районах, как то: в нижней части Пушкинской улицы или в ближайшей к вокзалу части Николаевской, магазины, конторы и квартиры неевреев уцелели, особенно, если принадлежность их к иному вероисповеданию доказывалась выставленными в окнах иконами, куличами или пасхами, или нарисованными на стенах и дверях крестами. Однако, некоторые евреи, воспользовавшись таким способом ограждения своего имущества, подверглись полному разгрому, из чего можно заключить, что среди буйствовавших принимали так же участие лица, жившие вблизи разгромленных домов и знающие их владельца. Главная масса громил — обитатели окраин, проникнув в город с разных сторон, а преимущественно со стороны Чуфлинской площади, откуда они перешли к Новому базару, рассыпались партиями по разным улицам, где к ним присоединились новые лица из числа зрителей. Кроме ближайших к Новому Базару и окраинам улиц: Большевской, Кожухарской, Остаповской и отделенной от центра южной части Николаевской улицы и прилегающих к ним, главной ареной деятельности громил является центральная Пушкинская улица в части, расположенной против Собора и Николаевского бульвара. В прочих местностях подверглись разгрому лишь отдельные, разбитые мимоходом еврейские лавки.
Из обобщения почерпнутых при осмотре сведений о разбитых и поверженных домах получаются следующие цифровые данные: в первой части из всего количества 576 домов пострадало около то во второй части из 1042 — около 600, в третьей из 1482 — около 250, в четвертой из 1049 — около 400 и в пятой из 4360 — пострадало около 130 строений. Таким образом, в гор. Кишиневе, не считая пятой загородной части, из общего количества 4149 домов повреждено 1350, т. е. менее трети. Всех еврейских лавок разгромлено около 500.
Подлинник за надлежащими подписями.
И. о. судеб. след. (Подпись неразборчива.)
Эпилог
Несмотря на интриги и травлю еврейской прессы, на хроническое безденежье и все чаще повторяющиеся приступы сердечной болезни, Павел Александрович Крушеван героически продолжал «Знамя» до 1905 года, когда, наконец, вынужден был отступить. Тогда же прекратил свое существование и «Бессарабец». Но Павел Александрович не сдался. Он вернулся в Кишинев, отступил, так сказать, на заранее подготовленные позиции и основал новую газету — «Друг».
Кроме литературы он много сил отдавал общественной деятельности. Ему принадлежит честь быть основателем Бессарабского отдела Союза русского народа, он был избран депутатом Второй государственной Думы… Нелишне отметить, что в его газетах и под его несомненным влиянием начинал свою литературную и общественную деятельность ставший впоследствии весьма знаменитым бессарабский помещик Владимир Митрофанович Пуришкевич.
Павел Александрович умер внезапно, в своем рабочем кабинете, 12 июня 1909 года, во время беседы с одним из почитателей его таланта. Павел Александрович был весел, оживлен, сыпал остротами. Узнав, что собеседник читал все его книги, но не знаком с альманахом «Бессарабец», Павел Александрович стремительно встал из-за стола и подошел к книжному шкафу, чтобы снять с полки увесистый том в роскошном красном переплете. Он открыл шкаф, взял в руки книгу и вдруг — рухнул всем телом на пол… Пока нашли врача христианского исповедания, уже было поздно.
На следующий день газета «Друг» вышла с широкой траурной каймой, обрамляющей весь лист. В газете был воспроизведен портрет Павла Александровича и еще один снимок: Павел Александрович в гробу, усыпанный цветами.
В статьях-некрологах рассказывалось о жизненном пути Павла Крушевана, о его неподкупной честности и о его борьбе — словом, кое-что из того, что часто грезилось Павлу Александровичу, когда его посещали непрошеные мысли о смерти.
О Кишиневском погроме в траурном номере газеты не упоминалось, зато в особую заслугу Павлу Александровичу ставилось то, что он первым опубликовал разоблачающие всемирный еврейский заговор «Протоколы заседаний франкмасонов и сионских мудрецов». В газете подчеркивалось, что даже «Новое время» напечатать эти Протоколы не осмелилось и сам фон Плеве согласия на публикацию не дал, однако Павел Александрович воспользовался моментом, когда Плеве уехал в отпуск, и добился разрешения цензуры. В отместку за это страшное разоблачение, говорилось дальше, евреи подослали к Крушевану убийцу, который ранил его ножом в Петербурге, на Полицейском мосту. В последнее утверждение, однако, вкралась неточность — то ли умышленная, то ли нечаянная, вызванная поспешностью, с которой готовились траурные материалы: «Протоколы сионских мудрецов» Крушеван опубликовал через два с лишним месяца после покушения на него Дашевского.
«Трус! Презренный трус с цыплячьей душой и цыплячьей местью… Дрогнул! Все-таки дрогнул… Не смог… Поэтому над вами и издеваются, поэтому вас и убивают, что вы не умеете постоять за себя…» — мысленно повторял Пинхус, лежа на тюремной койке и глядя в грязный, потрескавшийся от постоянной сырости потолок своего каземата.
Вскоре к нему был допущен адвокат.
Высокий стройный человек средних лет, аккуратно, но неброско одетый, он вошел в камеру с широкой улыбкой на лице, излучая несокрушимую жизнерадостность. Крепко пожав поднявшемуся с койки Пинхусу руку и окинув его быстрым взглядом, он громко воскликнул:
— Почему мы так сумрачны, дорогой мой?! Наше дело стоит превосходно! — и зашагал из угла в угол длинными журавлиными ногами.
— На суде мы заявим, что первоначальное наше показание было дано нами в состоянии большого волнения, и оно не соответствует действительности. Мы хотели нанести господину Крушевану лишь легкую рану, чтобы выразить протест против его погромной агитации. Это все! Мы вовсе не собирались его убивать. Это очень важно. Мы легко убедим присяжных в нашей правоте, потому что располагаем вескими аргументами. Я видел нож, который будет фигурировать как вещественное доказательство. Он совсем маленький, с крохотным клинком. Револьвер, найденный при нас, мы в ход не пустили — это тоже говорит в нашу пользу. Ножом мы ударили только один раз, и, хотя наш противник даже не упал, вторично ударить мы не пытались. Дорогой мой! Так — не убивают!
Адвокат подошел к Пинхусу и положил руку ему на плечо.
— Итак, мы должны запомнить: намерения убить у нас не было. Только выразить протест! Остальное я беру на себя. Скорее всего, нас оправдают. А если признают виновным, то за легкое ранение без каких-либо последствий и без намерения убить, нас присудят к одному-двум месяцам тюрьмы. Это меньше, чем мы просидим до суда, так что в любом случае нас прямо на суде освободят из-под стражи.
Пока адвокат говорил, Пинхус все время смотрел на него, но, казалось, не видел, таким тусклым и безразличным был его взгляд.
— Вы напрасно беспокоитесь, — сказал он, наконец. — Я не изменю показаний.
— Но, дорогой мой! Так мы погубим себя! — воскликнул адвокат. — Мы должны изменить показания, от этого зависит наша судьба!
— Моя судьба мне неинтересна, — ответил Пинхус. Адвокат решительно открыл рот, но, не найдя, что возразить, закрыл его и снова по-журавлиному зашагал по камере.
— Хорошо, дорогой мой, допустим, — сказал он через минуту, оставив деланно-бодряческий тон и вновь остановившись перед Пинхусом. — Допустим, что на собственную судьбу вам наплевать. Но тогда пожалейте мать! Пожалейте вашего друга Михаила Либермана: в вашей глупости он винит себя и, может быть, уже наложил бы на себя руки, если бы я не уверил его, что ничего серьезного вам не грозит. Еще девушка одна сильно о вас беспокоится. Очень интересная девушка. Маленького роста, с большими серыми глазами. Уверена, что виновата во всем она. Видите, дорогой мой, сколько желающих взять на себя вашу вину!
— Передайте, пожалуйста, Мойше, чтобы он не волновался и изучал свои звезды. Вины его ни в чем нет — просто мы всегда с ним были очень разными. А Фриде скажите… скажите ей, что она во всем права: нам с ней не по дороге… Ну, а с мамой я объяснюсь сам, когда разрешат свидание.
Он помолчал, потом добавил:
— Я не изменю показаний, господин адвокат. Я хотел убить Крушевана и сожалею, что мне не хватило мужества исполнить мое намерение. Но мужества ответить за свой поступок без всяких уверток у меня хватит. Вот все, что я скажу на суде.
…По соображениям, которые запрещено обсуждать, высшей власти было угодно, чтобы дело Пинхуса Срулевича Дашевского слушалось при закрытых дверях. И превратилось в новый еврейский погром, только теперь уже без пролития крови, идейный. Крушеван предъявил суду анонимные письма, которые получал будто бы от евреев с угрозами лишить его жизни, и подробно рассказывал о всех еврейских злодеяниях, учиненных за две тысячи лет, начиная с распятия Христа. Ему усердно помогал его гражданский истец Алексей Семенович Шмаков, считавшийся уже тогда крупнейшим в России специалистом по разоблачению еврейских заговоров, козней и злодейств. Суд не мешал обоим борцам с еврейским засильем развивать свои взгляды и внушать присяжным заседателям мысль о том, что всякий еврей — закоренелый злодей и преступник. Защитник Дашевского Миронов так растерялся, что даже не заявил и не потребовал внести в протокол протест против этих нарушений закона, что лишило его возможности впоследствии подать обоснованную кассационную жалобу.
Когда прения сторон закончились, и председатель суда задал вопрос присяжным заседателям, виновен ли подсудимый в том, что совершил вооруженное нападение на Павла Александровича Крушевана с целью лишить его жизни, присяжные ответили:
— Виновен, но заслуживает снисхождения.
Снисхождение выразилось в том, что Дашевского присудили к пяти годам арестантских рот.
Кассационная жалоба была все же подана, и защищал ее уже не малоопытный Миронов, а один из самых выдающихся адвокатов того времени Грузенберг. Он предпринял отчаянную попытку спасти положение, но формальных поводов для протеста не имелось, и сенат приговор утвердил. Впоследствии, однако, Грузенберг не оставлял усилий добиться смягчения участи неудавшегося террориста, и Пинхус Дашевский вышел на свободу на полтора года раньше своего срока.
Он поступил в Киевский политехнический и блестяще его закончил. Как пораженный в правах, он учился почти нелегально, благодаря сочувствию ректора института, и, чтобы не подводить его, по окончании не стал защищать диплома. Затем он долго работал простым рабочим в Нижнем Новгороде. Дальнейшие сведения о нем глухи и отрывочны. Сводятся они к тому, что после революции в России он работал инженером сначала в Манчжурии на строительстве железной дороги, а затем на Кавказе. В 1933 году он был арестован как сионист и вскоре умер в тюрьме…
Теперь коротко о других персонажах нашего повествования.
Что касается Вячеслава Константиновича Плеве и Михаила Осиповича Меньшикова, то оба они — известные исторические фигуры и сведения о них можно найти в любой солидной энциклопедии.
Однако чтобы не заставлять читателя рыться в справочниках, укажу, что Плеве после описанных нами событий, прожил чуть больше двенадцати месяцев: 15 июля 1904 года он был убит в Петербурге взрывом бомбы, брошенной террористом-эсером Егором Созоновым. Меньшиков же еще много лет трудился на ниве российской словесности, приобретая все большую известность как публицист, умеющий совмещать проповеди христианской любви к ближнему с разжиганием национальной ненависти и призывами к еврейским погромам. В 1918 году был расстрелян большевиками.
Другие два персонажа — Фрида и Мойша Либерман — как мог догадаться читатель, вымышленные, и их дальнейшая судьба всецело в наших руках. Читатель вправе домыслить их жизнь по собственному усмотрению.
Но если понадобится помощь автора, то я скажу, что Мойша Либерман стал крупным ученым, создал свою научную школу и был окружен всеобщим почетом.
После Октября он стал одним из первых ученых, которые признали Советскую власть и стали активно с нею сотрудничать. В годы гражданской войны Либерман испытал тяжелые лишения в голодном Петрограде. Он потерял жену и единственного сына, умерших от тифа.
В последующие годы профессора Либермана, как ученого с мировым именем, часто посылали за границу налаживать контакты с зарубежными коллегами. Он был в числе тех немногих, кто помогал Советской стране прорубать стену изоляции, которой ее окружили правители Запада.
В начале тридцатых годов профессора Либермана неожиданно подвергли резкой критике за идеалистические тенденции. Его научные труды оказались несвободными от влияния махизма и неопозитивизма, местами переходящего в откровенный агностицизм. Однако профессор Либерман не растерялся. На критику он ответил боевой принципиальной самокритикой. И чтобы окончательно доказать, что изжил всякие буржуазные изъяны в своем мировоззрении, выпустил фундаментальный труд: «Излучение солнца и звезд в свете марксистско-ленинской диалектики».
Работа встретила всеобщее одобрение — даже со стороны тех, кто еще недавно его критиковал. Профессора Либермана стали ставить в пример тем ученым, которые не торопились изжить оппортунизм и прочие идейные шатания. Учитывая выдающиеся заслуги профессора Либермана, его избрали действительным членом Академии Наук.
Фрида, как догадаться нетрудно, участвовала в революционных боях 1905 года, а потом эмигрировала из России. Она активно сотрудничала в зарубежных социал-демократических изданиях. В Париже она вышла замуж за видного деятеля партии. В спорах, раздирающих социал-демократию, она и ее муж поддерживали большевистскую платформу. После Февральской революции они вернулись в Россию и тотчас включились в работу по подготовке вооруженного восстания.
В годы гражданской войны Фрида дралась с белыми на южном фронте. Она участвовала в штурме Перекопа и в ликвидации махновщины.
В 1921 году она выступила в поддержку рабочей оппозиции, которая обвиняла руководство партии в отрыве от масс и буржуазном перерождении. Но партия разъяснила Фриде, что ее платформа — это анархо-синдикалистский уклон, вызванный воздействием на пролетариат мелкобуржуазной стихии. Фрида признала свои ошибки и публично разоружилась перед партией.
Ее ввели в руководство Евсекции РКП (б) и направили в Минск на боевую работу по переустройству быта и сознания отсталых еврейских масс бывшей черты оседлости. Со всей присущей ей решительностью Фрида взялась за новое дело. Под ее руководством создавались партийные и комсомольские ячейки в еврейских местечках Белоруссии, где передовая молодежь вела борьбу против отсталой молодежи. Фрида вела наступление на хедеры, боролась за добровольную передачу синагог под клубы и дома культуры, за рабочую субботу — словом, за то, чтобы окончательно освободить еврейских трудящихся от духовного гнета.
Большую роль в этом важном деле играли созданные Фридой духовые оркестры еврейского комсомола. В дни религиозных праздников оркестры с воодушевлением играли у входов и под окнами синагог бодрые революционные марши, стараясь заглушить голоса молящихся. Внутрь синагог оркестранты, однако, не входили, так как им полагалось щадить чувства верующих. Высшее руководство Евсекции разъяснило Фриде, а она — комсомольцам, что если они во время богослужения станут врываться в синагоги и таскать молящихся за бороды, то это будет лево-максималистский уклон, что иногда бывает даже хуже право-центристского уклона. Поэтому надо довольствоваться лишь тем, чтобы скандировать под окнами:
Высшее руководство Евсекции не раз постановляло, что безупречно правильная партийная линия, проводимая Фридой без уклонов вправо и влево, способствует скорейшему добровольному отходу еврейских масс от религии.
Подобные постановления наполняли фридино сердце чувством законной гордости, а также надеждой на то, что ее введут, наконец, в высшее руководство Евсекции и она сможет заниматься перековкой еврейских масс в масштабах всей страны, а не одной Белоруссии. Кроме того, это означало бы переезд в Москву, где жить было много приятнее и интереснее, чем в захудалом Минске. Она знала, что высшее руководство Евсекции хлопочет за нее, но там, где решают подобные вопросы, всякий раз вспоминают про анархо-синдикалистский уклон.
Когда работа по перековке еврейских трудящихся масс была в основном завершена, Евсекция стала ненужной, и ее ликвидировали. Затем ликвидировали высшее руководство Евсекции, в которое Фрида, из-за давнего уклона, так и не попала. На новом витке диалектической спирали, в полном соответствии с передовым учением, анархо-синдикалистский уклон, который так долго портил кровь Фриде, неожиданно спас ее.
Вслед за руководителями Евсекции был арестован и расстрелян муж Фриды. Но ей самой опять повезло: ее даже не выслали и не исключили из партии. Ее только лишили всех постов, а в качестве утешения дали бесплатную путевку в прекрасный санаторий на берегу теплого моря.
Случилось так, что в том же санатории лечил застарелый колит известный ученый Либерман.
Познакомившись с академиком, Фрида убедила его, что прогулки в горы очень полезны при колите, и в одну из совместных прогулок они неожиданно выяснили, что когда-то давно, на заре туманной юности, имели общего друга.
Покопавшись как следует в памяти, они даже вспомнили, что встречались пару раз у адвоката, когда с другом случилась беда, происшедшая, впрочем, от его собственной глупости.
Это открытие сильно поразило обоих, и они вернулись из санатория мужем и женой, что вызвало зубовный скрежет у целой стаи секретарш и аспиранток, давно бросавших на вдовца-академика алчные взгляды.
Оставшись не у дел, Фрида, к собственному удивлению, увлеклась домашним хозяйством и превратила запущенную квартиру одинокого звездочета в блестящий салон, где бывали все самые интересные и знаменитые люди Ленинграда — писатели, художники, артисты, музыканты.
На время войны профессора Либермана вывезли из блокадного Ленинграда как особо ценный груз, а после войны ему поручили сверхсекретную работу, цель которой состояла в том, чтобы догнать и перегнать… Однако вскоре выяснилось полная непригодность академика Либермана к земным делам, так что его вернули на кафедру и в обсерваторию.
Борьба с безродным космополитизмом, развернутая со всей принципиальной бескомпромиссностью в конце сороковых годов, лишь слабой тенью коснулась супругов Либерман. Михаилу Исааковичу пришлось выступить на собрании и обвинить в низкопоклонстве перед Западом своих младших коллег — профессора Рабиновича, доктора наук Гуревича и члена-корреспондента Факторовича, после чего его собственное низкопоклонство ему не ставили в вину.
В 1950 году Михаилу Либерману исполнилось 70 лет, а его супруге — 72 года. До такого возраста редко доживают литературные герои, и я мог бы с чистой совестью их обоих похоронить. Но мне почему-то представляется, что оба они обладали завидным здоровьем и долголетием.
После 1956 года у Либерманов началась новая жизнь. Фрида стала активным деятелем общества старых большевиков. Почти каждый день она встречалась с пионерами, выступала по радио, публиковала воспоминания о Ленине, из-за которых, однако, наталкивалась на неприятности, потому что иногда вспоминала о том, чего, по мнению визирующих инстанций, помнить не полагалось. Недоразумения, впрочем, быстро улаживались, потому что со времени участия в рабочей оппозиции Фрида приучилась доверять инстанциям больше, чем себе самой.
Мойша к этому времени стал терять зрение и не мог уже заниматься звездами. Но он не впал в уныние, а стал одну за другой надиктовывать книги об истории той науки, которая создавалась при его участии.
Особый интерес представляли те страницы, где он рассказывал о встречах с крупнейшими учеными двадцатого века: Эйнштейном, Бором, Фридманом, Эддингтоном… Книги его пользовались успехом, рецензенты хвалили их за обилие ценного материала, освещаемого с единственно верных позиций. И только редактор книг Либермана — приятная женщина средних лет — подписывая очередную рукопись академика в производство, тяжело вздыхала и говорила сочувствовавшим коллегам, что ей опять не миновать неприятного разговора с начальством, потому что в книге уважаемого автора слишком много еврейских фамилий…
В 1971 году, когда Михаилу Исааковичу Либерману был 91 год, а его супруге 93 года, они выехали на постоянное жительство в государство Израиль, где у них обоих оказались близкие родственники, что они скрывали всю свою жизнь.
Часть II. РУССКИЙ ВОПРОС
(Владимир Галактионович Короленко)
У сильного всегда бессильный виноват…
И.А.Крылов
Неоценимую помощь автору библиографическими указаниями и различными советами оказал покойный Александр Вениаминович Храбровицкий — крупнейший знаток биографии и творчества В.Г. Короленко.
СР.
Пролог
9 февраля 1903 года в заштатном городке Дубоссары — пестром, утопающем в фруктовых садах на высоком левом берегу Днестра — исчез четырнадцатилетний мальчик Михаил Рыбаченко.
Отец мальчика умер несколько лет назад, мать Софья вторично вышла замуж и жила в восемнадцати верстах от города, в посаде Григореополь, а Миша воспитывался у дедушки Конона и бабушки Елизаветы — зажиточной крестьянской четы, имевшей свою усадьбу в предместье Дубоссар под названием Большой Фонтан.
9 февраля было воскресенье. С утра долго и радостно звонили колокола, возвещая начало любезной народу масляной недели. Миша Рыбаченко, вместе со взрослыми и целой ватагой таких же, как он, ребятишек, отправился в церковь, расположенную у Базарной площади, в центре Дубоссар.
И домой не вернулся…
Под вечер обеспокоенный дед пошел справляться к соседям. Расспросив Мишиных друзей, он узнал, что когда в церкви кончилась заутреня и народ высыпал на улицу, ребятишки побежали по большому спуску к Днестру «скользаться». Сначала мальчиков было много, но к обедне почти все вернулись в церковь. На реке остались только Миша да его двенадцатилетний приятель Гриша Степаненко. Когда зазвонили к «достойно» (минут через сорок после начала обедни), Гриша сказал, что надо бы идти и им. Миша ответил:
— Ты иди, а я еще поскользаюсь.
И Гриша ушел.
Он был последним, кто видел внука старого Конона.
Тревога деда и бабки росла. К ночи они уже почти не сомневались, что мальчик утонул в Днестре, где быстрая вода намыла немало промоин. Правда, еще теплилась надежда, что мальчик, не спросясь, отправился к матери в Григореополь, хотя такого своеволия никогда прежде он себе не позволял.
Утром послали к невестке, но вместо мальчика из Григореополя примчалась сама встревоженная мать. Последняя надежда рухнула. Едва переставляя ноги от усталости и горя, Конон Рыбаченко взял в полиции багры, позвал на помощь трех-четырех соседей и отправился на реку искать утопленника.
Соседи приняли большое участие в беде, столь внезапно свалившейся на дом старого Конона. Особенно сокрушалась некая Марья Барская, баба деятельная и жалостливая. Пока мужчины искали тело, она ни на шаг не отходила от бабки и матери мальчика и, видя, как они убиваются, сама готова была заголосить на всю улицу. Однако слезами горю не поможешь; Марья превозмогла себя и повела Елизавету да Софью к знакомой гадалке. За пять копеек гадалка раскинула карты и вмиг определила, что к ней пришли в связи с пропажей, что пропало что-то живое, что пропажу уже искали в воде, но не нашли. Карты показали также, что пропажа сама ушла со двора, что она где-то заперта и еще жива, ее надо искать и можно найти…
Женщины были потрясены. О том, что слух об их пропаже распространился по городу и мог дойти до гадалки, они, конечно, не подумали. Они бросились к реке и еще издали, размахивая руками и задыхаясь от возбуждения, стали кричать:
— Он не в воде! Он живой! Он заперт!
Настроение женщин тотчас передалось мужчинам. Они побросали багры и пошли в город, рассказывая всем встречным жуткую новость. И понеслась-покатилась по улочкам молва…
Поначалу глухой и неясный, слух с каждым днем обрастал подробностями. Говорили, что какая-то еврейская девочка на базаре во всеуслышание заявила, что мальчик спрятан «у наших евреев», но была остановлена старшей товаркой… Одному мальчику Миша явился во сне и просил передать дедушке и бабушке, что пока еще он живой, но ночью его будут мучить. Еще говорили, что русская девушка, служившая у евреев и понимавшая их язык, слышала, как хозяева говорили друг другу: «Ахун уже есть, взяли ахуна», а это будто бы означает, что они захватили «мученика». Передавали также, что один из товарищей Миши в день его исчезновения расстался с ним вовсе не на реке, а у лавочки еврейки Любочки, куда Миша зашел купить табаку и откуда уже не вышел; Любочка же после этого таинственным образом пропала вместе со своей лавочкой.
…На пятый день после исчезновения мальчика из села Устье, что на другом берегу Днестра, в Дубассары въехала крестьянская подвода. Поднявшись со льда на берег, крестьянин остановил лошадь и зашел в один из ближайших садов справить нужду. В углу сада кружила стая сорок. Подойдя ближе, крестьянин увидел нечто страшное.
До смерти перепугавшись, он перекрестился и бросился вон. Первой его мыслью было никому ни слова не говорить о виденном. Однако, поднявшись к Базарной площади и немного успокоившись, он все же сообразил, что молчать нельзя.
Выслушав мужика, городовой Осадчий посуровел лицом и, взобравшись на его подводу, велел поворачивать оглобли. В саду он деловито разогнал сорок, с помощью мужика погрузил на подводу мертвое тело и приказал ехать в больницу, а когда там тело не приняли, то в участок.
Пока труп возили по городу, к нему сбегалось множество любопытных. Вид убитого приводил всех в ужас.
Кроме увечий, нанесенных в момент убийства, на левой щеке трупа было пять кратеровидных ран и вместо одного глаза зияла дыра. Опытный следователь или медицинский эксперт с первого взгляда определил бы, что эти страшные повреждения причинены птицами, клевавшими мертвеца. Но для обывателей было ясно лишь то, что «христианин так зверски убить не может». — Это евреи! — мрачно гудела толпа. — Им на Пасху надобна христианская кровь…
После судебно-медицинского вскрытия полицейские власти попытались успокоить возбужденные толпы, объясняя, что нет никаких оснований считать убийство ритуальным. Но толпа истолковала это по-своему. Высшему начальству поступил донос, в котором говорилось, что полицию подкупили евреи и что протоколу верить нельзя, так как вскрытие производил врач-еврей.
Прокурор Одесской судебной палаты А. Поллан (Дубоссары относились к Одесскому судебному округу) дал доносу немедленный ход. Преданное земле тело откопали и снова исследовали. На этот раз в качестве судебно-медицинского эксперта был приглашен христианин, специально доставленный из Тирасполя, и работал он в присутствии товарища прокурора из Одессы. Данные первой экспертизы подтвердились.
Окончательно отбросив «ритуальную» версию, судебный следователь обратил внимание на запутанные отношения в семье Рыбаченко. Оказалось, что у старого Конона был еще один внук, двадцатидвухлетний Иван Тимашук, сын его покойной дочери. Старый Конон не любил Ивана и незадолго до убийства составил завещание, по которому все нажитое им имущество должно было отойти не к старшему внуку, а к младшему.
Ухватившись за эту нить, следователь вскоре выявил наиболее вероятных убийц Миши Рыбаченко: ими оказались Иван Тимашук, его отец Михаил, да еще некий Антон Тищенко — их сообщник. Вскоре Тищенко признался в убийстве подосланному к нему сыщику. Однако слух о «ритуальном истечении крови» продолжал циркулировать в городке, и его подхватила кишиневская газета «Бессарабец», издававшаяся Павлом Александровичем Крушеваном.
Почти каждый день в газете появлялись сообщения из Дубосcap, которые противоречили друг другу, но согласно били по нервам возбужденных обывателей. То говорилось, будто следователем установлено, что на теле мальчика имеется восемнадцать ран, нанесенных каким-то желобовидным орудием, по которому стекала выпускаемая кровь; то ран оказывалось двадцать четыре; то вместо ран появлялись тонкие «наколы на жилах», а рот, нос и «все отверстия» оказывались зашитыми. Далее можно было узнать, что на запястьях рук мальчика видны следы веревок, из чего следует, будто его перед смертью распяли на кресте… И, наконец, возник молодой еврей Беккер, который громко кричал, что знает убийц, за что объявлен помешанным и упрятан в сумасшедший дом.
Получая регулярные сообщения о ходе следствия, прокурор Одесской судебной палаты А. Поллан знал, что Миша Рыбаченко был убит сильным ударом полена по голове, после чего убийца в остервенении исколол его вилами; что большая часть крови мальчика пропитала одежду и землю в том месте, где найден труп, а меньшая часть излилась во внутренние полости тела, так что ни о каком «истечении» не может быть речи; что же касается Беккера, который бегал по улицам и выкрикивал бессвязные ругательства, то отправить его в сумасшедший дом распорядился полицейский пристав, а умалишенным его признали компетентные врачи.
Все это так разительно расходилось с сообщениями «Бессарабца», что прокурор в конце концов направил конфиденциальное письмо Бессарабскому губернатору, в котором напоминал, что обсуждение неоконченных следственных дел в печати запрещено, не говоря уже о ложных измышлениях по поводу таких дел, и что поэтому необходимо «принять меры к тому, чтобы такие тенденциозные и при том совершенно ложные сведения» не распространялись. Письмо возымело действие: «Бессарабец» вынужден был напечатать опровержение. Однако уже после этого в столичном «Новом времени», перепечатывавшем все вымыслы «Бессарабца», появилась корреспонденция его собственного корреспондента из Дубосcap, в которой слухи суммировались и выдавались за достоверные сведения, добытые следствием. И затем — как отрезало. Всякое упоминание о Дубоссарском убийстве исчезло со страниц печати.
А через две недели в Кишиневе разразился еврейский погром.
Связь между этими двумя событиями была настолько очевидной, что даже через восемь лет, протестуя против новой ритуальной агитации (в связи с таинственным убийством в Киеве Андрея Ющинского), Владимир Галактионович Короленко писал:
«По поводу памятного убийства мальчика в Дубоссарах крушеванская газета в течение целых недель перед Пасхой развертывала перед населением ужасающие подробности истязания мальчика целой толпой изуверов-евреев. Все это тоже выдавалось за результаты следствия, и все это была самая гнусная и вполне сознательная ложь от начала до конца. Суд впоследствии опроверг эти выдумки… Да! Но между агитационной ложью и судебным решением легла кровавая кишиневская Пасха, полная ужасов, крови и позора».
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции
Копия с представления Прокурора Одесского Окружного Суда Прокурору Одесской Судебной Палаты от 14 апреля 1903 года за № 3110.
Представляю Вашему Превосходительству копию анонимного письма за подписью «христианин», полученного мною по почте 9 сего апреля и относящегося по делу об убийстве Михаила Рыбаченко. Письмо это, как видно из почтового штемпеля, послано мне из Ревеля, и содержание письма указывает на то, какое широкое распространение получили неверные газетные известия по этому делу и какие инсинуации вызывают эти известия среди публики.
С подлинным верно —
Прокурор Одесского Суда. П. Левченко
№ 3111.
14 апреля 1903 года,
г. Одесса
Копия
Для тех, которые относятся с предвзятым недоверием к чему-либо, самые убедительные факты не будут иметь в их глазах никаких доказательств. Так и по делу замученного мальчика Рыбаченко. Кажется, ясен факт похищения крови из живого человека. Все констатированные данные убеждают в этом, а не в ином заключении, но… находятся такие, которые вместе с заинтересованными в отрицании существования у евреев тайных ритуальных обрядностей относятся и к последнему случаю ритуального убийства Рыбаченко с недоверием. Только за последние 25 лет это уже пятый ритуальный процесс. 1) В конце 70-х годов дело о распятии и похищении крови из 7-ми летней девочки Сарры Модебадзе в Сураме разбиралось в кутаисском суде. Обвинявшимися были сельские, бедные евреи, а между тем за одну только защиту их Петербургскому адвокату Александрову было уплачено 15 тыс. рублей. Кагал для оправдания этих дел своего фонда не жалеет. 2) В 1883 г. такое же ритуальное убийство в Венгрии Гефиры Шельмаше разбиралось в г. Нтрешгазе, причем свидетелем-очевидцем (в числе других) выступил сын (14 лет) еврейского резника, совместно с раввином выпускавшего кровь из убитой. 3) Четыре года назад был такой же процесс в Австрии, причем обвиняемый присужден к смертной казни. 4) В 1899 г. разбиралось такое же дело Блондеса — в Вильне. 5) Дело Рыбаченко. А сколько за это время осталось неоткрытых, быть может, дел… За время же ранее этого периода, целая серия процессов и дел этого рода приведена в научном труде Лютостанского: «Об употреблении евреями талмудистами христианской крови при религиозных обрядах». В этом же описании пояснены и поводы к тому, почему евреи не зарывают своих жертв — дабы прятать убийства, а подкидывают их, чтобы погребали христиане. Впрочем, и в описании Серно-Соловьевича г. Слуцка, Минской губернии, обстоятельно пояснено о замученном жидами 6-ти летнем отроке Св. мученике Гаврииле, мощи которого находятся в Слуцком монастыре. Если бы судебная власть по делу Рыбаченко действовала бы правильно, то она сразу должна бы была задержать обеих женщин: свидетельницу и владелицу лавки, где схватили мальчика, а также и свидетеля еврея, а не дожидаться пока первые две скроются, а последнего опоят каким-то дурманом до потери разума. Тут видно одно из двух: или г.г. судейские чиновники не умеют делать расследования, или уж кагальские денежки для них соблазнительны. Да и в суде еще это дело «шило на мыло сведут», подобно кутаисскому процессу. Бог и совесть требуют, чтобы жид хозяин дома, в лавке которого задержали мальчика, а также местные районные раввин и резник еврей, которые суть первые действующие лица ритуальных драм, — чтобы они были непременно задержаны и строго, как следует, допрошены: они здесь главные виновные. Неужели и это дело замнут? Господи!
Христианин.
С подлинным верно:
Прокурор Одесского Окружного Суда Н. Левченко
12 апреля 1903 г.,
г. Одесса.
Глава 1
Владимир Галактионович не видел, как убивали Гриншпуна. Но он видел девочку, которая видела.
Девочке было лет десять-двенадцать — так он определил по ее росточку, по худенькой детской фигурке на тонких ножках. Однако, заглянув в ее глаза, встретил взгляд пожилого, бесповоротно сломленного человека.
Ее глаза видели как убивали Гриншпуна.
Мотель Гриншпун был стекольщиком. Высоким, крепким, еще нс старым, с начавшей седеть бородкой и сильными жилистыми руками. От него вкусно пахло оконной замазкой. Встречая девочку но дворе, он улыбался и гладил ее по волосам заскорузлой шершавой ладонью. На широком кожаном ремне, перекинутом через плечо, он носил плоский ящик из некрашеных досок. В ящике поблескивали стекла, переложенные абрикосовой стружкой. Гриншпун ходил по городу и громко выкрикивал:
— Окна вставляю! Окна вставляю!
Редко кто нуждался в его услугах, и он возвращался по вечерам с мелкими грошами, а то и вовсе без выручки… Эх, теперь-то у него отбою бы не было от заказов!..
— Вон там, под навесом они его и убивали, — тихо говорит девочка и протягивает тонкую руку.
Голос со обрывается, судорога перекашивает лицо.
— Вон там, — повторяет она, — где пятно. Он бежал сюда, а они за ним. А потом он упал, и они все вместе его убивали…
Под навесом выделяется бесформенное бурое пятно; в нем засохли осколки стекла, кирпича, опилки, клочья грязного пуха… И Владимир Галактионович ясно представляет себе всю эту до чудовищности нелепую картину: как мелкой рысцой, втянув голову в плечи, бежал от сарая насмерть перепуганный Гриншпун; как сочилась меж пальцами густая алая кровь, которую он пытался остановить, зажимая рану рукой: как катали его преследователи, сбили с ног, навалились, с веселым гиком устроили кучу-чалу… и как из какого-то укрытия расширенными глазами смотрела на все это маленькая девочка, не имея сил оторваться и до боли кусая костлявый свой кулачок… Теперь это в ней навсегда. Этим полны ее тревожные сны, об этом она будет рассказывать детям и внукам.
Он слушал грустный рассказ девочки, и острое чувство вины терзало его, словно он сам добивал Гриншпуна вместе с озверевшей толпой.
Несколько лет назад Владимир Галактионович написал небольшой рассказ «Необходимость», в котором попытался выразить свое понимание вековечной проблемы, о какую разбивались все философские и религиозные учения.
Бог всеведущ и всемогущ — такова основная догма любой религии. Если так, то и поступки людей заранее предусмотрены Всевышним, то есть человек действует не по своей воле, а по воле Бога; потому человек не несет ответственности за свои поступки. Но тогда нет греха и нет воздаяния за грехи, а без этого лишается смысла сама религия. Не лучше и противоположное учение, по которому миром управляют естественные законы природы, ибо из него следует то же самое: поступки человека, как все в природе, обусловлены естественными законами, свободная воля — это только иллюзия.
В рассказе два индийских старца, стремящихся постичь Божественную истину и совершивших ради этого множество подвигов, являются в заброшенный храм, усаживаются перед идолом, предаются долгому созерцанию, и когда они уже почти окаменевают от неподвижной сосредоточенности, идол открывает уста и сообщает, что все в мире совершается по законам Необходимости. Даже приход старцев в заброшенный храм предусмотрен высшим предначертанием, где точно учтено, сколько должно быть подвижников и какие именно подвиги должны быть ими совершены. В том, что делают люди на Земле, нет ни их заслуги, ни их вины, потому что все совершается по законам Необходимости.
Однако в тот самый момент, когда оба старца, постигнув Истину, должны окончательно превратиться в каменные статуи (это тоже предусмотрено Необходимостью), они сознают, что обмануты. Законы необходимости — это законы статистики. Они охватывают цифры, но не живые человеческие души. Необходимость распоряжается лишь количествами. Она знает, сколько праведников и сколько злодеев должно быть на Земле, сколько аскетов и сколько чревоугодников, сколько мудрецов и сколько тупиц. Но она не указывает, кому быть праведником, а кому злодеем, кому совершить подвиг, а кому подлость, кому проливать кровь, а кому врачевать раны. В каждый момент своей единственной и неповторимой жизни человек сам выбирает, как ему поступить, и потому несет ответственность за каждый поступок.
Самое сокровенное вложил Владимир Галактионович в этот рассказ, многое в себе самом понял, пока его сочинял.
Когда народовольцы убили Александра Второго и на престоле воцарился его сын Александр Третий, Владимир Короленко отбывал ссылку в Перми. На улице его остановил полицмейстер и вручил бумагу, сказав, что по велению губернатора ему надлежит подписать присягу на верность новому государю. Взяв текст присяги, Владимир Галактионович тотчас отправился к губернатору.
— Скажите, ваше превосходительство, вы от всех требуете таких сепаратных присяг?
— Нет, конечно, на это не хватило бы времени.
— Значит, это требование относится ко мне как к ссыльному? И именно потому, что я потерпел бессудное насилие, что моя семья без всяких причин рассеяна по дальним местам, что я видел слишком много такого же насилия над другими? Ну, я и отвечаю: присяги я не приму.
— Подумайте хорошенько, — ответил доброжелательный губернатор. — Зачем вам губить свою молодую жизнь?..
Времени для раздумий оказалось достаточно, Владимир Галактионович успел множество раз перебрать все доводы против безумного поступка. Донкихотство… Мальчишество… Каким страшным ударом для матери и сестры будет известие о новых гонениях… А польза? Никакой! Массового движения «неприсяжников» ожидать нельзя, а два-три таких же чудака если и найдутся, то кто на них обратит внимание!? И вдруг сам собой пришел в голову вопрос: почему же, вопреки столь ясным доводам разума, я все же колеблюсь, но нисколько не колебался, когда говорил с губернатором? Вопрос содержал в себе и ответ: первое побуждение было правильным — не потому, что от этого может быть какая-то польза, а потому что его подсказала совесть. Делай что должно, и пусть будет что будет, гласит французская пословица. Узнал ее Владимир Галактионович много позднее, но заключенная в ней мысль с юности стала как бы его девизом.
Отдельному человеку трудно повлиять на общее количество совершаемого в мире зла и добра — это царство цифр, то есть Необходимости. Но за каждым остается право занять то или иное место в борьбе добра со злом. И в том, какое место человек для себя выбирает, состоит его суть как человека.
Стоя во дворе разгромленного дома, Владимир Галактионович мог с чистой совестью сказать, что ему не в чем себя упрекнуть. Он мог бы привести в свою пользу неотразимые доводы. Но живое чувство сильнее холодных рассуждений. Полные недетской тоски глаза девочки говорили ему, что он тоже виноват перед нею, виноват уже тем, что в тот страшный день, когда убивали Гриншпуна, он был далеко и не мог вместе с этой девочкой испытать весь обрушившийся на нее ужас.
В те дни он был дома, в Полтаве, у него на руках умирала мать.
Болела она давно, врачи находили горловую чахотку, но он все надеялся, что это ошибка. Зимой он верил, что придет весна и ей станет лучше; но пришла весна — как по заказу, бурная, солнечная, почти жаркая, а старушка продолжала угасать. Добрый друг Федор Дмитриевич Батюшков прислал из Петербурга большое черное кресло на колесиках, и оно оказалось очень кстати. Каждое утро Владимир Галактионович поднимал легкое тело матери, бережно усаживал ее в кресло и вывозил в сад, необычайно рано распустившийся и дававший уже много тени. Девочки устраивались возле бабушки с рукоделием, да и сам он выносил из дома рукописи, перо, чернильницу и садился чуть поодаль, за отдельным столом, чтобы хоть молчаливым присутствием скрасить ее страдания.
Как всегда, было очень много неотложной работы. Надо было редактировать материалы для очередного выпуска «Русского богатства». Надо было просмотреть корректуру книги уральского казака Хохлова, совершившего с двумя товарищами изумительное путешествие в поисках справедливого Беловодского царства, которое, по староверческому преданию, существует где-то далеко на Земле. Малограмотная, но своеобразная по языку и содержанию рукопись была отредактирована Владимиром Галактионовичем и выходила с его предисловием; он чувствовал себя ответственным за нее. Надо было еще завершить рассказ из сибирской жизни, который он обещал для сборника, издававшегося в пользу Высших женских курсов…
А мысли путались, возвращались к стоящему под раскидистым деревом черному креслу на колесиках; и вся жизнь матери всплывала перед ним, и навертывались на глаза предательские слезы.
Ее выдали замуж совсем девочкой, так что первый год после замужества она еще жила у отца. Муж был намного старше и мучил ее беспричинной ревностью; уезжая по своим судейским делам, нередко запирал на ключ, и она — полуженщина, полуребенок, плакала от огорчения и обиды.
Первое ее дитя умерло в младенчестве…
Потом мужа разбил паралич, и он стал калекой… А потом, когда стерпелось-слюбилось, она осталась вдовой…
А когда выросли дети, начались обыски, аресты, полицейский надзор, скитания по ссылкам, куда она с готовностью отправлялась вслед за детьми.
В ее преданности, в ее готовности отдать всю себя ни разу не пришлось усомниться. И в преддверии вечной разлуки (о близости ее она, к счастью, не догадывалась) бремя огромного неоплатного долга давило Владимира Галактионовича даже сильнее, чем сам факт, надвигавшийся с такой страшной неотвратимостью…
Она скончалась ранним утром 30 апреля — тихо и спокойно, словно заснула… После похорон было много хлопот с оградой, с заказыванием памятника. Все надо было сделать тщательно, хорошо, лично участвуя. Мертвой ничего уже не было нужно, но нужно было ему, оставшемуся жить. Хлопоты создавали некоторую иллюзию возврата хоть малой доли того тяжкого долга, который он не сумел и никогда уже не сможет уплатить…
Однако, пока тянулись эти заботы, такие важные и необходимые, существовала в нем, жила, росла, ни на минуту не оставляя, еще и другая боль — такая же острая и саднящая, но и совсем иная: несмиримая, рождавшая не печаль и грусть, а гнев и стремление к действию. Боль эта намертво была скреплена со ставшим вдруг зловещим словом — КИШИНЕВ.
…Где-то, на самом дне памяти таился слабый, почти совсем стершийся след давнего детского воспоминания — поездки в Кишинев к деду.
Самого деда он не помнил и тщетно старался вызвать в воображении забытое лицо. Город тоже не оставил в памяти никакого конкретного отпечатка, кроме смутного и неясного следа чего-то шумного и солнечного. Помнилась только поездка, вернее, два эпизода из нее…
Первый — это переправа через реку на большом плоту: на нем поместились коляска, лошади и пассажиры. Было страшно и чуточку жутко наблюдать, как берег отделяется от коляски темной, все уширяющейся полосой, чувствовать плавное колыхание плота на волнах, видеть, как справа, слева, спереди, сзади переправляются на маленьких плотиках солдаты какого-то военного отряда. Солдаты со своих плотиков с любопытством поглядывали на коляску и о чем-то переговаривались… Второй эпизод случился вечером, в темноте, когда он сидел в коляске на теплых материнских коленях и вдруг увидел красную точку, то разгоравшуюся, то тускневшую перед ним на расстоянии вытянутой руки. Он потянулся к светящейся точке. Мать перехватила маленькую ручку, сказала что-то предостерегающее, но ему так сильно хотелось потрогать звездочку, что он захныкал. Из темноты наклонился отец и приблизил звездочку. Мальчик коснулся ее указательным пальцем и тотчас отдернул руку. Не столько резкая боль ожога, сколько обида захлестнула маленькую душу, исторгла громкие рыдания. Словно он потянулся к благоухающему цветку, а из его чрева вынырнула и впилась в палец змея… Сходное чувство вызвало в нем первое купание в реке, приманившей прохладой прозрачных струй и ожегшей резким холодом. Он бросался в окружающий мир с радостью и доверием; таящиеся опасности не были ведомы ему. И стихийное безразличие мира оборачивалось порой коварством и вероломством.
Став старше, он начал понимать, что в природе нет осознанного зла… Ее удары невольны и слепы. Человек — часть природы, и если ему приходится пострадать от нее, то из-за собственной неосторожности или какой-то роковой случайности. Сердиться на это нелепо. Протестовать — глупо. Винить — некого, кроме самого себя. С естественным ходом природы необходимо мириться. Даже со смертью старушки-матери приходилось мириться как с печальной необходимостью, ибо это всего лишь проявление естественного хода природы, как восход и заход солнца, как цветение яблонь по весне и созревание плодов к осени, как сама жизнь, чье постоянное обновление невозможно без увядания и смерти… Даже в счастливой стране Беловодии (если бы такая вправду отыскалась на Земле) никому не определено жить вечно. Не эликсира бессмертия искали три уральских казака, проделавших свой удивительный путь через Палестину в Китай и Японию. Они искали страну, где правит справедливость и человек не обижает человека. Не ту же ли Беловодию искал всю жизнь и сам Владимир Галактионович? Только, в отличие от казаков, он знал, что счастливой страны нет и за далекими морями, ее нужно самому воздвигать в себе и вокруг себя.
…Пока он молча перешагивал через груды неубранного хлама, а затем тихо разговаривал с неожиданно возникшей перед ним девочкой, во дворе собралось с десяток людей самого разного возраста. Согнутый пополам старик с клюкой и в галошах на босых отечных ногах, пожилая еврейка в рваном переднике, двое мужчин и женщина средних лет, молодая девушка, несколько ребятишек. Все они оказались бывшими жильцами двухэтажного дома, похожего теперь на мертвый, разбитый о скалы корабль. После погрома они приютились поблизости, кто где мог, и, увидав человека, интересующегося их бедой, потянулись к нему, побуждаемые стремлением еще раз выплакать свое горе.
В первый день погрома здесь было тихо. Евреи сидели запершись и боялись. Они молились Богу, прося простить им грехи и отвратить несчастье. Поздно вечером громилы угомонились; казалось, Бог внял молитвам. Но на другой день погром разразился с новой силой.
Когда толпа обступила дом, Гриншпун юркнул в сарай, где надеялся найти свою жену Бетю, которая вдруг куда-то исчезла. Но Бети в сарае не оказалось. Был сосед Говший Вернадский с дочерью Хайкой и Мовша Махлер (Короленко в очерке назовет их не совсем точно: Бурлацким и Маклиным), а Бети не было.
Махлер был хозяином этого восьмиквартирного дома. Семь квартир он сдавал в наем, а в восьмой жила его старшая дочь Лея с мужем и годовалым ребенком. Сам Махлер жил на Александровской улице, в центре города, в маленьком аккуратном особнячке, какой дай Бог иметь каждому. Жил он там с женой Рисей, сыном Йосей, которому всего месяц как исполнилось тринадцать лет, и второй дочерью Рахилью, совсем еще девочкой. С ними еще жила старая Ида, мать Риси, но она давно уже не вставала с постели.
Особнячок стоял неподалеку от Чуфлинской площади, где все началось, так что погром Махлер пережил еще накануне. Его лавочку, что была при доме, разнесли в щепки, но семья, благодарение Богу, не пострадала. Собственно, благодарить надо было не Бога, а надежные ворота в крепком заборе, которые Махлер вовремя успел запереть, да металлические жалюзи на окнах. В таких домах жили многие евреи, имевшие средства, и Махлер тоже построил себе такой дом.
Рися была недовольна: зачем такой забор, зачем эти железные жалюзи? Неужели не на что тратить деньги, если так уж хочется тратить! Махлер и сам не понимал, зачем ему эти бастионы. Просто он хотел, чтобы все видели, что он не какой-нибудь полуголодный сапожник — умеет жить не хуже людей.
И когда сквозь щели в опущенных жалюзи он смотрел на беснующуюся толпу, то благодарил Бога, что не соблазнился возможностью кое-что сэкономить на постройке.
То, что он лишился лавочки, Махлера не огорчало. Если Богу угодно, чтобы он потерял лавочку, так неужели он будет роптать на Бога? Пока голова на плечах и руки-ноги на месте, умный человек может восполнить любую потерю. Махлера беспокоило совсем другое. Неизвестность того, что делается там, на окраине, в Азиатском переулке, — вот что его беспокоило. Старшую дочь Лею он любил больше других детей, особенно с тех пор, как она родила ему внука — капризного упитанного карапуза. Нельзя было доставить большего удовольствия Махлеру, чем сказать, что внук похож на него «как две капли воды». Слыша такие слова, Махлер таял от счастья и даже соглашался подождать с квартирной платой…
Сквозь щели в жалюзах он вглядывался в орущие, перекошенные злобой полупьяные лица и молча ломал себе пальцы. Ему представлялись картины одна ужаснее другой. То чьи-то руки вырывают у Леи плачущее дитя, а Лея отчаянно тянет ребенка к себе… То, поверженную на пол, ее бьют и топчут коваными сапогами, а малыша разрывают на части… Махлер гнал от себя эти видения, но они не уходили, наполняя его липким страхом.
Ночь он провел без сна, а утром, прикрикнув на жену, не хотевшую его отпускать из дому, побежал к дочери. Извозчиков нигде не было видно, попрятались после вчерашнего, и ему пришлось добираться пешком. Чем ближе он подходил к Азиатскому переулку, тем ему становилось тревожнее; однако еще издали он увидел свой дом, возвышавшийся среди вросших в землю лачуг, и у него сразу отлегло от сердца. Дом стоял целый и невредимый, даже стекла не были выбиты и отсвечивали на утреннем солнце.
Дочь свою Махлер не застал. Жильцы объяснили ему, что она так же тревожилась о нем здесь, как он о ней — там; совсем недавно, с мужем и малышом, она ушла, чтобы быть со своими.
Махлер хотел возвращаться, но жильцы засыпали его вопросами, и он, горячо жестикулируя, стал рассказывать о том, что перевидал и перечувствовал накануне.
Когда он кончил, уходить было поздно: появившийся вдруг городовой советовал всем спрятаться и сидеть тихо.
…Прильнув к щели в стене легкого дощатого сарая, Махлер хорошо видел, как уверенно работают громилы, успевшие уже приобрести сноровку. В доме высаживали окна, срывали рамы и двери, разворачивали кирпичные печи, отчего в зияющей черноте проемов клубилась бурая пыль; мебель и посуду вышвыривали на улицу. В сарае каждый раз вздрагивали от звона разбиваемого стекла и треска лопающегося дерева. Двор был завален разодранным шмотьем, втоптанными в грязь листками из священных книг, и пух, белый пух летал по воздуху, цепляясь за ветки чахлых деревьев, высоким сугробом грудился во дворе.
Наблюдая за тем, как уничтожается дом, который кормил его и его семью много лет, Махлер горячим шепотом благодарил Бога за то, что дочь его и внук вне опасности. Конечно, у него не могло быть уверенности в том, что они успели укрыться за спасительными жалюзями и могучим забором. Но с каждой минутой уверенность в этом почему-то крепла. Вчера он потерял лавочку, а теперь на собственных своих глазах из состоятельного, почти богатого человека окончательно превращался в нищего. Это что-нибудь значило! Не мог же Господь быть настолько жестоким, чтобы разом отнять у человека и все его достояние, и дочь с внуком. Ну, а за дочь и внука Махлеру не жаль отдать все богатства мира, не то что свое жалкое имущество.
Обо всем этом Махлер рассуждал шепотом, обращаясь то ли к Богу, то ли к самому себе, и те, кто находился в сарае, слышали эту своеобразную полумолитву.
— А как вы думаете, ведь они успели? Они вне опасности? — подбежал вдруг Махлер к отцу и дочери Вернадским.
Почти спокойные и ко всему безучастные, они неподвижно сидели у дальней стены сарая, на куче сваленного хлама, тесно прижавшись друг к другу и молча провожая глазами Гриншпуна, который метался из угла в угол, схватившись за голову. Как по команде, они перевели взгляд на перекошенное лицо Махлера, на котором даже в полумраке сарая была видна борьба отчаяния и надежды, и, не сказав ни слова, снова стали следить за бегающим Гриншпуном.
…Мотель помнил, что Бетя стояла рядом с ним, когда они слушали рассказ Махлера о вчерашнем, и вдруг она куда-то исчезла. Он обежал все квартиры, потом выскочил во двор, громко крича: «Бетя! Б-е-е-т-я!»
«Б-е-т-я!» — передразнил голос из толпы, и большой камень пролетел у Гриншпуна над плечом, едва не задев голову.
Гриншпун бросился в сарай, но не нашел жену и здесь. Бежать куда-нибудь дальше было уже невозможно, и он, не находя себе места, метался из угла в угол, потому что сквозь крики толпы, треск и шум разрушения ему то и дело слышались вопли и казалось, что это вопли его жены Бети.
Когда громилы ворвались в сарай, первым они увидели Гриншпуна. К нему подбежал молодой парень, молдаванин. Его звали Кириллом.
Мотель хорошо знал этого паренька с узкими глазами. Кирилл жил напротив и вырос у него на глазах. Бетя дружила с матерью Кирилла и часто заходила к ней занять какую-нибудь мелочь или просто посудачить. Когда Кирилл был маленьким, Бетя, обделенная собственными детьми, часто ласкала мальчика, тискала его, брала на руки. Мотель тоже любил повозиться с малышом: учил лепить зайчиков из размятой в горячих пальцах оконной замазки.
— Кирику! — обрадовался Гриншпун, — ты не знаешь, не у вас ли моя Бетя?
Вместо ответа Кирилл схватил Гриншпуна за грудки.
— Пусти меня, Кирику, — попросил Гриншпун.
— Молчи, жидюга, все одно тебя убью, — Кирилл дохнул на Гриншпуна вонючим перегаром и саданул его ножом.
В первый момент Мотель не почувствовал боли и нисколько не испугался, а только очень удивился, но затем бросился вон из сарая, роняя на землю крупные алые капли. Под навесом его нагнали, сбили с ног… Теперь об этом напоминало лишь большое бурое пятно с присохшей грязью.
— Дай Бог так жить, как хорошие были соседи, — вздыхает пожилая еврейка в рваном переднике, и Владимир Галактионович догадывается, что она и есть та самая Бетя, которую тщетно искал перед смертью стекольщик Гриншпун.
— Где же вы прятались?
— У нее и пряталась, чтоб ей провалиться сквозь землю прежде, чем она родила этого злыдня.
Пока с веселым гиком убивали Гриншпуна, Махлер и Бернадские успели взобраться на чердак. Но громилы полезли за ними и на чердак. Тогда они выбрались на крышу. Но громилы тоже выбрались на крышу. Тогда они стали убегать от них по крыше.
Был яркий солнечный день. Редкие облачка невесомо скользили по весеннему небу. Это был один из первых ясных дней по-еле ненастья, старательно смывавшего моросящими дождями с крыш прошлогоднюю грязь. Свежевымытая крыша так и сияла на солнце красной черепицей.
А перед домом гоготала толпа.
Городовой сидел на тумбе и с любопытством следил за происходящим. Патрули стояли выше и ниже переулка, словно бы охраняя громил. Городовой и патрули ничего не имели против евреев, но они не получили указаний и законно бездействовали.
А Мотель Гриншпун, уже бездыханный, лежал под навесом в луже собственной крови и еще два еврея и одна еврейка, жалкие, с животным страхом в глазах, смешно балансируя раскинутыми руками, перебегали по крутой красной крыше, то скрываясь за ее гребнем на том скате, что спускался во двор, то, к радости толпы, появлялись на этом, видном с улицы.
Один из преследователей бросал им под ноги большой умывальный таз. Таз весело звенел по черепице. Евреи спотыкались, раздирая колени и руки.
А толпа гоготала.
Громилы не торопились кончать дело — растягивали удовольствие. Ну, а когда надоело, посбрасывали евреев с крыши. Всех троих. И старика Вернадского. И дочь его Хайку. И маленького подвижного Махлера. Только таз бросить вслед позабыли. Владимир Галактионович видел его: большой синий таз на красной черепице.
Мужчины разбились насмерть.
То есть не сразу — насмерть.
Про Махлера определенно говорили, что он был еще жив. На него вылили бочонок вина, и он захлебнулся в луже.
А Хайка угодила в целую гору пуха, прибитого ветром к стене, и осталась жива. Видно, Богу угодно было подстелить под нее пух…
О, этот пух, смех и грех еврейских погромов!
Они всегда начинали с вспарывания перин, пух летел по городу, еврейки визжали и кричали «гвалт». В этом была потеха.
Вначале они выпускали еврейский пух, а в конце — еврейский дух. Но до конца доходило редко. Владимиру Галактионовичу невольно приходило на ум сравнение: он знал, что во время страшной волны погромов восьмидесятых годов были лишь отдельные случаи убийств и тяжелых увечий. И вот, через два десятилетия, когда казалось, что весь этот срам навсегда ушел в прошлое, побоище, какого не видывали в России.
Почему?.. Зачем?.. Как могли это допустить?.. Как мог он, Владимир Короленко, допустить такое?..
Время подвигалось к полудню. Зенитное солнце сильно укоротило тени, от каменных стен разгромленного дома несло жаром, словно от натопленной печки, становилось трудно дышать. За воротами стояла понурая кляча, изредка отгонявшая мух ленивым взмахом хвоста. Недвижно, словно уснувший, сидел на облучке согнутый старый еврей в потрепанной широкополой шляпе и выгоревшей рубахе. Пасмурная печаль лежала на всем его облике, словно он вобрал в себя вековое горе своего народа. Николай Петрович Ашешов неторопливо прогуливался по улице — он приехал сюда вместе с Владимиром Галактионовичем, но остался за воротами, чтобы не мешать его беседе с людьми, с которыми сам встречался не раз. А Владимир Галактионович все стоял во дворе в окружении этих несчастных людей, уже свыкшихся со своим горем, и слушал, слушал их бесконечную повесть, время от времени задавая вопросы и делая пометки в записной книжке.
Последним здесь погиб бухгалтер Нисензон.
Он и его жена спрятались в погреб, но, слыша вопли и стоны, они не выдержали и выбежали на улицу. Это была ошибка. Нисензон успел скрыться во дворе напротив, но за женой его погнались. Он кинулся к ней и этим обратил на себя внимание. Жену оставили, побежали за мужем.
Догнали, ударом по голове сбили с ног, и он упал в лужу. Его со смехом пополоскали в грязи, а потом добили увесистым колом.
Владимир Галактионович записал данные о материальном положении обитателей дома № 13. Приказчик галантерейной лавки Вернадский зарабатывал 48 рублей в месяц. Бухгалтер Нисензон нанимался временно к разным лавочникам и купцам: ставил бухгалтерские книги, заводил денежную отчетность; вырабатывал по 25–30 рублей. Мовша Паскер, приказчик, получал рублей 35. Ицек Горвиц был служителем в больнице, но лишился места и последнее время бедствовал. Мовша Туркенец имел крохотную столярную мастерскую. Бася Барабаш продавала евреям кошерное мясо… Нефтул Серебрянник имел небольшую лавочку, помещавшуюся здесь же, в доме; он торговал свечами, мылом, спичками, керосином, дешевыми конфетами, доход его был копеечный. И каждому приходилось содержать семью из трех, четырех, шести человек. Данные эти Владимир Галактионович взял из исковых заявлений, в которых пострадавшие, надеясь на возмещение ущерба, могли преувеличить свои доходы, но никак не приуменьшить.
Попрощавшись, наконец, с людьми, так доверчиво поведавших ему о своих несчастьях, Владимир Галактионович, тяжело ступая, вышел за ворота.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Директор Департамента Полиции
Конфиденциально
Его Превосходительству А.И. Поллану
Милостивый Государь Анатолий Иосифович.
Мною получены сведения, что после еврейского погрома в г. Кишиневе туда посылаются еврейскими обществами других городов делегаты для выяснения лиц, потерпевших во время беспорядков и нуждающихся в материальной помощи. Этими делегатами, будто бы, установлено между прочим, что на Скулянской рогатке, в сарае колесника Ходкевича было убито чет-евро лиц и изнасилованы три женщины, а в их числе 70-летняя старуха и внучка ее, тринадцатилетняя девочка, у которой были сорваны верхние покровы нижней части живота. Девочка эта, будучи доставлена в больницу, умерла через три дня, не приходя в сознание. В виду изложенного имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать сообщить, на основании имеющихся в Вашем распоряжении следственных материалов по делу о еврейских беспорядках в Кишиневе, является ли вышеприведенный факт справедливым и, в утвердительном случае, какими он сопровождался обстоятельствами. Примите, Ваше Превосходительство, уверения в совершенном моем почтении и преданности.
Подлинное подписал А. Лопухин
С подлинным верно:
Секретарь при Прокуроре Одесской Судебной Палаты
(подпись)
№ 5585. 10 июня 1903 г.
* * *
Прокурор Одесской Судебной Палаты.
Конфиденциально
Его Превосходительству А.Л. Лопухину.
Милостивый Государь Алексей Александрович.
Вследствие письма от 10 июня сего года за № 5585 имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что я 17 июня лично рассматривал в Кишиневе оконченное и направленное с обвинительным актом следствие об убийстве Хацкелевича и др.
По этому делу видно, что в сарае кузнеца Хацкелевича, (а не колесника Ходкевича) 7 апреля сего года были убиты Дувид Хацкелевич, Симха Вулер, Этля Бергер (55 лег) и Фейга Вулер (13 лет). Последняя была доставлена в больницу и действительно умерла через три дня, не приходя в сознание. В деле нет решительно никаких сведений и указаний относительно изнасилования Бергер и Вулер. Из акта вскрытия видно, что Вулер умерла от нанесенных ей ран в голову. Несмотря, однако же, на эти обстоятельства, я лично произвел негласное дознание и расспрашивал девочку Двойру Хацкелевич, Ханну Вулер и Абрама Сигаловича, причем первая заявила, что она сама была в сарае, когда ударили Вулер и Бергер, и всю ночь до рассвета лежала под Фейгою Вулер, причем никто не покушался ни на изнасилование Вулер, ни на изнасилование Бергер. Сестра убитой, Ханна Вулер, объяснила, что она посетила Фейгу несколько раз в больнице, причем никаких ран на животе у Фейги не было. Абрам Сигалович объяснил, что когда он, на следующий день после разгрома, был в сарае Хацкелевича, то он видел Фейгу Вулер, которая лежала с обнаженным и окровавленным животом. По мнению свидетеля, живот Фейги был окровавлен, так как кровь текла из ран, нанесенных ей в голову. Об изнасиловании Бергер и Вулер свидетель ничего не слышал. В том же сарае и в тот же день 7 апреля была, по заявлению мещанина Гриншпуна, изнасилована его жена Ита. Следствие по этому делу было направлено по 277 ст. Уст. Уг. Суд., но в настоящее время дело это возвращается для дополнения. Примите, Ваше Превосходительство, уверение в совершенном моем почтении и искренней преданности.
Подлинное подписал А. Поллан
С подлинным верно: Секретарь при Прокуроре Одесской Судебной Палаты.
(подпись)
Глава 2
Когда лошадь лениво зацокала по мостовой, Владимир Галактионович открыл страницу с записями материального положения потерпевших и протянул Ашешову.
— Вот, полюбуйтесь, Николай Петрович, каковы эти злостные эксплуататоры.
Ашешов посмотрел записи.
— Да, я знаю этих горемык. Единственный из них, кого можно причислить к эксплуататорам, и то лишь в известном смысле, это сам хозяин: он жил квартирной платой. Но эксплуатировал он своих же единоплеменников, все жильцы его были евреи. Такова нехитрая правда об этой самой еврейской эксплуатации.
— А знаете, Николай Петрович, будь я из тех еврейских миллионеров, которые жертвуют крупные суммы на создание сельскохозяйственных поселений в Палестине или где-нибудь в Аргентине и вообще всерьез озабочены положением своих соплеменников, я не удержался бы от соблазна и поставил такой эксперимент. Я переселил бы из места погрома всех евреев. То есть дал бы им на это необходимые средства. Богач получил бы назад свое богатство, бедняк стал бы обеспеченным человеком, но при условии их переселения из Кишинева. А лет через десять мы бы проверили, так сказать, в чистом опыте, легче ли гнет ростовщика, если он называет себя христианином, и можно ли решить проблему эксплуатации, убивая стекольщика Гриншпуна, добывающего свой хлеб таким же трудом, как и его собратья-христиане.
— Владимир Галактионович, но вы же прекрасно знаете, что этих господ не убедят никакие аргументы. И разве само русское правительство не поставило уже такой опыт? Если бы евреи действительно ничего не производили, а только эксплуатировали, как утверждает печать определенного сорта, то в черте оседлости крестьяне и прочий трудовой элемент бедствовал бы куда сильнее, чем вне черты, где в целых губерниях не встретишь ни одного еврея. На деле же картина обратная. Нигде мужик так не беден и не разорен, как в великорусских губерниях, и этим все сказано.
— И все же такой эксперимент был бы очень поучителен, — отозвался Владимир Галактионович.
Ашешов опять хотел возразить, но увидел, что Короленко углубился в свои мысли, и счел за лучшее ему не мешать. Да и не спор это был у них, чтобы уточнять формулировки и выяснять истину, обоим ясную и очевидную. Просто Короленко нужно было высказать, вылить в какую-то форму накопившееся на душе за это кошмарное утро, и Ашешов понимал: его присутствие рядом служит некоторой поддержкой Владимиру Галактионовичу.
Они знали друг друга уже лет двадцать — с тех еще времен, когда Ашешов редактировал «Самарскую газету», и Короленко из Нижнего Новгорода слал ему корреспонденции на местные темы. В самом Нижнем тогда не было ни одной порядочной газеты, а поддерживать своим именем и пером подлые издания он не считал возможным. К Ашешову он направил и молодого Алексея Пешкова, ставшего первым фельетонистом «Самарской газеты». Когда из-за пережитой семейной драмы Ашешов не мог оставаться в Самаре, Короленко помог ему укорениться в Нижнем и стать редактором «Нижегородского листка», в котором тотчас и сам стал печататься. В это время они особенно сблизились, и Владимир Галактионович окончательно проникся доверием к этому прямому и открытому человеку, в прошлом, как и он сам, ссыльному, потому что такова была участь почти всякого русского интеллигента, если он не равнодушен к тому, что происходит вокруг, и старается жить в согласии со своей совестью и убеждениями.
В ранней молодости, только еще пробуя силы на поприще литературы, Ашешов был обуреваем честолюбивыми мечтами. Высокий, стройный, красивый, всегда скромно, но тщательно одетый, непринужденно державшийся в любом обществе, Ашешов был баловнем женщин, и легкие победы укрепляли в нем уверенность в себе. Будущее представлялось ему, может быть, не всегда прямым, но неуклонным восхождением к вершинам успеха. В голове его теснились разнообразные, хотя и не очень определенные замыслы. Ему мерещились каскады хвалебных рецензий, чествования, восторженные взоры поклонников и поклонниц, — словом, шумная и широкая слава. Однако время шло, а замыслы оставались аморфными, как бы плавающими в густом тумане. Они не кристаллизировались в четкую и ясную форму. Занесенные на бумагу, слова оказывались какими-то вялыми, бесцветными, фразы составлялись из них неуклюжие, тяжелые, какие-то искореженные. Пришлось оставить грандиозные замыслы (сперва казалось, что только на время) и взяться за будничную репортерскую работу, которая, впрочем, тоже давалась немалым трудом, так как каждую, самую простую заметку приходилось переделывать помногу раз. Мастерство накапливалось буквально по каплям. И так же, по каплям, убывали амбиции. Через несколько лет Николай Петрович уже без всякого сожаления, даже с иронией вспоминал о начатых своих романах, оставленных в дальнем ящике письменного стола, а при очередной смене квартиры и вовсе выброшенных на помойку. С мыслью о том, что природа не наделила его крупным литературным талантом, он смирился как-то очень легко, не испытывая при этом душевного кризиса или надлома, какой чрезмерно самолюбивого человека мог бы повергнуть в отчаяние и на всю жизнь отравить болезненным сознанием собственной ординарности.
На первых порах, еще только вступая на литературное поприще, Ашешов с небрежением относился к посредственностям. Люди эти представлялись ему жалкими неудачниками. Средний инженер, средний врач или даже юрист мог, в меру своих сил, делать полезное дело и находить в этом удовлетворение и оправдание жизни, но средний писатель… В самом сочетании этих слов виделось что-то противоестественное. Однако, став профессионалом, Николай Петрович мог убедиться, что средние литераторы нужны не меньше, чем средние врачи или инженеры, может быть, даже больше. В России — наверняка больше! Ибо ни в чем так не нуждалась Россия, как в громко сказанном правдивом слове. Полезным мог быть всякий, даже обладающий самыми скромными способностями, литератор, если он честен и готов кое-чем пожертвовать ради того, что ему по-настоящему дорого. Порядочность и честность — это тоже талант, не менее важный для писателя, чем художественная одаренность.
Газеты, редактируемые Николаем Петровичем, отличались четкостью занимаемых позиций — насколько это вообще было возможно. Если в силу цензурного запрета газета не могла высказать свое мнение по важному общественному вопросу, она молчала, но никогда на ее страницах не появлялось раболепного подсюсюкивания. Выдерживать направление было нелегко — требовался безупречный вкус, такт и особая редакторская зоркость. Когда Николай Петрович спешно уехал из Самары и передал газету тогда еще малоопытному Пешкову, в ней тотчас стали появляться двусмысленности и даже пошлые выпады против евреев. Короленко тогда сделал молодому редактору мягкий, но достаточно ясный выговор, написав ему, что «при нашем положении прессы, когда многое говорить нельзя, нужно быть особенно осторожным в том, чего говорить не следует». Ашешов знал это письмо. Сам был достаточно чуток, чтобы никогда и ни в чем даже невольно не подпевать разнузданному юдофобству.
К Владимиру Галактионовичу Ашешов относился с особой предупредительной нежностью. И не потому, что многим был ему обязан; не потому, что в лучших его произведениях видел как бы воплощение своих юношеских замыслов; но потому, главным образом, что очень уж сильно Короленко отличался от других знаменитых писателей, с которыми приходилось иметь дело. Даже самые простые и сердечные из них ни на минуту не забывали о своей значительности и всегда чуть-чуть любовались собой. Вокруг каждого как бы очерчен был круг, внутрь которого допускались лишь такие же знаменитости. Чернорабочему литературы, каким считал себя Ашешов, приходилось быть особенно осторожным, чтобы невзначай не переступить эту невидимую черту.
С Короленко никогда не возникало подобных проблем. В нем все было естественно и ничто напоказ. В круг его допускался всякий, чьи честные убеждения и верность этим убеждениям не вызывали сомнений. Всесветная слава Короленко, казалось, не имела для него никакого значения, во всяком случае, она нисколько не удлиняла дистанции между ним и окружающими.
Владимира Галактионовича, со своей стороны, восхищала самоотверженность таких людей, как Ашешов. Выявление крупных и мелких злоупотреблений, разоблачение афер различных дельцов, непрерывная война с беззаконием и цензурой (в провинции еще более придирчивой, чем в столицах) — в этом проходила их жизнь. Они неизменно оказывались во вражде с губернатором, полицией, со всеми отцами города. Им мстили доносами, обысками, тайным и явным надзором; их газеты приостанавливали и закрывали навсегда. Но они основывали новые печатные органы, а если это не удавалось, перебирались в другой город и снова брались за свою незаметную, но такую нужную России работу.
Сам Короленко был из той же породы, но его защищало громкое имя; эти же, рядовые служители столь жестоко гонимой гласности, были совсем беззащитны, но упорно делали свое дело.
Встреча с Ашешовым в Кишиневе оказалась для Владимира Галактионовича полным сюрпризом. Поздно вечером сидел он в своем номере, записывая в тетрадь впечатления ужасно проведенного дня (это был второй день его пребывания в Кишиневе) и со страхом ожидая неизбежную бессонницу (слишком сильно были напряжены нервы), когда в дверь постучали и затем просунулась в нее сияющая физиономия.
Короленко тотчас бросился к нежданному гостю:
— Николай Петрович! Какими судьбами? Как вы меня нашли?
Они троекратно, по-русски, расцеловались.
— Беру ключ у коридорного, а он глядит именинником. «Пока вас не было, — говорит, — у нас еще один писатель поселился», — поправляя усы и немного по-волжски «окая», стал рассказывать Ашешов. — «Кто же это осмелился?» — спрашиваю — «Сам господин Короленко!» — «А коли так, — говорю, — веди меня к самому Короленко!»
— Молодец! Какой же вы молодец! — воскликнул Владимир Галактионович. — Тоже будете писать о погроме? — Короленко подал стул и усадил гостя.
— Что значит «тоже»? — шутливо обижаясь, возразил Ашешов. — Это вы — «тоже». Я уезжал на три дня, а вообще здесь уже месяц. Имею задание собрать как можно больше фактов и дать подробную картину всего, что здесь произошло. Так что на вашу долю, пожалуй, ничего не останется.
— Останется, Николай Петрович, останется! Надеюсь, глотки мы друг другу не перегрызем из-за еврейской конкуренции, как думаете? На исчерпывающую картину я не претендую, а вот несколько отдельных эпизодов попробую набросать, чтобы расшевелить воображение публики. Отсутствие воображения, знаете ли, самая благодатная среда для бацилл юдофобии. Господа антисемиты отличаются одним и тем же свойством: у них атрофировано воображение.
— Ну, не совсем так! — возразил Николай Петрович. — Когда надо показать еврейские козни, они такое способны вообразить, что нам с вами ни в каком сне не приснится.
— Нет, не говорите; то, что вы имеете в виду, не воображение, а предубеждение. Это совсем другое.
— То есть? — не понял Ашешов.
— Воображение, Николай Петрович, это дитя культуры, свойство, воспитанное в нас цивилизацией, тогда как предубеждения восходят к первобытным инстинктам, маскируют, если хотите, первобытный инстинкт. Человек уже слишком цивилизован, чтобы просто так, без всякого повода хватать ближнего своего за горло. Мораль, религия, цивилизация учат человека добру и справедливости. А сидящий в нем зверь хочет именно хватать и кусать. Человек стыдится этих наклонностей, подавляет их в себе, но тем охотнее приписывает всякие гнусности другим, видя в том оправдание для своих собственных. На низменных свойствах человеческой натуры и играют умные негодяи вроде издателя «Бессарабца». Но это не воображение, нет, это именно предубеждение. Тот, кто наделен воображением, умеет поставить себя на место другого. Он чувствует чужую боль, как свою… Вот я и хочу показать несколько картин, чтобы расшевелить воображение господ юдофобов. Пусть полюбуются на дело своих рук. Только не знаю, преуспею ли…
— Какие могут быть сомнения! — удивился Ашешов. — При вашем таланте…
Владимир Галактионович остановил его нетерпеливым жестом.
— Это вы оставьте. Кажется, вы меня достаточно знаете, чтобы не думать, что я напрашиваюсь на комплименты. Не далее как сегодня я встречался с местными юдофобами, и просто выть хочется от бессилия что-либо им втолковать. И ведь что удивительно. Говоришь с ними о том, о сем, и видишь, что вроде бы не злые люди, радушные, вежливые, здраво рассуждают о многих предметах. Но как только коснешься евреев, словно в них что-то по команде меняется. Какая-то пелена ложится на лица, какая-то непроницаемая тупость, и все тотчас становятся чем-то неуловимо похожими друг на друга, словно родные братья. Такое, знаете ли, братство, только замешано оно не на любви, а на ненависти. Всякий раз разговор с ними начинается и завершается одной и той же фразой. Знаете какой?
— Знаю! — красивыми длинными пальцами Ашешов потрогал усы, и в глазах его сверкнуло что-то озорное. — Фраза эта известна: «Евреи сами виноваты!»
— Вот именно! — усмехнулся Владимир Галактионович. — Даже о погроме они твердят то же самое: дело-де плохое, но виноваты сами евреи. «В чем же, спрашиваю, они виноваты?» — «А вот, говорят, представьте себе — идет толпа. Убивать положительно не хотели. Ну там разбили бы окна, мебель… Черт с ними. Жизнь человеческая дороже этого». — «Конечно, соглашаюсь я». — «Ну, а когда какой-то жид из-за окна, спрятавшись, вдруг выстрелит и убьет человека…»
Владимир Галактионович подробно пересказал чудовищный по своей тупости разговор, оставивший в нем такой осадок, словно он увязал в трясине. Среди собеседников выделялся высокий худощавый блондин вполне интеллигентной наружности, казалось, с ним можно найти общий язык. Владимир Галактионович пытался у него уточнить:
— Итак, убийства первыми произвели евреи?
— Да, — ответил тот, — в первый день убийств не было.
— Уверены ли вы в этом? В газетах писали, уже в первый день было несколько убитых евреев.
— Не знаю, кажется, нет.
— Значит, все-таки вы не уверены. И, может быть, они тоже не были уверены. Согласитесь, что если на вашу квартиру, где ваша жена, дети, идет толпа с камнями и дрекольем, вы тоже будете защищаться, как сможете.
На это блондин не отвечал. Было видно, что у него не появилось даже искры сомнения. Он просто не мог представить себя в положении еврея, подвергшегося нападению толпы.
Так продолжалось и дальше. Заговоришь о другом — перед тобой нормальные люди, не лишенные даже оригинальности, но как только речь зайдет о погроме, та же тупая уверенность в лицах и та же надоевшая шарманка:
— Они сами виноваты, у них в руках все!
— Что значит — все? — допытывался Владимир Галактионович.
— Вся местная жизнь…
— В чем же это проявляется? В городской думе евреев большинство, и этим вызваны какие-нибудь неустройства?
— Большинства нет… Но гласные думы, которые христиане, в долгах у евреев.
— Допустим. Какие же неустройства приписываете вы влиянию евреев на городское самоуправление?
Снова растерянное молчание.
— А их сплоченность, — опять говорит блондин. — Вот на углу Пушкинской улицы основал магазин некто Фитов, болгарин. Завел усовершенствования: электричество, асфальт у входа. А все ж разорился, не мог конкурировать с евреями!
— Что ж, много город потерял оттого, что болгарин не мог конкурировать?
— Да все-таки…
В разговор включился долго молчавший широкоскулый брюнет с горящими, как угли, глазами. На смуглом лице его выражение неподвижности, подобное тому, что Владимир Галактионович замечал у многих молдаван. Слова брюнет бросал медленно, отрывисто, тяжело, словно ударял молотом, но за медлительностью речи чувствовалась страстность.
— Было в Елинешти. Шли двое. Рабочие. Возили известь. Ну, выпили. Ми богуле, говорят, то есть наш Бог. Евреи: наш Бог. Заспорили. Один ударил кого-то. Тот тоже ударил. Избили так, едва не остался там.
Так говорил он долго, бросая отдельные отрывочные факты, конечно, не проверенные, односторонне истолкованные, но при этом было видно, как в страстной душе его медленно закипает ненависть.
— Около Сорок. Колония есть. Евреи землю пашут. Как крестьяне. У них козы есть. Козы пошли в виноградник к молдаванину. Тот прибежал: «Дракуле, зачем выпустили, возьмите коз, чтоб они пропали». — «А, ты так!» Стали бить. И еще, извините, помочили сверху. Он пошел к уряднику. Урядник говорит: «Ступай в больницу». И больше ничего. Урядник у них имеет квартиру и стол.
— Ему надо было идти не к уряднику, а в суд!
— В суд? — И брюнет безнадежно махнул рукой.
— Это здесь главный мотив, — кивнул Ашешов. — Суд, полиция, чиновники, городская дума, даже газета Крушевана — все подкуплено евреями. Хотя никто не терпит столько произвола от властей и полиции, как евреи.
— Я пытался им об этом сказать, но безнадежно. Страшное ощущение: говоришь с людьми на одном языке, а между тобой и ними глухая стена, через нее не пробьешься и не докричишься. Имеющие уши — не слышат. В крайнем случае пускается в ход уже самый неотразимый аргумент: «Я человек русский и не могу выносить этой еврейской наглости».
— А наглость состоит в том, что они все-таки существуют, эти окаянные евреи, позволяют себе существовать, — мрачно заметил Николай Петрович.
Как легко было говорить с Ашешовым! Владимир Галактионович почти совсем успокоился, оттаял душой. После непробиваемой тупости утренней беседы особенно дорого было видеть человека, который понимает тебя с полуслова. Ему не надо разжевывать, что ты вовсе не прекраснодушный юдофил, готовый превозносить любого еврея. Среди них тоже есть люди глупые, невоспитанные, нечестные, наглые, но никакой «еврейской наглости» нет и не может быть, как нет и не может быть «еврейской эксплуатации», потому что невоспитанных, да и подлых людей хватает в любом народе.
— Ну, ладно, Николай Петрович, довольно об этом. Расскажите лучше, как вы живете.
— С вашей легкой руки из никому не ведомого провинциала становлюсь столичным писателем. Между прочим, имею задание подготовить статью к вашему пятидесятилетию, так что, не угодно ли дать интервью?
— Обо мне вы и так все знаете. А насчет моей легкой руки — бросьте. Про Пешкова тоже говорят, что я ввел его в литературу. Но мне сотни молодых людей приносили рукописи, а Максим Горький получился из одного. Да и учился он больше у вас, чем у меня. Расскажите-ка, что говорят в столице о погроме?
— Что говорят? Ясно, что! Двести писателей приняли Обращение к русскому обществу, но в печать цензура не пропустила.
— Это Обращение я читал, его поместил Струве в своем «Освобождении».
— Эх, один бы такой журнал, но не в каком-то Штутгарте, а здесь, и мы переделали бы всю Россию! — как-то по особенному проговорил Ашешов.
— Поэтому-то и не допускают, чтобы у нас был хоть один полностью независимый легальный журнал. Это означало бы конец полицейской системы власти, столь оберегаемой.
— Но оберегать ее становится все труднее, — заметил Ашешов. — Министр внутренних дел Сипягин, как вы знаете, уже поплатился за это жизнью, и я не удивлюсь, если такая же участь постигнет его преемника. Когда обществу зажимают рот, оно выдвигает из своей среды отчаянных юношей, готовых пожертвовать собой, но хоть таким способом высказаться.
— И самое любопытное, что преемник Сипягина это отлично знает, — согласился Владимир Галактионович. — Зимой я был в Петербурге и видел, как Плеве ездит по городу. Вы, конечно, тоже видели. В карете занавески спущены — боится выглянуть. Со всех сторон охрана на велосипедах. Арестантов так не стерегут в дороге — можете мне поверить: я был арестантом.
— Добавьте к этому, — заметил Ашешов, что улицу заранее очищают от народа, а на тротуарах среди публики шныряют шпики. Не министр едет по столице вверенного ему государства, а чужеземный завоеватель, ворвавшийся во вражеский стан.
— А что же прикажете им делать! Вся Россия для власти — вражеский стан, в этом корень вопроса. Кстати, что вы думаете о роли Плеве в организации погрома? Упорно говорят о телеграмме, какую он послал губернатору, но я полагаю, что это вздор. Не вижу пользы для власти от такого бессмысленного побоища.
— Ну, как же, польза немалая или, во всяком случае, видимость пользы. Ведь только последнему глупцу неясно, что в стране надвигается революция — такая же, как в восемьдесят первом году, но только более мощная. Тогда пожар удалось загасить, и вместе со спадом революции шла волна еврейских погромов. Направлял ее, как вы знаете, департамент полиции во главе с Плеве. Отчего же не прибегнуть к средству, которым Плеве, по его разумению, однажды уже выручил правительство?
— Нет, я считаю его умнее, — решительно возразил Короленко. — Одно дело — кричать, что русский народ предан царю, а бунтуют только инородцы; другое — сознательно организовывать еврейский погром, заранее зная, что он вызовет бурю возмущения и внутри страны, и заграницей.
— Власти могли не учесть того размаха, какой приняли протесты. Да и сам погром, возможно, был задуман в более скромных масштабах. При всем своем уме Плеве мог впасть в ошибку, свойственную всем деспотичным правителям: они хоть и нос боятся высунуть без охраны, но считают себя хозяевами положения и полагают, что в любой момент могут загнать обратно в бутылку выпущенного джинна. А джинн-то вдруг оказывается непослушным.
— Вижу, вы склонны во всем обвинять правительство. Нелегко же вам будет опубликовать факты, которые вы собираете.
— Я их уже публикую регулярно каждую неделю, — спокойно ответил Ашешов.
— Вот как! — воскликнул Владимир Галактионович. — Почему же мне не попадались ваши материалы? Где они появляются?
— Да все там же. В «Освобождении». Без подписи, конечно. Я и уезжал отсюда в Румынию, чтобы спокойно передать корреспонденцию.
— Так вот оно что! А я все хочу спросить, что вам здесь делать целых три месяца, когда в подцензурных изданиях многого все равно не скажешь… Хорошо, конечно, что есть это «Освобождение», я и сам давал туда кое-что. Только много ли экземпляров его проникает в Россию? Нет, я буду писать для «Русского богатства». Пусть не все удастся сказать, но это будет сказано здесь.
Было далеко за полночь, когда Короленко улегся в постель. Зато он чувствовал, что годами изнурявшая его бессонница сегодня не опасна ему. Нечаянная встреча с другом расслабила нервы, и он знал, что уснет как убитый.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции
Поверенного еврейских молитвенных обществ в гор. Кишиневе, Присяжного Поверенного Александра Николаевича Турчанинова.
Прошение
Полное и ясное исследование тех печальных событий, которые имели место 6–8 апреля 1903 года в г. Кишиневе и которые вытекают из сложных отношений разных слоев и интересов местного населения, необходимо требует, с одной стороны, много труда и усилий, а, с другой стороны, такого положения лиц, производящих исследование, которое ограждало бы их от возможности столкновений, при исполнении ими этих многосложных обязанностей, с особыми затруднениями, вытекающими из личных знакомств и сношений, столь естественных и неизбежных в малых провинциальных городах.
Как бы ни были добросовестны и искренни действия представителей местной следственной власти, если производимое ими исследование коснется того небольшого в губернском городе круга лиц, члены которого находятся между собою в постоянном и, можно сказать, необходимом общении, то доверие местного общества к действиям таких представителей колеблется, и исследование не может обнимать собою всего предмета со всей полностью. В особенности усиливается недоверие, а вместе с тем теряется правильное течение дела, если в местном обществе распространяются слухи о тех или других воззрениях представителей следственной власти на объеме подлежащей им задачи, выражающих их как бы предубеждения. В таком именно положении находится исследование главного дела о погроме в городе Кишиневе, где вполне известно, что, несмотря на протечение двух месяцев с начала производства дела, не было направлено никаких розысканий к разъяснению заявляемых потерпевшими и господствующих среди них слухов, подтверждаемых многими, сопровождавшими беспорядки, обстоятельствами, об организации, вызвавшей эти печальные события, и о тех отдельных лицах, занимающих в городе довольно видное положение, которым приписывается потерпевшими подстрекательство толпы к насилиям и буйствам.
Какие несомненные доказательства полного внимания к ходатайствам и указаниям потерпевших не представляют действия прокурорского надзора Одесской Судебной Палаты, по отдаленность его нахождения от места производства следствия, и невозможность поэтому постоянного наблюдения и воздействия на производимое исследование, а вместе с тем важность и многотрудность дела, обнимающего собою обстоятельства очень сложные, дают мне смелость обратиться к Вашему Высокопревосходительству с почтительнейшею просьбою о назначении для производства следствия по делу о беспорядках в гор. Кишиневе совершенно постороннего местной жизни следователя, сообразно 288 ст. Уст. Уголовн. Судопр.
Присяжный Поверенный Александр Турчанинов
6 июня 1903 г.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ Н.В. МУРАВЬЕВА:
Ввиду того, что суд. след. СПБ. и Моск. Окр. судов по особо важным делам заняты производящимися у них спешными делами, и за отсутствием каких-либо уважительных оснований к изъятию из производства местных следственных властей дел, имеющих отношение к еврейскому погрому в Кишиневе 6–8 апреля с.г., а также за принятыми уже со стороны м-ва юст. мерами к обеспечению всестороннего энергического и беспристрастного исследования этого дела — оставить без последствий, о чем ирис, повер. Турчанинову объявить. 9 июня 1903 г.
* * *
Секретно
Господину Прокурору Одесской Судебной Палаты Прокурора Кишиневского Окружного Суда
Представление
Вследствие предписания от 30 июля с.г. за № 210, имею честь донести Вашему Превосходительству, что в настоящее время главным руководителем потерпевших от погрома, бывшего 6–9 апреля с.г., является Помощник Присяжного Поверенного Округа С.-Петербургской Судебной Палаты, Цеге фон Мантейфеля, проживающего в г. Ревеле, Николай Дмитриевич Соколов. По его указанию, здесь работают Помощники Присяжных Поверенных округа той же Судебной Палаты: Карабчевского — Федор Акимович Волкенштейн и Шефтеля — Владимир Ефимович Ландсберг. Далее Помощники Прис. Поверенных округа Киевской Судебной Палаты: Радкевича — Константин Константинович Чекеруль-Куш, Извекова — Анатолий Александрович Гольдштейн; Рущинского — Михаил Васильевич Милютин и неизвестно мне у кого состоящий Помощником — Маврикий Зомавитович Шишко. Кроме того, работает также помощник Прис. Повер. округа Харьковской Судебной Палаты Куликова — Борис Викторович Троцкий. Все означенные лица поселились в Кишиневе тотчас после отъезда Прис. Пов. Турчанинова и Зарудного, т. е. с конца апреля и начала мая. Деятельность их ни в чем существенном и полезном для дела не проявилась. Производя все время «параллельное следствие», они не дали ни одного верного указания и ничем не способствовали раскрытию тех дел, кои направлены нами по 227 ст. У. У. С. Все усилия свои они направляли к тому, чтобы тем или иным способом узнать подробности предварительного следствия и влиять на ход его в своих целях и интересах. Цель же их, по-видимому, заключалась: 1) ходатайствовать о возбуждении по сему делу уголовного преследования против Губернатора и др. лиц администрации, дабы создать возможно «громкий процесс», коим приобрести себе «известность»; 2) поставить дело таким образом, чтобы обратить внимание правительства вообще на еврейский вопрос и положение евреев; 3) привлечь к делу в качестве подстрекателей лиц состоятельных, дабы тем самым обеспечить потерпевшим гражданские иски. Для этой цели они усиленно, по бесплодно, стараются доказать существование будто бы «организации» погрома, и 4) в возможном затягивании преде, следствия, в видах продления, несомненно, получения причитающегося им ежемесячного гонорара. В указанных целях они заставляли и подавали, а равно и ныне еще подают от имени потерпевших массу прошений, в большинстве собственно неосновательных и бесцельных. Прошения эти они писали часто не по просьбе и желанию потерпевших, а вызывая к себе последних и, так сказать, «заставляя» их подписывать сочиняемые от их имени прошения. Насколько деятельность их мало соответствует истинным интересам дела, лучшим доказательством служит то, что они разошлись с местными Кишиневскими своими коллегами, которые все время держат себя крайне корректно и от которых к нам не поступало ни одной неосновательной жалобы или прошения. Такие «настоящие» представители потерпевших, как прис. повер. Е.С. Кенигшац и пом. прис. повер. Л.Б. Гольдштейн, будучи сами Кишиневскими евреями, значит лицами, непосредственно заинтересованными, говорили мне при переговорах с ними, что они не одобряют деятельности приезжих адвокатов, препятствующих только успокоению населения, жаждущего возобновления мирной, нормальной жизни, но что они ничего поделать не могут, т. к. приезжие адвокаты их не слушают, а поступают по-своему. Что касается гонорара, то упомянутые выше Помощники Прис. Поверенных получают таковой ежемесячно, каждый в размере от 300 до 600 руб., каковое вознаграждение сами они не считают «гонораром», а признают «возмещением лишь издержек на прожитие в Кишиневе и расходов по переезду». Источником этого вознаграждения является особый фонд в 40.000 руб., собранных «еврейскими комитетами помощи пострадавшим в Кишиневе», каковые комитеты после погрома образованы были во многих городах. Комитеты эти известный процент пожертвований отделили в особый упомянутый фонд в 40.000 руб., наименовав его «фондом юридической помощи», часть коего передали в распоряжение местных комитетов «помощи пострадавшим», как напр., Киевскому, С.-Петербургскому и Кишиневскому. Из указанного фонда упомянутые комитеты и присуждают уплату гонорара прис. поверенным и их помощникам, причем напр. прис. повер. Турчанинов за приезд свой сюда получил 3000 руб., а пом. пр. нов. Соколов получает 500 руб. ежемесячно. В случае недостачи, привезенная сумма в 40.000 р. будет, как мне объясняли сведущие лица, пополнена, насколько это будет нужно в данное время, т. к. общая сумма собранных в пользу евреев пожертвований крайне значительна. По всем изложенным данным, признавая деятельность указанных выше помощников присяжных поверенных не только бесполезной для дела, но и препятствующей умиротворению местного населения, из числа коего христиане весьма недовольны тем, что, по совершенно неосновательным прошениям евреев, их отрывают в летнее горячее время от полевых работ и напрасно заставляют являться на дознания и к следствию, хотя бы в качестве свидетелей, имею честь почтительнейше просить Ваше Превосходительство, не признаете ли возможность принять зависящие меры к ослаблению деятельности названных помощников присяжных поверенных и к предупреждению имеющей воспоследовать подачи ими целого ряда, вероятно, также неосновательных прошений, как в Окружный суд, так и в Судебную Палату и в Министерство Юстиции.
Прокурор Суда В. Горемыкин
№ 878
1 августа 1903 г.,
г. Кишинев
* * *
М. Ю. Доверительно
Прокурор Одесской Судебной Палаты.
Августа 9 дня 1903 г., № 225,
г. Одесса
В Первый Департамент Министерства Юстиции,
Второе Уголовное Отделение, 2 делопроизводство
Рапортом от 4 сего августа за № 221 я доносил Его Превосходительству Господину Управляющему Министерством Юстиции о том, что поселившиеся в г. Кишиневе помощники присяжных поверенных, по окончании предварительного следствия о Кишиневском погроме, начнут подавать многочисленные прошения с различного рода ходатайствами. Предположения мои сбылись: ежедневно ко мне поступают прошения, подписанные евреями, но писанные, несомненно, этими помощниками, в которых заявляются ходатайства о возвращении производственного следствия к доследованию, и основанием к этому приводится следующее: 1) что некоторые гражданские истцы не получили копию с производства; 2) что не все свидетели, указанные ими в подтверждение гражданского иска, допрошены; 3) что не все гражданские истцы и их свидетели, могущие удостоверить понесенные ими убытки, спрошены при следствии (потерпевших по делу несколько тысяч человек, и те из потерпевших, заявления которых на обвиняемых подтвердились на дознании, допрошены при следствии) и, наконец, 4) что, узнав об участии в беспорядках новых обвиняемых, они просят и их также привлечь к следствию, уже законченному; по делам о Кишиневских антиеврейских беспорядках привлечено к следствию несколько сот обвиняемых, и многие из них содержатся под стражею; к делу приобщен подробный осмотр всех разгромленных строений, и возвращать в настоящее время эти дела к доследованию не представляется никакого законного основания. В течение нескольких месяцев потерпевшие имели время и возможность предъявлять свои требования, и если они их своевременно не заявляли, то в этом их вина. Предъявления же, по окончанию следствия, неосновательных требований показывают желание их адвокатов, из неизвестных мне побуждений, растянуть дело на неопределенное время. А так как христиане едва ли могут рассчитывать на силы своих защитников, — знаменитости адвокатуры предпочли защищать гражданские интересы евреев, — то остается уповать на судей, которые, без сомнения, озаботятся выяснением истины и, надо полагать, сумеют разобраться в сопоставлении свидетельских показаний с обстановкой погрома. Нельзя забывать, на что способна злоба евреев, когда им нужно унизить и опозорить христиан на весь свой еврейский мир. Нельзя также забывать о единодушии евреев, когда им нужно подставить под удар правосудия своих врагов. Предстоящий суд должен пролить истинный свет на всю эту драму и выяснить действительную подкладку Кишиневского погрома, не обращая внимания ни на какие изветы. Суду необходимо разобраться в вопросе, кто вызвал погром, кто был зачинщиком и кто избивал сначала христиан. Если же суд ограничится только присуждением к разным наказаниям убийц евреев, ими же указываемых, а зачинщики, подстрекатели и участники избиения христиан окажутся неразысканными, то евреи будут иметь возможность вторично оклеветать всю Россию. Виновные христиане, конечно, должны понести должную кару, но этой кары не могут и не должны избежать и евреи, которые возобновили на второй день побоище с оружием в руках. Вот почему, если верны дошедшие до нас сведения, что подсудимыми являются только христиане, то, полагаем, суд преждевременен, и следствие должно быть дополнено.
Прокурор Суда В.Горемыкин
Глава 3
Владимиру Галактионовичу были известны те сложности, какие возникают в межнациональных отношениях, особенно если есть силы, стремящиеся их осложнять. Детство его прошло в маленьких городках Волынской губернии, в том жарком плодородном крае, где скрестились судьбы многих народов, и каждый из них вносил свой колорит в своеобразную пестроту местной жизни. Русские и поляки, украинцы и евреи отличались друг от друга верованиями и обычаями, говором и манерами, темпераментом, традиционной одеждой, отчасти родом занятий. Русские чиновники снимали квартиры у поляков, в прислугу нанимали украинцев, а обувь и одежду шили у ремесленников-евреев. Евреи-торговцы доставляли в город зерно и фураж, скупаемые у окрестных крестьян, а в деревню везли инструмент, инвентарь и прочий городской товар. Беднейшие из евреев, не имея определенных занятий, суетились вокруг постоялых дворов, готовые за копеечные чаевые бежать по поручениям заезжих господ, но чаще одариваемые руганью и пинками за «жидовскую назойливость».
Все сплеталось в клубке взаимных услуг и интриг, честных и нечестных сделок, дружбы и вражды, взаимной помощи и конкуренции. Все так или иначе зависели друг от друга и только когда умирали, отправлялись на разные кладбища — православное, католическое, еврейское.
Конечно, не было недостатка в недоразумениях, обидах, столкновениях, усугублявшихся взаимным недоверием и стереотипами представлений, питаемых вековыми предрассудками.
В семье Короленко преобладала терпимость, хотя бы потому, что хозяин дома — пуритански честный и неподкупный судья — был православным и русским, а хозяйка — полькой и католичкой. Но даже относительная широта взглядов в доме господина судьи уживалась с предубеждениями. В «Истории моего современника» Владимир Галактионович упоминает портного Шимко «с широким лицом, на котором тонкие губы и заострившийся нос производили впечатление почти угрюмого комизма», так что все «изощряли остроумие над его наружностью и над его предполагаемыми плутнями». Надо думать, еврея и пускали-то в дом не столько из-за того, что в нем нуждались, сколько ради потехи… Однако, когда судья умер и вдова осталась без всяких средств, Шимко сам предложил ей свои услуги и с усердием обшивал детей, «не заикаясь о сроках уплаты и никогда не торгуясь», да и во многих житейских делах помогал неопытной женщине. В предполагаемом плуте обнаружился бескорыстный и великодушный человек, готовый без лишних слов прийти на помощь в трудную минуту. Но чтобы это открылось, потребовались чрезвычайные обстоятельства. В обычном же представлении еврей был плутом. Не потому, что пойман на плутовстве, а потому, что еврей. Они все такие. Это не требовало доказательств…
Национальную нетерпимость Короленко почувствовал на себе, еще будучи маленьким мальчиком, когда только начал учиться в пансионе пана Рыхлинского. На всю жизнь он запомнил острую обиду, какую испытал в тяжелые дни расправы над восставшей Польшей, когда товарищ поляк Кучальский, дружбой с которым он особенно дорожил, холодно оттолкнул его только за то, что он «москаль».
Появившийся в пансионе новый учитель Буткевич бравировал показным украинофильством и красовался в почти бутафорских малороссийских одеждах. Учитель горячо убеждал Владимира, что он вовсе не русский, а «вольного казацького роду». На мальчика эта новость произвела лишь то впечатление, что ничто, стало быть, не мешает его дружбе с Кучальским. Однако маленький гордый поляк, услышав, что Короленко «не москаль, а малоросс», печально сказал:
— Это еще хуже. Они закапывают наших живьем в землю.
По отношению к Владимиру Короленко это было вдвойне нелепо: ведь он сам был наполовину поляком! Но своей детской душой он понимал, что суть дела не в проценте крови. Будь он чистокровный малоросс или чистокровный «москаль» — в чем была бы его вина? Они закапывают, а он в ответе! За действия людей, которых никогда не видел, не знает, на чьи поступки не может никак повлиять…
До чего способны дойти те, кто культивирует национальную рознь, Короленко познал полной мерой, когда вел борьбу за вотяков-удмуртов, обвиненных в принесении человеческой жертвы языческому божеству. Прошло восемь лет, но перед Владимиром Галактионовичем, словно живые, стояли лица негодяев, фабриковавших ложное обвинение против целой народности. Иезуитствующий прокурор Раевский, пристав Шмелев, изолгавшийся ученый эксперт Смирнов, за спиною которых стояла грозная тень обер-прокурора синода Победоносцева, изощряли свою дьявольскую изобретательность на подлогах и фальсификациях. Жестокие истязания подозреваемых, запугивания свидетелей, извращение следственных материалов — все было пущено в ход, чтобы сбить с толку невежественных присяжных и затем использовать обвинительный приговор для разжигания племенной вражды.
Владимиру Галактионовичу удалось придать делу широкую огласку, а после того, как Сенат дважды кассировал обвинительный приговор, пришлось выступить на суде в роли защитника. Не имея ни опыта, ни юридического образования, он наделал массу ошибок, но вложил в дело весь свой ум, темперамент и страсть.
Остальное довершили его товарищи по защите, особенно Николай Платонович Карабчевский, один из сильнейших адвокатов России. И они выиграли это единственное в своем роде сражение.
Карабчевский так нервничал перед вынесением приговора, что не мог пойти в суд; вместо этого он разделся, лег в постель и с головой укутался в одеяло. А когда услышал от примчавшегося из суда Владимира Галактионовича столь страстно ожидаемое: «Всех оправдали!», взметнулся вихрем и, как был, в исподнем, повис у него на шее…
Вот он, миг торжества! Звездный час всей жизни Владимира Галактионовича.
То был бы и счастливейший его час, если бы… Если бы не смятый комок бумаги, судорожно всунутый во внутренний карман пиджака и прожигавший грудь раскаленным шомполом… Именно в то утро подали ему телеграмму, и страшный смысл ее, еще не дойдя до сознания, опалил сердце.
«…умерла Оленька».
Два слова перевернули все. Хрупкое беззащитное создание — ее больше не было, не существовало на свете… Не было этих нежных волосиков, обрамлявших такую родную мордашку; этих пухлых пальчиков с вмятинами на суставах, этих больших и ясных, радостно-доверчиво-удивленных глаз… Не было больше невинного ангелочка, за которого в любой миг, и не задумываясь, с радостью величайшей, отдал бы жизнь… Ее уже не существовало на свете… А он был — такой же большой, сильный, деятельный, оставивший крошку в предсмертных мучениях…
Ведь ей уже было плохо, когда он уезжал на этот суд… Очень плохо… Острая жалость перехватывала горло, когда прижимал к себе ее маленькое, сотрясаемое удушливым кашлем тельце… Но суд был назначен, и он должен был ехать, отказаться в последний момент значило окончательно погубить удмуртов. Она, видно, так и зашлась в одном из приступов этого страшного кашля… Таков был естественный ход природы… Но разве это естественно, когда умирает дитя? Покинутое дитя… Какой страшной ценой далась победа! Нужна ли она ему — такой-то ценой?..
После этого потрясения и началась у него глубокая, годами длившаяся депрессия с неизбежными ее атрибутами, то есть безволием, безысходной тоской, отвращением к литературной работе и к самой жизни и стойкой выматывающей нервы бессонницей, по временам возвращающейся и теперь, после сильного перенапряжения нервов.
Если бы не оправдали тогда вотяков, он не пережил бы этого, может быть, покончил бы с собой… Выходило, что он спас их от каторги, а они спасли ему жизнь.
Они с Карабчевским еще возбужденно обменивались восклицаниями, когда увидели в окно одного из присяжных — крепкого широкоплечего крестьянина с широкой русой бородой. Все дни процесса он сидел, расставив ноги, стиснув крепкие зубы, и словно распространял вокруг себя поле вражды и недоверия к подсудимым. Владимир Галактионович внимательно следил за его настроением и именно ему мысленно адресовал свои речи. Убедить этого крестьянина значило добиться оправдательного приговора.
И вот этот самый крестьянин, уже немного выпивший на радостях, низко поклонился и, подойдя к открытому окну, сказал:
— Ну, спасибо, господа хорошие, вот я вернусь в деревню, расскажу. Ведь я ехал сюда, чтоб засудить вотских — пусть не пьют христианскую кровь. Чуть было не взял грех на душу. Теперь сердце у меня легкое!.. Спасибо! — и он опять поклонился.
Они переглянулись с Карабчевским, и Николай Платонович сказал, глядя вслед удаляющемуся крестьянину:
— Даже в очень сложном и запутанном деле самый темный мужик способен определить, где правда, если ему изложат все «за» и «против». Никакая клевета не страшна, если противная сторона имеет возможность опровергать. Да и клеветник остережется лгать, зная, что получит отпор. Вот почему нам так нужна гласность…
Все это было верно. До банальности верно, так что неловко было повторять. И все же повторять было необходимо, потому что ничто не было так далеко от реальной российской действительности, как эта плоская банальность. Полицейский произвол и культивирование национальной нетерпимости были лишь крайним выражением безгласности, которая во сто крат хуже полной немоты, потому что безгласность не есть молчание, это гласность наоборот, когда можно выдавать за истину самую чудовищную ложь.
Именно безгласность позволила в восьмидесятые годы объявить инспирированные фон Плеве погромы вспышкой народного гнева против «еврейской эксплуатации», а затем, введя чудовищные «Временные правила» против евреев, разработанные комиссией во главе с тем же Плеве, оправдывать их необходимостью защитить евреев против этого гнева. При этом даже не очень заботились держать в секрете, что борьба Плеве против мифической «еврейской эксплуатации» приносит его покровителю графу Игнатьеву, тогдашнему министру внутренних дел, отнюдь не мифические барыши.
В обществе хорошо знали, что граф ведет очень широкую беспорядочную жизнь и, несмотря на баснословные богатства, жалование министра и крупные единовременные выдачи из казны «за особые заслуги», часто нуждается в деньгах. И вот, когда нужда становилась особенно острой, граф поручал Плеве подготовить новый антиеврейский законопроект, причем всякий раз так получалось, что строгая тайна становилась известна еврейскому «печальнику» барону Гинцбургу — крупному банкиру и филантропу. От барона к графу поступало приглашение отобедать в узком кругу в отдельном кабинете гостиницы «Англетер», на что граф, несмотря на занятость государственными делами, всегда ухитрялся выкроить время. За обедом, в котором участвовало не больше пяти-шести персон, барон Гинцбург тихим вкрадчивым голосом высказывал осторожные суждения о нежелательности нового закона. Граф выслушивал все с благосклонным вниманием, после чего, утомленный беседой и обильными возлияниями, тихо засыпал в уютном кресле.
Чтобы не мешать его сиятельству почивать, все присутствовавшие удалялись. А минут через пять в кабинет осторожно входил секретарь барона Гинцбурга и, приблизившись на цыпочках к спящему графу, вкладывал ему в боковой карман увесистую пачку банкнот. Еще через пять минут секретарь снова заглядывал в кабинет. Если граф продолжал почивать, то это означало, что сумма недостаточна и операцию надобно повторить. Если же он заставал графа проснувшимся, то все было в порядке, и обед продолжался. В обществе поговаривали, что сами «Временные правила», будто бы ограждавшие евреев от народного гнева, появились только потому, что граф и барон не смогли столковаться о величине взятки.
Однако официально всей этой правды не существовало, громко заявить о ней было невозможно, зато любая ложь, соответствовавшая видам правительства, могла без всяких препятствий выплескиваться на страницы печати. Развернулось соревнование между бессовестными писаками: кто кого превзойдет в изобретении антисемитских мифов. Евреи выставлялись как прирожденные хищники, паразиты, притеснители, проныры. Поношению подвергались их религия, традиции, обычаи… На множество ладов разоблачался всемирный иудо-масонский заговор… А под этот трезвон шло методичное ограбление бесправного народа. «Временные правила» были составлены так, что неукоснительное их соблюдение привело бы к постепенному вымиранию доброй половины российских евреев. «Правила» приходилось нарушать — поневоле евреям, а по доброй воле — властям, чья добрая воля щедро оплачивалась из еврейских карманов. А простой народ, не имевший никаких выгод от борьбы с «еврейской эксплуатацией», получал своеобразную моральную компенсацию в виде сознания собственного превосходства над евреями, которых можно было безнаказанно оскорблять и унижать, тем более что именно в них, как изо дня в день втолковывалось народу, причина всех его бед и несчастий.
В глазах Короленко все это означало, что в России нет особого еврейского вопроса, ибо он неотделим от главного, русского вопроса — о том, какое будущее готовит себе Россия.
Конечно, не один Короленко так думал. Владимир Галактионович хорошо помнил взволновавшее его письмо Владимира Соловьева, полученное много лет назад. Соловьев просил присоединиться к обращению, с которым намеревались выступить крупные деятели науки и литературы. Обращение было написано самим Соловьевым, а первой под ним стояла подпись Льва Толстого. В нем говорилось, что раздувание антисемитских настроений — это небывалое нарушение основных требований справедливости и гуманности, и оно ведет к нравственному одичанию русского народа. Опасность нравственного одичания и побудила религиозного христианского философа взять на себя инициативу выступления против антисемитизма.
Возвращая «Обращение» со своей подписью, Владимир Галактионович сопроводил его обстоятельным письмом, он благодарил Соловьева за то, что тот «не обошел его в благородном деле».
«Я всегда смотрел с отвращением на безобразную травлю еврейства в нашей печати, травлю, идущую о бок с возрастанием всякой пошлости и с забвением лучших начал литературы, — писал в том письме Владимир Галактионович. — Даже заведомого злодея нельзя наказывать за проступок, в котором он не повинен, и никто не виновен в том, в чем не участвовала его воля. Ни один человек поэтому не должен отвечать за то, что он родился от тех, а не других родителей, никто не должен нести наказание за свою веру, — потому что верность религии, пока не убежден в ее ошибочности, есть достоинство, а не порок… Боритесь с эксплуатацией во всех ее видах. Если верно, что евреев эксплуататоров больше, чем христиан, что ж, значит, еврейство в этой борьбе понесет больше урона, и это будет естественным следствием его пороков. Таким образом, даже карающая справедливость будет удовлетворена. А теперь из-за этой борьбы с „еврейской эксплуатацией“ слишком уж явно выглядывает эксплуатация российская, распущенная и циничная».
Соловьев подготовил целую книгу, включив в нее это и другие подобные письма, однако она была конфискована и уничтожена цензурой. Да и само «Обращение», подписанное двумя десятками виднейших представителей русской интеллигенции и культуры, не увидело света. Так и не дошел до России независимый голос лучших ее представителей. Подлые газетенки изо дня в день продолжали забрасывать грязью целый народ, а честная пресса вынуждена была молчать, задушенная цензурным кляпом. Не требовалось большой проницательности, чтобы понимать, что именно эта безгласность и привела Россию к кровавой кишиневской Пасхе.
Пока тощая кляча, с трудом переставляя копыта, тащилась по окраинным улочкам, петлявшим среди каменных накаленных домишек с узкими окнами, похожими на бойницы — дома эти, видать, были свидетелями еще турецких набегов, — Владимир Галактионович сидел неподвижно, молча уставившись в округлую спину извозчика и о чем-то сосредоточенно думая. Извозчик тоже молчал и почти не шевелился на своем облучке. Он щадил старую лошадь, благо седоки не торопили его. Ашешов искоса поглядывал на Короленко, но видел, что мыслями тот еще там, на Азиатской улице, у страшного дома номер 13…
— У меня не идет из головы один эпизод, — заговорил, наконец, Владимир Галактионович, всем массивным телом своим поворачиваясь к Ашешову. — Когда эти трое, из сарая, вбежали на чердак и увидели, что громилы следуют за ними, они стали разбирать изнутри черепицу, чтобы выбраться на крышу. Первым удалось вы-скопить юркому Махлеру. Затем старик Вернадский подсадил дочь. А когда следом за ней стал вылезать сам, к нему уже подбежали, и какой-то детина повис у него на ногах. Дочь тянула вверх, а детина вниз. Девушка выбилась из сил, и вот, отчаявшись, она наклонилась к дыре и стала умолять: «Отпусти его, я тебя очень прошу, отпусти». И тот, представьте себе, отпустил!.. — Владимир Галактионович откинулся на спинку сидения, помолчал, потом продолжал, уже не поворачиваясь к Ашешову, а словно бы вслух рассуждая с самим собой. — Понимаете, какой нелепый момент! В нем, собственно, весь ужас погрома. Что двигало этими людьми? Племенная ненависть, хотя бы и искусственно вызванная агитацией Крушевана, — это понятно; но тут даже не было ненависти. Так, какое-то озорство, развлечение. Вроде каруселей или перепляса под пьяную гармонь, только с запахом крови… Может быть, чудаку, который внял мольбе несчастной дочери, и отпустится его грех, но ведь вполне возможно, что, проявив великодушие, он затем вылез на крышу и сам был среди тех, кто сбросил с нее и Вернадского, и его дочь…
— Почти уверен, что так и было, — отозвался Ашешов. — Толпа есть толпа, она не ведает, что творит, но зато хорошо ведают те, кто ее направляет. Агитацию Крушевана не отодвинешь как нечто второстепенное.
— Ну, в этом меня убеждать не надо, — Владимир Галактионович снова повернулся к Ащешову. — Я вот вам расскажу, как неожиданно получил тому подтверждение еще в поезде, пока ехал сюда и разговорился с одним добреньким местным попиком…
Попик был небольшим пухлым человеком с мягкими, как подушечки, руками и жиденькой темнорусой бороденкой. Он сильно страдал от жары и поминутно вытирал большим клетчатым платком распаренную шею. Он имел приход в одном из сел Бендерского уезда, почти все его прихожане были молдаванами, но попик откровенно признался, что языка их не знает и грешным делом недолюбливает молдаван.
— Странный какой-то народ, непонятный. Вялый, медлительный, но вдруг становится злым и мстительным.
Говоря это, попик тяжело вздыхал, в тоне его чувствовалось не столько осуждение молдаван, сколько сожаление о них. Его мягкость и бесхитростность нравились Владимиру Галактионовичу.
О погроме попик сказал со скорбью в голосе:
— Да, ужасно, это ужасно… И эти люди называют себя христианами…
— Чем же, по-вашему, вызвана такая ненависть, — с интересом спросил Владимир Галактионович.
— Я вот как на это смотрю, — грустно ответил попик. — Погром — дело богомерзкое и позорное. Одному диаволу в радость (он так и сказал: диаволу). А все же и сильно винить христиан тоже не совсем справедливо будет. Евреи сами во многом виноваты.
— В чем же? — Владимир Галактионович удивился неожиданному повороту разговора. — Неужели вы тоже считаете, что еврейская эксплуатация чем-то отличается от своей, христианской?
Владимир Галактионович не сомневался, что под стандартным «сами виноваты» попик имеет в виду все ту же «еврейскую эксплуатацию». Но тот неожиданно ответил:
— В этом я не особенно разумею, а вот вера…
— Да что нам с вами до их веры! — воскликнул Владимир Галактионович, меньше всего ожидавший, что попик окажется нетерпимым религиозным фанатиком. — Пусть молятся себе, как им угодно. Вы убеждены, что их вера неправая, ну, так Бог их и покарает. Нам-то какое до этого дело?
— Так ведь не любят они христиан, проклинают, злодейства всякие умышляют.
— С чего вы взяли? Какие злодейства?
— Ну, как же. Ведь даже кровь христианскую в опресноки свои добавляют…
— Вы что же это, серьезно? Неужели верите сказкам?
— Гад бы не верить, да вы про убийство в Дубоссарах слыхали?
— Так вот оно что! — понял, наконец, Владимир Галактионович. — Но ведь это злостная выдумка, намеренно подхваченная «Бессарабцем».
— О том и столичные газеты писали, — настороженно ответил священник.
— Но ведь все это опровергнуто!
— Кем? Еврейской прессой?
— Послушайте, батюшка, — чувствуя, что начинает горячиться, заговорил Владимир Галактионович. — Не еврейская, а вся лучшая часть русской прессы не верит в ритуальность дубоссарского дела. И сам «Бессарабец» вынужден был напечатать опровержение. Вот, читайте, у меня с собой этот номер!
Готовясь к поездке, Владимир Галактионович подобрал некоторые материалы, связанные с погромом. Ему не составило труда извлечь из саквояжа тоненькую папку и вынуть из нее номер газеты с обведенной синим карандашом заметкой.
Попик взял газету с недоверием, молча стал читать, но заключительные строки произнес вслух, с каждым словом поднимая голос от возрастающего недоумения:
«По сообщенным теперь точным сведениям оказывается, что в этом деле решительно нет ничего такого, что дало бы возможность видеть ритуальное убийство даже для лиц, предрасположенных к тому»…
Священник посмотрел на Владимира Галактионовича, в его округлившихся глазах застыл немой вопрос и растерянность. Он снова прочитал заметку от начала и до конца, словно бы не поверив себе.
— Как же это? — заговорил он растерянно. — А наколы на жилах… А раны, нанесенные особым треугольным предметом, чтобы кровь стекала по желобу…
— Все это ложные слухи! Газета Крушевана подхватила их, чтобы фанатизировать толпу. А за Крушеваном — «Новое время»!
— А куда же смотрели власти? Цензура?..
Священник никак не мог в себя.
— Цензура, батюшка, всегда смотрит туда, куда нужно, — едко сказал Владимир Галактионович. — Вот вы не заметили краткого опровержения, напечатанного мелким шрифтом, и тысячи других читателей не заметили. Поэтому «еврейская», как вы ее называете, а попросту говоря, вся честная русская пресса хотела подробно осветить это дело. Ведь «Бессарабец» успел во всей зловещей полноте нарисовать картину страшного человеческого жертвоприношения. В умах и сердцах встревоженной массы запечатлелся образ беззащитного ребенка, которого силой схватили иступленные евреи, живому зашили рот, нос, уши, распяли в темном подполье и капля за каплей источили из него кровь, чтобы упиться на своей дьявольской тризне. Вы, батюшка, поверили этой басне. Что же сказать о темной толпе, если кровавые измышления идут навстречу ее стародавнему предрассудку? Потворствовать такому суеверию легко, а бороться с ним очень трудно; надо приложить вдесятеро больше усилий. Так почему же, вы думаете, «еврейская» пресса молчала? Цензура, батюшка, цензура! Особый циркуляр господина Плеве: не касаться более дубоссарского дела.
— Так что же — это он по злой воле? — испуганным шепотом спросил священник.
— От Плеве, батюшка, всего можно ожидать, но мне кажется, что на этот раз злой воли не было. Он лишь хотел остановить распространение ложных слухов. В этом лишнее доказательство вреда цензуры. Даже если гласность ограничивается из благих побуждений, это оборачивается злом. Я подчеркиваю, что говорю только о данном случае, потому что в целом имею о господине Плеве крайне невыгодное для него мнение. Вы знаете его программу: сначала умиротворение, потом реформы. А ведь он достаточно умен, чтобы понимать, что при современном положении дел до реформ, то есть прежде, чем власть докажет, что сама готова отвечать за свои действия перед законом, никакое умиротворение невозможно.
— Но бунтовать против власти великий грех! — прошептал священник. — В Писании сказано…
— Я знаю, что сказано в Писании, — мягко перебил попика Владимир Галактионович, — а вот знаете ли Вы, что напечатано на первой странице Свода законов Российской империи? Прочту вам наизусть: «Все ниже сего изложенные законы должны быть свято соблюдаемы впредь до изменения их в законодательном порядке, и наипаче лицами, власть имущими». Золотые слова! Сейчас много говорят о конституции, но Свод законов — та же конституция, нужно только, чтобы лица, наделенные властью, соблюдали законы. Они же привыкли свои действия согласовывать с повелениями более высокого начальства, хотя бы незаконными, а фон Плеве первым насаждает этот произвол.
В купе их было двое. Владимир Галактионович сидел, подавшись грузным телом вперед, набычив крупную голову с шапкой непокорных волос и буйной своей бородой. Пронизывая попика острым взглядом, он смотрел куда-то сквозь него, более сосредоточенный на собственной мысли, чем на собеседнике, и потому не сразу заметил, как беспокойно тот ерзает на лавке.
— Разве можно так… о высшей власти, — испуганно проговорил священник. — Это гордыня в вас…
Тут только Владимир Галактионович представил, какое смятение посеяли его слова в душе попика, и расхохотался.
— Можно, батюшка! Говорить — все можно. И именно о высшей власти. Даже о том, что евреи пьют христианскую кровь, можно говорить и писать, при условии, что другая сторона — может опровергнуть эту подлую клевету.
Но попик сидел, испуганно помаргивая большими водянистыми глазками и вобрав голову в плечи, так что Владимир Галактионович поспешил закруглить столь непривычную для его попутчика тему.
— Так я убедился, — пересказав все это Ашешову, продолжал Владимир Галактионович, — что агитация Крушевана действует не только на темную массу, но и на духовных лиц. Впрочем, удивляться тут нечему. Достаточно вспомнить, как мало сельские священники по своему развитию отличаются от своих прихожан. Семинарское образование поставлено из рук вон плохо, и Синод пресекает всякие попытки его улучшить. Победоносцев не скрывает, что попы ему нужны невежественные, ибо каков поп, таков и приход. Образованный священник — начало вольнодумства в народе.
— Это симптомы застарелой болезни, только она не излечивается, а напротив, становится все более тяжелой, — заговорил Ашешов. — Белинский, вы помните, назвал духовенство опорой кнута и деспотизма. Однако в его время опора была еще довольно крепкая — сам Гоголь надеялся на нее. Достоевский тоже видел в православной церкви спасительный якорь для России. В наше время уже немыслимо, чтобы честный писатель, хотя бы и консервативных взглядов, уповал на церковь. Отлучение Льва Толстого рассеяло последние иллюзии. Опора сгнила, осталась одна труха. На темные массы духовенство еще может воздействовать при помощи чудотворных икон, мощей, разных святых исцелителей, но в литературе за церковь держатся только Меньшиковы да Крушеваны. Подумайте: вместо Гоголя — Меньшиков, вместо Достоевского — Крушеван… Вы, конечно, помните замечательную мысль Монтескье, что падение режима начинается с разложения принципов. И вот принципов уже нет, значит, падение неизбежно. Признаюсь, на меня это нередко наводит тревогу.
— Но разве мы с вами не ждем с нетерпением этого падения, не жаждем обновления нашей несчастной родины? — спросил Владимир Галактионович.
— Конечно, ждем, и не только ждем, но и сами приближаем его всей нашей деятельностью — кто больше, а кто меньше, это уж зависит от сил. Но чем ближе конец старой России, тем больше меня беспокоит мысль: а что же потом? Демократическая республика? Признаюсь, не могу представить себе Россию республикой! И какой страшной должна быть драка, сколько невинной крови будет пролито… Не есть ли этот погром — грозное предзнаменование того, что ждет Россию в ближайшие годы?..
— Что ж, Николай Петрович, ваша тревога более чем понятна. Драка будет жестокая, и вы правы: она уже началась. А потом? Видимо, одно из двух. Либо восторжествует законность, либо новый деспотизм, но уже на иных принципах. Так ли важно, в конце концов, установится ли у нас парламентская республика, или конституционная монархия, или сразу социализм? Куда важнее, чтобы мерой всех ценностей стал человек, отдельная человеческая личность, независимо от нации, исповедования, класса и всего прочего. Все должны быть равны перед законом и отвечать тоже только перед законом. Пусть будут плохие законы — все же их надо выполнять без всяких отступлений, тогда недостатки их скоро обнаружатся и их можно будет переменить. Если установится законность, значит, жертвы будут не напрасными. Ну, а если восторжествует новый деспотизм, борьба начнется сначала, и в первую очередь вокруг новых принципов. Сначала белинские будут выступать против гоголей, а потом такие, как мы с вами, против крушеванов. Но будем надеяться, Николай Петрович, что этой чашей судьба обнесет Россию. И, может быть, именно решение еврейского вопроса поможет этому. Если мы добьемся отмены черты оседлости и прочих ограничений, если мы приучим людей смотреть на еврея как на личность, чье человеческое достоинство мы обязаны уважать, то тем самым мы поднимем уважение и к русскому человеку, ко всякому человеку.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Прокурор Одесской Судебной Палаты
Конфиденциально
Июня 14 дня 1903 г. № 130,
г. Одесса
В Первый Департамент Министерства Юстиции
Второе Уголовное Отделение, 2-е делопроизводство
Вследствие отношения от 6-го сего июня за № 25571 и в дополнение от 4-го июня за № 2149, имею честь уведомить Первый Департамент, что обвинительный акт по делу о Василии Мельнике, Иване Галите и др., обвиняемых по 2691 ст. Улож. о Пак., Одесской Судебной Палатой 10-го сего июня утвержден. Что же касается вопроса о том, насколько представляется желательным закрытие по настоящему делу, в порядке 6211 ст. Уст. Уг. Суд., дверей судебного заседания на все время рассмотрения упомянутого дела, то я долгом считаю сообщить следующее: беспорядки, происшедшие в Апреле месяце в Бессарабской губернии, породили весьма много превратных толков, как среди населения, так и в печати. В обществе распространяются слухи, будто беспорядки были подготовлены известною частью интеллигенции с ведома и согласия правительства и были правильно организованы. В народе же говорят, что существует распоряжение бить евреев. Все эти превратные толки, хотя и желательно было бы опровергнуть путем гласного рассмотрения на суде всех дел о беспорядках в Бессарабской губернии, но с одной стороны, в действительности, данные судебного следствия, которые появятся в печати, могут послужить, как к тому уже и были примеры, к совершенно превратному толкованию выяснившегося на суде со стороны лиц, сеющих смуту в простом народе, а с другой — нельзя не скрыть, что если рассматривать эти дела публично, то при всем старании, невозможно будет обойти вопроса о бездействии административных властей, на что, конечно, главным образом, будут направлены все старания поверенных гражданских истцов, которые даже во время предварительного следствия, желая принять в нем активное участие, обращали преимущественно на это свое внимание. Ввиду этого я полагал бы более целесообразным все дела об антиеврейских беспорядках в Бессарабской губернии, происшедших в апреле месяце сего года, рассматривать при закрытых дверях. К изложенному имею честь присовокупить, что всех дел о беспорядках в Бессарабской губернии, которые поступят в Одесскую Судебную Палату, будет около 30, и по приблизительному расчету обвиняемых по ним будет человек 300. При личных разговорах моих с Старшим Председателем Одесской Судебной Палаты было решено рассматривать эти дела не в Кишиневе, где, как Предводитель Дворянства, так и Городской Голова и его Товарищи были свидетелями беспорядков, и присутствие их в составе Судебной Палаты могло бы возбудить нежелательные нарекания, а в другом городе, а именно в Тирасполе, Херсонской губернии, отстоящем недалеко от Кишинева; причем первым рассмотреть главное дело о беспорядках в Кишиневе, которое охарактеризует всю картину разгрома, затем уже разрешать другие дела. Я не знаю только, в состоянии ли будет Судебная Палата, в наличном ее составе и при обилии других дел, рассмотреть в скором времени все эти дела без усиления ее несколькими членами. По всей вероятности, все дела о беспорядках к сентябрю месяцу поступят уже в Палату.
Прокурор Судебной Палаты А. Поллан
Секретарь (подпись)
* * *
Прокурор Одесской Судебной Палаты
Весьма спешное.
Октября 20 дня 1903 г. № 4030,
г. Одесса
В Первый Департамент Министерства Юстиции
Второе Уголовное Отделение, 2-е делопроизводство
Вследствие сообщения от и сего октября за № 9671 и с возвращением корреспонденции из газеты «Новое Время»: «Обвиняемые по Кишиневскому Погрому», имею честь уведомить Первый Департамент Министерства Юстиции, что в означенной корреспонденции помещены многие обстоятельства, не совсем согласные с действительностью; так, например: в корреспонденции говорится о том, что евреи дали сами повод к драке в день св. Пасхи, и что еврей сбросил с карусель христианскую женщину с ребенком в руках. Ничего подобного в действительности не было. Первоначально об этом ходили слухи, но затем предварительным следствием эти слухи были положительно опровергнуты, о чем мною и было доложено г. Министру Юстиции. Затем, хотя на второй день Пасхи евреи и начали собираться в разных местах вооруженными чем попало, по собирались они не для нападения на христиан, а для самообороны. Лучшим доказательством того, что евреи не нападали на христианские дома, служит погром более 1000 еврейских домов и ни одного христианского. Что же касается до убитых и раненых христиан, то следствием установлено, что убит был один христианский мальчик выстрелом из револьвера, и затем найден был еще труп человека, звание которого пе обнаружено, умершего от неизвестных причин. Предварительные следствия об этих случаях были произведены, и дела направлены в Окружной Суд для прекращения, о чем также донесено было г. Министру Юстиции. Из числа раненых христиан никто ни полиции, ни жандармам, ни судебной власти не заявлял жалоб на нанесение им ран евреями, а оказавшиеся у них повреждения они объясняли разными случайными причинами. Между тем, из числа евреев было убито 39 человек и ранено более 300. В корреспонденции, между прочим, указывается на то, что в числе подсудимых, которые должны явиться в суд по делу об антиеврейских беспорядках, указаны только христиане, и ни одного еврея. Но это очень понятно, евреи не нападали на своих единоверцев, и следствие производилось только о нападении христиан на евреев, потому что, как выше сказано, евреи не разоряли имущества христиан. Очень прискорбно, что пред слушанием дела в Судебной Палате появилась подобная корреспонденция, которая старается подорвать доверие к свидетельским показаниям, на которых построено обвинение по делам о Кишиневских беспорядках. До настоящего времени у Судебной власти не было никакого основания предполагать, чтобы евреи умышленно искажали истину и старались представить дело с односторонней стороны. Судебная власть чрезвычайно осторожно относилась к показаниям, как потерпевших, так и свидетелей по этим делам, и доказательством ее беспристрастия при производстве следствия и дальнейшего направления этих дел служат партийные нападки на эту власть, как со стороны евреев, так и христиан. Подробные сведения по делам об антиеврейских беспорядках в Кишиневе и копии всех обвинительных актов по этим делам были представлены мною своевременно в Министерство Юстиции. К изложенному имею честь доложить, что если на Судебном следствии будут обнаружены какие-либо данные, указывающие на евреев, как на лиц, которые могут обвиняться в каком-либо преступлении по делам о беспорядках, то о них будет возбуждено особое уголовное преследование. Возвращать же в настоящее время дело к доследованию я не нахожу достаточных оснований.
Прокурор Судебной Палаты А. Поллан
За Секретаря (подпись)
Глава 4
Первые конкретные сведения о погроме Владимир Галактионович почерпнул у коридорного «Парижской» гостиницы, пока тот провожал его в номер. Коридорным был молодой еврей, вежливый и прилично одетый.
— Что, страшно было? — спросил его Владимир Галактионович.
— Таки ужасно! — ответил тот.
— Но вас, ведь, кажется, не тронули?
— Не тронули, слава Богу, потому что здесь один выстрелил из револьвера.
— Что ж, они испугались?
— Они таки не очень испугались, но патруль услышал и прибежал. Они подумали, патруль будет их забирать…
— А разве нет?
— Патруль только стал спрашивать, кто это стрелял, чтобы отобрать револьвер.
— Ну, а во второй день?
— Это было таки во второй день! А в первый, когда сюда подошла толпа, городовому дали рубль, и он им сказал: «Тут христиане, вон там евреи». Они себе и ушли.
Он рассказал, как беременную женщину били дрюками по животу, пока не выбили плод, как насиловали, отрывали руки… Владимир Галактионович подумал, что в этих рассказах, передающихся по городу, должна быть большая доля преувеличений, но записал все в тетрадь, чтобы сопоставить с рассказами иных очевидцев.
С другой стороны погром открылся Владимиру Галактионовичу в тот же день, когда он отправился в ресторан обедать. Он с интересом вглядывался в улицы незнакомого города, и на каждом шагу натыкался на следы побоища, хотя со времени его прошло уже два месяца. Повсюду еще видны были разбитые окна и двери, попадались горы невывезенного мусора; вывески на магазинах и мае-терских резали глаза ядовитой свежестью красок: их, очевидно, только на днях подновляли…
Неожиданно Владимира Галактионовича остановил какой-то старик-молдаванин — высокий, седой, с толстыми седыми усами и толстым носом. Весь облик старика выражал подавленность и несчастье. Он что-то сказал по-молдавски.
— Нушти романешти, — ответил Владимир Галактионович, вспомнив фразу, усвоенную в Румынии, где ему не раз доводилось бывать.
Молдаванин стал говорить по-русски, с трудом подбирая слова. У старика стряслось большое горе. Сына его «взяли солдаты» (очевидно, он был арестован за участие в погроме), а жена сына родила и умерла. Или умер ребенок — Владимир Галактионович не был уверен, что точно понял старика. Было лишь ясно, что дома у него нет ни крошки хлеба и не на что заказать гроб.
— А чем же ты раньше жил? — спросил Владимир Галактионович.
Молдаванин подвигал рукой, показывая, что пилил дрова.
— А теперь что же?
— Теперь нет. Еврей давал работа. Теперь не хочет… После бунта не хочет…
Владимир Галактионович понял, что старик, по-видимому, и сам участвовал в «бунте», его бывший хозяин-еврей это знает и потому выставил его со своего дровяного двора… Старик тупо смотрел на Владимира Галактионовича, и весь вид его выражал какое-то печальное недоумение, словно он решал в своем малоподвижном мозгу неразрешимую задачу: почему так странно устроена жизнь? Он совершил геройский подвиг, а вместо награды нажил одно только горе.
Выяснив, что на гроб старику требуется сорок пять копеек, Владимир Галактионович дал ему рубль, и тот пошел все с той же тяжелой заботой в лице, продолжая решать свою непростую задачу.
…С третьей стороны погром открылся на следующее утро, когда, поднявшись пораньше, Владимир Галактионович пошел побродить по базару, хорошо зная, что базар — это сердце любого города, здесь легче и быстрее всего можно его узнать.
Владимир Галактионович видел, как в мелких лавчонках, палатках, у ларей деловито хозяйничали в основном евреи, а толпа покупателей была очень пестрой: в ней можно было встретить и быстрых, нервных евреев, и менее подвижных русских, и украинцев, и медлительных, угрюмых на вид молдаван в широченных шароварах, бараньих шапках и с тем же выражением тяжелой задумчивости на лицах, как у встреченного накануне старика.
Зайдя в одну из лавочек купить конвертов и бумаги, Владимир Галактионович заговорил с продавцом, пока тот заворачивал покупку.
— Ну, у нас только побили окна, — сказал продавец, бледный ссутуленный человек с непропорционально большой головой и впалой грудью.
— А теперь как, все спокойно?
— Что вы, очень неспокойно. Вы разве не слышали: третьего дня закололи молодого человека.
— Нет, не слыхал.
— Это знает весь город! Нисенбаум. Он шел по бульвару. Какие-то трое подступили к нему, один ударил ножом.
— И что же?
— Его спасла книга. В кармане была книга — она задержала. Он ранен, в больнице, но, говорят, будет жить. Дай-то Бог! — продавец протянул завернутую покупку.
Выйдя из лавочки, Владимир Галактионович купил у мальчишки-разносчика свежий номер «Бессарабца», быстро на ходу проглядел. О происшествии на бульваре в газете не оказалось ни строчки, зато много говорилось о «еврейской наглости» в связи с покушением в Петербурге на Крушевана. Владимир Галактионович подумал, что у страха глаза велики: видимо, нападение на юношу — плод чьего-то воображения. Не может же местная газета, расписывающая давно миновавшее петербургское происшествие, молчать о только что случившемся таком же событии здесь, в Кишиневе. Похоже, что юноше только пригрозили, а молва дорисовала остальное…
Вернувшись в гостиницу, Владимир Галактионович решил проверить то, что слышал в лавочке.
— Таки конечно, — воскликнул коридорный. — Нисенбаума я знаю, он с нашей улицы. Слава Богу, что у него оказалась книжка в кармане, а то не был бы живой. И знаете, что они сказали? «Это тебе за Крушевана!» Чтоб мне таки провалиться на этом месте! Какой-то сумасшедший что-то там натворил в Петербурге, а виноват — Нисенбаум! У них таки всегда так. Если еврей сделает им что-то хорошее, они говорят: «Хотя ты еврей, но ты хороший». А если еврей сделает плохое, все евреи виноваты. Был бы я на месте Нисенбаума, так зарезали бы меня, а вы — так вас. А что вы себе думаете? С вашей бородой вас таки легко принять за еврея. Провались я на этом месте, если…
Владимиру Галактионовичу с трудом удалось остановить этот поток красноречия и скрыться у себя в номере.
Погром стал уже прошлым, историей. Но ядовитые испарения погрома продолжали насыщать атмосферу отравой ненависти и лжи.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Его Высокопревосходительству
Господину Министру Юстиции
М. Ю.
Прокурор Кишиневского Окружного Суда
Копия представления Прокурору Одесской Судебной Палаты от 11 сего мая за № 2315
Имею честь донести Вашему Превосходительству, что в ночь на и сего мая состоящие под надзором полиции Квито, Кузнецов и Дорошевский были задержаны полицией в 5.30 ч. утра за разбитие стекол в типографии, где они, обращаясь к рабочим, говорили: «Вы работаете на Крушевана за 60 к., а мы стоим за народ». По доставлении их в участок, куда вскоре прибыл Управляющий Губернией[3], Кузнецов и Квито, сидя, не снимая шапок, обратились к нему со словами: «мы не встанем, шапок не снимем и плевать хотим на Вас и Ваши распоряжения». Дорошевский же, хотя и вел себя сдержанно, но также иронически возражал Вице-Губернатору и держал себя вызывающе. По распоряжению Управляющего Губернией все они были отправлены в тюрьму, где ныне содержатся. Управляющий Губернией предполагает войти в соглашение с начальником Губернского Жандармского Управления о возбуждении против означенных лиц производства в порядке положения государственной охраны, а относительно Квито и Кузнецова — сообщить мне для привлечения их к подлежащей уголовной ответственности. Кроме того, так как неблагонадежность всех этих лиц установлена их прошлым и настоящим поведением, явно вредным для государственного порядка и общественного спокойствия, то Управляющий Губернией предполагает также войти с представлением к Господину Министру Внутренних Дел о высылке их в одну из отдаленных губерний. О последующем мною будет доложено дополнительно.
Подлинное подписал и с подлинным сверял
Прокурор Окружного Суда Горемыкин
* * *
Совершенно секретно
Записка по Бессарабскому
Охранному Отделению
Его Превосходительству
Господину Директору Департамента Полиции
По только что полученным агентурным сведениям, присяжный поверенный Евгений Семенович Кенигшац (выкрест-лютеранин), проживающий в Кишиневе по Синадиновской ул. в д. № 30, в конце мес. Апреля выбыл в Петербург вместе с еврейской депутацией, во главе которой стоит он. Перед своим отъездом из Кишинева, Кенигшац дал в Петербург на имя князя Мещерского телеграмму, приблизительно следующего содержания: «Коля, я еду в Петербург с депутацией. Приготовь квартиру». Этот же Кенигшац заведует сборами денег, притекающих к нему из разных городов России и даже из заграницы, причем перед своим отъездом, как я уже имел честь доложить Вашему Превосходительству запиской от 24 минувшего апреля за № 434, перевел в Петербург на «Лионский кредит» значительную сумму денег. В настоящее время Кенигшац располагает, как говорят сами же евреи, «для устройства своих дел» суммой, несколько более одного миллиона рублей. К изложенному обязываюсь присовокупить, что вышеназванная квартира Кенигшаца проходит по наблюдению вверенного мне Охранного Отделения, как посещаемая многими выдающимися наблюдаемыми, а его дочь Надежда, 18 л., известна под кличкой «Красная».
О вышеизложенном имею честь доложить на благоусмотрение Вашего Превосходительства.
Ротмистр Барон Левендаль
№ 542
8 мая 1903 г.
г. Кишинев
Глава 5
Интересы гражданского иска на будущем суде над громилами вызвались представлять лучшие адвокаты страны. Среди них товарищ Владимира Галактионовича по процессу над удмуртами Карабчевский, другой его хороший знакомый, не раз защищавший его литературные интересы, Грузенберг, крупные юристы Зарудный, Турчанинов, Кальманович, Винавер…
Формально их задача сводилась к тому, чтобы добиваться возмещения пострадавшим материального ущерба, но адвокатов привлекал в этом деле не копеечный интерес потерпевших. Они надеялись вскрыть закулисную механику погрома, а значит, использовать зал суда для еще одного сражения за законность.
Для подготовки к процессу в Кишинев приехала бригада их помощников. Опрашивая потерпевших и свидетелей, молодые адвокаты фактически вели свое следствие — параллельно с официальным. Они сняли особняк на Пушкинской улице, в котором жили и работали. Владимир Галактионович запасся их адресом еще в Полтаве и нанес им визит сразу же по прибытии в Кишинев.
Возглавлял группу Николай Дмитриевич Соколов, высокий сдержанный молодой человек, немногословный доя адвоката, но отличавшийся большой деловитостью. Он обещал подобрать наиболее характерные показания свидетелей, и когда Короленко пришел вторично, выложил перед ним несколько папок с материалами.
Открыв первую из них, Владимир Галактионович узнал, что за две недели до пасхи в Кишинев были доставлены тюки с прокламациями, призывающими «бить жидов». Кроме того, были целые склады со специально приготовленными короткими ломами — их раздавали перед началом погрома.
Усиленно распространялись слухи, будто царь разрешил три дня бить и грабить евреев; будто не только в Дубоссарах, но и в самом Кишиневе было несколько ритуальных убийств; будто евреи надругались над христианской верой, оскверняли церкви.
Толпа была разбита на небольшие группы. Во главе каждой стоял предводитель, имевший списки «подопечных» еврейских домов… Все это говорило об одном: погром не был внезапной вспышкой страстей, он был заранее спланирован и подготовлен.
Открыв другую папку, Владимир Галактионович окунулся в атмосферу официального следствия. Он увидел, что оно вовсе не стремится вскрыть истину, как обязывал следователей их профессиональный и нравственный долг. Напротив, они делали все возможное, чтобы замолчать или извратить самые важные факты.
Владимир Галактионович читал показания некоего Толмасского. Тот был ранен во время погрома и помещен в больницу, где его допрашивал следователь Прекул. Толмасский рассказал ему, как было дело, и упомянул, что толпу подстрекал человек в мундире судейского ведомства. Но, несмотря на настояния потерпевшего, Прекул не стал записывать это показание. Тогда Толмасский отказался подписать протокол допроса.
Его показания подтверждали врач и две сестры милосердия: во время допроса Толмасского они находились в палате. Они тоже настаивали, чтобы следователь полностью записал показания пострадавшего, но тот на это лишь пожаловался руководившему следствием чиновнику Фрейнату, что «посторонние мешают вести дознание».
Фрейнат вел допрос в соседней палате. Он тотчас явился и велел «посторонним» удалиться. Однако одна из сестер милосердия, госпожа Неручева, отказалась оставить больного. Она потребовала уже от Фрейната внести в протокол пропущенную часть показаний, на что тот ответил, что не может вмешиваться в действие другого следователя…
Потерпевшего Фишмана допрашивал тот же Прекул. Фишман указал на участие в погроме нотариуса Писаржевского, которого он узнал в лицо как предводителя одной группы громил. Но вместо того чтобы записать это показание, Прекул опять пошел к Фрейнату.
— Плюньте в его жидовскую морду, если он показывает на Писаржевского! — вскипел Фрейнат.
Он вошел в палату и стал кричать:
— Я тебя, жидовская морда, законопачу в Сибирь, если будешь показывать на Писаржевского!
Фишман ответил, что погромом разорен дотла, и в Сибири ему будет не хуже. После долгих препирательств Фрейнат все-таки занес его показание, но только — карандашом, хотя остальное было записано чернилами…
Характерными показались Владимиру Галактионовичу и свидетельства потерпевшей Годзивиллер. Она еще раньше заявляла, что видела и слышала, как нотариус Писаржевский подстрекал толпу. На допрос к капитану Демиденко, специально присланному из Петербурга, она привела шестерых человек, готовых подтвердить то же самое. Однако у Демиденко они застали… самого Писаржевского.
Не готовые к очной ставке, некоторые из свидетелей смешались. Но двое из шести осмелились стоять на своем, Демиденко стал кричать, топать ногами, затем позвал жандармов и велел их вывести. Родзивиллер при таких условиях отказалась участвовать в дознании, и ее тоже вывели жандармы.
— Сколько же должно быть таких потерпевших, у кого не хватило твердости, и они подписывали протоколы в том виде, как того хотели следователи! — просмотрев бумаги, обратился Короленко к Соколову.
— Об этом мы можем только догадываться, — сдержанно ответил Соколов. — Несомненно лишь то, что их было бы меньше, если бы не странная позиция местного присяжного поверенного Кенигшаца. Он уговаривает потерпевших быть покладистыми и не спорить со следственной властью.
— Это не тот ли Кенигшац, что входил в еврейскую депутацию, которую принял Плеве? — поинтересовался Владимир Галактионович.
— Он самый. Он один из самых известных людей в городе, и вот на что употребляет свое влияние.
— А вы уверены, что когда таким несговорчивым людям, как Фишман или Годзивиллер, удается настоять на своем, в их показания не вносятся поправки уже после подписания? — поинтересовался Владимир Галактионович.
— Я бы сказал, что уверен в обратном, — сдержанно ответил Соколов. — Почти все следственное дело состоит из подлогов и подчисток. Точь-в-точь как в погромных процессах восьмидесятых годов. Мы их изучили и выявили единую тактику, какой тогда держалось обвинение. Оно стремилось снять вопрос об общих причинах погромов, о бездействии власти, о предварительной подготовке и организации, стремясь изобразить дело таким образом, что погром — это всего лишь стихийная вспышка страстей, вызванная еврейской эксплуатацией. По тем же рельсам хотят направить и будущий Кишиневский процесс.
— Такой тактики можно было ожидать, — заметил Владимир Галактионович.
— Конечно, — согласился Соколов, — но одно дело — ожидать, и другое — получить твердые юридические доказательства.
— Тут из бумаг видно, что капитан Демиденко прислан министерством внутренних дел, то есть самим Плеве. Я вот о чем хотел бы спросить. Что говорят ваши материалы о бездействии властей во время погрома? Играла ли тут роль инструкция центра, или попустительство явилось лишь результатом растерянности? Об этом ходят разные толки, хотелось бы знать, каковы ваши данные?
— Вы имеете в виду секретную телеграмму Плеве губернатору, что опубликована в «Таймс»? — уточнил Соколов. — Как вы понимаете, подлинником этой телеграммы мы не располагаем. Но вот что вам должно быть интересно. Растерянность местных властей была… как бы точнее сказать… односторонней. В обществе уже укрепилось мнение, что губернатор и его подчиненные были застигнуты врасплох и совершенно бездействовали. Но это не совсем так. Мы готовим иски непосредственно к губернатору, вице-губернатору и полицмейстеру. Есть такая статья в законе: если убыток причинен вследствие бездействия власти, то потерпевший может требовать возмещения ущерба непосредственно от представителей власти. На основании этой статьи мы и возбуждаем дела. Иски, конечно, будут отклонены, но нам они позволят во всей полноте показать роль властей в этом деле. Между прочим, и то, что они по-своему готовились к погрому и принимали меры.
— Это что-то совсем неожиданное, — заинтересовался Владимир Галактионович. — Пожалуйста, осветите эту сторону подробнее.
— Все эти материалы сейчас изучает Винавер, он только вчера специально для этого приехал из Петербурга. У него мало времени, но вам он, конечно, уделит столько, сколько потребуется.
— Так здесь сам Винавер! — удивился Короленко.
— Он знает о вашем приезде и рад будет встретиться. Максим Моисеевич Винавер, невысокий, широкий в кости, с крупной лысеющей головой, был известен по ряду громких гражданских процессов, но все еще пребывал в звании «помощника присяжного поверенного». Впрочем, в таком же положении находились и другие выдающиеся адвокаты-евреи. Доступ в сословие присяжных поверенных был для них настолько ограничен, что часто до старости они числились у кого-то в помощниках, хотя слава их гремела на всю Россию.
— Самое любопытное произошло еще до погрома, — порывисто пожав руку Владимиру Галактионовичу, заговорил Винавер. — Губернатора за две недели и несколько раз позднее предупреждали о надвигающейся опасности, он заверил еврейское общество, что примет надлежащие меры. Сейчас он уверяет, что этим предостережениям не придал значения, так как подобные слухи и раньше возникали перед пасхой. Но меры все же были приняты. Так, полицмейстер обеспокоился за своих подчиненных и распорядился доставить во все полицейские участки кровати, чтобы полицейским было на чем отдыхать, когда их придется задержать на службе на ночь. Следовательно, такая возможность предполагалась — подробность, согласитесь, прелюбопытная, если учесть, что теперь выдвигается версия, будто власти ни о чем не догадывались. Теперь обратимся к первым часам погрома. Губернатор в эти часы вовсе не бездействовал. Он, например, потратил массу усилий, чтобы обеспечить охрану банка и кредитных учреждений, хотя на них никто не нападал. Он много работал над тем, чтобы заблаговременно подготовить достаточное количество камер для будущих арестантов, заботясь о том, чтобы тем, не дай Бог, не пришлось дожидаться под открытым небом на тюремном дворе. Он вспомнил с такой же заботливостью, что арестованных надо будет кормить, и обратился по телефону в хлебопекарню, чтобы немедленно достать хлеба. И много других подобных же дел проделал губернатор фон Раабен. На одно только его не хватило: когда били евреев, он не подумал о том, что, прежде всего, должен не дать бить евреев! На это простое человеческое движение не хватило высшего представителя местной власти.
Винавер говорил спокойно, изредка заглядывая в бумаги и сопровождая слова решительным жестом.
— Благодаря работе, проделанной коллегами, — Винавер указал в сторону Соколова, — все действия губернатора с начала погрома нам известны по часам и почти по минутам. В пять часов дня ему позвонили и сказали, что погром начался. Он немедленно велел заложить коляску и немедленно же потребовал к себе на губернаторский двор эскадрон кавалерии и роту пехоты. Коляска въехала, войско прибыло. Фон Раабен позвонил полицмейстеру Ханжейкову и, узнав, что тот где-то в городе, повесил трубку. С этого и началось его знаменитое бездействие. Он считал, что ему незачем гарцевать на лошади перед толпой и демонстрировать дешевую храбрость. Ему целесообразнее сидеть у телефона и ждать известий о ходе событий со всего города, тогда как расставшись с телефоном, он мог бы быть только в одном месте. О том, что лучше быть в одном месте, чем нигде, он как-то не подумал. Он, видимо, предполагал, что на каждом перекрестке и в каждом дворе, куда проникнут громилы, они протянут за собой телефонные провода и установят телефонные будки, и рука убийцы не поднимется на убиваемого, прежде чем он не доложит о том по телефону губернатору. Громилы почему-то поступали иначе и не встречали никакого противодействия. То же самое повторилось и на второй день. Жалкие попытки организовать самооборону, к которой пытались прибегнуть евреи после тревожной ночи, были немедленно пресечены полицией. Для этого в наличии оказались и силы, и энергия, и распорядительность, то есть все то, чего не было, когда нужно было усмирять громил.
Винавер остановился перевести дух. От той сдержанности, с какой он начал говорить, не осталось и следа.
— Вы сказали обвинительную речь, — улыбнулся Владимир Галактионович. — И хорошо сказали, я прямо заслушался.
— Действительно, я немного увлекся, — согласился Винавер. — Не взыщите, Владимир Галактионович, это особенности характера. Национального характера, я бы сказал. Горячность, порой неуместная, — черта, очень свойственная евреям. Думаю, вы это не раз замечали сами. Прибавьте излишнюю прямолинейность и сможете многое объяснить в еврейском характере. Евреи слывут хитрыми и изворотливыми, они даже сами часто верят в это. А знаете, отчего такая репутация? Именно оттого, что это самый прямолинейный и простодушный народ.
— Ну, это уж что-то слишком парадоксальное, — скептически усмехнулся Короленко.
— И, тем не менее, это так! — воскликнул Винавер. — Вы, вероятно, помните спор о справедливом и несправедливом в «Государстве» Платона. Там доказывается, что чем человек коварнее, тем успешнее он скрывает свои злодеяния и даже выдает их за доблестные поступки, почему его и почитают как человека справедливого. Тот же, кто справедлив по-настоящему, а не по видимости, неизбежно бывает оклеветан и ненавидим как человек коварный и несправедливый.
— Это действительно, одно из самых интересных размышлений у Платона, но согласиться с его диалектикой я никак не могу, — решительно возразил Владимир Галактионович. — Правда всегда побеждает, если только имеется возможность ее высказывать.
— Я думаю так же, как и вы, иначе я не сделался бы адвокатом, — ответил на это Винавер. — Но заметьте вашу же оговорку: «если ей дают высказываться!» А часто ли бывало на протяжении истории, чтобы еврейский народ мог высказывать свою правду, и чтобы ее к тому же желали слушать?! Вот и получилось, что народ, впервые давший миру религию, основанную на началах справедливости и добра, объявлялся безбожным и развратным. Народ, в силу религиозного запрета не употребляющий в пищу никакой крови, обвинялся в употреблении человеческой крови. Народ, который в силу своего рассеяния активнее всех других общается с другими народами, обвиняют в кастовой замкнутости. Народ, давший миру особенно много реформаторов и преобразователей в области религии, философии, науки, словом, в области духа, обвиняют в косности и консерватизме. Наконец, самое нелепое: всюду гонимый и порабощаемый, он обвиняется в том, что порабощает весь мир… Но, кажется, я опять стал горячиться, — перебил себя Винавер и продолжал уже сдержанным тоном. — Возьмите маленький пример — еврейский рационализм, в котором, кажется, никто не сомневается. Ну, можно ли представить себе большую иррациональность, чем у еврея, который упорно держится за свою религию, хотя чисто формальное принятие христианства немедленно освободило бы его от всех столь тягостных ограничений? О полуобразованной местечковой массе можно думать, что она подвержена религиозному фанатизму и полагает, что за отказ от вековых традиций ее покарает Бог. Но ведь этого не скажешь об интеллигентах. Большинство из них равнодушно к ритуалу, а многие и вообще к религии. Скажу о себе: я иудей только формально. Казалось бы, для меня перейти в лютеранство или православие ничего не стоит. Между тем, это сразу обеспечило бы мне звание присяжного поверенного, к чему стремится всякий адвокат. Но я этого никогда не еде-лаю. Что-то сопротивляется внутри. Не был бы я гоним за иудейскую веру, может быть, и отказался бы от нее. А пока гоним — нет, извините. Других, кто решается на такой шаг, я не осуждаю, но сам — не сделаю. Никак обосновать это не могу — чистая иррациональность. И ведь тех, кто переступает через эту черту, считанные единицы. Между тем, не только юдофобы, но и юдофилы считают евреев трезвыми, расчетливыми рационалистами. Разница лишь в том, что одних эти качества возмущают, а других восхищают, но ни те, ни другие не замечают, что это легенда. Почему же вас удивляет, что хитроумными и коварными мы прослыли именно из-за излишней прямоты? Даже мошенничают евреи очень прямолинейно-это можно видеть из многих уголовных дел. Ну, а честный еврей, докопавшийся до какой-нибудь истины, — не приведи Господи иметь с ним дело. Сразу начнет стулья ломать! Он будет размахивать руками до тех пор, пока его не свяжут. Образчик такого субъекта вы видите перед собой.
— Пока что я вижу, — засмеялся Владимир Галактионович, — что вы умеете иронически относиться к самому себе.
— О, ирония, — это, кажется, единственное оружие самозащиты, какое еще не отнято у евреев… Но вернемся к делу, Владимир Галактионович, ведь моя обвинительная речь еще не кончена. Мы остановились на том, что фон Раабен сел у телефона и спокойно ждал докладов. Его безразличие и апатия распространились вниз по административной лестнице, охватили всех его подчиненных и проявлялись у каждого сообразно культурности. Вице-губернатор Устругов и полицмейстер Ханженков не сидели взаперти — они были на улице. Но ни словом, ни делом даже не пытались утихомирить толпу. Они наблюдали и ждали. Приставы и их помощники уже поощрительно покрикивали: «Бейте, ребята! Идите дальше!» А нижние чины полиции охраняли громил и даже сами участвовали в нападениях… Теперь возникает вопрос, а могла ли администрация не допустить бесчинств или прекратить их в самом начале? Могла! На этот счет собраны ясные доказательства. Генерал-лейтенант Бекман, начальник местного гарнизона, свидетельствует, что только в 10 часов утра седьмого апреля получил от губернатора первую записку с требованием держать наготове войска. Записка эта запоздала, потому что Бекман еще накануне отдал такой приказ. Войска были наготове, но бездействовали, потому что по закону они могут вмешаться только по требованию гражданской власти. В половине первого седьмого апреля Бекман вышел на улицу и, убедившись, что в городе идет форменная резня, поехал к губернатору по собственной инициативе. Они составили план действий, разделили город на участки, наметили, как разместить войска. Но и после этого губернатор продолжал медлить с официальным вызовом войск. Наконец в три часа губернатор приказал начальникам полков занять город и при этом передал им всю полноту власти с правом наделять ею также своих подчиненных, которые сами должны были решать, в каких случаях употреблять оружие. Так самое страшное орудие своей власти, вопрос о жизни и смерти людей, губернатор передал другим. Между тем закон гласит, что и после вызова войск только гражданское начальство может отдать приказ о применении оружия. Фон Раабен законом пренебрег, и можно считать чудом, что военные не разнесли весь город. Только часа через два губернатор сообразил, что в ответственные моменты особенно важно единоначалие. Но и тогда он не взял руководство на себя, а передал его генералу Бекману. Как только это произошло, наступила развязка кровавой драмы. За полтора часа войска прекратили погром, не произведя ни единого выстрела. Все это нужно было сделать ровно на сутки раньше, тогда не было бы такого разгрома и человеческих жертв. Ну, вот, Владимир Галактионович, теперь, кажется, я сказал все…
Задав еще несколько вопросов Винаверу и Соколову, Короленко стал прощаться, но тут его окружила вся группа адвокатов. Оказалось, что в другой комнате накрыт чай, и о том, чтобы так вот уйти, не может быть речи.
За столом завязалась общая беседа. Владимир Галактионович рассказал о прошлогодних волнениях крестьян на Полтавщине, о суде над ними, о подробностях инцидента, вызванного избранием в почетные академики Максима Горького, а затем отменой этого избрания по указанию царя.
— Почему же другие академики, кроме вас и Чехова, не вышли в отставку? — спросил кто-то из адвокатов.
— А знаете, что сказал мне Владимир Васильевич Стасов, когда по моему требованию собрали совещание Отделения литературы? — откликнулся Владимир Галактионович. — Сначала он накинулся на меня: своим заявлением я-де ничего нового не сказал. Первый раз, что ли, у нас происходит подобное? Я возразил, что в такой форме именно первый раз, во всяком случае, за те годы, что я имею честь быть членом академии. Государь у нас самодержавный, он вправе утвердить или не утвердить любое решение. Если бы он отменил выборы своей волей, меня бы это не касалось. Но в данном случае отмена объявлена от имени самой академии. Получается, что я отменил свое собственное решение, и только потому, что Горький в чем-то заподозрен Департаментом полиции. Но если так, то мы не могли бы выбрать Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Тургенева — все они были на подозрении. Кроме того, я имею личные основания протестовать, так как сам много страдал от подозрений и административного произвола. И вот когда совещание кончилось, Стасов подошел ко мне, пожал руку и с присущей ему грубоватой прямотой сказал: «В сущности, вы правы, после такой бесцеремонности всем следовало выйти в отставку, а если не выходим, то только по российскому свинству».
Поздно вечером Короленко покинул гостеприимный особняк, где чувствовал себя как в семейном кругу, потому что это был круг единомышленников. До гостиницы было рукой подать, но его наотрез отказались отпустить без провожатых. Медленно шли они втроем — Короленко и два молодых адвоката — по темным улицам затихшего города. После знойного дня дышалось легко. Огни редких газовых фонарей отражались в лужах, оставленных прошумевшим коротким дождем.
— Сколько у нас искренних честных людей, готовых бороться за правду каждый на своем месте, — отзываясь на какие-то свои мысли, сказал Короленко.
— И сколько по-настоящему ярких талантов, которым проклятые порядки не дают расцвести! Ведь в какой-нибудь Франции или Швейцарии такой человек, как Винавер, заседал бы в парламенте, — заметил один из провожатых.
— А ведь знаете, Владимир Галактионович, что меня больше всего поражает? — спросил другой адвокат. — Полная неспособность государственных мужей мыслить по-государственному. О Сипягине говорили, что он туп и бездарен и ему следовало бы быть уездным предводителем дворянства, а не управлять империей, но вот Плеве слывет за умного человека. Так зачем ему эти ограничения? Рано или поздно все равно придется их отменить, почему же не сделать это самим, сверху, не восстанавливая против себя все общество? Но власти как огня боятся любой уступки, полагая, что этим покажут свою слабость. А ведь именно тупое упрямство говорит об их слабости. Вы, конечно, знаете последнее заявление государя о злополучном еврейском вопросе? «Я не враг евреев, но если мы предоставим им равные права, они приобретут слишком большое влияние». Почему же слишком большое, если права будут равные? И как он не понимает, что подобными заявлениями оскорбляет свой собственный народ, выставляя его неспособным на равных конкурировать с инородцами.
— Ну, в этом нет ничего удивительного, — отозвался Владимир Галактионович. — Ощущение собственной неполноценности — отличительная черта юдофобов, в том числе и венценосных. При этом собственную неполноценность они склонны приписывать всему народу, от чьего имени якобы выступают. Кто-то из видных англичан очень просто объяснил, почему в Великобритании антисемитизм не может пустить глубоких корней: мы, говорит, не считаем, что евреи умнее и предприимчивее нас.
У гостиницы Короленко сердечно распрощался с адвокатами, а когда вошел в вестибюль, к нему тотчас подскочил коридорный.
— Таки есть для вас новость, господин Короленко! Провалиться мне на этом месте, если не так. Господин Ашешов каждые пять минут спрашивает о вас. Боится, что вы ляжете спать, и он не сможет с вами поговорить. Я таки говорю: «Что вы волнуетесь? Я понял и все передам!» А он говорит: «Ты забудешь!» Как вам это нравится? Мне платят деньги, чтобы я все помнил, так чтобы я забыл! Разве я похож на тех, кому даром платят деньги? Что вы на это скажете?
Не заходя к себе, Владимир Галактионович направился в номер к Ашешову.
— Не знаю, Николай Петрович, зачем я вам так срочно иона-добился, но раз вы не спите и поджидаете меня, задам вам один вопрос, — войдя и поздоровавшись, сказал Короленко. — Вы, вероятно, встречались здесь с присяжным поверенным Кенигшацем. Адвокаты отзываются о нем очень неодобрительно, и мне хотелось бы знать ваше мнение: что он собой представляет?
— Так из-за этого самого Кенигшаца я и боялся вас проворонить! — воскликнул Ашешов. — Он мне проходу не дает: требует непременно вас к нему привести.
— Но я думал завтра уезжать, поезд уходит утром, — с сомнением ответил Короленко. — Для подцензурного очерка у меня материала выше головы.
— Он как раз и боится, что вы уедете, не встретившись с ним.
— А вы полагаете, есть смысл задержаться?
— Не полагаю, а убежден, — решительно проговорил Ашешов. — Вопрос лишь в том, можете ли вы провести в Кишиневе еще один день. Это личность во многих отношениях примечательная, но говорить о нем я вам ничего не буду, лучше убедитесь сами.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Перевод с английского[4]
Частным образом и конфиденциально
Виндмилл Хилл
Лондон
Хемстэд
20 мая 1903 года
Его Превосходительству фон Плеве,
Министру Внутренних Дел в С.-Петербурге
Ваше Превосходительство.
Вы, может быть, помните, что в 1891 и 1892 гг. я посетил Россию в защиту барона Гирша и его Еврейской Колонизационной Ассоциации. При этом Ваше Превосходительство проявили в отношении меня большую любезность, снабдив меня рекомендательными письмами ко всем Губернаторам провинций и начальствующим. Во время моих путешествий я узнал много вещей относительно евреев, которые я принял к сердцу и постарался рассказать моим землякам, почему и навлек на себя злейшую враждебность со стороны многих евреев в этой стране. Теперь я обращаюсь к Вашему Превосходительству с той целью, чтобы воспрепятствовать, если возможно, искусственному созданию здесь общественного мнения, враждебного внутренней русской политике и основанного на неточных сведениях, сообщенных, вероятно, русскими евреями, которые извращают факты. Я осмеливаюсь приложить вырезку из Таймса от 18 текущего мая и обратиться к Вашему Превосходительству с вопросом, есть ли сколько-нибудь правды в этом известии. Из того, что означенный государственный документ был, очевидно, украден, можно вывести, что письмо это подложно. Я был бы очень рад, если бы мог сказать своим землякам, что письмо это — выдумка, и что от него отказались. Я мог бы сделать это частным образом, при помощи прессы, и достигнуть этим поворота в общественном мнении. Теперешний лорд-мер гор. Лондона — еврей. Огромное число английских газет принадлежат теперь евреям на праве собственности, в то время как на континенте пресса, как Вашему Превосходительству известно, находится главным образом в руках евреев. Уроки, почерпнутые мною в России, открыли мне отношение России к еврейскому вопросу, которое я считаю логичным и, с русской точки зрения, патриотичным.
Вашего Превосходительства покорнейший слуга
Арнольд Уайт
* * *
Выписка из газеты Таймс,
от 18 мая 1903 г.
АНТИСЕМИТИЧЕСКИЕ НЕИСТОВСТВА В КИШИНЕВЕ
Русский корреспондент прислал нам подлинный текст конфиденциального отношения, посланного русским Министром Внутренних Дел к Бессарабскому Губернатору незадолго перед тем, как вспыхнули в Кишиневе антисемитические беспорядки с такими гибельными последствиями. Вот дословный перевод этого замечательного документа:
Министерство Внутренних Дел
Канцелярия Министра
Совершенно секретно
Бессарабскому Губернатору
До сведения моего дошло, что во вверенной Вам губернии приготовляются обширные беспорядки против евреев, которые эксплуатируют, главным образом, местное население. В виду всеобщего беспокойного настроения среди населения городов, каковое настроение ищет себе выхода, а также в виду несомненной нежелательности внедрения, при помощи чересчур строгих мер, антиправительственных чувств населению, которое еще не охвачено революционной пропагандой, Ваше Превосходительство не преминет способствовать немедленному прекращению могущих возникнуть беспорядков при помощи увещаний, отнюдь не прибегая однако к помощи оружия.
Фон Плеве
№ 341
Марта 25 дня. 1903 г.
Черновик письма Уайту, написанный почерком Начальника Департамента Полиции A.A. Лопухина
М.Г.
Вследствие письма от 20 минувшего мая, по поручению г. М-ра Вн. Д., имею честь уведомить Вас, что сведения, заключающиеся в вырезке из газеты «Таймс» от 18 мая, представляются безусловно вымышленными; письма от имени г. М-ра Вн. Д. Бессарабскому Губернатору, приведенного содержания, не существует, и никакого сообщения с предупреждением бессарабских властей о готовящихся беспорядках не было.
Примите, М.Г. и т. д.
Г. Уайту.
ВиндмиллХилл. Хемстэд. Лондон
№ 7097,
13 мая 1903 г.
Глава 6
Присяжный поверенный Кенигшац имел обширную практику, получал высокие гонорары и жил роскошно. Это бросалось в глаза еще с улицы, так как он занимал один из лучших в городе частных домов. В обширной приемной его было много бархата, бронзы, на стенах висели дорогие картины. Однако Владимир Галактионович не успел как следует разглядеть все это великолепие, потому что едва о них доложили, как хозяин пулей вылетел из кабинета, сияя белозубой улыбкой и сверкая бриллиантовыми запонками в белоснежных манжетах.
— Какое счастье! Подумать только, у меня в гостях сам Короленко! Такая честь! Такая высокая честь! Я буду об этом внукам рассказывать! Господин Ашешов, я ваш вечный должник. Благодаря вам я имею честь принимать самого Короленко…
Провожая гостей в кабинет, Кенигшац не скупился на выражение восторга.
Это был мужчина средних лет, среднего роста и среднего телосложения, с несколько помятым, но тщательно выбритым лицом и обширной плешью, окантованной коротко подстриженными, уже припудренными сединой волосиками. Его шумные восторги казались избыточными, в голосе и жестах чувствовалась некоторая театральность.
Кенигшац усадил гостей в мягкие кресла и открыл коробку с дорогими сигарами, от которых оба посетителя отказались.
— А я закурю, если вам это не помешает, — сказал Кенигшац, и его превосходно обставленный кабинет наполнился тонким ароматом первосортного табака.
— Прежде всего, господа, разрешите мне от имени всего местного еврейского общества выразить вам искреннюю благодарность за то, что вы удостоили посещением наш многострадальный город. Ваш приезд служит нам большой моральной поддержкой и говорит о том, что мы не одиноки в постигшем нас несчастье. Все еврейское общество желает вам успеха и готово оказать всяческое содействие.
Гладкие, словно заученные фразы Кенигшац произносил с большой торжественностью, будто выступал в суде или на собрании. Короленко бросил короткий взгляд на Ашешова, тот еле заметно подмигнул.
— Господин Кенигшац! — в тон хозяину кабинета заговорил Ашешов. — Сидящий перед вами Владимир Галактионович Короленко, как вам хорошо известно, один из самых знаменитых русских писателей.
— О, конечно! — Кенигшац прижал руки к сердцу.
— Однако этот знаменитый писатель, — продолжал тем же тоном Ашешов, — и сейчас я скажу то, что вам, по-видимому, неизвестно, терпеть не может никаких славословий, особенно по собственному адресу. Через месяц ему будет пятьдесят лет, вся Россия готовится к этому празднику, он же намерен удрать, исчезнуть с глаз, чтобы избежать чествований. И даже мне не говорит, куда удерет, хотя знает меня много лет, и я думаю, не подозревает, что я могу его выдать. Таков характер — это я вам со знанием дела говорю.
— И потому нам следует без всяких церемоний приступить к делу, не так ли? — сразу изменив тон, спросил Кенигшац.
— Я уже говорил Владимиру Галактионовичу, что вы человек большого ума и понимаете все с полунамека, — ответил Ашешов, почти не скрывая насмешки.
— Ваш намек понять нетрудно, — сделав вид, что не заметил иронии, ответил Кенигшац. — Итак, господа, я к вашим услугам.
— Вы были очевидцем того, что произошло здесь шестого и седьмого апреля. Мы хотели бы услышать от вас как можно больше подробностей, — попросил Короленко.
— Что вам сказать? — лицо Кенигшаца потускнело и как-то сразу состарилось. — Это была Варфоломеевская ночь среди бела дня. Страшно было даже не то, что беззащитных людей мучили и убивали, а то, что это делалось с таким цинизмом, на глазах всего города… В доме номер тринадцать по Азиатской улице вы были?
— Имели удовольствие, — коротко ответил Короленко.
— А на Гостиной тридцать три?.. Нет?.. Там было еще ужаснее. Там крепкие тесовые ворота, громилы не могли их взломать, но они ворвались через соседний дом. Жильцы бросились кто куда, но не все успели попрятаться. Старуху Рейзель Кацап схватили во дворе и долго истязали, а потом убили на глазах ее внука. Мальчик сидел на чердаке, все видел через слуховое окно, но боялся крикнуть, чтобы не обнаружить себя. Несколько человек спрятались в клозете, но их там нашли. Пятнадцатилетнего реалиста Беньямина Барановича били дубинами по голове, пока не прикончили, а отца его Симона Барановича заставили на все это смотреть. Мальчик кричал, просил пощады, помощи, а отец стоял рядом, но не шевелился, потому что убийцы говорили ему: «Не смей тронуться с места, а то мы и тебя убьем, как собаку». И убили бы следом за сыном, но в этот момент пришли солдаты и крикнули: «Идите дальше, ребята; здесь достаточно сделали».
— Значит, солдаты не мешали громилам? — задал Короленко тот главный вопрос, который волновал в те дни общественность России, да и всего мира.
— Ни солдаты, ни полиция, ни местная власть не противодействовали погрому, но я не хотел бы акцентировать на этом внимание.
— Почему же? Неужели вы, как юрист, не заинтересованы в том, чтобы истина была раскрыта во всей полноте?
— Истина?! — вдруг каким-то петушиным фальцетом выкрикнул Кенигшац. — Вам известно, где истина? В таком случае, вы счастливейший человек! А вот я не знаю, что такое истина и где ее искать!
Кенигшац вскочил, нервно заходил по кабинету, потом снова уселся за свой роскошный, мореного дуба, письменный стол, заговорил спокойнее.
— Постарайтесь меня понять, господа писатели, а то меня и так уже обвиняют в трусости и чуть ли не в ренегатстве. Не знаю, почувствовали ли вы это, но мы, коренные кишиневцы, не перестаем ощущать грозовой атмосферы. Население озлоблено, каждый день может разразиться новая катастрофа, и кто поручится, что она не будет во сто крат ужаснее первой. А с этим не все хотят считаться. Вы знаете, я имею в виду столичных адвокатов, готовящих материалы к процессу. Я их всех уважаю, это честные бескорыстные люди и у них прекрасные побуждения. Но в таком сложном деле хороших намерений мало — ими вымощена дорога в ад. Надо чувствовать местную обстановку. Не думайте, господа, что во мне говорит профессиональная ревность. Мне предлагали самую видную роль на скамье гражданских истцов, но мы вместе решили, что будет целесообразнее, если я выступлю на суде как свидетель. Они хотят разоблачить полицию, пригвоздить к позорному столбу губернатора и даже господина министра, но этим они только раздувают еще не погасший пожар. Власти сами знают, какую роль они вольно или невольно сыграли, и сейчас стараются снять напряжение, всех поскорее утихомирить. Зачем же им в этом мешать? Губернатора под суд все равно не отдадут, а вот новый погром может вспыхнуть в любую минуту. Надо поскорее погасить страсти, ввести жизнь в нормальное русло. Власти хотят того же, так зачем их озлоблять?
Столь неожиданная точка зрения озадачила Владимира Галактионовича. Подумав немного, он сказал:
— В прошлом году, когда в Полтаве судили бунтарей-крестьян, местные адвокаты тоже не смогли найти общего языка со столичными. Крестьян, как вы знаете, сразу же после усмирения мятежа подвергли жестокой порке. Еще до следствия, до суда, как у нас, увы, нередко бывает. И вот на суде председатель запретил касаться этого щекотливого вопроса. Адвокаты же ссылались на статью закона, которая запрещает дважды наказывать за одно и то же преступление. Доказать, что подзащитные уже понесли наказание, значило избавить их от каторги. Но именно об этом судья запретил говорить. Столичные адвокаты настаивали на том, что в знак протеста все защитники должны покинуть зал заседания. Местные же, напротив, полагали, что надо заявить протест, но остаться, чтобы хоть в какой-то мере помогать подзащитным. Такие вот разногласия. Совещания адвокатов проходили в моем доме, и я невольно участвовал в дебатах. Я, конечно, понимал, что демонстративный уход всей защиты произвел бы огромное впечатление на общество. Карабчевский сам в процессе не участвовал, но внимательно следил за всем его ходом из Петербурга. Он даже прислал мне телеграмму, прося поддержать столичных адвокатов. Но я твердо взял сторону местных, так как считаю, что интересы отдельного человека не должны приноситься в жертву общим соображениям, даже очень важным и благородным. Вся наша деятельность и борьба потеряют смысл, если великие цели заслонят собою слезы и кровь отдельной личности. Но с этой точки зрения, мне кажется, вы не правы, господин Кенигшац. К суду должны быть привлечены, в первую очередь, те, кто подготовил погром и ему попустительствовал. Нельзя позволить свалить всю вину на кучку темных людей, которые оказались всего лишь слепым орудием чужой воли.
— Говоря так, господин Короленко, вы исходите из высших принципов. Я это ценю и уважаю. Но нельзя забывать конкретных местных условий, — настаивал Кенигшац. — Добиваться сейчас того, о чем вы говорите, значит только раздувать пожар. Точку зрения Плеве вы знаете?
— Знаем из газет, но хотели бы услышать подробнее от вас, ведь вы были у него как раз в связи с погромом.
— Да, еврейское общество меня удостоило чести. Нашу депутацию возглавлял господин Гринберг — это крупный одесский коммерсант, но мы условились, что в основном говорить буду я, как более опытный оратор. Что вам сказать? Мы держались очень почтительно и выставили самые скромные требования, да и те облекли в форму нижайшей просьбы. Я сказал господину Плеве, что евреи чувствуют себя обиженными циркуляром министерства. В нем говорится о каком-то еврее, хозяине каруселей, будто он толкнул женщину с ребенком, и с этого все началось. Получается, что евреи сами дали повод к погрому, хотя это не так: никаких каруселей на эту пасху вообще установлено не было. Министр ответил, что у него есть официальные сведения, будто зачинщиками погрома были евреи, и он склонен доверять своим чиновникам больше, чем нам. Мы просили устроить нам аудиенцию у государя, но министр сказал, что государь не здоров и теперь никого не принимает. А к этому добавил, что взялся бы устроить аудиенцию, если мы пообещаем, что выразим благодарность за те меры, которые были приняты властями. Вы видите — я не сторонник того, чтобы бросать вызов, но это было уже слишком: благодарность за учиненное побоище! Об аудиенции мы больше не заикались, но сказали господину министру, что было бы очень хорошо, если бы государь пожертвовал хоть небольшую сумму, чисто символическую, в пользу пострадавших и этим публично выразил им свое сочувствие. Однако этой просьбы министр «не расслышал». Короче говоря, ни в одном вопросе, какой мы затронули, министр не пошел нам навстречу, он нас едва выслушал, зато сам произнес целую речь. Из нее мы поняли, что он усердно читает юдофобскую прессу и, больше того, верит этому вздору. Евреи для него составляют нечто вроде тайного сообщества, спаянного крепкой дисциплиной и подчиненного своему тайному правительству, которое приказывает им всячески вредить России. «Передайте, говорит, еврейской молодежи и всей еврейской интеллигенции, что евреи народ пришлый в России и должны вести себя скромно. Не думайте, что Россия старый и разлагающийся организм. Мы одолеем все трудности и справимся с революционным движением. Многие говорят о трусости евреев, но это неверно. Евреи — самый смелый народ. На западе России 90 процентов революционеров — евреи, а в России вообще — около 40 процентов. Не скрою, революционное движение нас беспокоит. Мы приходим даже в замешательство, когда — то там, то здесь — возникают демонстрации. Но мы справимся с этим. Знайте же, что если вы не удержите вашей молодежи от революционного движения, мы сделаем ваше положение настолько несносным, что вам придется уйти из России до последнего человека». Такова была эта речь, господа писатели. У меня хорошая память, я передаю почти дословно… Как видите, на наши почтительные просьбы министр не только не обещал что-либо улучшить, но пригрозил изгнанием всего нашего народа… Между прочим, цифры, которые он назвал, оказались неверными. Я потом справлялся с официальными данными: евреи составляют 29 процентов от всех привлекавшихся в последние годы по политическим делам, тогда как православные — 52 процента. Остальные приходятся на католиков-поляков и других инородцев. Конечно, в пересчете на душу населения процент революционеров среди евреев очень велик. Но ведь Россия в основном страна деревенская, а революционеров воспитывает город, где и сосредоточено большинство евреев. В отношении же к городскому населению революционеров среди евреев даже меньше, чем можно было бы ожидать. Однако министр внутренних дел официально пригрозил всем евреям изгнанием из страны только за то, что среди них имеется горсточка революционеров. И самое интересное то, что он всерьез полагает, будто наше слово может сильнее воздействовать на этих отчаянных юношей, нежели тюрьмы, каторга и прочие средства, какими располагает само правительство. Мы переглянулись с Гринбергом, и он стал говорить о своих верноподданнических чувствах. Плеве ему ответил: «В вас-то я уверен, я знаю, что вы верноподданный еврей». Я тоже поспешил заявить о своей лояльности, но он грубо меня оборвал: «А вот в вас я сомневаюсь. Вы интеллигент, а вся еврейская интеллигенция неблагонадежна». Вот так, господа! Нам нужно успокоить общество и поскорее забыть про апрельское несчастье. Иначе Плеве исполнит свою угрозу, и миллионы нищих евреев должны будут отправиться в изгнание. Это приведет к таким бедствиям, каких еще не знал наш многострадальный народ. Я просто в отчаянии оттого, что адвокаты не хотят с этим считаться и стремятся раздуть громкое дело.
— Но как же можно иначе! — заговорил Владимир Галактионович. — Следователи сознательно замалчивают не только бездействие власти, но и прямое участие в погроме представителей образованного класса. Они не позволяют даже называть имена таких главарей, как нотариус Писаржевский. Кстати, мне не совсем ясно, почему. Ведь эти подстрекатели — не представители власти.
— Тут все упирается в барона Левендаля, — ответил Кенигшац.
— В какого еще барона? — поразился Короленко.
— Как! Вы не слышали этого имени! И вы, господин Ашешов, ничего не сказали о нем Владимиру Галактионовичу?
— Я хотел, чтобы он услышал это от вас.
— Барон Левендаль — жандармский ротмистр. — Кенигшац опять обратился к Короленко. — Он появился в Кишиневе за два или три месяца до Пасхи в качестве начальника Охранного отделения, хотя такового у нас вообще не существовало. Он сразу стал обзаводиться штатом осведомителей. От губернатора он был независим. От местного жандармского управления — тоже. В чем состояла его миссия, никто не мог сказать. Многие полагали, что для барона просто создали синекуру, но тогда зачем ему понадобились сыщики? Революционным гнездом наш тихий Кишинев никак не назовешь. Была тут тайная типография, печатала воззвания социал-демократов, но еще в прошлом году ее обнаружили и ликвидировали. К тому же неблагонадежных у нас выслеживает жандармское управление во главе с полковником Чернолуским. Миссия Левендаля так и оставалась таинственной до самой Пасхи. А потом оказалось, что именно его агенты стоят во главе уличных банд. Каждая группа имела свой номер и точно знала район своих действий. Пока банды орудовали в городе, сам барон держал под наблюдением губернатора и буквально хватал его за руки, как только тот пытался положить конец бесчинствам. Я сам два раза приходил к губернатору, умолял его вмешаться, и он как будто соглашался.
Но следом являлся барон Левендаль, и все оставалось без изменений. Доктор Мучник, председатель нашей еврейской общины, приходил к губернатору с целой депутацией, и фон Раабен им решительно сказал: «Я сейчас выйду на улицу, я велю запрягать». Однако когда депутация покидала губернатора, она столкнулась в дверях с Левендалем. Дом доктора Мучника стоит прямо напротив губернаторского. Придя к себе, он вышел на балкон и видел, как к подъезду губернатора подали экипаж. Но Раабена снова удержал Левендаль. А вскоре после погрома Левендаль исчез из Кишинева так же внезапно, как и появился. Говорят, его перевели в Киев, разумеется, с повышением. Очевидно, он сделал свое дело, и больше здесь не нужен. Думаю, этим и объясняется, почему следователь Фрейнат и его помощники делают все, чтобы Писаржевский и ему подобные не были привлечены к суду: от них ниточка ведет к Левендалю, а через него — к фон Плеве.
— И зная все это, вы молчите! — воскликнул Владимир Галактионович. — Вы не предаете гласности этот дьявольский замысел!
— Но все это почти невозможно доказать, — вздохнул Кенигшац. — А кроме того, господа, я не могу забыть ту угрозу, какую высказал Плеве. Когда евреев изгоняли из Испании, их там было шестьсот тысяч. А после изгнания в живых осталось триста тысяч. Каждый второй погиб в пути от голода и болезней. Представьте же себе, какие бедствия нас ждут, если из России будет изгнано пять миллионов!
— Вы действительно считаете это возможным? — удивился Короленко.
— А почему — нет?
— Но ведь все-таки сейчас не Средневековье, чтобы можно было изгнать целый народ! Двадцатый век на дворе.
— А разве не изгнали евреев из Москвы в самом конце девятнадцатого века, и при полном молчании так называемого «общества»! А, положа руку на сердце, могли ли вы предполагать, что в просвещенном двадцатом веке вдруг вспыхнет такой дикий погром? Я знаю наизусть ваши «Огоньки», господин Короленко, «Впереди — огоньки!» Я завидую вам. Вы верите, вы убеждены, что при всех ужасах современной жизни, хоть и медленно, мучительно, но все-таки она изменяется к лучшему. Очень благородная точка зрения, я ее уважаю. Ну, а если нет?.. Средневековье может повториться по одному мановению руки господина Плеве. А то, что он не дрогнет, делая этот жест, я имел возможность убедиться, когда он нас принимал… Как адвокату, знаете ли, мне приходится иметь дело не с лучшими представителями рода человеческого. Убийцы, мошенники, грабители… Но таких жестоких, беспощадно жестоких и умных глаз, как у господина министра, я не встречал никогда в жизни.
— Ну, как, Владимир Галактионович, не жалеете, что задержались из-за этого визита? — спросил Ашешов, когда, распрощавшись с Кенигшацем, они покинули роскошный особняк.
— Какой несчастный человек! — не отвечая на вопрос, раздумчиво сказал Короленко. — Весь соткан из двусмысленностей и компромиссов. Ради звания присяжного поверенного он принял крещение, но в отличие от многих выкрестов, не порвал со своим народом, а напротив, живет его интересами и мучается его бедами. Он идет к фон Плеве выразить недовольство положением евреев и тут же клянется в верноподданнических чувствах. Погромом он не только потрясен до глубины души, но знает подоплеку дела лучше, чем кто-либо другой; и вместо того, чтобы воспользоваться этим знанием в борьбе за еврейство, которое ему так дорого, он молчит и даже почти помогает властям скрыть истину, тая наивную надежду, что его молчание будет оценено и народ его пощажен… Похоже, Винавер прав: евреи очень наивный и простодушный народ. А наивнее других как раз те, кто считает себя особенно дальновидным…
Во второй половине дня Короленко посетил больницу, где долго беседовал со слепым евреем Меером Вейсманом, жителем одной из бедных окраин, расположенных вблизи городской скотобойни.
Меер оказался вовсе не старым, как представлялось Владимиру Галактионовичу со слов Ашешова, а человеком средних лет с густой черной бородой и птичьим носом, непокорно выпрыгивающим из-под белой марлевой повязки, туго наложенной на глаза. Он рассказал Владимиру Галактионовичу, что когда погромная волна приблизилась к их окраине, евреи попрятались, кто где мог. Самого Меера и его семью приютил сосед-молдаванин, но жена соседа пришла с улицы и сказала, что толпа за это может расправиться и с ними.
— Тогда мы стали бегать, — сказал Вейсман.
Он лежал неподвижно на узкой больничной койке и говорил бесстрастно, монотонным голосом, словно бы в пустоту. Только руки его двигались по одеялу, как посторонние существа, обнюхивающие каждую складку в надежде найти, чем поживиться.
— Сунулись туда-сюда, но все боятся, никто не хочет пускать, — говорил Меер. — Все же пустили нас к одному соседу, из этих, знаете, мешумедов. Был обычным евреем, а потом крестился и все забыл. Только он не забыл — нет! Выставил в окне икону, но все равно боится, прямо дрожит от страха. Ни за что не хотел даже калитку открыть. Но у него две дочери, хорошие добрые девушки, они нас пустили. Я говорю: «Примите хотя бы детей». Но не успели мы на два шага отойти, как видим — отец вышвыривает наших детишек через забор. И так три раза.
Дочки принимают, а отец берет за шиворот, и, как котят, через забор перекидывает. А тут уже толпа приближается, ну, мы и побежали на бойню. Там много евреев скопилось, с детьми, стариками. Все в страхе, ждут, что будет. А потом пришли эти — с дрюками, и стали бить.
Больше Меер ничего не помнил — очнулся уже в больнице. Очнулся и стал звать:
— Ита! Где моя Ита?
— Я здесь, — глотая слезы, ответила старшая дочь, стоявшая у постели, но Меер не видел ее, и, заметавшись сильнее, снова стал звать:
— Ита, Ита, где же ты?..
Дочь наклонилась к нему, он долго шарил руками в воздухе, не понимая еще, что никогда уже не увидит ни своей дочери Иты, ни самого белого света…
Кто выбил ему единственный глаз, Меер точно не знал, но уже здесь, в больнице, ему рассказали про соседского мальчика, который похвалялся своим подвигом и показывал товарищам «ту самую гирьку».
Записывая подробности этого тихого рассказа, Владимир Галактионович думал о том, что в истерических воплях юдофобов, которые кричат, будто «христиане» пострадали от погрома не меньше евреев, есть, безусловно, своя истина. Молдавский мальчик вступает в жизнь с таким страшным делом на совести… Каким ужасом содрогнется его душа, если он когда-нибудь поймет, что натворил!.. Ну, а если не поймет? Тогда он еще более несчастная жертва погрома…
На следующий день Короленко покидал Кишинев.
Провожать его на вокзале собралась изрядная толпа народа. Присяжный поверенный Кенигшац от имени местного общества сказал выразительную речь и преподнес Владимиру Галактионовичу адрес по случаю его приближающегося пятидесятилетия.
Долго жали ему руку столичные адвокаты, явившиеся на вокзал всей своей дружной командой. Николай Петрович Ашешов крепко обнял Владимира Галактионовича — он еще долго намерен был оставаться в Кишиневе, чтобы каждую неделю отправлять анонимную корреспонденцию в Штутгарт, главному редактору свободной русской газеты «Освобождение» Петру Струве. А один из провожавших, желая продлить общение с писателем, вскочил в последний момент в вагон, чтобы проехать вместе с ним две-три станции.
Это был давний товарищ Владимира Галактионовича по Петровской земледельческой академии. Они случайно столкнулись на одной из кишиневских улиц, и оба были обрадованы неожиданной встрече. Товарищ тотчас заговорил об «истории», в которой они когда-то участвовали. Это были дорогие воспоминания, возвращавшие Владимира Галактионовича в далекую молодость. Студенты-петровцы бросили тогда смелый вызов властям, составив коллективную петицию протеста против вмешательства полиции в студенческую жизнь. Короленко и два его друга Григорьев и Вернер подали эту петицию начальству, поэтому именно их троих объявили «зачинщиками» и отправили в ссылку. Эта расправа вызвала еще большее негодование со стороны петровцев, пострадавшие за общее дело товарищи стали для них героями. Об этом и напомнил Владимиру Галактионовичу старый петровец.
Едва они остались в вагоне вдвоем, товарищ бережно извлек из кармана и показал три старые фотографии. На одной Короленко узнал себя, на другой — Григорьева, на третьей — Вернера. Как они были молоды тогда, в 1876 году, перед ссылкой! Товарищ сказал, что хранит эти снимки, как дорогую реликвию, и попросил сделать надпись.
Около двух часов незаметно пролетели в беседе о былом. Владимир Галактионович обменялся с вновь обретенным другом адресами, они уговорились, что будут переписываться. Наконец товарищ поднялся: на следующей станции ему предстояло пересесть на встречный поезд, чтобы вернуться в Кишинев. Вместе они вышли на площадку вагона. Поезд сбавил ход, остановился.
— Ну, прощай! — сказал Владимиру Галактионовичу вновь обретенный друг; он крепко пожал протянутую руку и вдруг ударил себя по лбу: — Ба, я же совсем забыл передать тебе самый горячий привет от нашей редакции!..
— От какой редакции? — не понял Владимир Галактионович.
— Как от какой? От «Бессарабца», конечно, других у нас нет!
И он соскочил на платформу.
…Поезд двинулся дальше, а Владимир Галактионович долго еще стоял на площадке вагона, пораженный финалом этой неожиданной встречи. Каким же ядом должна быть пропитана атмосфера в этом городе, если даже товарищ-петровец, не изменивший, судя по всему, старому студенческому знамени, называет своею газетенку, запачканную кровью невинных жертв.
Об этой странной встрече Владимир Галактионович сообщил жене в Румынию, куда отправил семью на летние месяцы.
«Пребывание в Кишиневе произвело на меня впечатление очень тяжелое, — подвел он итог поездке, — антисемитизм загадил всю жизнь».
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Его Превосходительству Господину Директору
Департамента Полиции А.А. Лопухову
Записка по Бессарабскому Охранному Отделению
Совершенно секретно
В виду почти ежедневных моих докладов о полной возможности новых антиеврейских беспорядков 14,15 и особенно 25-го сего мая, а также и на основании поступающей массы сведений о том же и от частных лиц, И. д. Бессарабского губернатора Действительный Статский Советник Устругов сего числа, в 2 часа пополудни, собрал в Губернаторском доме под своим председательствованием комиссию, членами в которую пригласил Начальника Бессарабского Губернского Жандармского Управления, Прокурора Кишиневского Окружного Суда, и. об. Полицмейстера, и. об. Начальника местного гарнизона, и всех гг. командиров воинских частей, расположенных в Кишиневе. После двухчасового совещания эта комиссия выработала систему разделения всего города на самые мелкие участки, каждому из воинских начальны-ков был строго определен свой район, все уговорились относительно однообразия и твердости в способах воздействия на бушующую толпу и, наконец, все рассчитано таким образом, чтобы по получении первого сведения о возникновении в какой бы ни было день и где бы то ни было беспорядков, весь город был бы за-пят войсками не более, как в продолжении 20-ти минут. В дни же 14-го, 15-го и особенно 25 мая, решено без всяких сведений о начале возникновения беспорядков занять весь город войсками но выработанному плану, — еще с ночи. Для распоряжения воинскими частями гражданским начальством город разделен на у участков, и в каждый из них Управляющим Губернией, по соглашению с военными властями, уже назначено по одному лицу, которое будет им на этот предмет вполне уполномочено. Сам же Управляющий Губернией с самого начала беспорядков и до самого конца их будет на месте там, где его личное присутствие более всего понадобится. О вышеизложенном имею честь доложить на благоусмотрение Вашего Превосходительства.
Ротмистр Барон Левендаль
12 мая 1903 г.
г. Кишинев
Разбор шифрованной телеграммы из Кишинева от Управляющего губернией Устругова на имя Г. Министра Внутренних Дел за № 1686; подана 14 мая 1903 г. в 8 ч. 10 м. пополуд. получена 14 мая 1903 г.
По агентурным сведениям 14–15 или 25–26 мая предположено повторение беспорядков: решено, по сигналу, одновременно разгромить богачей и всех, помогавших евреям, прежде чем успеют прибыть войска. Ввиду этого, половина гарнизона будет эти дни расположена вне казарм в разных частях города, что сегодня уже сделано. Все меры приняты. Считаю долгом доложить об этом. Пока все благополучно.
Управляющий губернией Устругов
Телеграмма отправлена 14 мая 1903 г. в 10 ч. вечера. Деж. чин. (подпись неразборчива). Кишинев, Управляющему губернией.
Располагая полицией и войсками, нельзя допускать беспорядки. Предупреждение их возлагаю на Вашу личную ответственность.
Министр Внутренних Дел Плеве
Глава 7
С очерком о Кишиневском погроме надо было спешить. Не потому, что он устарел бы месяцем позже, а потому что приближалось 15 июля, день пятидесятилетия, и Владимир Галактионович знал, что если не исчезнет к этому времени, то его замучат чествованиями. К тому же приближалось большое церковное торжество: открытие мощей причисленного к лику святых старца Серафима, окончившего свои дни еще в 1833 году в Саровском монастыре, что в Темниковском уезде Тамбовской губернии. Открытие мощей должно было пройти с большой помпой, демонстрируя незыблемую приверженность народа началам православия и самодержавия. Ожидалось прибытие на торжества обер-прокурора синода Победоносцева, министра внутренних дел Плеве, самой царствующей четы. Заблаговременно к монастырю направлялись толпы молящихся с особо большим числом увечных и больных, надеющихся на чудесное исцеление.
Владимир Галактионович не раз участвовал в подобных шествиях — они давали богатый материал для наблюдения за нравами и бытом простого народа, — и теперь он решил, что в толпе богомольцев ему удобнее всего будет встретить свое пятидесятилетие.
В Полтаве из-за летнего зноя было малолюдно, и Владимира Галактионовича не очень беспокоили посетители. В доме было тихо и пусто, почти ничто не отрывало от работы.
Из Кишинева поступали новые известия. Самое значительное и неожиданное — о самоубийстве нотариуса Писаржевского.
Это был блестящий молодой человек, богатый, образованный, остроумный, из тех, кто одним появлением своим приковывает внимание и сразу становится душою общества. Последнюю ночь своей жизни он провел в клубе дворянского собрания. Был весел, оживлен, делал большие ставки в игре и непрерывно выигрывал. А потом… Потом вышел в сад, уединился в дальней аллее, извлек из кармана револьвер и — пустил себе пулю в висок.
Владимиру Галактионовичу сообщили, что о причинах самоубийства в Кишиневе ходят разные толки: кто говорит, что Писаржевский запутался в долгах, кто рассказывает романтическую повесть о несчастной любви, а кто твердит о том, что он не вынес позора, связанного с неминуемым привлечением к суду по делу о погроме, но в кругах, близких к редакции «Бессарабца», утверждали, что этот слух распущен евреями.
Что же касается самого Владимира Галактионовича, то в самоубийстве молодого нотариуса он увидел своеобразный заключительный аккорд кишиневской драмы — тот трагический финал, что возвращает надежду. Не мучился ли Писаржевский сознанием своей неискупимой вины за то, что он, интеллигентный человек, сделал по отношению к евреям, которых убивали христиане, и по отношению к христианам, которые убивали евреев? Владимир Галактионович хотел верить, что не какие-то там долги, и даже не боязнь суда (привлечение к нему оставалось очень сомнительным), а именно сознание вины заставило Писаржевского пустить себе пулю в лоб.
Очерком «Дом № 13» Владимир Галактионович остался недоволен. О самом важном он должен был умолчать; о многом другом — тоже важном — сказать мимоходом, намеком. Получилось что-то «сухое и обкромсанное» — так он считал. Однако он полагал, что и то, что получилось, может оказаться слишком острой приправой для нежного желудка российской цензуры. Опасения были не напрасными: вернувшись в Полтаву после Саровских торжеств, он застал сообщение, что очерк его запрещен.
«Я на это убил две с половиной недели (почти) дорогого летнего времени, — жаловался Владимир Галактионович Федору Дмитриевичу Батюшкову. — Польза одна: я все равно не мог ни о чем свободно думать, пока не отдал эту (малую и плохую) дань сему болящему вопросу».
Прошло около двух лет. Новые большие события, связанные с японской войной, убийством Плеве, грозным ростом забастовочного движения, потрясшим страну Кровавым воскресеньем и его последствиями, захватили Владимира Галактионовича. Поездка в Кишинев и написанный на ее основе очерк изрядно потускнели в памяти, стали изглаживаться многие подробности. И вдруг Владимир Галактионович извлек из почтового ящика пакет, прибывший из Кишинева.
Распечатав его, он увидел небольшую книжечку. На обложке, в верхнем правом углу, был оттиснут его собственный овальный портрет, а под ним было напечатано:
Подарок вдвойне удивил Владимира Галактионовича. Во-первых, он понятия не имел о том, что его очерк издан за границей. А, во-вторых, он давно привык к тому, что состоит под негласным надзором, вся его корреспонденция просматривается и подобные заграничные издания до его почтового ящика никогда не доходят.
Ему было подумалось, что книжечка проскочила случайно, по чьей-то оплошности, но внимательнее посмотрев на обложку, он понял, что оплошности тут нет. Над своим портретом, у самого обреза обложки, он прочитал достаточно ясную карандашную надпись: «Сочинение вора-шантажиста и жидовского наемника, продажного клеветника — Короленко».
Ниже, по овалу, обрамляющему портрет, шла менее ясная, но тоже вполне различимая карандашная вязь: «Жаль, что у нас есть цензура, запрещающая публично изобличать таких лгунов».
И, наконец, под портретом: «Нахальный лгун! Во всей этой басне ни слова правды».
Перелистав брошюру, Владимир Галактионович увидел, что поля ее тоже испещрены надписями, слишком, однако, однообразными, свидетельствовавшими о том, что их автор начисто лишен воображения: «Лгун», «Ложь», «Сплошная ложь», «Не стоишь ты, продажная душа, пятки Крушевана», «Лгун, торгующий своим именем и честью России», «От души желаю г-ну Короленко подавиться еврейским золотом, полученным за эту книжку»…
Наконец, на задней обложке Владимир Галактионович прочитал: «Если бы такой предатель появился среди еврейского народа, то его давно бы уничтожили — так говорил мне один честный еврей, восторгавшийся Вашей продажностью, на мой вопрос, возможны ли такие предатели среди их нации».
Это была самая длинная и, по-видимому, самая оригинальная пометка дарителя. Имени его не значилось ни в книжке, ни на конверте: выставив напоказ свое нутро, он спрятал лицо под безопасной маской анонима.
Все совершалось по законам Необходимости.
Во вселенской битве Добра и Зла каждый человек имеет возможность свободно выбрать свое место, и часть людей по каким-то таинственным причинам неизменно становится на сторону Зла. Но лишь очень немногие из них отваживаются открыто заявить об этом. Они либо стараются вывернуть наизнанку все человеческие ценности, выдавая творимое ими Зло за Добро, либо действуют скрытно, исподтишка, воровски, чтобы не оставить следов своей личной причастности. В этом главная трудность преодоления Зла и в этом — Надежда.
Свое место в борьбе космических стихий Владимир Галактионович определил прочно и навсегда. Он верил, что борьба с погромами, с клеветой, с национальной, религиозной и всякой иной нетерпимостью, это борьба за обновление России, за превращение ее в легендарную страну Беловодию, в которой царствует гласность, справедливость, закон, уважение к личности каждого человека.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА
Его Превосходительству г. Директору
Департамета Полиции А.А. Лопухину
Исполняющий должность
Бессарабского Губернатора
Милостивый Государь
Алексей Александрович.
Начальник 8-й кавалерийской дивизии, генерал-лейтенант Бекман, заявил мне, что при представлении Государыне Императрице Марии Федоровне, Ее Величество изволила высказать ему свое сожаление о тех чрезвычайных зверствах, которые совершались в Кишиневе над убитыми евреями. На уверение генерала Бекмана, что все сведения иностранных газет по этому поводу и некоторых наших юдофильских изданий крайне преувеличены, Ее Величество изволила ответить: «Вы, генерал, вероятно, не знаете дела, так как, если бы сведения иностранных и наших газет были бы не верны, то последовало бы официальное опровержение сообщаемых прессою слухов».
Вашему Превосходительству известно, что в газете «Новости» были напечатаны, со слов ординатора Губернской Земской Больницы, доктора Хорошевского, самые ужасные картины зверских надруганий над трупами убитых евреев. Указывалось, что Суре Фонаржи были вбиты два гвоздя в ноздри, которые прошли через голову; Лысу растянули суставы рук и ног; Харитону отрезали губы, потом вырвали клещами язык вместе с гортанью; на Кировской улице бросали со второго этажа маленьких детей на мостовую. Кроме того, будто бы известно множество случаев изнасилования несовершеннолетних, тут же умиравших на руках своих мучителей. Найдена разорванная надвое девочка и т. п. Независимо того, 20 апреля в Житомирском соборе произнесено слово Преосвященным Антонием, в котором сказано: «В то время, когда во святых храмах воспевали: „друг друга обымем“, в это самое время за стенами храмов пьяная озверевшая толпа врывалась в еврейские дома, терзала людей, не щадя старца и младенца. Бесчестили женщин, разрывали грудных младенцев на глазах матерей и трупы их выбрасывали из окон на улицу, вместе с товарами еврейских магазинов, а там жадная толпа, не замечая окровавленных тел, бросалась через них к одеждам: грабители обогащались вещами, облитыми кровью несчастных жертв».
Прочтя все эти крайние преувеличения, я, собрав точные сведения, 26–27 апреля доложил бывшему Бессарабскому Губернатору, что все эти проникшие в печать сведения совершенно неверны. Наружный вид трупов убитых доказывал, что смерть последовала от удара в голову колом, лопатой, сапой и т. п., в момент сильного ожесточения и раздражения, но надруганий и истязаний решительно не было. Ни отрезания губ, ни вырывания гортани, ни вбивания гвоздей, разрывания девочек и грудных младенцев, ничего подобного ни на одном трупе не обнаружено. Изнасилования несовершеннолетних, умиравших в руках мучителей, и быть не могло, так как убита всего одна девочка 14 лет, труп которой осмотрен и в смысле вопроса об изнасиловании, причем установлено, что последнего положительно не было. Больше убитых несовершеннолетних женского пола не было. Равным образом, разрывания девочек и грудных младенцев положительно не совершалось. В числе умерших, а не убитых — погребено два младенца, — один 1 г. 2 м., а другой 8 месяцев, которые умерли от неосторожности матерей, в их объятиях, завернутые в прикрытия, т. е. одеяла. Эти два трупа не только не имели никаких признаков следов убийства, но сами матери признали их смерть от удушения. Было два заявления об изнасиловании замужних женщин, оставшихся в живых, но оба не подтвердились, а потом, по словам следователя но важным делам, подано новых около 7 подобных заявлений, после более полуторамесячного периода времени, что ясно указывает на запоздалый вымысел. И эти заявления, вне всякого сомнения, останутся без подтверждения судебным расследованием. Работа еврейских адвокатов кипит, факты измышляются и подтасовываются, вырастают миллионные убытки, давно уже покрытые пожертвованиями, и предстоящая суду задача — обнаружение правды — является не только далеко нелегкою, но почти неразрешимою. С одной стороны, выступят во всеоружии присяжные юристы — щедро оплачиваемые, с другой — темная, невежественная группа обвиняемых, действовавших под злонамеренным влиянием подпольных советчиков, убежденная тогда, что она исполняла приказ Государя. И предстанет она к тяжкому ответу перед судом, надо полагать, почти беззащитною, тогда как потерпевшие имеют своих представителей даже и при предварительном следствии. Сотни подставных продажных свидетелей из единоверцев потерпевших явятся грозною уликой на суде, и разобраться, где правда будет граничить с жестокою безжалостною местью, станет почти невозможно. О таком положении дела я считаю своим долгом довести до сведения Вашего Превосходительства. Покорнейше прошу принять уверение в чувствах совершенного почтения и преданности.
В. Устругов
* * *
Г. Начальнику Главн. Упр. по делам печати
Вследствие приказания Господина Министра Вн. Д., Д-т П. имеет честь покор. просить Ваше П-во сделать распоряжение о воспрещении печатания в газетах объявлений о сборах, производящихся в пользу евреев, пострадавших во время Кишиневских беспорядков.
Подп. Директор Лопухин
Скр. Дел.: подпись неразборчива
№ 7568
24 мая 1903 г.
Эпилог
7 июля 1920 года нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, совершавший поездку по только что отвоеванным у белых районам, остановился в Полтаве. Здесь, по личному заданию Ленина, он должен был встретиться с В. Г. Короленко и постараться объяснить ему мотивы всего, что происходит в стране. Ленин полагал, что, осознав благородные цели большевистской власти, Короленко поддержит ее.
С Владимиром Галактионовичем Луначарский прежде никогда не встречался, однако заочно их связывали давние и очень непростые отношения. В 1903 году, по случаю 50-летия Короленко, Луначарский опубликовал большую статью о его творчестве. И хотя к юбилею прославленного писателя появилась добрая сотня работ, статья Анатолия Васильевича не потерялась в этом потоке.
В последующие годы слава Короленко продолжала расти — не только как тонкого художника, но и как трибуна, публициста, борца. Борьба с погромами, скороспелыми смертными казнями, с раздуванием антисемитских страстей в связи с ритуальным Делом Бейлиса, а затем, уже в годы мировой войны — ложными обвинениями евреев в шпионаже… Позиция писателя по основным вопросам жизни оставалась неизменной. Даже в те годы, когда сам Анатолий Васильевич, утратив прочные классовые ориентиры, ударился в буржуазное богоискательство, Короленко нисколько не пошатнулся в своих всегдашних принципах. Он не менял вех на своем пути. Его моральный авторитет стал безусловной, абсолютной величиной. Анатолий Васильевич видел в нем (особенно после смерти Толстого) олицетворение совести русской литературы, да и вообще России. По-еле падения монархии Луначарский даже высказывал мысль, что если молодая республика, вырабатывая новые государственные институты, пожелает учредить пост президента, лучшим кандидатом на него мог бы стать Владимир Галактионович Короленко.
События, однако, пошли иным путем, нежели это представлялось Анатолию Васильевичу. После большевистского переворота, несмотря на недавние «шатания», за которые Ильич ласково назвал его «сволочью», Луначарскому был доверен самый трудный и деликатный пост в правительстве, так как именно на него легла задача наводить мосты между новой властью и мозгом нации — интеллигенцией.
Но мосты наводились плохо: давала о себе знать чуждая классовая природа интеллигенции. «Мир народам, земля крестьянам, заводы и фабрики рабочим…» Большевистские лозунги, столь понятные массам, интеллигенция принимала с недоверием, как хитрый маневр, пущенный в ход, чтобы закрепиться у власти. В ответ на негодование буржуазной печати большевики вынуждены были закрыть ряд газет, что, конечно, не улучшило взаимопонимания между новой властью и интеллигенцией. Понятна поэтому та радость, какую испытал нарком просвещения, когда перед ним неожиданно возник довольно известный писатель Иероним Иеронимович Ясинский и прочитал звонкие бодрые стихи, прославляющие новый строй.
Луначарский напечатал в «Известиях» восторженную статью, в которой заявил, что в облике убеленного сединами старца к большевикам пришла сама русская литература.
А через несколько дней в еще не закрытых «Русских ведомостях» появилась большая статья под названием «Торжество победителей». Статья напоминала некоторые эпизоды творческой и нетворческой биографии Ясинского — монархиста и антисемита, всегда примыкавшего к сильным, так что к новым властям его могли привести не принципы, а лишь сознание, что теперь на их стороне могущество.
«Да, могущество, — говорилось в статье, — но не морального порядка. Русская печать не идет к новой власти с признанием и поклоном; все партии, все направления общественной мысли отстраняются от нее с такой оппозиционной брезгливостью, которую ничем не могло победить самодержавие. Вокруг нее уже образовалась идейная пустота, насыщенная произволом и кровью».
«Нет, гражданин Луначарский, не обольщайтесь! К вам на „сретение“ пришла не русская литература, а только Иероним Иеронимович Ясинский, и его появление не радостно, а зловеще… Поверьте, гражданин Луначарский (мне, старому писателю, тяжело говорить это о другом старом писателе): в лице И. И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего дворца вползла к вам только старая рептилия, привыкшая извиваться перед всякой восходящей силой, хотя бы грубой, и так же готовая ужалить ее в пятку в момент падения».
Под статьей стояла подпись: Владимир Короленко. Это был открытый вызов, но Луначарский счел за лучшее промолчать. Лишь через год, в связи с шестидесятипятилетием Короленко, он напечатал статью, в которой, высоко оценив талант писателя и гуманистическую направленность всего его творчества, писал:
«Горько, конечно, что во имя „справедливости“ и прочих обывательских вещей, так невыразимо жалких перед грозою войны и революции, зачитал против нас проповедь и Короленко. Но как неверен был его голос! Какая скучная канитель его письмо, в котором он торжественно объявляет меня „бывшим писателем, а теперь комиссаром“ и с негодованием уездного пророка клеймит наш фанатизм, радуется тому, что писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто пошел. Какая все это мелочь, какая все это моральная дребедень по сравнению с мировыми событиями, их горечью и их славой!»
И вот они сошлись лицом к лицу — старый, доживающий нелегкий свой век писатель и полный кипучей энергии народный комиссар, гордый тем, что действует и говорит от имени самой Истории.
Пока Короленко цепким ощупывающим взором изучал своеобразное, уверенно вылепленное лицо гостя с его крутым лбом и живыми, примыкающими к переносью глазами, нисколько не тускнеющими за толстыми стеклами пенсне, Анатолий Васильевич с жаром и одушевлением расписывал перед ним светлое царство свободного труда, ради которого советская власть бьется с коварным врагом.
Владимир Галактионович слушал с большим вниманием — и не только потому, что обязывали законы гостеприимства. За два с половиной года, прошедших с тех пор, как он выступил с отповедью самоуверенному комиссару, он был свидетелем многих событий, от которых леденела кровь в его уже сцементированных старческим склерозом сосудах.
Волею судьбы Полтава оказалась одним из самых горячих очагов противоборства. Большевиков здесь сменяли молодцы гетмана Скоропадского, отряды Петлюры, батьки Махно, части добровольческой армии Деникина, и вот снова пришли большевики — теперь уже, кажется, навсегда.
Но среди тех, чья власть на месяцы, а иногда на считанные дни устанавливалась в городе, никто не представлял русскую демократию. Демократия оказалась раздавленной, растертой в порошок между жерновами противоборствующих стихий. За демократией была правда, справедливость, мораль и прочая «дребедень», но за ней не было силы. Торжествовало могущество не морального порядка.
Всякая новая власть творила беззакония и бесчинства — во имя, конечно же, высших и благороднейших целей.
Когда приходили петлюровцы или деникинцы, в городе вспыхивали жестокие погромы и грабежи. Владимир Галактионович требовал прекратить бесчинства, но их благородия только смеялись. Большевистская власть для них была еврейской властью, и они не видели греха в том, чтобы малость попотрошить жидков.
Большевики пресекли всякие попытки погромов, но с их приходом начинались повальные обыски, реквизиции, аресты, расстрелы без следствия и суда.
Расстреливали по ночам на старом кладбище. Приговоренный сам выкапывал могилу и бесформенным кулем валился в нее, получив пулю в затылок. Затаившийся город не спал; обыватели напряженно вслушивались в тишину, стараясь по числу выстрелов определить количество казненных. Конвойным не всегда хотелось тащиться на кладбище через весь город: в непогоду они ухлопывали свои жертвы прямо на улице, «при попытке к бегству». А наутро сотни прохожих видели лужи крови, жадно вылизываемые голодными собаками.
Владимир Галактионович шел в губисполком и ЧК и задавал один и тот же вопрос: «Даже если расстрелянные были злостными агитаторами, неужели они могли сказать против вас что-либо большее, чем говорят эти лужи крови на улице?»
Деникинцы, вернувшись в Полтаву, отрыли и выставили на всеобщее обозрение полуразложившиеся трупы, демонстрируя большевистские зверства. Но сами тоже расстреливали «агитаторов» без суда, и Владимир Галактионович пытался выяснить, неужели они полагают, что их жертвы будут выглядеть лучше, если их потом тоже отроют и выставят напоказ.
О бесчинствах деникинцев ему удалось напечатать статью в Екатеринодарской газете. Ему грозили расстрелом, но статья уже появилась: контроль над печатью у «Добровольцев» не был абсолютным. При большевиках не удавалось опубликовать ни одной строчки; вместо статей Владимир Галактионович писал письма, докладные записки, ходатайства. Благодаря большой настойчивости, авторитету своего имени и давней дружбе с Христианом Раковским, ставшим главой большевистского правительства Украины, ему удавалось иногда вырвать некоторых из лап смерти. Но это были лишь ничтожные капли в разливанном море насилия. Часто его ходатайства просто опаздывали, ибо «суд и расправа» чинились в глубокой тайне; даже ближайшие родственники арестованных ничего не знали об их участи и приходили за помощью слишком поздно.
Каждая неудавшаяся попытка спасти чью-то жизнь жестоко терзала больное сердце писателя, нередко укладывала его в постель. Главное несчастье было в том, что «ошибки», даже признаваемые «ошибки», ничему не учили, никого не делали осмотрительнее.
…Представитель верховной большевистской власти, сидевший теперь перед Владимиром Галактионовичем, был не какой-нибудь рядовой чекист, из вчерашних полуграмотных землекопов, одуревших от полученной вдруг возможности одним движением пальца решать вопросы жизни и смерти людей. Нет, к нему пришел европейски образованный интеллигент, знаток истории, философии, литературы, эстетики…
Владимир Галактионович пытался за уверенными жестами Луначарского уловить встревоженность больной совести. Но ничего похожего не угадывалось на безоблачном светлом челе собеседника. Почему? Как это могло быть? Большевики обещали мир народам. Но в России продолжалась жестокая сеча, хотя во всей Европе давно уже наступил мир. Они обещали землю крестьянам, но хлеб, выращиваемый на этой земле, отбирался продотрядами, наделенными властью чинить расправу над укрывателями хлеба по первому подозрению. Они обещали заводы и фабрики отдать рабочим, а в результате почти все предприятия встали, и рабочие превратились в голодающих безработных. Большевики обещали подлинную свободу взамен иллюзорных буржуазных свобод, а в результате воцарился такой деспотизм, о котором и помыслить не могли российские самодержцы.
Такой виделась действительность Владимиру Галактионовичу, но в ходе беседы с Луначарским он убеждался, что гость видит ее совсем в другом свете; и чем очевиднее становилась его искренность, тем сильнее рос интерес к гостю, возникало даже известное уважение, какое он привык испытывать к всякому честному мнению, хотя бы и иному, нежели его собственное.
— У революции свои законы, — горячо и уверенно говорил Луначарский. — Сокрушаться о недостаточном сострадании к тем, кто имел несчастье попасть под колесо истории, значит, по выражению Ницше, читать проповедь землетрясению. Разве мы хотим крови, ненависти, насилия? Нет! Мы враги всего этого. Но старый мир не уступает добровольно. Он сопротивляется, дает последний и решительный бой. История нам не простит мягкотелости. Так говорит Ленин. Мы вынуждены быть беспощадными к классовому врагу, потому что он беспощаден к нам!
— Но вы без суда и следствия расстреливаете невинных людей, — возражал Владимир Галактионович. — Вы хотите одним махом решить все проблемы, нисколько не считаясь с культурной и экономической отсталостью России. Я сам полагаю, что в частной собственности есть немалая доля жестокости, но чтобы отменить ее, должны созреть условия. Путь к социализму долог и очень непрост. Даже развитые страны Запада еще не готовы к нему. Я верю в искренность ваших намерений, но благими намерениями вымощена дорога в ад. Ваши цели недостижимы вашими средствами. — Мы вынуждены на насилие отвечать насилием.
— Вы все говорите «вынуждены», «вынуждены». Но кто же вас вынуждает? Вы сами вызвали целое море вражды, огрызаетесь и ожесточаетесь. У вас есть палачи. Эти люди стали чекистами для того, чтобы рубить человеческое мясо, как рубят конину. Вы хотите внеклассового общества, общества коммунистического содружества, значит, для вас человеческая жизнь должна быть святее, чем для любого другого, а вы ее топчете.
— Вы, Владимир Галактионович, за деревьями не видите леса. Отдельные местные факты закрывают от вас перспективу.
— То, что вы называете «отдельными фактами», это человеческие жизни. Ведь вы литератор, у вас должно быть развито воображение. Представьте же себе: именно сейчас, пока мы беседуем, в местной чека, возможно, готовится расправа над пятью арестованными. Я их никогда не видел, даже фамилии мне известны только две: Миркин и Аронов. Им грозит гибель «под колесом истории» по прихоти ваших ставленников. А ведь этим людям их жизнь не менее дорога, чем нам с вами — наша. Родственники в отчаянии, просят моего заступничества, но, увы, я не могу поручиться, что оно даст результаты.
— А в чем обвиняются эти люди? — спросил Анатолий Васильевич.
— Говорят, в спекуляции хлебом.
— И вы заступаетесь за них в то время, когда мировая буржуазия пытается задушить молодую республику костлявой рукой голода! — то ли возмутился, то ли изумился Луначарский. — Вот к чему ведет ваша интеллигентная доброта! Вы готовы лить слезы об участи «несчастненьких», не задумываясь над тем, сколько людей, которым тоже дорога жизнь, умирают от голода по вине спекулянтов.
— Я не хочу дискутировать с вами о том, можно ли смертными казнями решить продовольственную проблему, или вам следовало бы поискать для этого иные пути. Дело в другом. Вина арестованных не доказана. И не будет доказана, потому что обвинение может быть превращено в вину только приговором суда, а судить их никто не собирается. При царе, как вы знаете, тоже существовала практика бессудных приговоров: и вас, и меня не раз отправляли в ссылку. Но к каторге, а тем более к смерти, мог приговорить только суд. При Столыпине смертные приговоры выносились военно-полевыми судами, и нередко это была пародия на суд. Вы знаете, как я боролся с этим злом. Но все же соблюдался хоть какой-то минимум формальностей. Мне известен только один случай, когда варшавский генерал-губернатор Скалой расстрелял без суда двух юношей. И он сам за это чуть не угодил под суд. Только личное заступничество царя спасло его. А теперь? Все формальности вы объявили «буржуазными предрассудками», улики заменены «революционной совестью», сотни и тысячи маленьких скалончиков чинят бессудную расправу по всей России, абсолютно уверенные в своей безнаказанности. А вы называете это «отдельными местными фактами»! Нет, Анатолий Васильевич, боюсь, что мы не поймем друг друга.
— А я все же верю, что мы сможем столковаться, — живо возразил Луначарский. — Ведь мы сами скорбим об ошибках, знаем, что иногда их бывает слишком много, но поймите и вы: в такой жестокой борьбе, какую нам навязала буржуазия, ошибки неизбежны.
— Значит, не вы навязали борьбу, а вам ее навязали. Оставьте это для пропагандистских выступлений. Черносотенцы, как вы хорошо знаете, устраивая погромы, тоже кричали, что им навязали борьбу, только не буржуазия, а еврейство. Слово «еврей» служило жупелом, которым удобно было клеймить противников режима. Вы поменяли жупел, только и всего. Вы ни в грош не ставите отдельного человека, его личную неприкосновенность и юридические права. Для вас это буржуазные предрассудки. Всякий инакомыслящий или лишь кажущийся таковым — это буржуй, поставленный вне закона. Не только интеллигентов, но и рабочих, если они хоть в чем-либо не согласны с вами, вы объявляете распропагандированными либо подкупленными буржуазией. Точно так же черносотенцы объявляли меня подкупленным евреями, когда я выступал против погромов. Ваши методы те же, что и у черной сотни, только она возбуждала массы против евреев, а вы — против буржуев.
— Ну, Владимир Галактионович, таких поверхностных аналогий я от вас не ожидал, — решительно запротестовал Луначарский. — И это говорите вы, призывающий к широте и терпимости!
— Почему же — поверхностных? Хотите сказать, что у вас благородные цели? Но когда Плеве и Крушеван устраивали Кишиневский погром, они тоже преследовали благородные, на их взгляд, цели: «спасали» Россию от порабощения евреями.
— Значит, вы считаете, что наши цели неотличимы от черносотенных? — Луначарский уже не скрывал своего негодования.
— Цели, может быть, и различны, но одинаковы методы, — спокойно ответил Владимир Галактионович. — То есть, нет, в методах тоже есть разница. Черные сотни, хотя и поощрялись правительством, все же прямо не входили в аппарат государственной власти. Обществу, адвокатуре, печати приходилось прилагать огромные усилия, чтобы выявлять тщательно скрываемые связи между «Союзом русского народа» и представителями власти. У вас же целые губернии вполне официально отданы во власть чрезвычайных комиссий. Они арестовывают подозрительных, стряпают против них обвинения и сами же выносят приговоры вплоть до смертной казни. Это беспрецедентно в истории цивилизованных государств, и вы это отлично знаете.
— А разве пролетарская революция имела прецеденты в истории, кроме кратковременного существования Парижской Коммуны?
— Коммуна без всякого смысла расстреляла заложников и этим надолго оттолкнула от коммунизма многих из тех, кто ему сочувствовал.
— Но главная ошибка Коммуны была в другом. Именно излишняя мягкость и нерешительность полубуржуазного руководства Коммуны привела ее к гибели.
— Значит, цель оправдывает средства? Победа любой ценой?
— А где вы видели, чтобы будущее побеждало бескровно, без всякой борьбы? — спросил Анатолий Васильевич.
— Вы все время говорите так, будто я не признаю никакого насилия. Но вы ошибаетесь. Видимо, путаете меня с Львом Толстым, чем, конечно, делаете мне большую честь. Я никогда не был сто-ройником непротивления злу насилием, да и вы сами писали обо мне, что я сеял не одни только розы. Борьба необходима, но вопрос в том, какая борьба, с кем и какими средствами. На удар надо отвечать ударом, на атаку — атакой, а на мнение — мнением. Когда же вы набрасываетесь с дубинкой на мирного прохожего, потому что вам показалось, что он как-то «буржуазно» на вас посмотрел, то, извините, это разбой. В глубине души вы знаете, что не можете победить своих оппонентов словом, поэтому вы так жестоко затыкаете им рты. Пуля, штык и арест — вот все ваши аргументы.
— А если я докажу вам обратное? — спросил Анатолий Васильевич. — Давайте обменяемся письмами, только не о частностях, а об общих вопросах, и совместно эту переписку опубликуем. Так вы получите возможность высказаться публично, и мне будет удобно, отвечая вам, изложить точку зрения советской власти.
Они простились вполне дружелюбно. А вечером встретились еще раз, в городском театре, на большом митинге, созванном в связи с приездом в город наркома. Короленко давно уже принципиально не посещал официальных большевистских собраний, но должен был изменить этому правилу, потому что к нему с плачем и воплями прибежали родственники арестованных: им стало известно, что их близкие переведены из тюрьмы в подвал губчека, а это почти наверняка означало расстрел.
После митинга Короленко подошел к Луначарскому, окруженному большой толпой, и громко сказал:
— Анатолий Васильевич! Я внимательно выслушал вашу речь — она проникнута уверенностью в силе. Но силе свойственны справедливость и великодушие, а не жестокость. Докажите же, что вы действительно чувствуете себя сильными. Пусть ваш приезд в Полтаву ознаменуется не актом бессмысленной мести, а актом милосердия. Вот, ознакомьтесь, — при этом он подал бумагу. — Из этого документа вы увидите, что в действиях Аронова, Миркина и других арестованных, о которых я вам сегодня говорил, даже официальные продовольственные власти не усматривают никаких нарушений действующих декретов. Кроме того, вот ходатайство рабочих мельницы Аронова. Они характеризуют хозяина с самой лучшей стороны, не считают его злостным эксплуататором и спекулянтом. Дело, как видите, достаточно сложное, чтобы в нем разобраться суду, а не лишать людей жизни без всякого расследования.
Приняв бумаги, Луначарский обратился к стоявшему рядом с ним председателю Полтавской губчека Иванову, маленькому щуплому человечку, затянутому в скрипучую кожу, с тяжелым револьвером на широком ремне.
— Эти люди действительно приговорены к смертной казни? — строго спросил его Анатолий Васильевич.
— Приговорены, товарищ Луначарский, но все еще можно поправить, — с торопливой готовностью ответил Иванов.
— В таком случае поправьте! Считайте, что это не только просьба Владимира Галактионовича, но и мое настоятельное пожелание.
— Слушаюсь, Анатолий Васильевич! Сделаем все возможное. Успокоенный Короленко еще раз попрощался с Луначарским и вернулся домой. А утром ему принесли записку от покидавшего город наркома: «Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что с заявлением мы опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей ради Вас, — но им уже нельзя помочь. Приговор приведен в исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луначарский».
Записка выскользнула из рук Владимира Галактионовича, перед глазами поплыли оранжевые круги, и сразу ослабли колени. Держась за стенку, он с трудом дотащился до дивана…
Опоздал! Опять опоздал!.. А какой мерзавец этот Иванов, с какой готовностью лгал, зная, что дело уже сделано!.. И таким людям доверяют человеческие судьбы…
С плачем и стенаниями опять пришли родственники Миркина и Аронова. Им уже было известно о роковом исходе, и они просили ходатайствовать, чтобы им хотя бы выдали тела казненных.
Не в силах подняться с постели, Владимир Галактионович послал записку давнему своему другу Владимиру Вильямовичу Беренштаму. В прошлом видный адвокат, известный смелыми выступлениями на политических процессах, он работал в скромной должности юрисконсульта губисполкома и в меру своих возможностей помогал Владимиру Галактионовичу спасать людей от бессудных расправ. Получив записку, он тотчас пошел к председателю губисполкома.
— Мне бесконечно жаль Короленко, — ответил тот. — В тяжелое для него время он живет. Свобода требует искупительных жертв. Мы не можем не расстреливать спекулянтов, вздувающих цены на хлеб. Это самый подлый вид грабителей.
— Но Аронов расстрелян вопреки декрету!
— Все равно, он был несомненным спекулянтом.
— Я этого не знаю. А если бы даже и так. Ведь его не судили. Как можно расстреливать без суда? История не прощает окровавленных рук.
— Не в этом сейчас дело, — отмахнулся председатель, — а в том, что вся эта спекулянтская публика рвет Короленко на части. Когда спекулянты наживают на крови народной миллионы, они заранее видят в нем своего спасителя. Жульничают, а он за них мучается, терзается, теряет здоровье. Было бы очень хорошо, если бы он поселился за городом, вдали от всей этой передряги. Мы создали бы ему полный покой, все удобства. Пусть отдохнет и побудет в стороне от таких переживаний…
— Я все это передам Владимиру Галактионовичу. Но что сказать насчет казненных?
— Трупы выдать невозможно. Из похорон устроили бы демонстрацию.
…Предложение председателя губисполкома словно хлыстом ожгло Короленко. Он даже вскочил на кровати, гневно закричал:
— Никуда, никуда не поеду! Буду здесь, буду все время им писать…
И он писал. О деле Могилевского и других, которым грозила участь Аронова. О деле Соколова и Файна… О группе миргородцев… О девятнадцатилетнем красноармейце Ефиме Штеле, которому тоже грозил расстрел. И о многих других.
Со второй половины июня по сентябрь Короленко написал шесть писем Луначарскому. В каждом он пытался говорить об «общих вопросах», как было условлено между ними, и в каждом сбивался на «отдельные» факты, тяжелым камнем лежавшие на сердце.
Владимир Галактионович не пытался «разоблачить» Луначарского — он убеждал. Основная его мысль состояла в том, что большевистское руководство, считавшее себя представителем самой передовой части народа, пользуется методами, унаследованными от царизма, который держал народ в состоянии политической и нравственной отсталости и сам держался этой отсталостью.
«Давно сказано, что всякий народ заслуживает то правительство, которое имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас заслужила, — с горечью писал Короленко. — Вы являетесь естественными представителями русского народа, с его привычкой к произволу, с его наивным ожиданием „всего сразу“, с отсутствием даже начатков разумной организации и творчества. Не мудрено, что взрыв только разрушал, не созидая».
Короленко призывал к созиданию. Призывал признать ошибки, «которые вы совершили вместе с вашим народом», призывал отказаться от «гибельного пути насилия», ибо социализм, по его убеждению, «может войти только в свободную страну».
Осенью 1920 года Владимир Галактионович передал копии своих писем посетившему его американскому корреспонденту, но просил пока не печатать их. Он ждал ответов Луначарского, однако так и не дождался. Как потом утверждал Луначарский, до него дошли только три из шести писем Владимира Галактионовича. Луначарский показал их Ленину, прося совета, как поступить. Ленин ответил, что публиковать письма, хотя бы и с ответами, в данное время «нецелесообразно», и Анатолий Васильевич счел за лучшее вообще не отвечать.
Между тем трагедия, ходившая вокруг да около, прямо ворвалась в дом Короленко, где вместе с ним жили не только жена и дочери, но и муж одной из них, Константин Иванович Ляхович, и их маленькая дочурка.
Никогда не имевший сына, Владимир Галактионович привязался к Ляховичу, умному, образованному человеку, который, с полуслова понимая его, сделался образцовым помощником и секретарем. Старый социал-демократ, Ляхович был избран в Полтавский совет рабочих депутатов и возглавил в нем фракцию меньшевиков, состоявшую, благодаря большевистской системе «выборов», всего из пяти человек.
Первое же выступление Ляховича в совете чуть было не вызвало его ареста. А когда эта гроза миновала, пришло из центра общее распоряжение арестовать всех меньшевиков, эсеров и анархистов.
Уверенный в том, что распоряжение это кратковременное, но с ужасом думая, каким тяжким ударом для Владимира Галактионовича было бы заточение его зятя в тюрьму, Беренштам предлагал Константину Ивановичу спрятаться.
— Нет, не могу, — отвечал Ляхович, — я не должен скрываться. — И прощаясь, добавил: — Ну, Владимир Вильямович, прощайте, больше никогда не увидимся.
— Что так?! — возразил Беренштам. — Пустяки! Через неделю-другую вас выпустят.
— Вы забыли, что у меня сильный порок сердца, а в тюрьме свирепствует тиф. Заболею — не выдержу.
Все попытки Беренштама убедить чекистов, а затем председателя губисполкома оставить Ляховича под домашним арестом под его личное поручительство ни к чему не привели. Видя, как тяжело переживает случившееся Владимир Галактионович, Беренштам советовал ему написать в Харьков Христиану Раковскому.
— Нет, не стану писать, — твердо ответил Короленко.
— Тогда я напишу.
— Не надо.
Он все время отказывался от каких-либо льгот или забот со стороны власти, и даже теперь, перед лицом свалившегося несчастья, не хотел ни о чем просить для себя или близкого человека: считал, что этим свяжет себе руки и обесценит будущие ходатайства за других.
Раковский все же узнал от кого-то об аресте Ляховича и прислал распоряжение его освободить. Но в губчека не торопились исполнять приказ. А когда исполнили, было уже поздно: Ляховича вынесли из тюрьмы на носилках, в тифозном бреду.
Немедленно на ноги был поставлен весь город. Лучшие врачи, сменяя друг друга, неотрывно дежурили у постели больного… Самые дефицитные лекарства, припрятанные аптекарями и давно уже ни для кого не доступные, доставлялись по первому требованию в дом Короленко. Все мешки с кислородом, какие только удалось набрать в Полтаве, были мобилизованы на спасение жизни Ляховича. Но больное сердце не выдержало…
Когда Владимира Галактионовича пустили, наконец, к «Косте», тот лежал прибранный, одетый в черный сюртук, в красном гробу. Из груди Владимира Галактионовича вырвались судорожные рыдания.
Его с трудом успокоили. Он сам хотел нести гроб, но врачи категорически воспротивились этому. Впервые все вдруг увидели не прежнего Короленко — стареющего, но крепкого, деятельного, полного страсти и непримиримого ко всякой подлости, а тяжело больного, раздавленного непосильным горем, беспомощного старика.
За гробом Ляховича шел почти весь город. Оркестр, выделенный профсоюзом работников искусств, играл революционные марши, и толпа приглушенно пела: «Замучен тяжелой неволей…»
Эта песня часто звучала в те годы, но редко ее содержание так точно соответствовало моменту.
Около тюрьмы процессия остановилась. Из окон заключенные махали маленькими флажками…
Короленко пережил зятя только на полгода, и это были месяцы быстрого угасания.
28 декабря 1921 года, в день похорон писателя, в Полтаве был объявлен всеобщий траур. Театры, магазины, школы, даже правительственные учреждения не работали. Со всей губернии съехались крестьяне. В похоронах участвовало около сорока тысяч человек. Шествие непрерывной толпы во всю ширину улицы длилось шесть часов подряд.
На смерть Короленко откликнулась не только Полтава. На нее откликнулась вся Россия и вся русская эмиграция. Немало прочувствованных страниц посвятил писателю и Анатолий Васильевич Луначарский, не хотевший отдавать его классовому врагу.
Основную ошибку Короленко Луначарский видел в том, что «ту этику, которая будет обязательной на послезавтрашний день, на день после победы», он «переносил на суровую подготовительную эпоху».
Анатолий Васильевич диалектически подходил к этике. «Мы примиряемся с ним, — писал он, — в некоем высшем синтезе, и если он не понял нас, то из этого не следует, что мы не должны понять его». Однако время для «понимания» все еще не наступило. Ни письма Короленко к Луначарскому, ни многие другие его письма и дневники последних лет в Советской России не опубликованы, и вряд ли кто-нибудь отважится предсказать, когда, наконец, писателю позволят на его родине высказаться в полный голос[5].
1980-81 Москва
Послесловие
ВЛАДИМИР ПОРУДОМИНСКИЙ
В книге «Вместе или врозь? Заметки на полях книги А.И.Солженицына»[6] Семен Резник рассказывает на первый взгляд нелепо-комическую, а по сути драматическую и поучительную историю о том, как, вопреки «пятому пункту» в паспорте, был принят на работу в издательство «Молодая гвардия», где на протяжении десяти лет был единственным евреем среди штатных сотрудников книжных редакций этого огромного дома печати (после его ухода уже ни одного не было).
В конце 1962 года Семен стал редактором серии «Жизнь замечательных людей». Это была счастливая для ЖЗЛ эпоха. Уже несколько лет серию возглавлял покойный Юрий Николаевич Коротков, полностью ее перестроивший. Вместо растянутых до 15–20 печатных листов газетных статей в ЖЗЛ стали выходить — книги. Добиваясь разрешения выпустить многие из этих книг, Коротков вступал в резкие конфликты с руководством, иногда, чтобы вывести из-под возможного удара редактора, ставил в выходных данных свое имя. В новых книгах менялись отношения автора с героем, лицо автора обретало индивидуальные черты, свободнее становились оценки, шире привлекался исторический материал, много внимания отдавалось стилистическим поискам. В итоге рождался, становился на ноги российский биографический жанр.
Новый подход ознаменовался даже сменой оформления: книги ЖЗЛ обрели тотчас узнаваемый и до сих пор сохраняемый внешний облик. Первой книгой, увидевшей свет в новом серийном переплете, стал «Мольер» Михаила Булгакова. Мастер, после десятилетий официального запрета, снова встретился с читателями. На титульном листе значится: «Выпуск 1 (334)» (334-й со времени основания серии в 1933 году).
Семен Резник, инженер по образованию (хоть с юности и пристрастившийся к журналистике и литературному творчеству), пришел в издательский мир, где еще бытовали подчас дремучие, сталинских времен установки, «с воли»: ему, молодому (и по возрасту, кажется, самый младший) — начинающему! — не обремененному грузом всех этих установок легче было внутренне переступать через них, тем более, что направление движения, которое обрела серия ЖЗЛ, соответствовало его взглядам, убеждениям, было ему близко и понятно.
В ту пору мы и встретились. У меня недавно вышла в ЖЗЛ первая книга, я заканчивал вторую. После нескольких — почти мимоходом — бесед с Семеном я был нисколько не озабочен, даже попросту рад, когда ему — начинающему! — отдали чуть ли не «на пробу» подготовленную мною рукопись: я не сомневался, что проба для нас обоих будет успешной.
Семен возражал против принятой в ту пору в биографической книге как бы «итоговой» оценки излагаемого материала, советовал авторам шире сопоставлять разные точки зрения на описываемые события, с разных позиций рассматривать поступки своих героев, их взгляды, выбираемые ими пути. Он предлагал положить в основу авторской работы над книгой не сообщение истины в конечной инстанции, а совместные с читателем поиски истины. Это было ново, интересно, побуждало к размышлениям, звало к изучению новых источников, в архивы, в поездки. Стремление к максимальной (в рамках тогдашних обстоятельств, конечно) объективности открывало перед автором максимальную (в тех же рамках) возможность самовыражения. Более того: приобщение читателя к поискам истины вовлекало и его в процесс сотворчества. Именно таким подходом отмечены лучшие книги той поры: «Лунин» Н. Эйдельмана, «Чаадаев» А.Лебедева, «Лев Толстой» В. Шкловского, «Резерфорд» Д. Данина.
В этот славный ряд я без малейших сомнений ставлю и книгу Семена Резника о Николае Ивановиче Вавилове. Звезда убитого в сталинском застенке ученого формально была возвращена на небосклон российской науки, но ее требовалось еще освоить, исследовать — открыть заново, если угодно. Семен Резник предпринял поистине гигантский труд, в котором сложные архивные разыскания соседствовали с «вычислением» очевидцев и подчас очень нелегкими беседами с ними, а проницательные размышления над каждым обнаруженным фактом — с глубокими биологическими штудиями. Работа над книгой наталкивалась на множество препятствий, — едва ли не труднейшим было характерное для тоталитарных режимов нежелание делать тайную историю явной, что в данном случае сомкнулось с начавшимися в ту пору идеологической реакцией и, соответственно, приостановлением процесса десталинизации. Сдача сильно урезанной книги в печать совпала с вторжением советских войск в Чехословакию, что было энергично использовано для ужесточения ситуации внутри страны («из Кремля тянуло не то что холодом, а трескучим морозом», — вспоминает свое ощущение Семен Резник). Над книгой нависла угроза запрета; академические вельможи, по чину и положению призванные быть защитниками и последователями Николая Ивановича Вавилова, к которым обратилась за поддержкой редакция ЖЗЛ, в перепуге отмахивались обеими руками и готовы были примкнуть к хулителям и «непущателям». Руководитель серии Коротков на свой страх и риск подписал корректуру в печать. Книга, восстановившая, по существу — открывшая миллионам читателей биографию великого ученого, была признана «идеологически вредной» и стала одним из пунктов в обвинительном приговоре при увольнении Короткова.
Помню, «Николай Вавилов» был уже напечатан, — вдруг сигнальный экземпляр, по чьему-то доносу, затребовали в какие-то непостижимо высокие верхи, пополз слух, что тираж пустят под нож. Семен позвонил в Книготорг, чтобы выяснить, не успела ли книга появиться где-нибудь в продаже: случалось, что для «выполнения плана», типография после подписания сигнального экземпляра «в свет», сразу же, спешно отгружала небольшую часть тиража в торговые точки. Оказалось, так произошло и на этот раз. Но, в связи со скандалом, выпорхнувшие экземпляры «вредной» книги были заброшены в самую глухую и далекую провинцию — в Туву… Семен связался с Кызылом и выкупил несколько десятков экземпляров — как доказательство того, что книга — была. А остальной тираж, запертый в опечатанной комнате, еще долго ждал своей участи. В конечном счете «смертный приговор» заменили «выдиркой», т. е. из готовой книги устранили несколько неугодных страниц, после чего ее выпустили с опозданием на год, но под первоначальным номером и датой издания (странная для самовластия привычка заметать следы). Экземпляр из «кызыльских», без «выдирки», мне подаренный автором, оказался раритетом (к сведению библиофилов).
Коротковский период в ЖЗЛ был столь плодотворным, что изгнание самого Короткова и искоренение положенных им в основание работы серии принципов с точки зрения логики и интересов дела представлялось почти немыслимым. Но в России, а уж в советской России и подавно, логика и интересы дела никогда не были значимыми факторами. Это все красивые афоризмы, что Ломоносова от Академии отставить невозможно: у нас, понадобилось бы, и отставили как миленького, еще и с выговором, занесенным в личное дело, а в сталинскую эру и посадили бы, как Николая Ивановича Вавилова, безвозвратно, и «ломоносовщину» бы дружно искоренили. Коротков был дразнящей заплатой на ладно пошитом национал-патриотического покроя облачении, к тому времени натянутом на издательство «Молодая гвардия». (Однажды он показал мне анонимное письмо-донос в ЦК КПСС: жалобщик докладывал, что в одном из выпусков издаваемого редакцией ЖЗЛ альманаха «Прометей» перебор авторов-евреев. Письмо спускалось по инстанциям, пока не попало к Короткову, и каждая инстанция надписывала в верхнем левом углу: «К сведению!» «Вот так-то, — сказал Коротков. — К сведению: антисемитизма у нас нет, а анонимные письма, по решению того же ЦК, не рассматриваются»…)
Среди авторов, которых сменившее Короткова руководство серии энергично привлекало к созданию книг, были, конечно, люди разного таланта и разного уровня образованности, но всех объединяли «национал-патриотическая» идея, с ее весьма ограниченным и немудреным набором составляющих, и наступательный порыв, характерный для войска, чувствующего, что исход сражения решается в его пользу. Речь не о частностях — о началах. Истина уже не требовала поисков — она была известна заранее. Не слишком широкий набор соображений, которые читатель должен был удержать по прочтении книги, становился своего рода коэффициентом, на который умножались все слагаемые реального материала, знаменем, но которое равнялась дружина.
Многим еще казалось, что «национал-патриотизм» — явление маргинальное, случайное; его не принимали всерьез, пожимали плечами, даже посмеивались; наиболее обеспокоенные с надеждой обращали взоры к «верхам», ища помощи там, где это движение набирало горючее в свои баки. Семен Резник волей обстоятельств очень рано принужден был осознать, что на самом деле происходит: «Mapксизм-ленинизм, как обанкротившаяся идеология, сдавался в архив. А созданная с ее помощью система тоталитарной власти наполнялась родственной, но другой идеологией». Эта «другая идеология» активно себя утверждала в кабинетах ЖЗЛ. «С русским нацизмом мне довелось столкнуться вплотную. Он ворвался в мою жизнь, резко переломил мою личную и творческую судьбу», — вспоминает Семен Резник в одной из своих статей.
Расставание с редакцией, которая десять лет была для него, что называется, «дом родной», сделалось неизбежным. Большинство знакомых, даже друзей, полагало, что, уходя из ЖЗЛ, Семен делает шаг к душевному благополучию — освобождается от тягостных, вызывающих протест повседневных обязанностей и общений, избирает не самое надежное, но достаточно приятное поприще свободного художника. Но, как вскоре оказалось, он искал свободу для трудной, изнурительной борьбы.
В Словаре Даля находим толкование весьма неожиданного (для словаря) речения — «Беспокойный человек». Оно «означает человека правдивого, но резкого, идущего наперекор неправде и беспокоящего ее покровителей».
Семен Резник был редактором моей книги о Дале, но помимо того встретился с составителем знаменитого словаря совсем на иных путях: благодаря проницательной исследовательской работе доказал, что Владимир Иванович Даль не был автором пресловутой «Записки о ритуальных убийствах» (то есть убийствах евреями христианских детей), что имя его для авторитетности оному «разысканию» прилеплено черносотенцами через сорок лет после смерти замечательного ученого и писателя. Насколько важен этот вклад в далеведение, можно судить по тому факту, что еще десятилетия спустя, уже в 1970-х, позорная «Записка» под именем Даля была пущена в самиздат, а в постсоветской России широко переиздается из года в год в общей системе антисемитской печатной пропаганды.
Ко времени ухода из редакции ЖЗЛ Семен Резник успел выказать себя незаурядным, нашедшим признание и свой круг читателей писателем-биографом. Ему бы погрузиться в историю науки, его манившую, прежде всего в историю биологии — она долго не уходила из сферы интересов Семена, и книги издавались, по-прежнему серьезные, увлекательные, с лица не общим выраженьем, — но центральное место в его исследованиях и, как вскоре обозначилось, в его судьбе, широко и прочно заняла иная задача: «Коммунистическая идеология, на которой базировалась тоталитарная система, стремительно коррозировала, рассыпалась на глазах. Система нуждалась в более прочных идеологических подпорках, а что может быть надежнее для таких целей, чем патриотическая ненависть к „чужакам“. Я как литератор пытался противостоять злобной волне шовинизма и антисемитизма, которая захлестнула советскую печать».
Семен Резник не писал жалоб в инстанции; он писал статьи, рецензии, пародии, памфлеты, открытые письма, направлял их в разные органы печати, от «Литературной газеты» до «Коммуниста», но ни одна строка из всего им написанного в борьбе с «другой идеологией» не была опубликована. «Я не был наивным Дон-Кихотом и отчетливо понимал, что шансы на появление в печати хотя бы одного из этих материалов близки к абсолютному нулю, — оглядывается Семен Резник на мучительно трудную пору своей жизни. — Однако протестовать против безумия антисемитизма стало моей внутренней потребностью. К тому же я помнил девиз героя моей первой книги, великого ученого Н.И. Вавилова: „Сделай все, что зависит от тебя“…»
И еще несколько строк, очень важных для характеристики личности автора данной книги: «Я пытался плыть против течения, и тут действительно вставала глухая стена. Железобетонная, но обложенная ватой. И оттого особенно непроницаемая, гасящая всякий звук. Иллюзий у меня не было. Я знал о тщетности моих попыток пробиться в подцензурную прессу. Но это было необходимо для моего внутреннего самочувствия…»
Статьи и письма Семена Резника, «идущего наперекор неправде и беспокоящего ее покровителей» (согласно определению словаря Даля), кое-кого действительно беспокоили. Это ясно показывает его тогдашняя «переписка с друзьями» (как он ее иронично назвал), которую он теперь начал публиковать. «Выступать против расизма и шовинизма я считаю не столько своим правом, сколько своей обязанностью как писателя», — находим в его письме к литературному вельможе, главному редактору ведущего литературного журнала, который чуть ли ни целый год «прятался» от неудобного автора — то за спиной нижестоящего сотрудника, то выдвинув в качестве заграждения энергичную супругу: публиковать в возглавляемом им издании статью Семена Резника редактор опасался, подтверждать отказом свое единение с «национал-патриотами» не хотел. (Замечу попутно: редактор другого толстого журнала оказался «смелее» своего опасливого коллеги и свою причастность к «национал-патриотическому» лагерю декларировал открыто — он пригласил Семена на редакционное заседание и принялся читать ему вслух выдержки из Библии, «доказывающие» злокозненность еврейского народа; читал, правда, не по оригиналу, а по выпущенной массовый тиражом «антисионистской», по тогдашней терминологии, то есть, попросту говоря, антисемитской книжонке, где все нужные на такой случай цитаты были соотвествующим образом подобраны и скомпонованы.)
На протяжении десятилетия (в творческой жизни — эпоха!), куда бы ни обращался Семен Резник с тем, что писал, утверждая свое право и свою обязанность, как он их понимал, он неизменно встречал отказ. Адресаты, которым на стол ложились публицистические тексты и письма Семена, отвечая ему, один намеком, другой раздраженно, а иной и не тая угрозы, давали знать настойчивому корреспонденту, что его борьба может быть трактована или есть не что иное как проявление «сионизма» — обвинение, по тогдашним, да и по нынешним российским представлениям, тяжкое.
Внутренний рецензент (то есть писавший отзыв не о вышедшей книге, а, по заказу издательства, о рукописи с тем, чтобы книга не вышла) обнаружил в романе Семена Резника «осмеивание русских», «цель разоблачить и опозорить не только российские порядки, но и самые характеры и нравственность русских людей», «противопоставление пороков и недостатков русских, их низкого нравственного уровня достоинствам „избранного“ народа». Строки будто не из отзыва литератора, а из разгромно-директивной статьи, доноса, обвинительного приговора.
Впрочем, сами обращения со своими рукописями в различные издательства и редакции едва ли не с самого начала были для Семена не столько поисками возможности опубликовать написанное, сколько психологически значимой системой проб. «…Уехать из страны (а в то время это значило исчезнуть навсегда), не исчерпав до конца возможностей в ней продолжать жить и работать, сохраняя профессиональное и человеческое достоинство, — для меня это было невозможно», — говорит Семен об этой непростой главе своей биографии.
Публицистика Семена Резника и его художественные сочинения, его проза произрастают на одной и той же почве, более того — из одного корня, питаются одними и теми же соками, омываются одними и теми же водами, противостоят одним и тем же натискам непогоды. Обретенный в поисках исторический и документальный материал, мысли, рожденные при его обдумывании и усвоении, требуют реактивного отзыва в слове и вместе открывают простор для работы воображения, требуют воплощения в образах художественных, заново находят себя в прозаическом замысле, сюжете, в особенностях и проявлениях метафорической речи.
Это со всей очевидностью явило себя в историческом романе «Хаим-да-Марья», основанном на изучении порядком забытого к тому времени, когда за него взялся Семен Резник, «Велижского дела» — захватившего годы царствования Александра I и Николая I процесса по обвинению евреев в ритуальных убийствах. (Да и как делу этому было не стать забытым — добавлю в скобках, — если с начала 1930-х годов как в советской исторической науке, так и в печати тема преследования евреев в царской России прочно замалчивалась?) В романе Семена Резника о «Велижском деле» представлена историческая, документальная картина события, раскрыты характеры отдельных его участников; публикуемый в книге роман-фантасмагория (как определил жанр автор) воссоздает психологическую картину произошедшего, исследует внутреннюю мотивацию поступков и побуждений действующих лиц.
Историзм романов Семена Резника не в том лишь, что замысел их берет начало в пространстве минувшего, — понятие историзма здесь более широкое и диалектическое: взгляд из нашего сегодня необходим автору, чтобы оценить взятое в основу сюжета событие в его историческом развитии, в его временной и психологической преемственности. «Описанные события происходили 150 лет назад, но проблематика романа слишком тесно связана с моей жизнью и судьбой моего поколения, чтобы рассматривать его только как исторический», — пишет Семен Резник о книге «Хаим-да-Марья». И своеобразно аргументирует эту историческую преемственность своей работы: «Экзамен на современность роман выдержал еще в СССР, где все мои попытки его опубликовать окончились неудачей именно потому, что издатели понимали, сколь актуально его звучание». (Здесь позволю себе поправить автора — не по существу дела, а «терминологически». Вряд ли в данном случае следует противопоставлять понятия «исторический» роман и «современный»: современность исторического романа не вопрос жанра, а вопрос качества.)
История предлагала избранной Семеном Резником теме кровавого навета всё новые испытания на современность. Зло расходится неудержимо, писал Лев Толстой, «как передача движения упругими шарами, если только нет той силы, которая поглощает его». В сочинениях Семена Резника мы видим это движение зла, когда на пути его не встает сила добра: «велижское дело» (уже как нарицательное) снова и снова воспроизводится в российской истории, то оборачиваясь особенно громким «делом Бейлиса», то предъявляя себя уже в наше постсоветское время при перезахоронении останков убиенной царской семьи, то вмешиваясь в оценки, даваемые сегодняшними российскими политическими деятелями самым разнообразным событиям, происходящим в окрестном мире, то в профанированной эксплуатации «знаковых» фигур русской культуры.
Размышляя о художественных сочинениях Семена Резника, никак не следует пролагать какую-либо границу между ними и его сочинениями научно-художественными, имею в виду книги по истории науки, биографическую прозу. Не распространяюсь здесь о самостоятельном значении и интересе этих трудов, хочу лишь сказать с полной убежденностью об их связи с его романами, повестями, не меньше — и с публицистикой.
«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», — писал Пушкин. Заметим: не «занятие» — наука! Известно, что успешная творческая работа преобразует и того, кто за нее берется: автор меняется, пересоздает себя по мере создания своего произведения. Мы уже знакомы с признанием Семена Резника, что одним из главных учителей на поприще его борьбы стал герой написанной и, следовательно, выстраданной им книги — Николай Иванович Вавилов. Обдумывая жизнь и деяния замечательных людей, избранных им своими героями, их научную и общественную позицию, их духовную и душевную работу, постоянные поиски ими истины, ставшие смыслом и содержанием их жизни, Семен Резник, конечно же, совершал путь восхождения, позволявший ему с большей высоты, шире оглядывать поля своих трудов, глубже проникать в суть интересующих его событий и явлений.
Не могу не вспомнить принадлежащую его перу необычную книгу об известнейшем ученом Илье Ильиче Мечникове. Вся книга, от первых до последних страниц, строится вокруг единственной беседы Мечникова с Львом Николаевичем Толстым. Положения этой беседы, которая была и взаимотяготением, взаимоприятием и вместе взаимоотталкиванием, полемикой, где непросто найти точки согласия, прямо или опосредованно сопрягаются со всей внутренней жизнью ученого, его развитием, его движением на путях поисков истины, так же как подготовлены и напряженными духовными исканиями Толстого. Не может быть, чтобы, работая над такой книгой, автор оставался в стороне, на обочине событий, «над схваткой», чтобы все, что обдумывал, претворял в слово, сам не прожил, не пережил, в себя не вобрал, опять же прямо или опосредованно, не взял бы в основание своей жизни и трудов…
Главный герой напечатанного в этой книге повествования о Кишиневском погроме «Кровавая карусель» — в ответ на сконструированные его приятелем вполне достойные планы продолжения жизни произносит только одно слово: «А Кишинев?»
Кишинев для главного героя повествования — рубеж, вся жизнь после него, в его свете приобретает иную окраску, иное содержание и смысл. Это «А Кишинев?» невольно вызывает в памяти, при всей несхожести темы и текста — по существу, знаменитое толстовское «А горы…» В «Казаках», едва въехав на Кавказ, Оленин, куда ни взглядывал, ни поворачивался, что ни предполагал, неотступно чувствовал в себе прочно овладевшее им впечатление — «а горы…»: «Все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор».
— Но что мы можем сделать? — возражает герою повествования Семена Резника его доброжелательный приятель. — Что мы с тобой (он подчеркнул это мы с тобой) можем сделать?
Для главного героя «Кровавой карусели» этот вопрос оборачивается иным: «Могу ли не делать?» (даже если по условиям задачи сделать ничего не дано). Впрочем, и не вопросом даже оборачивается — утверждением: «Не могу не делать…»
Формула «Не могу не…» едва не четыре десятилетия определяет жизнь Семена Резника и его литературное дело.
Многие были убеждены, что Освенцим изменит мир. Один известный ученый полагал даже, что после Освенцима немыслима поэзия. Но в кратчайшее историческое время выяснилось, что Освенцим — это не остывшие печи крематория, превращенные в мемориал; Освенцим, как раскаленные угли под слоем пепла, тлеет по всему миру, то здесь, то там прорываясь пламенем. Как Освенцим стал возможен после Кишинева, так после Освенцима сохранилась возможность нового Кишинева и нового Освенцима. Я видел в Москве, как российские нацисты издевались над небольшой выставкой, посвященной Анне Франк, и как в те же дни соратники и поклонники на руках вынесли из зала суда оправданного издателя русского перевода гитлеровской «Майн Кампф». Многие — видели, а Семен не может такое видеть, не вступая в поединок.
Ну, конечно, он никогда не был одиночкой в осознании происходящего. Думаю, все, без исключения, люди того круга, к которому он принадлежал, ясно понимали всё, или почти всё, что совершается вокруг. Понимали, не принимали, осуждали, витийствовали на кухнях, — но многие ли выходили со своим неприятием и осуждением за пределы кухни, писали протесты, укладывали «в стол» десятки печатных листов текста, которому суждено впоследствии стать существенной характеристикой прожитой эпохи, попросту рисковали не только своим благополучием, но свободой, стараясь открыто объявить о своих убеждениях, «пробить брешь в стене молчания», по словам Семена?
В мудром эссе «В поисках тождества» Л.Я. Гинзбург называет приспособляемость к обстоятельствам при невозможности сопротивления одной из основных закономерностей поведения социального человека. «Беспокойные люди», у которых, в силу их (назовем это так) «устройства», способность к приспособляемости резко нарушена, никогда не бывают в большинстве, как никогда не выигрывают в полной мере. Если дело, за которое они бились, жертвуя благополучием и рискуя многим, делает шаг вперед и овладевает клочком пространства, они, с их беспокойством, как-то снова оттесняются на обочину; борцами с минувшим и укоренителями нового оказываются их рассудительные приятели, терпеливо соразмерявшие свое дыхание с поступью Истории, сознавая, что «мы с тобой» ничего сделать не можем. Впрочем, «беспокойный человек» и на новой территории тотчас находит, о чем беспокоиться, продолжает свою борьбу «за успех безнадежного дела», как мы когда-то шутили.
Несколько лет назад мы ездили с Семеном в Марбург. Мемориальная доска у входа в университет сообщает, что здесь учился Ломоносов. Три стихотворных строки по-русски:
На отдаленной Гиссельбергской улице мемориальной доской помечен дом № 15, где жил Борис Пастернак. На доске — слова из «Охранной грамоты»: «Прощай, философия…»
Взобрались на вершину горы, к средневековому замку («рыцарское гнездо», по слову Пастернака). По склонам горы сбегали улочки старого города.
Вдруг набежала туча, совершенно такая, какой ей полагается быть по канонам классической русской литературы — лиловая. Пролился быстрый и шумный летний дождь. Мы стояли на площадке перед замком и смотрели на раскинувшийся внизу город. Неожиданно на небе, еще лилово-сером, но уже подсвеченном выглянувшим солнцем, появились радуги, сразу две, пересекающие одна другую, — яркие в каждом цвете спектра, огромные полукружия через все небо. Это было велико и прекрасно, и, наверно, равно привлекло бы и пытливый ум Ломоносова, и поэтическое воображение Пастернака. Семен сказал:
— Неужели люди в России начнут когда-нибудь интересоваться литературой и историей по-настоящему, без суеты и «политики»?
Я подумал: «Нам до этого не дожить, но как значимо, что именно ты замечтался об этом…»
Одну из своих историко-публицистических книг — «Растление ненавистью: Кровавый навет в России» Семен Резник начинает словами: «Говорят, что когда поэта спросили, сколько времени у него ушло на написание стихотворения, ставшего известной песней, он ответил, „Сорок минут“. А, подумав, добавил: „И вся предыдущая жизнь“»…
Каждая книга Семена Резника — это его предыдущая жизнь и, более того, жизнь последующая. Век нынешний, как и век минувший, обстоятельства места, времени, образа действий, выпавшие нам на долю, главное же — натура «беспокойного человека», постоянно и непременно побуждающая к поединкам с покровителями неправды, не сделают его жизнь легче. Ноша, которую он на себя добровольно взвалил, тяжела, но сбросить ее, жить без нее ему еще тяжелее. Попросту — невозможно.
2005