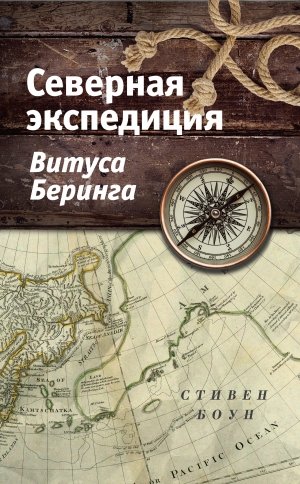
Stephen R.Bown
ISLAND OF THE BLUE FOXES: DISASTER AND TRIUMPH ON THE WORLD'S GREATEST SCIENTIFIC EXPEDITION
Copyright © 2017 by Stephen R. Bown
© А. Захаров, перевод, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Временная шкала
1580 – Поход Ермака (Начало покорения Сибири).
1587 – Основание Тобольска.
1632 – Основание Якутска.
1648 – Русский путешественник Семен Дежнев первым проходит через Берингов пролив.
1689 – Совместно с Иваном, своим немощным сводным братом, Петр I становится правителем России. По Нерчинскому договору Россия лишается доступа к Тихому океану за рекой Амур.
1696 – Витус Беринг впервые выходит в море – юнгой на корабле, плывущем в Индию.
1703 – Основание Санкт-Петербурга.
1724 – Витус Беринг становится командиром Первой Камчатской экспедиции.
1725 – Смерть Петра I. Наследницей становится его вдова Екатерина I; она продолжает политику императора, в том числе реализует планы по освоению Сибири.
1727 – Смерть Екатерины I, императором становится Петр II. Беринг на «Святом Гаврииле» проходит вдоль тихоокеанского побережья Камчатки.
1729 – Смерть Петра II. Трон занимает племянница Петра I Анна Иоанновна, которая продолжает имперскую политику расширения державы.
1730 – Первая Камчатская экспедиция возвращается в Санкт-Петербург. Беринг разрабатывает планы второй экспедиции.
1732 – Императрица Анна Иоанновна одобряет планы второй экспедиции под началом Витуса Беринга.
Апрель 1733 – Участники Второй Камчатской экспедиции, также известной как Великая Северная экспедиция, покидают Санкт-Петербург.
Октябрь 1734 – Витус Беринг добирается до Якутска, который становится главным штабом экспедиции.
Осень 1737 – Авангард экспедиции достигает Охотска.
1738–1739 – Мартин Шпанберг на трех кораблях добирается до севера Японии.
Июнь 1740 – В Охотске завершается строительство «Святого Петра» и «Святого Павла», они обходят Камчатку и добираются до Авачинской губы. В Охотск прибывает Георг Стеллер. Анна Беринг, жены и другие члены семей офицеров экспедиции отправляются обратно на запад, в Санкт-Петербург.
28 октября 1740 – Смерть Анны Иоанновны.
4 мая 1741 – Морской совет офицеров решает плыть на юго-восток в поисках Земли Жуана да Гамы.
4 июня – «Святой Петр» и «Святой Павел» отходят от Камчатки к берегу Северной Америки.
20 июня – «Святой Петр» и «Святой Павел» в бурю теряют друг друга и продолжают идти на восток раздельно.
15 июля – Алексей Чириков на «Святом Павле» видит берег Северной Америки.
16 июля – Беринг и Стеллер на «Святом Петре» видят берег Северной Америки в районе горы Св. Ильи.
18 июля – Чириков отправляет одиннадцать человек в шлюпке на берег за пресной водой.
20 июля – Беринг на «Святом Петре» добирается до острова Каяк и отправляет команду на берег за водой. Стеллер собирает образцы растений и животных.
24 июля – Чириков отправляет еще четырех человек на берег на поиски предыдущей пропавшей экспедиции.
27 июля – Чириков оставляет высадившихся на берег, считая их погибшими или пленными, и отправляется на Камчатку, так и не добыв пресной воды.
Август – На «Святом Петре» распространяется цинга. Заболевает и сам Беринг; он редко выходит из каюты.
30 августа – «Святой Петр» останавливается на Шумагинских островах, чтобы добыть пресной воды. Никита Шумагин – первый участник экспедиции, умерший от цинги.
4–9 сентября – Команда «Святого Петра» встречается с алеутами; это первая встреча с коренными американцами.
9 сентября – Команда «Святого Павла» встречается с алеутами на острове Адак, но им не удается выменять у них пресную воду. На корабле начинается цинга.
Конец сентября и октябрь – «Святой Петр» страдает от штормов и эпидемии цинги.
10 октября – «Святой Павел» возвращается в Авачинскую губу. Пятнадцать человек брошены на Аляске, шестеро умерли от цинги.
6 ноября – «Святой Петр» пристает к берегу в Командорском заливе на острове Беринга. Люди ежедневно умирают от цинги. На выживших нападают одичавшие песцы.
8 декабря – Беринг умирает. Лейтенант Свен Ваксель принимает командование гарнизоном.
8 января 1742 – Последняя смерть от цинги. Благодаря успешной охоте и лекарственным растениям Стеллера жизненные условия на острове Беринга улучшаются.
25 апреля – Дочь Петра I Елизавета получает императорскую корону после переворота, устроенного в ноябре.
2 мая – Начинается работа по разбору выброшенного на берег корабля и строительства нового, меньших размеров, также названного «Святым Петром».
13 августа – Отплытие от острова Беринга.
26 августа – Выжившие добираются до Авачинской губы.
1743 – Российский Сенат официально распускает Вторую Камчатскую экспедицию.
Пролог. На краю света
Осенью 1741 года русский корабль «Святой Петр», больше напоминавший развалину, с рваными парусами и поломанными мачтами, медленно шел на запад через бурные воды северной части Тихого океана. С севера пришел мороз, дождь сменился снегом. На такелаже и леерах образовалась ледяная корка. Но на палубе было на удивление спокойно: большинство моряков лежали в трюме на койках, подавленные и измученные цингой.
Когда волны стихли и небеса расчистились после шквала, горстка матросов вышла на палубу и посмотрела в сторону далекой земли: один из офицеров уверял, что это была Камчатка. Корабль бесшумно вошел в залив и с наступлением ночи бросил якорь. Но затем начался отлив, мощное течение развернуло судно, разорвало якорный канат и бросило беспомощный корабль на подводный риф. Люди в панике бегали по палубе, а днище страшно скрипело об острые камни. Все знали: если корабль развалится, их ждет смерть в ледяной воде. Но в последний момент большая волна подняла разбитый корабль над рифом и бросила его в неглубокую лагуну недалеко от берега. Не веря в свое спасение, те немногие, у кого еще оставалось достаточно сил, стали перевозить припасы, а также больных и погибших на каменный берег; эта работа заняла много дней из-за ветра и снежных бурь.
Открывшийся им вид был мрачным. Исхлестанные ветром травянистые дюны тянулись вплоть до подножия невысоких, покрытых снегом гор. Едва моряки вышли на берег, к ним тут же бросилась стая рычащих голубых песцов и стала разрывать на них штанины; зверей пришлось прогонять пинками и криками. Небольшая группа матросов, еще способных ходить, отправилась изучать берег; они обнаружили, что попали на необитаемый, не нанесенный на карту остров, где не росли деревья. На самом деле им не удалось добраться до Камчатки, откуда началось их путешествие; позже они узнали, что оказались где-то между Америкой и Азией, на острове в самом конце Алеутской гряды. Моряки тут же стали искать укрытие от стремительно надвигавшейся зимы, решили разрыть найденные возле дюн норы и расширить ручей. Из обломков корабля они построили каркас, на который натянули шкурки песцов и остатки парусов.
Привлеченные запахом еды, орды голодных песцов спустились с голых холмов и носились по импровизированному лагерю. Они воровали одежду и одеяла, таскали инструменты и утварь и становились все агрессивнее. Песцы раскапывали неглубокие могилы, вытаскивали из них трупы и грызли их прямо на виду у ослабевших моряков. Нескольким десяткам человек, выбравшимся на берег, казалось, что хуже уже быть не может. Несчастным выжившим пришлось провести мрачную зиму, прячась в примитивных укрытиях на каменистом берегу, питаясь мясом любых животных, которых удавалось убить, высасывая последние питательные соки из кореньев и трав. У моряков не было нормальной одежды, а запасы провизии и инструментов с корабля были весьма скудными. Когда началась зима, им пришлось бороться с безжалостными арктическими ветрами, снегом по пояс, цингой и постоянными нападениями диких животных.
«Святой Петр» был одним из двух кораблей, заказанных для Великой Северной экспедиции, известной также как Вторая Камчатская (1733–1743). Она продолжалась почти десять лет, затронула три континента, а ее достижения в области географии, картографии и естественной истории вполне сравнимы с результатами знаменитых путешествий Джеймса Кука, научных кругосветных плаваний Алессандро Маласпины и Луи Антуана де Бугенвиля и экспедиций Льюиса и Кларка по Северной Америке. Наблюдения натуралиста, немца Георга Стеллера, подарили Европе первые научные описания флоры и фауны Тихоокеанского побережья Америки, в том числе сивуча, стеллеровой коровы и стеллеровой черноголовой голубой сойки. Экспедиция была задумана российским императором Петром I в начале 1720-х годов, а возглавлял ее датский мореход Витус Беринг; стоимость этого невероятного предприятия составила 1,5 миллиона рублей – шестую часть всего дохода русского государства. Но, несмотря на щедрое финансирование и амбициозные цели, Великая Северная экспедиция оказалась в то же время одной из самых мрачных страниц в истории века парусников. Рассказ о ней – это рассказ о кораблекрушениях, страданиях и выживании.
Великая Северная экспедиция должна была продемонстрировать европейцам величие и прогрессивность Российской империи и при этом расширить ее границы путем присоединения Северной Азии и даже части Америки, лежащей за Тихим океаном. Научные цели, пусть и подчиненные государственным интересам, потрясали своими масштабами. С точки зрения западноевропейских стран, Россия лишь недавно превратилась из отсталой варварской страны в относительно цивилизованное государство. Политика России в те годы отличалась непредсказуемостью из-за коррупции и опасных интриг, в чем многие участники экспедиции могли убедиться на собственном опыте во время и после путешествия.
Предложенный Берингом проект исследовательского путешествия был весьма скромным, но когда императрица Анна передала ему свои указания, планы приобрели небывалый размах. Он должен был возглавить огромный отряд из почти трех тысяч человек: ученых, секретарей, студентов, переводчиков, художников, топографов, морских офицеров, матросов, солдат и квалифицированных рабочих; все они должны были пересечь Сибирь, а многим из них предстояла дорога до восточного побережья Камчатки. Им предстояло преодолеть восемь тысяч километров по лесам, болотам и тундре, будучи нагруженными инструментами, железом, парусиной, провизией, лекарствами, книгами и научными приборами. Заместителем Беринга стал пылкий и гордый русский офицер Алексей Чириков, его соратник по предыдущей крупной экспедиции. Научные задачи были не менее колоссальными: исследование флоры, фауны и минералов Сибири, а также проверка невероятных слухов о сибирских народах. И, что важнее всего, экспедиция должна была укрепить политический контроль России над всем регионом и стимулировать заселение Охотска и Камчатки. Предполагалось построить школы, организовать скотоводство, найти месторождения железа, соорудить шахты и плавильни, а также верфь для морских судов. Совершив утомительное путешествие до Охотска, Беринг должен был построить корабли и отплыть к югу, чтобы разведать северное побережье Японии и Курильские острова. Затем ему было приказано построить еще два корабля и отплыть на Камчатку, заложить там аванпост и отправиться дальше на восток, к Тихоокеанскому побережью Америки, чтобы исследовать эти земли, возможно, вплоть до самой Калифорнии.
Это был невероятно амбициозный проект, осуществить который мог лишь руководитель с неограниченной властью и неисчерпаемыми ресурсами. Но Берингу пришлось иметь дело как с нехваткой припасов, так и с руководящей властью. В любое время приказы Беринга могли отменить сверху указанием из Санкт-Петербурга – и иногда так и делали: порой после того как получали клеветнические письма подчиненных, не согласных с решениями капитана. Экспедиция превратилась в порочный круг из рвения, попустительства и эгоизма.
Впереди ждали несчастья. В июне 1741 года, после долгого похода по Сибири, когда наконец-то построили и оснастили «Святого Петра» и «Святого Павла», корабль, на котором везли бо́льшую часть провизии для путешествия, сел на мель. Когда два корабля отправились в Америку, припасов на борту было всего на одно лето, а не на два года, как изначально планировалось. Разногласия между офицерами начались, едва берег исчез из виду, и корабли-побратимы отправились на восток без четких приказов. Полторы сотни человек на борту ждала едва ли не самая трагическая и ужасная участь за всю историю мореплавания и Арктики.
Часть первая
Европа
Император Петр Великий (1672–1725) модернизировал русское государство и задумал Первую Камчатскую экспедицию, чтобы укрепить государственную власть России в Сибири и исследовать самые далекие уголки своей империи
Императрица Екатерина I (здесь – на портрете XVIII века), прежде чем стать второй женой Петра I, была простой служанкой из Литвы; в 1725 году она стала наследницей своего мужа и оказалась на удивление умелой и способной правительницей
Императрица Анна Иоанновна правила Россией с 1730 по 1740 год, продолжив прогрессивные реформы своего дяди Петра Великого и одобрив общий план Великой Северной экспедиции
На гравюре XVIII века изображен Московский кремль, который был резиденцией правителей России до тех пор, пока Петр I не основал Санкт-Петербург. Именно там в 1698 году имел место знаменитый эпизод с бритьем бород
Петр I приказал построить Санкт-Петербург в 1703 году (здесь он изображен через тринадцать лет после постройки). Город стал новой столицей Российской империи и первым российским портом на Балтийском море
Глава первая
Великое посольство
Утром 5 сентября 1698 года Петр Алексеевич Романов проснулся в своих деревянных палатах близ Кремля, полный решимости и целеустремленности. Он только что вернулся из путешествия по Западной Европе, продлившегося полтора года. За это время царь почерпнул множество идей, которые ему теперь не терпелось использовать для модернизации России. Вскоре бояре и чиновники собрались, чтобы поприветствовать возвратившегося царя и прилюдно продемонстрировать свою верность: прошло совсем немного времени с тех пор, как был подавлен стрелецкий бунт. Несколько придворных пали перед царем ниц, как предписывала традиция. В толпе раздался ропот, когда, вместо того чтобы принять как должное «стремительную их подобострастность», он «ласково и поспешно поднимал и целовал их, как самых коротких своих друзей»[1]. Нарушение протокола некоторых обеспокоило, но сам Петр уже определил для себя курс действий, и это было лишь первым за день отступлением от московских обычаев.
Молодой царь (тогда ему было двадцать шесть лет) продвигался сквозь толпу, обнимая придворных и кивая в ответ на их приветствия. Затем он сунул руку в карман, выхватил бритву и без предупреждения схватил за длинную бороду генералиссимуса Алексея Шеина. Он разрезал плотные пряди, и они упали на землю. Шеин был настолько изумлен, что стоял неподвижно, пока Петр довольно неаккуратно брил ему бороду. Затем царь схватил другого боярина, стоявшего поблизости, и его тоже столь же грубо обрил. Так он обошел практически всех присутствующих, самых верных и высокопоставленных своих советников, и в конце концов все они лишились бород. Бояре стояли молча, никто не решился перечить царю, особенно Петру, который уже тогда пользовался репутацией безжалостного и вспыльчивого человека.
Лишь троим удалось избежать постыдной участи: старику, который, по мнению Петра, заслужил право носить бороду, патриарху православной церкви и личному охраннику бывшей жены Петра Евдокии Лопухиной, позже сосланной в монастырь. Ошеломленные, не в силах ничего сказать, люди, занимавшие высочайшие общественные, политические и военные посты страны, смотрели на новые лица друг друга. Тут и там звучали нервные смешки. Для кого-то бритье бороды стало нападением на веру. Хотя в конце XVII века по улицам Москвы без бород ходили не только иностранные купцы, инженеры и военные: сам Петр тоже не носил бороды, бросив вызов традиции, и многие стали ему подражать.
Долгое путешествие Петра по Западной Европе, иногда называемое «Великим посольством», убедило его, что Россия – отсталая страна, которой необходимы серьезные реформы, и что она не пользуется плодами технологических достижений, повсеместно распространенных в Германии, Голландии и Англии. Он был очень опечален, узнав, что в этих странах Россию не считают полноценной частью Европы. Для них она была полуазиатским краем света с куполами в форме луковиц, с застывшей в развитии православной церковью и средневековыми политическими учреждениями. До России пока еще не добралась эпоха Просвещения. Умы жителей страны, по мнению Петра, все еще были скованы устаревшим мировоззрением, и он твердо вознамерился любыми средствами сделать ее частью просвещенного, как ему казалось, мира. Богато украшенные одеяния, которые мешали ходить и работать, и длинные нестриженые бороды делали Россию настоящим посмешищем в глазах Запада, и Петр решил покончить с этими символами отсталости.
Петр считал эти обычаи препятствием для модернизации страны. Он издал указы, в которых определялось, какая одежда допускалась отныне на официальных церемониях и что должны были носить официальные лица при исполнении обязанностей: камзолы, брюки, гетры, низкие башмаки и стильные шляпы для мужчин; для женщин – платья, юбки и капоры. Кроме того, он запретил древний обычай ношения длинных кривых ножей на поясе. Любой человек, одетый по-старому, обязан был заплатить особый налог, чтобы въехать в город. Позже Петр приказал стражникам городских ворот обрезать длинные одеяния всем подряд, вне зависимости от общественного положения, и без этого в город никого не пускать.
Составляя законы об одеждах и бородах, Петр не забыл и о наказаниях для заговорщиков, которые хотели посадить на трон его старшую сестру Софью во время его отсутствия. Восстание подняли стрельцы, элита русской армии. В свете этого заявления царя о бородах и костюмах звучали даже несколько угрожающе. Бунт был быстро подавлен верными Петру людьми, однако правитель еще с детства помнил другие восстания стрельцов и интриги старшей сестры. На этот раз его терпение лопнуло: Софью отправили в монастырь и заставили отказаться от своего имени и титула, стрельцов распустили, а более тысячи семисот участников бунта пытали, чтобы выявить главных заговорщиков. Петр иногда даже лично участвовал в допросах, восклицая «Признайся, скот, признайся!»[2], пока палачи сдирали кожу, избивали и жгли обвиняемых огнем. В этой великой чистке почти тысячу двести человек казнили через повешение или отрубание головы, выставив сотни тел на общее обозрение, многих других искалечили и сослали в Сибирь или другие далекие регионы, а также изгнали из Москвы их жен и детей. Это стало отличным предупреждением для любых потенциальных бунтарей – или тех, кто сомневался, стоит ли подчиняться законам царя. Петр распустил все стрелецкие полки, вместо них приблизив к себе гвардейцев.
В своих действиях Петр I руководствовался интересами государства, избавляясь от предателей и обеспечивая политическую стабильность. Он отругал служителя церкви, который пришел к нему просить о милости к предателям: «Мой верховный сан и долг перед Богом повелевают мне охранять народ и карать в глазах всех злодеяния, клонящиеся к его погибели»[3]. Своей твердой решимостью он укрепил власть, и никто не решался восстать против европейских реформ, запланированных им для страны.
На знаменитой картине, написанной во время его визита в Англию, Петр, одетый в блестящий доспех и позолоченную горностаевую мантию, выглядит великолепно. Его поза горделива: одна рука держит жезл, другая смело уперта в бедро. В окне за его плечом видны военные корабли с развевающимися парусами. У него большие глаза и пухлые губы, кудрявые волосы искусно взъерошены. Его голова кажется непропорционально маленькой по сравнению с телом, скрытым за роскошными одеждами и сталью. Петр был очень высоким и заметным издалека; благодаря двухметровому росту он возвышался над большинством своих современников. Но при этом плечи у него были узкими, а руки и ноги заметно маленькими относительно длинного туловища. Он был энергичен и упрям, но страдал от легкой формы эпилепсии, и на лице у него был хорошо заметен нервный тик. София, вдовствующая курфюрстина Ганновера, подробно описала свою встречу с Петром летом 1697 года и объявила, что он «одновременно и очень добрый и очень злой, у него характер – совершенно характер его страны»[4].
До Великого посольства Петра весной 1697 года ни один русский царь не ездил за границу – по крайней мере, без сопровождения завоевательной армии, – да еще и так далеко. Но Петр уже тогда задумал вывести страну из изоляции. Начал он с расширения флота, чтобы Россия не оставалась сухопутной страной – у нее был один-единственный порт, Архангельск на Белом море, далеко на севере. Балтийское море контролировала Швеция, а Каспийское и Черное моря были под властью Сефевидской и Османской империй. Петр напал на турецкую крепость Азов в устье реки Дон и захватил ее в 1696 году. Для защиты новых территорий он начал строить мощный флот и отправил десятки молодых людей в Западную Европу, чтобы те учились мореходству и морской стратегии. Затем Петр объявил, что организует путешествие более 250 высокопоставленных придворных в столицы Западной Европы. Прошел еще более поразительный слух: он и сам собирается в это путешествие, желая посмотреть мир и сформировать о нем свое мнение, чтобы впоследствии направить Россию на путь величия и процветания. Всего через три года после смерти матери, получив полную царскую власть, молодой правитель решил отправиться в путешествие инкогнито, в составе посольской свиты.
Чтобы понять, как устроен этот большой мир и как наилучшим образом достичь своих амбициозных целей, Петр старался избегать помпезных церемоний и почетных приемов. Послы при царском дворе сообщили о его планах своим правительствам и предположили, что Петр, скорее всего, решил просто развлечься, устроить себе небольшой отпуск и узнать за это время, как живут простые люди и как ему лучше ими править. Еще Петр знал, что ему необходимы союзники в борьбе с турками-османами. Великое посольство должно было посетить несколько европейских столиц – Варшаву, Вену, Венецию, а также Амстердам и Лондон. Он не поехал во Францию, чтобы встретиться со знаменитым Людовиком XIV, «королем-солнце», потому что Франция тогда была в союзе с турками.
Петр, безусловно, был самолюбив – все же его воспитывали как царевича, – но при этом достаточно скромен и проницателен, поэтому мог понять, что и ему, и России нужно будет многому научиться, чтобы воспользоваться новыми технологиями и знаниями эпохи. Позже, в воспоминаниях, Петр отмечал, что
«всю мысль свою уклонил для строения Флота… Усмотрено место к карабельному строению угодное на реке Воронеж… Призваны из Голандии мастеры, и в 1696 году началось новое в России дело: строение великим иждивением караблей, галер и прочих судов… аки бы устыдился Монарх остаться от подданных своих во оном искусстве, и Сам восприял марш в Голандию, и в Амстердаме на Остиндской верфи, вдав себя с прочими волентирами своими в научение карабельной Архитектуры, в краткое время в оном совершился, что подобало доброму плотнику знать»[5].
Петр Михайлов – под этим именем он отправился в путешествие – хотел еще и свободы: самому видеть, слышать и наблюдать за миром, не прячась за фасадом роскоши и церемоний. Ему не хотелось целый день общаться только с правителями; он предпочитал приходить и уходить, оставаясь инкогнито. Он хотел, чтобы Россия стала частью интереснейшего мира Западной Европы – включая новые земли, которые европейские страны открыли и продолжали открывать с помощью своих флотов. Глобализация в мире началась в конце XVII – начале XVIII века и источником технологий и идей, сделавших этот процесс возможным, была Западная Европа. Новые технологии – часы или хронометры, компасы, термометры, телескопы, барометры и инструменты для точной картографии – были невероятно полезны в навигации и путешествиях. Предприимчивые моряки и финансисты Голландской и Английской Ост-Индских компаний, а также Голландской Вест-Индской компании привозили на европейские рынки кофе, чай, сахар и пряности – корицу, гвоздику, мускатный орех. Экзотические растения и животные перестали быть чем-то необычным. Ученые, получившие относительную свободу от религиозных догм, – Декарт, Лейбниц, Левенгук, Ньютон и другие – активно экспериментировали и исследовали окружающий мир, его свойства и основополагающие законы. Наука меняла мировоззрение европейцев, и Петр не хотел, чтобы эти достижения прошли мимо него лично и мимо России. Были у него и более прозаичные замыслы. Он закупал новые корабельные пушки, такелаж, якоря, паруса и новейшие навигационные инструменты, чтобы лучшие умы России могли изучить и скопировать их – и тем самым вывести экономику страны на новый уровень.
Большинство людей в XVII и XVIII веках жили в сельской местности и занимались сельским хозяйством. Водяные и ветряные мельницы были единственно возможными источниками энергии, если не считать мышечной силы. Люди редко путешествовали, потому что дороги были плохие, а лишней еды или времени практически ни у кого не было. Повседневная жизнь начиналась с восхода солнца и заканчивалась с закатом. Основным источником света и тепла было дерево. Россия, находившаяся на окраине Европы, не участвовала в обмене новыми идеями и знаниями, охватившем весь континент, и Петр хотел это изменить – подарить своим подданным новый образ жизни.
Идея Великого посольства из России не слишком обрадовала королевские дворы Европы, которые должны были его принять. Русские послы той поры мало что знали об обычаях других стран, так что донести до них свои идеи было чрезвычайно трудно. Их обычно считали грубыми и невоспитанными мужланами, которые отказывались следовать принятому в Западной Европе придворному этикету.
А уж сам русский двор выходил за всякие рамки приличий. По свидетельству Иоганна Георга Корба, секретаря австрийского посла, обеды при русском дворе часто были незапланированными, и им предшествовало лишь внезапное объявление «Государю кушанье!»[6] После этого быстро появлялись слуги с подносами и ставили еду на огромный стол, буквально как попало, и сидящие за столом начинали хватать ее, в шутку бить друг друга большими буханками или спорить, чья очередь пить из большой чаши с вином, медовухой, пивом или брагой. Все много пили, громко спорили, в палатах могли начаться пляски или даже борцовские схватки. Иногда по залу разгуливали дрессированные медведи, раздавая всем чаши с перцовкой и, ко всеобщему увеселению, сбивая с людей шляпы и парики. Эти выходки, конечно, немало забавляли придворных Петра, но их очень не любили европейские вельможи, уделявшие огромное внимание порядку и времени входа в комнату и расположения за столом; тому, каким громким и длинным титулом нужно назвать каждого из присутствующих, из какой чаши что пить и в каком порядке есть разнообразные блюда. Особенно Петру не нравились именно официальные приемы, он считал их «варварскими и нечеловеческими», мешавшими монархам «насладиться человеческим обществом». Он хотел говорить и обедать, пить и шутить с людьми всех сословий, будучи, конечно же, первым среди равных. Петр гордился своими мозолями, работой на верфи, маршами вместе с солдатами, работой с корабельным такелажем и распиванием пива с рабочими. Ему хотелось познакомиться с людьми, которые добились уважения благодаря своим умениям, а не по праву рождения или из-за влиятельности.
Петр лично подбирал участников Великого посольства; огромная кавалькада включала в себя не только троих главных послов, происходивших из очень уважаемых семей, но и двадцать других аристократов и тридцать пять умелых ремесленников. Они все путешествовали вместе в сопровождении священников, музыкантов, переводчиков, поваров, всадников, солдат и слуг. «Петр Михайлов», русоволосый, голубоглазый мастер на все руки, выделявшийся среди других лишь своим ростом, тоже присоединился к посольству. То, что он входит в состав делегации, не было ни для кого секретом, но официально не признавалось, так что возникли необычные трудности с протоколом. Петр оставил Россию в руках троих старших регентов, в число которых входил и один из его дядей.
Великое посольство отправилось в путь по суше через контролируемую Швецией территорию вдоль восточного побережья Балтийского моря, включавшую в себя Финляндию, Эстонию и Латвию. Там Петр обратил особое внимание на укрепления Риги, крепости, которую его отец не смог завоевать сорок лет назад; она показалась ему отличным местом для будущего русского порта на Балтийском море. Оказанный ему прием он посчитал грубым и негостеприимным – совершенно не подходящим для царя. Он, конечно, путешествовал инкогнито, но все равно ожидал, что его присутствие надлежащим образом отметят. Сопровождающих царя проигнорировали и оставили на произвол судьбы – им пришлось самим искать себе еду и ночлег и платить за них большие деньги, – и это было совершенно недопустимо. Через три года Петр использовал тот факт, что его плохо приняли в Риге, как предлог для начала войны, которая длилась бо́льшую часть его правления, – Великой Северной войны со Швецией. Рига в конце концов стала частью Российской империи. Бесспорно, можно даже сказать, ему повезло, что в Риге с ним так плохо обошлись, ведь у него не было иного способа расширить Россию и получить доступ к Балтийскому морю, кроме как захватить территорию, контролируемую Швецией. Затем кавалькада отправилась по суше в польскую Митаву. Потеряв терпение, Петр зафрахтовал корабль и морем добрался до северогерманского города Кенигсберга, где встретился с Фридрихом III, курфюрстом Бранденбурга, чтобы обсудить союз против Швеции. Как и Петр, Фридрих тоже хотел расширить свою территорию и стать королем недавно созданного королевства Пруссия.
Заложив основу для будущих совместных военных действий против Швеции, Петр направился в Берлин. К этому времени его участие в посольстве уже стало секретом Полишинеля, слухи распространились по всей Северной Европе. Люди толпами собирались, чтобы посмотреть на царя таинственной восточной страны, которого сопровождала свита в странной одежде, соблюдавшая восточные обычаи и известная своим пьянством и варварским поведением. Великое посольство превратилось в передвижной цирк, и Петра очень злило это назойливое любопытство; к нему относились как к диковинке, которой, правда, он по сути и являлся. Но в качестве диковинки он всех очаровал: немецким дворянам очень понравились его чувство юмора, веселый нрав и разговорчивость. Петр вовсе не показался им невежественным медведем, вопреки всему тому, что о нем рассказывали. Многочисленные иностранные наставники царя хорошо его подготовили.
В середине августа Петр с несколькими соратниками, добравшись до Рейна, сели на небольшой корабль и поплыли вниз по течению; остальные члены Великого посольства продолжали путешествие по суше. Петр проплыл через Амстердам и добрался до голландского города Заандам, где в своей обычной донкихотской манере решил записаться на верфь плотником и как простой рабочий освоить кораблестроительное дело. Он поселился в маленьком деревянном домике неподалеку от верфи, купил плотницкие инструменты и стал строить корабли. Вскоре его инкогнито раскрылось: поползли слухи об иностранцах в странных одеждах, прибывших на корабле; целые толпы рассматривали его свиту, одетую в необычные русские наряды. Помимо всего прочего, Петра выдавал его богатырский рост и характерные судороги на лице, так что буквально через несколько дней ему уже пришлось отклонять предложения пообедать с главными чиновниками и купцами города. Из-за его присутствия поднялся шум по всей республике; люди приезжали даже из Амстердама: они хотели удостовериться, что слухи верны, и царь Московии работает на верфи простым плотником, и вскоре вокруг верфи пришлось поставить заборы, чтобы держать зевак подальше. На следующий день после этого Петр разозлился, растолкал толпу, сел на свое маленькое суденышко и отправился в Амстердам, где поселился в гостинице, выкупленной посольством.
В Амстердаме, большом городе, привычном к светской жизни, он надеялся лучше слиться с толпой. Здесь Петра повсюду окружала вода и тысячи кораблей, а воздух постоянно сотрясался от криков моряков. Он нашел работу на окруженной стенами верфи Голландской Ост-Индской компании, где стоял целый флот кораблей самых разных форм и размеров. Некоторые из них еще только строили, другие же, старые, вытаскивали на берег, и они лежали там, словно разлагающиеся грудные клетки морских чудовищ; прогнившие доски отрывали и прикрепляли к остову новые. Канаты, дерево, смола, парусина, железо – вот из чего строились торговые и военные суда, и среди всего этого Петр провел много месяцев, постигая основы морского дела. Но оставаться инкогнито он уже не стремился. Он встретился с бургомистром и ведущими сановниками города. Ост-Индская компания предложила ему небольшой домик на территории верфи, подальше от любопытных глаз. Он с десятью другими русскими мастерами начал работу над новым стофутовым фрегатом, чтобы увидеть весь процесс строительства корабля, от проверки качества бревен до изучения чертежей. Корабль Ост-Индская компания переименовала: он получил название «Петр и Павел».
Больше всего молодого царя поразили густонаселенность и богатство Голландской республики. В маленькой стране жило около двух миллионов человек, и ее города были огромными по сравнению с городами других стран. Голландская республика была на пике могущества благодаря богатствам, которые поставлялись Голландской Ост-Индской компанией; тогда это была наиболее урбанизированная и продвинутая страна в Европе, славившаяся своей живописью, одеждой, едой, пряностями и мыслителями. Оживленные верфи обслуживали торговую сеть, бывшую тогда самой большой в мире; голландские корабли ходили практически везде, куда вообще могли добраться европейцы, – кроме разве что севера Тихого океана. Могучее торговое предприятие преобразило сначала страну, а потом и всю Европу. На одну только Ост-Индскую компанию работало более 50 000 человек – моряков, ремесленников, рабочих, носильщиков, писцов, плотников, солдат. Другие голландские компании тоже подпитывались коммерческой активностью Ост-Индской компании и контролировали немалую долю торговли в Северной Европе. Благодаря баснословным богатствам, заработанным этой торговлей, начался голландский «золотой век» – эпоха, когда Нидерланды были самой богатой и технически развитой страной Европы, с процветающими наукой и искусством – от живописи, скульптуры, архитектуры и драматургии до философии, юриспруденции, математики и издательского дела. Петр никогда прежде не видел ничего подобного. В Амстердаме в защищенной гавани возвышался целый лес мачт, вдоль верфей стоял флот маленьких суденышек, а по каналам, пронизывавшим город, ходили тяжело груженные баржи.
Вся эта деятельность привела к развитию новых финансовых структур: кредитования, страхования, займов, акционерных компаний. Люди со всей Европы съезжались, чтобы овладеть навыками, необходимыми для участия в новой глобальной торговле, распространившейся даже на такие далекие уголки мира, как Тихий океан. Петр знал, что этот океан лежит на дальней границе его огромной, обширной империи, за малоисследованной и лишь частично нанесенной на карты землей под названием Камчатка, которая, как тогда предполагали, могла быть соединена с Северной Америкой.
Петр провел четыре месяца на амстердамских верфях, успев посетить и другие города Голландской республики. 16 ноября 1697 года фрегат, над которым работал Петр, был с большой помпой спущен на воду, а затем преподнесен ему в дар Ост-Индской компанией. На корабль, который Петр переименовал в «Амстердам» в честь гостеприимных хозяев, в конце концов погрузили все закупленные российским посольством европейские промышленные товары, и он взял курс на Архангельск, стоявший на Белом море, по-прежнему остававшийся единственным российским портом в Европе.
В январе 1698 года Петр с несколькими сопровождающими отправился в Англию по приглашению короля Вильгельма, оставив большую часть свиты в Амстердаме. Король обещал подарить Петру яхту, а царю не терпелось выяснить, чем английские методы кораблестроения отличаются от голландских. Лондон тоже поразил Петра: население города тогда составляло 750 000 жителей, и он был сродни Амстердаму и Парижу. Темза была полна судов всевозможных размеров. В XVII веке Англия и Голландия трижды воевали друг с другом, борясь за власть над торговыми путями в Индию. Как и в Амстердаме, большинство богатств Лондона поступало в город из-за пределов Европы: из Америки, с островов Карибского бассейна, из Индии, Индонезии и даже Китая.
Особенно Петра интересовала британская система налогообложения и экономики, которая приносила государству достаточный доход, чтобы строить и обслуживать могучие флоты, привозившие на берега Англии богатства всего мира. Он искал способы превратить свою по большей части сельскохозяйственную страну во что-то, куда сильнее напоминающее современное европейское государство с квалифицированным городским населением. Петр провел несколько месяцев, работая на королевских верфях и изучая их, и приобрел репутацию грубого и неотесанного человека. Англичане отмечали твердые убеждения Петра, его ненасытное любопытство и вспыльчивость. Помимо прочего, он посетил королевский монетный двор и позже на его примере провел реформу российской валюты. И в Лондоне, и в Амстердаме он опрашивал и нанимал на службу умелых ремесленников и инженеров, врачей и специалистов – каменщиков, слесарей, корабелов, моряков, навигаторов. Многие, польстившись на предложенное высокое жалованье, согласились покинуть родину и уехать в Россию.
В середине июля, готовясь к отъезду из Вены, Петр узнал, что стрельцы при поддержке его сестры Софьи восстали и двинулись на Кремль. Он отменил визит в Венецию и торопливо отправился через Польшу обратно в Москву. Царь скакал день и ночь, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить лошадей, и наверняка думал о том, как будет сбривать своим подданным длинные бороды.
Вернувшись в Москву и подавив восстание, Петр принялся воплощать в жизнь свои представления о структуре и управлении современным государством. Он думал о том, что в России не было таких учреждений, которыми он восхищался в Голландии, Германии и Англии. Новые законы, включая налог на бороды, стали лишь первым из множества шагов, которые он собирался предпринять, чтобы пробудить Россию ото сна. Следующие двадцать пять лет долгого правления Петра были посвящены двум главным приоритетам; первый из них – серия радикальных институциональных реформ в русском обществе, которые должны были сделать его более похожим на европейское.
За десятилетия, прошедшие после возвращения из Великого посольства, Петр пытался приобщить Россию к одежде, моде и привычкам иностранцев; у него было много заграничных друзей и советников, и он годами старался искоренить твердое убеждение православной церкви в том, что иностранцы – источник ереси и разложения. Он ограничил влияние православной церкви, провел календарную реформу, расширил и изменил структуру армии, стандартизировал чеканку монет, ввел официальные гербовые бумаги для юридических документов и создал государственные награды. Петр всю жизнь курил трубку – эту привычку он перенял у немецких и голландских друзей, – так что заодно легализовал и курение табака. Во времена правления его деда курение каралось смертной казнью; позже это наказание заменили вырыванием ноздрей. Поскольку ноздри царю никто вырвать бы не смог, церковь практически не сопротивлялась легализации табака. Петр основал Академию наук, в которой работали в основном зарубежные интеллектуалы. Кроме того, правитель выступал против строгих договорных браков – этого обычая он не увидел ни в Голландии, ни в Германии, ни в Англии. Следуя такой традиции, мать женила его в 17 лет, когда он еще не мог возразить ей. Петр твердо решил избавиться от своей жены Евдокии Лопухиной, печальной и набожной женщины, с которой он практически не виделся и не разговаривал; он не написал своей супруге ни единого письма за все полтора года поездки в Европу, да и после возвращения видеться с ней не торопился. Петр отправил ее в монастырь и вычеркнул из общественной жизни. В 1703 году он познакомился с Мартой Скавронской, литовской крестьянкой, которая работала домашней прислугой, – она стала его любовницей, затем женой и, в конце концов, императрицей Екатериной.
Вторым после политических и общественных реформ достижением Петра была война со Швецией, Великая Северная война, – длительная череда завоевательных сражений, благодаря которой в состав России вошли земли на восточном побережье Балтийского моря, что сделало ее ближе к Европе. На этой территории в 1703 году Петр основал новый город. Расположенный на востоке Финского залива, когда-то – территории России, затем захваченной Швецией, город должен был стать образцом для всей страны. Петр назвал его Санкт-Петербургом. Он так хотел, чтобы город был построен по новой, современной планировке и как можно быстрее, что издал указ, запрещающий возведение любых каменных зданий по всей России; русские каменщики должны были работать в Санкт-Петербурге вплоть до окончания его строительства. Там он разместил штаб-квартиру русского флота и расширил его, воспользовавшись услугами множества ремесленников и специалистов, нанятых за время Великого посольства. В новый город переехало правительство страны и царский двор. 10 сентября 1721 года Россия и Швеция наконец прекратили длившуюся двадцать один год Северную войну, подписав Ништадтский мир; в том же году Петр официально принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского. За время войны Россия завоевала бо́льшую часть восточного побережья Балтики и Финляндию, и Петр согласился заплатить Швеции внушительную сумму серебром, чтобы оставить Эстонию, Ливонию, Ингерманландию и юго-восток Финляндии в составе Российской империи.
Петр жил полной и яркой жизнью, достойной любого великого монарха. Он сделал больше, чем любой другой правитель России, чтобы изменить структуру государства и направить ее на современный путь развития, и у него по-прежнему были грандиозные планы. Не зря правитель получил имя «Великий». Но летом 1724 года он серьезно заболел и даже был при смерти, несмотря на сравнительно молодой возраст. Врачи разрезали ему живот и вскрыли мочевой пузырь, из которого вышли полтора литра мочи, причинявшие ему сильнейшую боль. Осенью Петру стало лучше, но к декабрю он снова оказался прикован к постели и страдал от боли.
Петр мог гордиться своими успехами, он прожил жизнь, полную драматических событий и приключений, за которую Россия превратилась из средневековой отсталой страны в одно из ведущих государств Европы. Но он не собирался почивать на лаврах. Он хотел исполнить давнюю географическую и научную мечту, сделать последнее дело, которое еще больше повысило бы престиж государства в глазах европейских стран и научного общества, а также укрепило бы его власть в самых далеких уголках огромной империи. Лежа в роскоши своих дворцовых апартаментов, не в силах ходить из-за болезни, он думал о чем-то новом – о последнем великом деле, которое увенчает его выдающееся царствование и славный путь. Он составил список указаний – согласно этому была собрана одна из величайших научных экспедиций в истории, в ходе которой был открыт морской путь к новой земле. Под конец жизни Петр очень интересовался географией, желая знать о размерах и богатствах самых далеких уголков своей империи; двигало им и простое любопытство – он давно задавался вопросом о том, связана ли Азия с Северной Америкой. То была великая географическая загадка эпохи, предшествовавшей Американской революции и путешествиям капитана Кука. Разгадка таилась в одном из последних регионов мира, все еще не нанесенных на карту – на севере Тихого океана.
В конце декабря 1724 года Петр, лежа на смертном одре, призвал своего ближайшего советника. Он изложил помощникам свои идеи и планы и, «опасаясь, что конец близок», выразил желание как можно скорее отправить экспедицию. Пригласив генерала-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина, правитель сказал ему:
Худое здоровье заставило меня сидеть дома; я вспомнил на сих днях то, о чем мыслил давно и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. На сей морской карте проложенный путь, называемый Аниан, проложен не напрасно. В последнем путешествии моем в разговорах слышал я от ученых людей, что такое обретение возможно. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству через искусства и науки. Не будем ли мы в исследовании такого пути счастливее голландцев и англичан, которые многократно покушались обыскивать берегов американских?[7]
Он передал двору указания, написанные собственноручно, еще 23 декабря 1724 года, но подписал официальный документ лишь через месяц, 26 января 1725 года. Инструкции Петра были весьма краткими, но при всей краткости они оказали большое влияние на мировую историю.
III. Надлежит на Камчатке, или в другом там месте, сделать один или два бота с палубами.
III. На оных ботах [плыть] возле земли, которая идет на норд, и по чаянию (понеже оной конца не знают) кажется, что та земля – часть Америки.
III. И для того искать, где оная сошлася с Америкою, и чтоб доехать до какого города европейских владений; или ежели увидят какой корабль европейской, проведать от него, как оной куст называют, и взять на письме, и самим побывать на берегу, и взять подлинную ведомость, и, поставя на карту, приезжать сюды[8].
8 февраля 1725 года, через месяц после составления планов первой крупной российской исследовательской экспедиции, которая позже получила название Первой Камчатской экспедиции, заполнила белые пятна на картах, оставленные другими европейскими державами, и стала символом пробуждения Российской империи, Петр Великий умер в возрасте пятидесяти двух лет. Его вдова Екатерина, взойдя на престол, поддержала мечту мужа. Петр выбрал командиром ветерана, двадцать лет служившего на флоте и воевавшего в Великой Северной войне, – уважаемого датского командира по имени Витус Беринг.
Глава вторая
Первая камчатская экспедиция
На картине, которая долго считалась портретом Витуса Ионассена Беринга, изображен широколицый мужчина с добрыми глазами и любознательным взглядом; его внешность совершенно не соответствует жизни и делам знаменитого мореплавателя, который провел почти всю жизнь в море или в путешествиях по Сибири. Сейчас считается, что на самом деле это изображение его дяди, Витуса Педерсена Беринга, знаменитого датского историка и поэта. Реконструкция эксгумированных останков Витуса, проведенная совместной датско-советской экспедицией в 1991 году, показала, что он был мощным, мускулистым мужчиной ростом около 168 сантиметров и весом 76 килограммов. У него было крепкое телосложение, выдающиеся скулы и длинные волнистые волосы. Всю жизнь он отличался приятной внешностью и хорошим здоровьем[9].
Беринг был одним из многих талантливых иностранцев, которых позвал на русскую службу Петр I, когда планировал расширить флот. Беринг родился 5 августа 1681 года в городе Хорсенс, балтийском порту на восточном берегу Ютландии, который утратил свою значимость после военных поражений от Швеции в XVII веке. Его отец был таможенником и церковным старостой, принадлежал к респектабельному среднему классу. Но для амбициозного молодого человека перспектив в городе не было. Он очень любил корабли и море и впервые вышел под парусом пятнадцатилетним юнгой вместе со старшим братом за год до того, как Петр I отправился в Великое посольство. Восемь лет Беринг плавал на голландских и датских торговых судах в такие далекие места, как Индия, Индонезия, Северная Америка и Карибское море; изучал навигацию, картографию и командирское дело и некоторое время учился в институте подготовки офицеров в Амстердаме. В 1704 году молодой Беринг познакомился с Корнелием Ивановичем Крюйсом, норвежцем, которого Петр I нанял на службу в 1697 году, чтобы создать новый русский флот. Берингу очень повезло, и он наверняка обрадовался, когда Крюйс предложил ему поступить на службу на Балтийском флоте; тогда как раз началась Великая Северная война между Россией (к которой временами присоединялись Дания, Саксония, Польша и Пруссия) и Шведской империей, заклятым врагом Дании на тот момент. То было прекрасное время для умелых, умных мореходов. Позже Беринг любил «с радостью говорить, как с самой юности все складывалось в его пользу»[10]. Он сделал успешную карьеру в русском флоте: в 1707 году из подпоручика стал поручиком, затем в 1710 году – капитан-лейтенантом, в 1715-м – капитаном четвертого ранга и, наконец, в 1720-м – капитаном второго ранга. Но на этом его везение ненадолго закончилось.
Беринг, по словам одного из поздних сослуживцев, был «по вере праведным и благочестивым христианином, который вел себя как человек хорошего воспитания, добрый, тихий», его «обожала вся команда, от командиров до последнего матроса»[11], однако ему не удалось снискать почестей в морских сражениях. Он был компетентным и достойным доверия командиром, а самое выдающееся деяние совершил в 1711 году, когда после неудачной кампании против турок провел свой корабль «Мункер» через Азовское и Черное моря, пролив Босфор, Средиземное море, а затем к северу до Балтийского, где и остался до самого конца войны. Тяжелое, опасное путешествие показало, что Беринг – хороший руководитель, смелый и инициативный, – и эти черты характера пригодились в дальнейшем, когда он принял на себя руководство двумя сложнейшими в истории многолетними наземными и морскими экспедициями.
Через общих друзей в лютеранском обществе, расселившемся по побережью Балтийского моря, он познакомился в Выборге с 21-летней Анной Кристиной Пюльзе и женился на ней в 1713 году. Избранница происходила из богатой семьи немецких купцов, жившей возле реки Невы, неподалеку от нового города Санкт-Петербурга, и была на одиннадцать лет младше Витуса. У пары родилось девять детей, но только четверо дожили до взрослого возраста. Супруги нечасто виделись в войну, когда Беринг был на море, так что Анна оказалась хорошо подготовлена к многолетним экспедициям мужа в Тихом океане. Супруги стремились занять более значительное положение в обществе, Беринг делал карьеру. Во время войны, пока дела Беринга шли в гору, все было хорошо. Однако потом, вопреки надеждам, Беринг не получил повышения в знак признания военных заслуг, оказавшись позади многих коллег. Казалось, удача отвернулась от семьи. Вскоре ситуация осложнилась еще сильнее. Младшая сестра Анны, Евфимия, обручилась с Томасом Сандерсом, британским офицером и шаутбенхтом российского флота; его ранг был выше, чем у Беринга, также к нему прилагался дворянский титул. Все шло к тому, что общественное положение старшей сестры станет заметно ниже, чем у младшей, а ранг ее мужа останется ниже, чем у его свояка. Это обстоятельство весьма огорчало честолюбивых Витуса и Анну. Они поразмыслили над печальным положением дел и решили, что единственным способом спасти честь семьи и сохранить лицо для Беринга будет подать прошение об отставке. Витус направил прошение, надеясь, что оно будет удовлетворено еще до замужества Евфимии. В феврале 1724 года он получил звание капитана первого ранга в отставке, и они с Анной и двумя детьми переехали из Санкт-Петербурга обратно в Выборг. Однако, поскольку у Беринга не было ни пенсии, ни доходов, а семью нужно было кормить, отставка не продлилась долго: уже через полгода Витус попросил восстановить его на службе. Поскольку Евфимия жила в Санкт-Петербурге, Анна решила остаться в Выборге, чтобы избежать унижения при случайной встрече с младшей сестрой, которая теперь превосходила ее в Табели о рангах. Беринг заступил на службу командиром девяностопушечного корабля на Балтийском флоте. Но Петр Великий и его советники уже строили планы, которым суждено было изменить жизнь Беринга навсегда.
В 1721 году война официально закончилась, и Петр смог уделить больше внимания обширным, но почти не нанесенным на карту землям к востоку от Урала. Он опасался, что другие европейские державы приступят к исследованию Сибири и попытаются оспорить притязания России на эту землю. Особенно император насторожился, когда в 1717 году официальное разрешение на исследование Сибири запросила Французская академия наук. Французам Петр отказал, несмотря на то что сам хотел узнать больше об этом малоизвестном регионе; если бы он доверил исследование собственной территории иностранцам, это стало бы сильнейшим ударом по престижу России и самого царя.
Испанские конкистадоры покорили могучие народы Центральной и Южной Америки – ацтеков, майя и инков – и включили их земли в огромную глобальную империю, которая простиралась на восток и запад, от Европы до Филиппин. Французы колонизировали восточную часть Северной Америки. Англичане построили форты в Северной Америке и основали мировую торговую империю. Голландцы основали колонию Новые Нидерланды и завоевали португальские заморские владения в Индонезии. Голландская и Английская Ост-Индские компании вели войны за контроль над Индонезией и торговлей в Индийском океане; англичане готовились напасть на Индию. Испанские корабли отправились с исследовательской миссией на север и проплыли вдоль западного побережья Северной Америки от Мексики вплоть до нынешней Британской Колумбии. Но вот внутренние районы Северной Америки, ее тихоокеанское побережье и Крайний Север оставались по большей части огромной неизведанной землей, так же, как и северо-восток Азии. Петр I считал, что Россия сможет оставить там свой след – возможно, не только завоевать новые территории или исследовать перспективные торговые пути с целью упрочить единство империи, но и внести вклад в естествознание и географию. Он хотел, чтобы России досталась часть престижа, на который претендовали страны, пополнявшие копилку знаний человечества, – чтобы путем создания подробной карты Сибири Россия из пассивного наблюдателя превратилась в активного участника процесса познания мира.
Петр хотел не только добиться признания от европейских держав, но и наладить выгодные торговые контакты с Китаем, которые могли бы поспособствовать освоению обширных сибирских земель. Петр несколько раз направлял в Поднебесную своих посланников, но безуспешно. Путешествия в Амстердам и Лондон убедили его в том, что ключ к процветанию – это сильная экономика, и что для ее укрепления, помимо денежной реформы и стабильной правовой системы, необходимо развитие торговли. Кроме того, успехи в этой области позволили бы существенно увеличить доходы казны. Однако попытки Петра добиться того, чтобы русским было позволено торговать на территории Китая и открыть в нескольких китайских городах консульства, окончились провалом. Царский посол Лев Измайлов преподнес китайцам изысканные дары, но переоценил свои силы, предложив в рамках торговой сделки построить в Пекине русскую церковь. Официальный ответ был снисходительным и высокомерным: «У нашего государя торгов никаких нет, а вы купечество свое высоко ставите. Мы купеческими делами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди и слуги, и пользы нам от вашей торговли никакой нет, товаров русских у нас много, хотя бы ваши люди и не возили»[12]. В поздние годы правления Петра, несмотря на все его усилия, торговля с восточной империей пошла на спад, и китайское правительство отказало ему в доступе к реке Амур, протекавшей по границе России и Китая. Это решение закрыло России выход к Тихому океану.
В декабре Петр приказал руководителям Адмиралтейств-коллегии составить списки людей, которые возглавят это амбициозное предприятие: геодезистов, корабелов, картографов, командиров. Имя Беринга оказалось на первом месте.
Единственным способом обойти эту блокаду российских торговых – и, соответственно, политических – интересов был поиск северного пути. Петр обратил взор к малоизученным просторам Сибири, которые Россия постепенно осваивала с конца XVI века. Поначалу ей приходилось отвоевывать земли у вождей сибирских татар, но на Дальнем Востоке, на открытых всем ветрам изрезанных берегах Охотского моря, некому было мешать продвижению русских. Российский аванпост появился здесь еще в 1648 году. Однако англичане, французы, испанцы и голландцы исследовали уже практически весь мир, и изучение ими севера Тихого океана было теперь лишь вопросом времени. Петр мечтал, чтобы честь открытия этих территорий досталась России. После того, как в конце 1724 года император подхватил инфекцию мочевыводящих путей, которая через несколько месяцев свела его в могилу, подготовка планов экспедиции резко ускорилась. В декабре Петр приказал руководителям Адмиралтейств-коллегии составить списки людей, которые возглавят это амбициозное предприятие: геодезистов, корабелов, картографов, командиров. Имя Беринга оказалось на первом месте в списке командиров, его рекомендовали вице-адмирал Петр Сиверс и контр-адмирал Наум Сенявин: «Беринг в Ост-Индии был и обхождение знает»[13]. Двадцать лет службы в российском флоте и путешествия в Северную Америку и Индонезию сделали его очевидным кандидатом в командиры экспедиции, которая должна будет исследовать не нанесенные на карту воды Тихого океана. Предполагалось, что экспедиция может встретиться с неизвестными народами и культурами, а Беринг, по крайней мере, бывал в заморских странах. Петр I писал, что совершенно необходимо участие в экспедиции «штурмана или подштурмана, которые бывали в Нордной Америке»[14].
В годы Великой Северной войны Беринг проявил себя прежде всего как блестящий организатор поставок припасов. Возможно, в том числе и благодаря этому таланту его выбрали руководителем Первой Камчатской экспедиции. Ничего подобного в мире еще не бывало. Чтобы добраться до Тихого океана и начать «настоящее» исследование побережья, Берингу и его команде пришлось пересечь всю Сибирь с ее широкими реками, начинающимися в горных регионах Центральной Азии и впадающими в Северный Ледовитый океан. Дорога через Сибирь была уже проложена, на больших реках стояли крепости-остроги, но по этому пути обычно ходили небольшие группы купцов, а не крупные экспедиции с огромным грузом припасов и оборудования. Сегодня Сибирь известна как край с суровыми зимами, сильными ветрами и очень малой плотностью населения, как почти пустынная область, которая идеально подходит для поселения политических диссидентов и прочих ссыльных. В XVII веке у Сибири уже была похожая репутация, и власти уже начали использовать ее земли для этих целей.
Формально Сибирь была лишь одной из десяти губерний Российской империи, учрежденных Петром I в 1708 году. Но эта губерния очень сильно отличалась от других. Территория Сибири, протянувшаяся от Уральских гор до Тихого океана, включающая в себя почти всю Азию севернее Монголии и Китая, была вдвое больше территории остальных девяти российских губерний, вместе взятых, и занимала три четверти всей территории страны. Площадь Сибири составляла 13,1 млн км2 – невероятная цифра, десять процентов всей поверхности Земли, и разнообразие ландшафта губернии вполне соответствовало ее размерам: продуваемая всеми ветрами тундра, огромные равнины, обширные хвойные леса (тайга) и несколько горных цепей, в том числе Урал, Алтай и Верхоянский хребет. Сибирь всегда была одним из самых малонаселенных регионов планеты. Ни Петр, ни другие представители высшей знати в Сибири никогда не бывали, а если оказывались там, то оттуда не возвращались. Всего в Сибири жило не больше трехсот тысяч человек; к XVIII веку практически все они были русскими. Сибирь была богата мехами, и доходы от этого региона государство получало главным образом в виде шкур животных вроде соболей и лисиц, хорошо размножающихся в субарктическом климате с коротким жарким летом и долгой холодной зимой. Сейчас в Сибири живет около сорока миллионов человек, но и это составляет лишь около 27 процентов населения России.
Сибирь и ее коренные народы (энцы, ненцы, якуты, уйгуры и другие) были завоеваны монголами в начале XIII века, и на ее землях правили местные вожди, пока в XVI веке русские казаки не пересекли Уральские горы и не основали там военные аванпосты – маленькие деревянные крепости-остроги, вокруг которых вырастали города. Сибирь была слишком огромной, чтобы полноценно ею управлять, поэтому русские наместники, которых присылали из Москвы, продолжали экспансию и освоение территории, пользуясь старой ханской системой налогообложения, основу которой составлял налог мехом (ценнейшие минералы и нефть в Сибири нашли лишь много позже). К началу XVIII века русские аванпосты уже стояли на берегу Тихого океана и на Камчатке. Но, хотя формально эти земли находились под властью России, западнее Тобольска, маленького городка и административного центра Сибири, расположенного слегка восточнее Уральских гор на реке Иртыш, дорог не было. Тобольск представлял собой большую каменную крепость на холме, служившую административной и военной столицей губернии, а также резиденцией иерархов православной церкви в Сибири. Ниже государственных и церковных построек, на равнине, где по весне нередко случались наводнения, стояло примерно три тысячи деревянных домов разных размеров и качества. В городе жило около 13 000 человек. Кроме Тобольска, единственным местом, где путешественники могли пополнить припасы, был Якутск – небольшой центр торговли мехом, расположенный примерно посередине Сибири. В Якутске располагалась резиденция русского наместника, а жителей было вполовину меньше, чем в Тобольске. Еще один растущий сибирский город, Иркутск, был размером практически с Тобольск и сводил концы с концами благодаря торговле с Китаем, но он находился гораздо южнее тех территорий, которые должна была миновать Первая Камчатская экспедиция. Многочисленные сибирские остроги представляли собой всего лишь небольшие деревянные крепости, и нельзя было рассчитывать на то, что удастся получить в них пропитание и другие припасы. Между Якутском и крохотным Охотском, стоявшем на западном берегу Охотского моря, местность была неровная и гористая. В 1716 году русские моряки проложили морской путь на восток, соединявший Охотск и участок западного побережья Камчатки рядом с рекой Большой. Самый очевидный и простой путь к Тихому океану – южный, вдоль реки Амур, – был заблокирован Китаем в соответствии с Нерчинским договором.
Экспедиции предстояло пересечь треть земного шара, борясь с враждебным климатом и отсутствием дорог. Чем дальше на восток отправлялись исследователи, тем хуже и непредсказуемее становились условия и тем меньше – вероятность того, что им удастся найти людей, как-то связанных с Россией и готовых помочь имперскому предприятию. Команде Беринга пришлось тащить через всю Сибирь свое оборудование и припасы, в том числе все необходимое для постройки кораблей в Охотске: якоря, гвозди, инструменты и оружие, канаты и паруса. Даже еду в большом количестве добыть было трудно, с учетом малой численности населения, продажности чиновников и низкой квалификации склонных к пьянству рабочих. Одной из главных целей экспедиции было составить новую карту пути от Тобольска до Охотска, описать дорогу через Охотское море до Камчатки, а затем начертить план тихоокеанского побережья вплоть до так называемого Студеного моря. Получив подробные, точные и проверенные указания, этим путем смогут пройти и другие, и территория окажется прочнее связана с империей. Это была тяжелейшая, беспрецедентная по сложности миссия. Петр поставил перед экспедицией грандиозные задачи, но они были лишены конкретики: никто не имел представления о том, каким образом можно было их выполнить, как и какие трудности могли встретиться на пути. Очевидно было только одно: на это предприятие уйдет много лет.
В январе 1725 года Беринг вернулся в Выборг, чтобы привести в порядок дела, в частности, договориться о финансовой поддержке семьи из его жалованья на время экспедиции и провести время с женой и детьми – они очень изменятся за время, пока его не будет дома. Кроме того, Беринг собирался заключить ряд сделок частного характера. В дополнение к солидному жалованью – 480 рублей в год – новая должность давала ему возможность обогатиться: как командиру, ему было выделено немало места в обозе и дано разрешение перевозить на транспорте экспедиции собственные товары, за которые, если все правильно выбрать и спланировать, в далеких сибирских острогах можно будет выручить целое состояние. Отец Анны, известный, успешный торговец, несомненно, давал советы зятю-моряку, который не имел особого опыта по части коммерции. Несмотря на то что экспедиция означала для Беринга и Анны расставание на несколько лет, оба были рады воспользоваться этой возможностью, чтобы обеспечить семье богатство, а ее главе – продвижение по службе[15].
В Санкт-Петербурге Беринг уже имел возможность познакомиться со своими будущими подчиненными – младшими офицерами. Лейтенанту Мартыну Шпанбергу, соотечественнику-датчанину, было двадцать семь – на семнадцать лет меньше, чем Берингу. Он несколько лет служил в русском флоте, по меньшей мере один раз побывал в американских колониях, и у него была репутация сурового, решительного и настойчивого человека, пусть и не слишком образованного и грамотного. Алексею Чирикову, напротив, было всего двадцать два, и он прослужил на флоте всего год, прежде чем его произвели в лейтенанты и отправили в экспедицию. Чириков с отличием окончил Московскую навигационную школу, после чего был переведен в Петербургскую морскую академию и вернулся в нее учителем всего через год после окончания. Его технические навыки и познания в астрономии, картографии и навигации – все эти науки требовали серьезной математической подготовки – представляли исключительную ценность для картографической экспедиции. Среди остальных 34 участников экспедиции были моряки, квалифицированные ремесленники, погонщики, гардемарины, плотники, механики, хирург, капеллан, геодезист, квартирмейстер, корабел и разнорабочие.
После смерти Петра Великого в феврале 1725 года императрица Екатерина I продолжила большинство проектов покойного мужа, в том числе Первую Камчатскую экспедицию. Чириков уже отбыл из Санкт-Петербурга 24 января во главе кавалькады из двадцати шести человек на двадцати пяти санных упряжках, нагруженных снаряжением, которого было не найти к востоку от Урала: шесть 160-килограммовых якорей, восемь пушек, десятки ружей, песочные часы, такелаж, парусина, канаты, сундуки с лекарствами и научными инструментами. По проторенным дорогам он добрался до Вологды и стал ждать, пока Беринг и Шпанберг не завершат свои встречи в Адмиралтейств-коллегии. Они получили от Сената официальные приказы и документы, согласно которым губернатор Сибири, князь Михаил Владимирович Долгоруков, должен был оказывать им всяческую поддержку. Послание Сената ему было кратким, но ясным: «…в Сибирскую губернию к тебе, губернатору, указ, чтоб ты посылаемому из Адмиралтейской колегии морскаго флота капитану Витесу Берингу по данным ему пунктам, писанным блаженныя и вечнодостойныя памяти е.и.в. собственною рукою, чинил всякое вспоможение…»[16] 6 февраля Беринг и Шпанберг отправились в путь, легко нагруженные, в сопровождении шести человек на санях, и, встретившись с Чириковым, мрачными зимними днями продолжили путь через заснеженные низкие перевалы Уральских гор до Тобольска. Они добрались до города 16 марта, преодолев 2837 километров – то был самый простой участок пути.
В следующие два месяца, ожидая, пока с реки сойдет лед, Беринг встретился с губернатором, показал ему письмо от императрицы Екатерины и запросил еще 54 человека для помощи экспедиции. Умелые мастера в Сибири были редкостью, отыскались лишь 39 способных работников; тем не менее численность команды более чем удвоилась. Для успеха предприятия требовалось больше плотников и кузнецов, но их найти не удалось. К востоку от Тобольска дорог не было, так что Берингу пришлось продать лошадей и сани. Дальше им предстояло двигаться водным путем по Иртышу до Оби: нужны были плотники, чтобы построить плоты, и рабочие, чтобы перенести сотни килограммов снаряжения с саней на плавучие бревна. Вскоре были готовы четыре плоскодонные речные лодки длиной 12 метров, оснащенные мачтой и парусами. Беринг отправил небольшую группу на лодках вперед, чтобы объявить о прибытии экспедиции и запросить припасы и еду; это повторялось с каждым встречавшимся фортом и поселением. Система текущих в основном на север рек и их притоков, пересекавших сибирские равнины, была частью хорошо развитой, пусть и разреженной, торговой сети: меха отправлялись в Европу или Китай, а китайские товары – на север и восток. Но никогда еще на этих землях не бывало ничего подобного по масштабу экспедиции Беринга. Чтобы добраться до Якутска, им нужно было подняться вверх по течению Оби, пройти 74 километра волоком до Енисея, а затем достичь Лены и доплыть по ней до Якутска. Для каждой реки требовались новые лодки, это создавало для первооткрывателей новые трудности и препятствия.
В мае экспедиция снова отправилась в путь, спустив нагруженные лодки на быстрые воды Иртыша. Местами виднелись небольшие льдины, снег и ветер еще не прекратились – так началось долгое путешествие к востоку, к слиянию со следующей рекой, могучей Обью. Путешественники плыли ночами по быстрому течению под темным небом, иногда останавливаясь в маленьких деревеньках, чтобы согреться и отдохнуть. Через неделю пути вниз по реке при ужасном холоде и ветре 25 мая они добрались до места впадения в Обь. Лодки вытащили на берег, и плотники изготовили большие рули в дополнение к шестам и веслам. Периодически участникам экспедиции приходилось выходить на берег и тянуть огромные лодки против течения – это утомительная, неблагодарная работа; ветер бил в лицо, не было житья от кусачих насекомых и комаров. Почти месяц они добирались до притока Оби, Кети, и в июне дошли по этой мелкой, извилистой реке до острога Маковск, где стали готовиться к долгому волоку до Енисейска, торгового центра речной системы Енисея. Енисей был следующей большой рекой в путешествии на восток; туда добрались 20 июня. В Сибири их встречали куда менее сердечно, и Беринг заметил закономерность: местные чиновники по большей части сами себя считали властью и без всякого уважения относились к императорским указам из далекого Петербурга, города, которого они, возможно, никогда и не видели. Один комендант острога, когда к нему обратились за помощью, плюнул и бросил официальное письмо Беринга на землю. А в Маковске местные власти отказались помогать разгружать лодки для волока, заявив: «Вы все мошенники, и надо вас повесить»[17].
Беринг, однако, мог быть весьма властным и настойчивым, а кроме императорского письма, у него имелся небольшой отряд солдат, так что ему все же удалось добиться желаемого: экспедиции выдали десятки лошадей и телег для волока. Они пережили изматывающий переход, но в Енисейске их снова ждало разочарование. Губернатор предоставил дополнительных рабочих, но Беринг жаловался на «малое число годных, ибо многие были слепы, хромы и протчими болезньми одержимы»[18]. Лишь к середине августа они погрузили тонны снаряжения и припасов с телег на новые лодки и отправились по Тунгуске в сторону реки Илим, где снова сгрузили всё на берег и перенесли на лодки меньшего размера (несколько раз их снова пришлось тащить волоком против течения). Основная часть экспедиции добралась до Илимска 29 сентября, незадолго до того, как река замерзла. До следующей точки на карте, острога Усть-Кут на реке Лене, лежал путь в сто с лишним километров.
Зимой Беринг разделил отряд и отправил Шпанберга и тридцать человек с несколькими десятками вьючных лошадей вперед, чтобы они построили новые лодки и, когда весной лед оттает, были готовы проплыть почти 2000 километров по Лене на северо-восток, к Якутску. Предполагалось, что экспедиция доберется до Якутска еще до наступления зимы: они отстали от графика уже как минимум на полгода, пройдя лишь половину расстояния до Камчатки.
Беринг тем временем тоже не сидел зимой сложа руки: съездил на юг, в Иркутск, стоящий на озере Байкал, и расспросил иркутского воеводу об условиях в горах, лежащих между Якутском и Охотском. То была самая тяжелая часть путешествия. Регулярной или хотя бы сколько-нибудь проторенной дороги до Охотска через горы не существовало, а реки там были мелкими, извилистыми и полными стремнин. Через эти горы никогда еще не возили сотни килограммов снаряжения, и Беринг считал их самой большой проблемой во всем путешествии. Местные жители обычно преодолевали этот путь на санях, и дорога занимала от восьми до десяти недель в любом направлении. «[П]онеже выпадают великия снега на сажень, – сообщал Беринг, – а местами и болше и который, ходя зимою, каждой вечер для ночи выгребают снег до земли для теплоты»[19].
Лишь в июне 1726 года все участники экспедиции с грузом припасов добрались по реке Лене до Якутска, одного из самых крупных городов региона: на триста с лишним домов приходилось около трех тысяч жителей, не считая окрестного коренного населения, численность которого была в десять раз больше. Требовалось как можно быстрее продолжать путь, чтобы пересечь опасные, непредсказуемые горы до зимы, но все пошло не так. В Якутске их не ждали. Беринг глазам не поверил: он заранее отправил людей с официальными запросами на сотни лошадей, тонны зерна и десятки рабочих, но никто из местных чиновников даже не шевельнул пальцем. Командор пошел прямиком к губернатору и устроил скандал, в конце концов пригрозив, что главу города обвинят в провале всей экспедиции, он навлечет на себя гнев императрицы и как минимум лишится своего поста. Лишь после этого градоначальник все же выделил ему 69 человек и 660 лошадей – к вящему недовольству местных жителей, потому что на самом деле особых излишков в далеком от цивилизации Якутске не было. Что самое неприятное, жалованье участникам экспедиции тоже выплатить не смогли, так что начались недовольства.
Группа разбилась на отряды. Шпанберг первым вышел из Якутска на лодках, груженных примерно 150 тоннами муки и снаряжения, а также якорями и пушками – в общем, всем, что невозможно было перевезти по суше из-за сложного рельефа. С ним отправились более двухсот человек на дюжине свежепостроенных лодок. Затем Беринг послал вторую небольшую группу из Якутска и Охотска наземным путем и вскоре и сам последовал за ней со своим отрядом и караваном из сотен вьючных лошадей, многие из которых несли принадлежащие Берингу товары. Телеги и повозки были бесполезны на неровных, каменистых и крутых горных тропах. Чириков остался в Якутске до весны, ожидая последних поставок муки и других припасов.
Кавалькада Беринга – шумный, пыльный, пахнущий навозом караван тяжело нагруженных животных, – отправилась вверх по коварным горным тропам, затем спустилась вниз к Охотску. Погодные условия оказались поразительно тяжелыми, намного хуже, чем можно было бы предположить по сухому замечанию Беринга в рапорте: «А с каким трудом оною дорогою проехал, истинно не могу писать»[20]. Дневник Петра Чаплина, одного из младших офицеров, задачей которого было вести точные ежедневные записи событий, больше напоминает перечень проблем: список павших лошадей, нехватка еды, дезертиры, «мрачные» дни и «ледяные» утра. Лошади умирали от голода, потому что им негде было щипать траву; людям приходилось задерживаться и рубить карликовые деревца, чтобы проложить гати на болотистой земле, а иногда приходилось до шести раз в день пересекать вброд ледяные горные реки. Начиналась осень, и с ней пришли снегопады и убийственные холода. Три человека и десятки лошадей умерли; еще сорок шесть участников экспедиции дезертировали в ночи вместе с гружеными лошадьми. Часть припасов пришлось оставить прямо на дороге, чтобы вернуться за ними позже.
1 октября, после сорока пяти дней тяжелой дороги, Беринг с остатками каравана наконец добрался до Охотска и с ужасом обнаружил, что городок намного меньше, чем он предполагал, и совершенно не готов к его прибытию. Охотск был маленьким административным центром, в котором собирали дань; кроме нескольких коневодческих хозяйств, горстки хижин местных жителей и небольшого числа русских, размещавшихся в одиннадцати скромных домиках, там ничего не было. Так что вместо отдыха и восстановления сил Берингу и его людям пришлось срочно строить зимние дома и склады – непростая задача, учитывая, что большинство лошадей пали, так что бревна приходилось таскать вручную. А после этого им еще и нужно было построить корабль, на котором предстояло пересечь Охотское море и следующим летом добраться до Камчатки. Пока же они ловили в океане рыбу и добывали соль, чтобы заготовить говядину впрок. Беспокоило Беринга и то, что до декабря не было никаких вестей от Шпанберга; в конце концов тот с двумя сопровождающими добрался до Охотска и сообщил, что произошла катастрофа.
Речной путь, по которому шел Шпанберг, оказался намного хуже, чем наземный путь Беринга. Зима настала очень рано, в августе, и местные говорили, что таких суровых морозов не помнят уже много лет. Спустившись по Лене на лодках, Шпанберг продолжил двигаться вверх по рекам Алдан и Мая. Из-за множества стремнин людям приходилось идти по берегу и тащить за собой лодки на бечевах, пробираясь через густые кустарники и камни. Работа была настолько утомительной и тяжелой, что иногда за целый день они не проходили и полутора километров. К концу сентября сорок семь человек либо уволились, либо дезертировали, а затем лодки вмерзли в лед. Шпанберг, человек бесстрашный и изобретательный, занялся строительством зимних домиков и саней, тогда как его подчиненные становились все угрюмее, мрачнее и беспокойнее; назревал мятеж. Шпанберг принуждал к работе, угрожая розгами, – по традициям морской дисциплины. Чтобы можно было идти дальше на восток, он заставил работников разгрузить лодки: на девяносто саней уложили восемнадцать тонн снаряжения, и люди тащили их по снегу, который к концу октября уже стал глубиной по пояс. Вскоре они совершенно выбились из сил и стали выбрасывать из саней наиболее тяжелый груз – ядра, пушку, порох, корабельное оборудование. Когда-то ценные вещи стали балластом, мусором. К декабрю все страдали от голода – ели мясо павших лошадей, седельные сумки, ремни, башмаки и пояса. Шпанберг и двое крепких подручных ушли вперед, к расположенному на возвышенности Юдомскому Кресту. Место было ничем не примечательное, за исключением грубо вырезанного из дерева креста, который кто-то поставил на поляне. Дальше дорога до Охотска шла под гору. Несколькими месяцами ранее тем же путем шел Беринг: Шпанберг с сопровождающими нашли запасы муки, оставленные для них, поспешно вернулись к остальным и довели их до Юдомского Креста. Однако четверо по пути умерли от голода и холода. Оставив у креста тех, кто был уже слишком слаб, путешественники на сорока санях отправились вниз по реке к Охотску. Еды было так мало, что приходилось срезать куски мяса с замерзших мертвых лошадей, которых находили по пути. Наконец Шпанберг с двумя спутниками снова отправились вперед, днем и ночью пробиваясь через сугробы на легких санях, груженных самыми важными припасами, и добрались до Охотска 6 января. Примерно шестьдесят человек прибыли в город десять дней спустя.
Беринг отправил спасательные экспедиции, чтобы они прошли тем же путем обратно и доставили еду выжившим, но поначалу все отказывались идти: было темно, снежно и невероятно холодно, люди всерьез опасались за свои жизни. Командора, впрочем, это не остановило: он приказал построить виселицу и пригрозил повесить тех, кто откажется исполнять его указания. Спасательная экспедиция под началом Шпанберга, состоявшая из девяноста человек и шестидесяти семи собачьих упряжек, в конце концов вышла из города 14 февраля; многие недовольно роптали. У Юдомского Креста они нашли четыре замерзших трупа и спасли семь человек, которые уже не надеялись остаться в живых. Условия были столь невыносимыми, что двенадцать человек, нанятых в Сибири, вооружились ножами и топорами и дезертировали, едва добравшись до Юдомского Креста. Они сказали: «Не хочем так умереть, как другие умерли, и идем в город прямо, а там нас не остановить»[21]. В оставшиеся зимние и весенние месяцы Беринг отправлял поисковые группы за брошенными по дороге припасами, а остальные в это время строили корабль, который доставит их по Охотскому морю на Камчатку. К концу весны, впрочем, перед ними снова замаячила угроза голода. Весенний улов лосося оказался намного меньше, чем обычно, и люди сильно страдали от нехватки пищи, пока в июне не прибыл караван Чирикова, доставивший тонны муки и других припасов из Якутска.
Плотники всю зиму работали над новым кораблем, получившим название «Фортуна» как символ надежды на лучшее, и к началу июня он был готов к спуску на воду. Кроме того, плотники починили старый корабль под названием «Восток». Чириков вернулся в Якутск, чтобы привезти оттуда новые запасы муки и скота для экспедиции (он потерял всего 17 из 140 лошадей, при этом все люди выжили, и он не столкнулся ни с какими значительными трудностями). Шпанберг, приняв командование обоими кораблями и проделав путь в 630 морских миль по Охотскому морю, перевез сорок восемь человек (кузнецов, плотников и корабела) в маленький городок Большерецк, состоявший из четырнадцати скромных домиков, расположенный выше по течению реки Большой на западном побережье Камчатки. Высадившись, кораблестроители должны были пересечь полуостров, добраться до берега Тихого океана и там начать работу над кораблем, на котором предполагалось отправиться к северу. Ветры были благоприятными, так что Шпанберг привел оба корабля обратно в Охотск, 22 августа забрал Беринга и оставшихся людей и снова отплыл в Большерецк. Поскольку у них не было карт Камчатки (до них ее исследовали только русские, пришедшие туда с севера в XVII веке), они не знали, что это полуостров. Вместо того чтобы совершать еще одно тяжелое наземное путешествие, они могли бы обойти его на кораблях и доставить снаряжение прямо на тихоокеанское побережье.
Начался последний этап путешествия к Тихому океану. Оружие, припасы и инструменты с больших кораблей погрузили на лодки, чтобы подняться вверх по реке Большой. Далее планировалось волоком добраться до верховьев реки Камчатки, где располагался Верхнекамчатский острог, еще один русский аванпост, и пройти на собачьих упряжках или по реке 25 километров до Нижнекамчатского острога в северной части тихоокеанского побережья. Передовой отряд снова возглавил Шпанберг, а остальные в это время занимались погрузкой снаряжения, охотой, рыбалкой и подготовкой к переходу через горы на санях (зимой) и лодках (весной). Им предстоял тяжелейший поход – они тащили все снаряжение вверх по реке, затем волоком по суше, разгружая и загружая лодки сначала под дождем, а позже под снегом и сильнейшими ветрами. Беринг попытался нанять камчадалов погонщиками собачьих упряжек, но в остальном практически с ними не контактировал. Путешествие продолжалось много недель: караван из 85 саней несколько раз преодолел 800-километровое расстояние между Охотским морем и Тихим океаном и обратно.
Камчатка – это примерно 1200 километров поросшей лесами гористой местности, окружающей широкую центральную долину. Полуостров славится богатой фауной, особенно крупными бурыми медведями, а климат отличается холодным, влажным летом и морозными зимами. Снег там лежит с октября по май. С севера дуют арктические ветры, а вдоль обоих берегов проходят холодные морские течения. Влажность выше, чем в Сибири; самые высокие горы покрыты ледниками, а на берегах часто появляется туман. А еще Камчатка – самый активный вулканический регион во всей Евразии: здесь много действующих вулканов и несчетное количество гейзеров, выбрасывающих пар, и нередко случаются землетрясения и цунами. О камчатских бурях ходят легенды: один британский путешественник XIX века писал: «Пурга продолжилась с удвоенной яростью; облака мокрого снега клубились над болотом подобно темному дыму, и мы настолько окоченели от холода, что у нас стучали зубы. Снег, налетавший на нас с огромной силою, проникал под одежду, пробирался даже под наши шубы и в поклажу»[22]. Сам Беринг писал о камчатской экспедиции следующее: «Каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже живут великие метелицы, которые по тамошнему называются пурги, и ежели застанет метелица на чистом месте, а стану себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают»[23].
На всей Камчатке жило лишь около 150 русских, в основном – солдат и сборщиков налогов и дани, которые размещались в трех острогах. Оставшееся население составляли сходные в культурном и языковом плане камчадалы (ительмены) на севере и курилы на юге. Хотя Беринг должен был вести записи о коренных народах разных регионов Сибири, его вряд ли можно назвать этнографом.
Якуты имеют у себя скота довольно, лошадей и коров, а пропитанием и одеждою довольствуются все от скота, а которые скота мало имеют, оные рыбою; веру держат идолопоклонническую, кланяются солнцу, луне да изо птиц лебедю, орлу и ворону; имеют у себя в великой чести ворожеи, которые по тамошнему называются шеманы, они же у себя имеют болванов маленьких, а по их шайтаны [дьяволы]; а по признанию, что оные от татарской породы[24].
О Камчатке он записал следующее:
А народ Камчатский имеет обыкновение, когда захворает человек и пролежит немного, хотя и не при смерти, тогда выбрасывают вон и пропитания ему дают мало, то от голоду умирают[25].
Эти мрачные, но не слишком информативные наблюдения, почти всегда посвященные отрицательным аспектам культуры, отчасти были обусловлены тем, что экспедиция практически не контактировала с нерусскими или не подвергшимися русскому влиянию народами. До прибытия Беринга в острогах царило почти полное беззаконие, что привело к значительному снижению численности коренного населения Камчатки, которое ранее, возможно, составляло около двадцати тысяч человек. К концу XVIII века камчадалов осталось всего несколько тысяч; многие из них смешались с русскими, создав таким образом своеобразную отдельную культуру. Коренных жителей Камчатки, как и Сибири, часто заставляли не только платить дань в объемах, устанавливаемых Санкт-Петербургом, но и работать или оказывать разнообразные услуги сверх того. Это, конечно, было незаконно, но Камчатка находилась настолько далеко от столицы, что за честностью официальных лиц следить было некому. Экспедиция Беринга оказалась непосильной нагрузкой и для русских, и для камчадалов.
К весне 1727 года участники похода преодолели огромнейшее расстояние: для сравнения, по воздуху от Санкт-Петербурга до востока Камчатки лететь около 6800 километров. Но по земле этот путь в несколько раз длиннее: вверх и вниз по рекам, по сибирскому бездорожью, где приходилось временами возвращаться назад, по неровной гористой местности, и все это – в районе шестидесятой параллели. Путешествие уже длилось около трех лет. Именно расстояния и дикая, неосвоенная местность были главным препятствием для амбициозных планов Петра, мечтавшего сделать из России тихоокеанскую империю. Теперь же, добравшись до побережья Тихого океана, Беринг должен был решить следующую задачу: построить большое судно для выхода в открытое море и добраться до Северного Ледовитого океана.
К весне 1727 года участники похода преодолели огромнейшее расстояние: для сравнения, по воздуху от Санкт-Петербурга до востока Камчатки лететь около 6800 километров. Но по земле этот путь в несколько раз длиннее.
Шпанберг и его команда провели осень и зиму 1727 года у подножия могучего 4750-метрового вулкана Ключевская сопка. Они рубили лес близ небольшого поселения примерно в 160 километрах от берега, где росли самые высокие деревья, а затем сплавляли их по реке к месту, где работали корабелы и плотники. Другие готовили по местному рецепту вино из «сладкой травы» (борщевика шерстистого), вываривали из морской воды соль, взбивали масло из рыбьего жира, ловили и коптили лосося на древесной щепе. К концу апреля уже был готов каркас судна, и его начали обшивать досками. Корабль имел размеры 18 метров в длину и шесть в ширину, а высота от киля до палубы составляла около двух метров. За несколько недель были подготовлены мачты, паруса, такелаж и якоря, после чего на борт погрузили балласт, три пушки и запасы еды. Маленький корабль, названный «Св. Гавриил», спустили на воду в теплый день, 9 июля. На него погрузили годовой запас провизии для 44 человек, в основном привезенный издалека: 15 тонн муки, 3 тонны морских сухарей и 20 бочонков пресной воды; на месте они запасли 12 тонн рыбьего жира и 344 кг сушеной рыбы. Через четыре дня команда поднялась на борт, корабль отошел от берега и отплыл на 200 километров в открытый океан, а затем направился на север вдоль тихоокеанского побережья Камчатки, чтобы выполнить последнюю задачу грандиозной экспедиции.
Чириков вычислял широту и долготу и рисовал примерную карту местности. К его удивлению, береговая линия удалялась к северо-востоку. Они шли прежним курсом и несколько недель видели землю в виде гигантского сгустка тумана слева от себя. Останавливались лишь дважды, чтобы выйти на берег и найти пресную воду, потому что горы «по кампасу высоки зело и круты без разнства, как стена, а ис падей, лежащих меж гор, ветры переменные»[26]. Они отмечали все заметные ориентиры и изобилие морской живности – китов, морских львов, моржей, морских свиней. Часто шли дожди, сгущался туман. В конце июля «Св. Гавриил» прошел устье Анадыря. Погода оставалась благоприятной для мореплавания – хорошие ветра, без штормов. 8 августа впередсмотрящие увидели большую лодку из шкур; на борту было восемь человек, которые говорили на непонятном языке (скорее всего – на чукотском). Даже с помощью переводчика-камчадала Берингу не удалось узнать никаких сведений о том, что находится к западу или к северу, не считая того, что «сколько земли простирается в восточную сторону не знает… а потом сказал, что есть остров, которой в красный день отшед де недалече, отсюда к востоку, и землю видеть»[27]. Тем не менее они продолжили продвигаться на север и, достигнув 65-й параллели, увидели неспокойное море, простирающееся вплоть до горизонта – Студеное море. Пролив, через который они прошли, почти пятьдесят лет спустя, в своем третьем знаменитом путешествии, британский капитан Джеймс Кук назовет в честь Беринга. Первым по этому проливу проплыл русский путешественник, казак-торговец Семен Дежнев. В 1648 году он вместе с командой из девяноста человек на семи маленьких одномачтовых кораблях прошел 1500 морских миль от устья реки Колымы вдоль побережья Сибири и к югу вдоль Камчатки. Несколько кораблей потерпели крушение, многие моряки погибли, но примерно две дюжины путешественников добрались до Камчатки и основали небольшое торговое поселение. К сожалению, скудные отчеты об этом путешествии не дошли до Москвы и даже до российских чиновников на землях восточнее Якутска, так что история о смелой, смертельно опасной экспедиции оставалась неизвестной до 1736 года и Берингу никак не помогла.
13 августа командор решил, что они забрались уже достаточно далеко к северу, чтобы выполнить данный ему приказ. По русской традиции он собрал офицеров в своей каюте на совещание. В русском флоте любые важные решения принимались коллегиальным путем, а не единолично капитаном. Он спросил их: удалось ли им ответить на вопрос о существовании перешейка между Азией и Америкой? Мнения его подчиненных разнились. Чириков хотел плыть дальше и, возможно, даже перезимовать в этих водах; Шпанберг предложил идти на север еще три дня, а затем вернуться, потому что нигде не наблюдалось гавани, в которой можно было бы безопасно бросить якорь и пережить арктическую зиму. Беринг указал, что практически все побережье, сколько они плыли на север, было гористым («Берег тянется высокой каменной стеной»[28]) и постоянно покрыто снегом. Он не хотел, чтобы корабль вмерз в лед или потерпел крушение на этом пустынном, неизвестном берегу, и подозревал, что вскоре они наткнутся на морской лед.
После дискуссии и изложения аргументов Чирикова и Шпанберга в письменном виде Беринг сделал свой выбор и указал его причины:
Ежели больше ныне будем мешкать в северных краях, опасно, чтоб в такия темные ночи и в туманы не прийтить к такому берегу, от котораго неможно будет для противных ветров отойтить, и розсуждая о обстоятельстве судна, понеже шверец и лейваглен изламан, также трудно нам искать в здешних краях таких мест, где зимовать <…> А по моему мнению, лутче возвратитца назад и искать гавани на Камчатке к прозимованию[29].
Беринг был осторожным и знающим командиром, а не азартным любителем рисковать; возможно, именно поэтому Петр I выбрал его главой экспедиции – эти же черты помешали ему прославиться во время войны. Он отличался прагматичностью и целеустремленностью, всегда думал о том, что можно сделать с максимальной безопасностью и наибольшими шансами на успех. В данном случае, скорее всего, его оценка рисков и выгод была верной: если на этих берегах с ними случится несчастье, то вся информация пропадет, и больше никаких исследований не будет. Беринг, судя по всему, считал, что его задача – проложить дорогу для дальнейшего усиления присутствия России в Тихом океане. Ресурсы, чтобы двигаться дальше, были на исходе, и он небезосновательно полагал, что никаких ценных данных уже не получить. Они еще три дня плыли на север, как предложил Шпанберг, но, ничего не найдя, повернули назад, на юг, и прошли Берингов пролив. Из-за постоянной облачности и туманов никто на корабле не увидел побережья Аляски.
Историки, недовольные работой Беринга, потратили немало чернил на споры, был ли глава экспедиции слишком робок или слишком рано повернул назад, должен был он идти дальше или искать землю на востоке, не слишком ли полагался на мнения местных жителей. Но в то время об этой земле не было известно вообще ничего, а открытия, скорее всего, в его планы не входили. Его отправили в первую очередь для того, чтобы проложить дорогу по Сибири для будущих, более масштабных и лучше оснащенных экспедиций, и составить карту побережья Камчатки, а не рисковать всем в надежде, что команда сможет найти новую землю или пережить полярную зиму.
На обратном пути они встретили четыре большие лодки из шкур, на борту которых находилось примерно 40 чукчей, но, как и в прошлый раз, общение без переводчика оказалось практически невозможным, хотя им и удалось понять, что где-то к востоку лежит большая земля или остров. Тем не менее получилось наладить торговые отношения: на металлические инструменты и иглы экспедиция выменяла у чукчей мясо, рыбу, пресную воду, песцовые шкурки и клыки моржей.
2 сентября, после нескольких дней непогоды, «Св. Гавриил» вошел в устье реки Камчатки. Плавание в открытом море длилось пятьдесят дней; через месяц корабль вмерз в лед. Они провели зиму, ремонтируя корабль и готовясь к обратному путешествию. Беринг хотел проплыть к югу вдоль берега Камчатки, чтобы узнать, насколько далеко простирается полуостров и нельзя ли будет добраться до Охотска прямо на «Св. Гаврииле», избежав еще одного тяжелейшего путешествия через горы. Зимой Беринг пообщался с русскими, жившими на Камчатке много лет, и узнал о таинственных землях к востоку, с лесами, большими реками и людьми, выходящими в море на таких же лодках из шкур, как у них. Эти рассказы заставили его задуматься. Когда в мае лед на реке сошел, они приготовились к отбытию, но Беринг решил сначала проплыть четыре дня на восток, чтобы узнать, действительно ли неподалеку есть земля. Бури заставили его повернуть назад, так ничего и не обнаружив, он подобрался очень близко к уединенному пустынному островку. Спустя двенадцать лет он снова окажется там при совсем иных обстоятельствах.
24 июля Беринг вернулся в Охотск с большей частью экипажа. Обратное путешествие, в котором уже не нужно было везти с собой тонны снаряжения, с куда меньшим число работников, прошло быстро и без происшествий, по уже известному маршруту. 11 января они вошли в Тобольск и доложились местным властям. Беринг задекларировал товары, полученные в результате торговли, и заплатил положенные пошлины. В Санкт-Петербург они вернулись 28 февраля 1730 года, почти ровно через пять лет после отъезда. Его, Шпанберга и Чирикова повысили в звании, и все трое вернулись к своим семьям. Но далеко не всем так повезло. Пятнадцать человек погибли, в основном от голода и холода, а большинство из 660 лошадей, задействованных в экспедиции, пали, что стало серьезным ударом по бюджету Якутска и по состоянию конезаводчиков. Ущерб, причиненный экспедицией местной экономике, был столь велик, что кое-где даже начались волнения. На Камчатке в 1730-х годах, после того как Беринг забрал с собой людей и погонщиков собак, и вовсе вспыхнуло восстание; Нижнекамчатский острог был сожжен, после чего начались репрессии против коренного населения.
Тем не менее, прежде чем покинуть Камчатку, Беринг нанес на карту юго-восточное побережье полуострова и нашел залив, идеально подходящий для будущей гавани, – его назвали Авачинской губой. Уже тогда он понял, что должен туда вернуться и раскрыть географические загадки этого далекого края.
Глава третья
Грандиозные планы
Одной из самых выдающихся черт характера Петра Великого было ненасытное любопытство. Именно это любопытство побудило его силой навязать российскому обществу коренные перемены, которые разрушили старый порядок и повлекли за собой реформы, преобразившие страну. Даже проезжая в карете или верхом по маленькому захолустному городку, он всегда спрашивал местных жителей, на что стоит посмотреть, есть ли поблизости что-нибудь необычное. Если ему говорили, что ничего интересного в этой местности нет, он отвечал: «Почем знать? Может быть, это вам только так кажется; мне надобно самому ее посмотреть»[30]. Благодаря подобному подходу в Европе он заинтересовался не только коммерцией, военной стратегией и технологией, но и искусствами и науками. Он призывал русских ехать за рубеж и получать образование в европейских учебных заведениях, в частности, для того, чтобы освоить технические и научные специальности, знатоков которых тогда не хватало в России, и финансировал математические, артиллерийские, инженерные и медицинские школы.
Самые большие средства Петр вложил в создание Российской академии наук в Санкт-Петербурге, которая даже почти триста лет спустя остается самым уважаемым научным учреждением в России. Он хотел создать учебное заведение, равное европейским, чтобы русские могли получать образование на родине, что, как он надеялся, должно было ускорить процесс модернизации российской экономики. Знаменитый немецкий ученый Готфрид Лейбниц, основатель Берлинской академии наук, подал Петру эту идею еще в ранние годы его правления, но император долго откладывал основание Академии наук и открыл ее лишь 28 января 1724 года, за год с небольшим до смерти. В его представлении учреждение должно было напоминать университет. Первые профессора Академии, нанятые в Германии, Швейцарии и Франции, обучали русских и немецких студентов и занимались собственными исследованиями. Среди них были историки, юристы, философы, химики, математики, астрономы и доктора медицины. Хотя Петр умер еще до того, как все эти ученые мужи прибыли в Россию и стали преподавать, Академия стала играть для государства именно ту роль, которую отводил ей Петр: она формировала интеллектуальную жизнь страны, повлияв в том числе на исследование неизвестных земель на востоке.
Последний декрет об основании Академии был подписан вдовой Петра Екатериной I. Она правила лишь два года, но именно при ней в академию из Франции, Германии и Швейцарии прибыли первые шестнадцать профессоров с семьями. Первые восемь студентов Академии тоже приехали из других европейских стран, но их ряды быстро пополнялись. Когда русский двор ненадолго переехал обратно в Москву, Академия утратила прежнее влияние, и многие профессора были вынуждены возвратиться домой, потому что им не выплачивали жалованья. Тем не менее Академия наук оставалась ценнейшим учреждением, само существование которого повышало престиж России в глазах европейцев. Вскоре усилия многих ее ученых были направлены на решение совершенно новой задачи, очень далекой от мира кабинетных академиков.
Когда Беринг после пятилетнего отсутствия вернулся в Санкт-Петербург, политическая ситуация значительно изменилась. Императрица Екатерина, коронованная незадолго до его отъезда, умерла в 1727 году, и ее наследником стал Петр II; он скончался от оспы в возрасте четырнадцати лет 19 января 1730 года, за несколько месяцев до возвращения Беринга. Новой императрицей стала Анна Иоанновна, племянница Петра I. Она вернула русский двор в Санкт-Петербург и продолжила реформы Петра, в том числе реорганизацию институтов власти, строительство новой столицы и поддержку наук и искусств. При этом ее правление часто рассматривается как «мрачная страница» российской истории. За пышными балами и тратами на постройку грандиозных дворцов скрывались тяжелейшие страдания крестьян и бесконечные войны с Польшей и Турцией. Но недобрую славу императрице обеспечил ее собственный эксцентричный и резкий характер. Она стреляла по животным прямо из окон дворца и была очень груба и жестока с людьми, которых считала ниже себя, прилюдно высмеивала и унижала инвалидов и калек. С наказаниями и наградами она бросалась из крайности в крайность, назначая их едва ли не произвольным образом, и это усиливало атмосферу страха и неизвестности. Саксонский посол граф Иоганн Лефорт сравнивал русский двор тех лет с плывущим кораблем: «буря готова разразиться, а кормчий и все матросы опьянели или заснули… и никто не думает о будущем»[31].
Анна Иоанновна очень любила назначать на высокие и престижные должности иностранцев. В первые месяцы правления она сослала в Сибирь нескольких аристократов, которые, как считалось, выступали против чужеземцев. Подобное поведение злило и деморализовало русских, но вот для Беринга ее предпочтения оказалась весьма кстати: он собирался снова вернуться в Сибирь и на Камчатку, построить там большие океанские суда и исследовать западное побережье Америки. В Академии наук, при дворе и в Адмиралтействе шептались, что Беринг недостаточно храбр и не представил убедительных доказательств того, что Азия не связана с Америкой, кроме того, и не сообщил ничего нового о большой земле, слухи о которой ходили уже достаточно давно. Он же возражал, что не обладал достаточными ресурсами, чтобы сделать больше, чем то, что уже сделал, и указывал на неблагоприятные условия, в которых пришлось работать. Также Беринг подчеркивал отличное качество новой карты Сибири и ценность его записок о местных погодных условиях.
И Беринг, и его жена были очень амбициозны, и Анна постоянно старалась помочь мужу, используя свои семейные и дружеские связи в Санкт-Петербурге и Москве. Командору пожаловали дворянское звание, его представили к награде. Благодаря его славе и доходам от частной торговли в Сибири семья разбогатела. Вместе с двумя сыновьями, шести и восьми лет, которые едва помнили отца, они поселились в роскошном доме в модном районе, завели слуг и вовсю наслаждались новым общественным положением. Особенно Анна гордилась тем, что теперь не уступала по статусу младшей сестре. Супруги считали себя настолько удачливыми и богатыми, что Беринг даже раздал наследство, полученное от родителей, беднякам родного города Хорсенса.
Через несколько месяцев, 30 апреля 1730 года, Беринг представил Адмиралтейств-коллегии подробный отчет о Первой Камчатской экспедиции и предложение по организации второй. Первая экспедиция, по его мнению, пострадала из-за слишком большого количества непредвиденных факторов и недооценки поджидавших трудностей, так что вторая казалось совершенно очевидным делом: она должна быть лучше спланирована, экипирована и укомплектована. Беринг знал, что новый поход завершится успешно, только если его возглавят те же люди, что и первый. С точки зрения правительства он явно был наиболее предпочтительным кандидатом, наряду с заместителями Шпанбергом и Чириковым.
Несмотря на тяжелейшие условия, угрозу голода, ужасные холода и немалую вероятность умереть в путешествии в неизведанные земли, в эти тяжелые времена экспедиция открывала большие возможности. Сибирь манила свободой и возможностью оставить заметный след в истории, добиться определенной славы и уважения за вклад в географическую науку. Вторая экспедиция помогла бы одновременно и продолжить карьерный рост, и удовлетворить жажду приключений.
Беринг отправил императрице свои планы.
1. Понеже, выведывая, изобрел, что далее оста, то море волнами ниже подымаетця, також и на берег острова, именуемаго Карагинской, великой сосновой лес, которого в Комчатской земле не растет, выбросило, и для того я признаваю, что Америка или иные между оной лежащия земли не очень долеко от Комчатки, в растоянии, быть может, и по мнению моему, например, 150 или 200 миль быть имеет, и буди подлинно так, то можно будет установить торги с тамошними обретающимися землими к прибыли Росиской империи, а того до прямо можно будет доискиватца, ежели построить судно величиною, например, от 45 до 50 ластов.
2. Оное судно бы надлежало построить при Камчатке, за тем что требуемыя на строение леса тамо качеством и годностию лутче достать можно, нежели инде, також и на пищу служителям рыбы и ловчих зверей тамо способнее и дешевле можно преобресть, да и больше вспоможение от камчадалов, нежели от обывателей в Охоцком получить можно, сверх же того, рекою Камчаткою, за глубокостию в устье, лучше можно судами проходить, нежели рекою Охотою.
3. Не без пользы бы было, чтоб охотцкой или комчаточной водяный проход до устья реки Амур и далее до японских островов выведывать, понеже надежду имеют, что тамо нарочетыя места можно находить, и с теми некоторые торги устоновить, також, ежели возможность допустит, и с японами торг завесть, чего б не к малой прибыли Росийской империи впредь могло оказатися, а за неимуществом судов в тех местах можно будет и из поподаемых навстречю японских судов побирать, да к тому ж еще можно одно судно при Комчатке такою величиною, как выше упомянул или хотя и меньши, построить.
4. Иждивение на сию экспедицию, окроме жалованья и правианта, також и окроме матриалов, на обои суда, которых там достать неможно, а отсюда, из Сибири, привезены быть имеют, оное может обойтися и транспортом в 10 или в 12 тысяч рублев.
5. Ежели за благо разсуждено будет, севернее земли или берег от Сибири, а имянно от реки Оби до Енисея, а оттуда до реки Лены, к устьям оных рек можно свободно и на ботах или сухим путем выведывать, понеже оные земли под высокою державою Российской империи суть.
Нижайшее помышление не в указ, ежели иногда восприиметца намерение посылать в экспедицию, а особливо от Комчатки к осту. Не ранее 4 декабря 1730 г.[32]
Предложение территориальной и коммерческой экспансии с минимальными затратами не могло не заинтересовать правительство. Новые земли открывали перспективы основания морских баз и поиска драгоценных металлов. Императрица Анна не желала отступать от грандиозной задачи по расширению зоны влияния на восток, задуманной Петром Великим. С этого момента начались два года планирования.
Исходное предложение Беринга было предельно простым: построить корабли и открыть морской путь с Камчатки в Америку. Однако он с неохотой признавал, что необходимо принять во внимание и другие интересы Российского государства, чтобы оправдать расходы на экспедицию. Он собирался первым пройти до Японии через Курильские острова и составить их карту, а также провести картографические работы на северном побережье Сибири. За два года планирования масштабы экспедиции заметно выросли благодаря предложениям и интересам нескольких ключевых действующих лиц: графа Николая Головина, президента Адмиралтейств-коллегии, Ивана Кирилова, обер-секретаря Сената и большого любителя географии, и графа Андрея Остермана, дипломата при дворе императрицы Анны. Кирилов считал, что вторая экспедиция поспособствует увеличению территории империи и, несмотря на затраты, принесет России «неисчерпаемые богатства». Он весьма оптимистично полагал, что многочисленные сибирские реки представляют собой просто не доведенную до ума систему каналов и создают перспективы для развития транспорта. Вторичные цели экспедиции были не географическими, а политическими и колониальными: участники должны были укрепить и расширить присутствие Российского государства в регионе, создав карты, выстроив инфраструктуру, обеспечив сбор дани или налогов и стимулируя торговлю. Согласно официальным инструкциям императрицы Анны, Сенат «[определил], довольно разсуждая, дабы та экспедиция действительно в пользу вашего и[мператорского] в[еличества] и к славе Российской империи»[33].
В 1732 году императрица Анна и Сенат издали серию указов, в которых излагались цели и структура новой экспедиции. 17 апреля 1732 года официальным приказом Сената Беринг был утвержден командиром; 2 мая описаны общие планы экспедиции; 15 мая вышел приказ Адмиралтейств-коллегии о снаряжении экспедиции и назначении Витуса Беринга руководителем, а Чирикова – его заместителем. 28 декабря 1732 года императрица Анна отправила новые подробные приказы и официально подписала указ о начале Второй Камчатской экспедиции[34]. В знак признания ожидающих впереди трудностей и невзгод троих главных командиров, Беринга, Чирикова и Шпанберга, повысили в звании: Беринга до капитан-командора, двоих остальных – до капитанов, еще восьмерых офицеров произвели в лейтенанты. Им вдвое повысили жалованье и выдали деньги на два года вперед. Берингу также приказали действовать «с общего согласия с капитаном Чириковым по науке морской»[35]. Это указание не дало четкого понимания, кто должен быть главным, если взаимного согласия добиться не удастся.
Великая Северная экспедиция, как иначе называют Вторую Камчатскую экспедицию, стала одним из самых грандиозных научно-исследовательских проектов за всю историю. Основываясь на скромных предложениях Беринга о проверке неубедительных результатов первого путешествия, вторую экспедицию подготовили с небывалым размахом, чтобы продемонстрировать Европе грандиозность и прогрессивность России. Планирование все затягивалось и затягивалось, масштабы экспедиции росли, и Беринг начал беспокоиться. К тому времени как в декабре 1732 года Беринг увидел окончательные инструкции, изначальное предложение превратилось в предприятие, выходившее далеко за пределы его представлений. Он должен был возглавить команду из нескольких тысяч человек: ученых, секретарей, студентов, переводчиков, художников, геодезистов, морских офицеров, матросов, солдат и квалифицированных рабочих; всех их нужно было доставить к восточным берегам Азии, пройдя тысячи километров по лишенным дорог лесам, болотам и тундре, опять-таки, везя с собой огромный груз снаряжения и припасов, которые невозможно было приобрести в Сибири. Как и в прошлый раз, им предстояло перевозить инструменты, железные болванки, парусину, солонину, книги из нескольких личных библиотек и научные приборы. Они должны были пройти по Восточной Сибири, по сути, тем же самым трудным путем, что и в ходе Первой Камчатской экспедиции.
Цель экспедиции тоже значительно усложнилась. Перед участниками стояла задача раскрыть многочисленные тайны Сибири, а потом пройти по неизведанным просторам северной части Тихого океана. Добравшись до Охотска, Беринг должен был снова построить два корабля, отправиться на Камчатку, а оттуда – на восток к Америке и пройти максимально к югу, составив карту побережья. Одновременно ему приказали соорудить еще три судна и исследовать Курильские острова, Японию и другие области Восточной Азии. Это были самые разумные и практичные инструкции. Также приказано было заселить Охотск русскими, организовать скотоводство на побережье Тихого океана, создать начальные и навигацкие школы в далеких городках, построить верфь для океанских кораблей, определить астрономические позиции по всей Сибири для дальнейшего составления карт, а также основать железные рудники и плавильни, удовлетворив потребности губернии в металле и избавив государство от чудовищных затрат на его перевозку. Неудивительно, что, несмотря на титанические усилия Беринга, в реальности на осуществление этих планов потребовались усилия нескольких поколений. Беринг считал, что эта экспедиция станет славным окончанием его карьеры и войдет в историю, но серьезно недооценил масштабы предприятия и количество связанных с ним проблем.
По иронии судьбы, примерно в это же время, в 1732 году, западные острова Аляски были обнаружены другим русским мореплавателем Михаилом Спиридоновичем Гвоздевым, путешествовавшим на «Св. Гаврииле», старом корабле Беринга. Гвоздев участвовал в небольшой военной экспедиции, отправленной с целью наказать камчатских чукчей, которые разрушили русские аванпосты и отказались платить дань; скорее всего, восстание началось из-за того, что Беринг требовал слишком много продуктов и не оплачивал труд наемных работников в ходе Первой Камчатской экспедиции. В августе Гвоздев увидел берега Аляски и встретил человека в каяке, а затем вернулся обратно на Камчатку.
Организацией похода занимался Российский императорский флот, но экспедиция Беринга не была обычной морской операцией, и ее лидерам лишь через много лет довелось применить на деле свои навыки мореходов. Вместо того чтобы управлять кораблем, Беринг снова отправился в почти 10 000-километровое путешествие по Сибири, и в основном ему приходилось проявлять организаторские способности: заниматься подбором персонала, логистикой караванов и речных барж, переговорами с местными властями. Кирилов, обер-секретарь Сената, был мечтателем, который считал Россию новой мировой державой. Он хотел отправить в Охотск нового градоначальника, чтобы тот подготовил город к прибытию экспедиции и начал строительство кораблей. Должность, ради которой пришлось бы покинуть пределы известного мира и поселиться в отдаленных регионах Сибири, оказалась малопривлекательной. Охотск не был хлебным местом и особого энтузиазма у государственных служащих не вызывал. В конце концов, в Сибирь ведь отправляют только в изгнание, верно? Лучшим кандидатом (или, вернее будет сказать, лучшим из худших), которого удалось найти Берингу и Кирилову, оказался Григорий Скорняков-Писарев, в те годы живший в ссылке в небольшой деревеньке на реке Лене к северу от Якутска.
Писарев был отлично образован, и при Петре I его могла ждать многообещающая карьера, но он оказался замешан в заговоре. Его объявили предателем и отправили в Сибирь. Когда-то он был действительно выдающимся руководителем, но на новую должность его назначили, не посоветовавшись ни с ним самим, ни с кем-либо еще, кто знал его в течение пяти лет ссылки. Беринг и Кирилов не предполагали, что Писарев превратился в распутного, лишенного всякого честолюбия лентяя, что неудивительно, учитывая, что после опалы он почем зря растратил все свои таланты в Сибири. Тем не менее ему был отправлен приказ, уведомляющий о новых обязанностях. Писарев должен был прибыть в Охотск и принять руководство городом, а также всей Камчаткой. Перед ним стояла задача превратить Охотск в значимый порт, через который можно было бы вести регулярную торговлю со всем полуостровом. Он должен был построить новую верфь, церковь, казармы и дома, а также привезти в окрестности Охотска поселенцев из числа русских и тунгусов, чтобы наладить скотоводство, овцеводство и земледелие. Ради выполнения этой задачи Писарев обязан был выпустить сотни людей из долговых тюрем в Якутске и доставить их в Охотск, чтобы задействовать в работах. Откуда Берингу и Кирилову было знать, что Скорнякова-Писарева теперь трудно вывести из спячки, и он больше не питает никаких теплых чувств к своему правительству? Собственно, он скорее мешал, чем помогал; даже в Охотск прибыл лишь в 1735 году, незадолго до того, как до города добрался Шпанберг с передовым отрядом экспедиции, рассчитывавший, что их уже ждет готовая инфраструктура[36].
Самое значительное отличие второй экспедиции от первой заключалось в гораздо более обширных научных задачах. Согласно указу от 2 июня 1732 года Академии наук предписывалось отобрать ученых для участия в экспедиции, чтобы изучить, как выразился Герхард Фридрих Миллер, «какие звери, произращения и минералы усмотрены будут»[37]. Работа академиков заключалась в том, чтобы расширить известные знания о Сибири и составить подробное описание всего, что они смогут найти или встретить: флоры, фауны, минералов, торговых путей, коренных жителей, экономических возможностей. То было грандиозное научное предприятие, но, вместе с тем, это была наука на службе государства, имперская наука, а не отвлеченные исследования кабинетных интеллектуалов.
Беринга беспокоили все растущие масштабы экспедиции еще в период планирования. Новые цели все прибавлялись и прибавлялись; все они, несомненно, представляли огромную ценность – с этим никто не спорил, – но как Беринг должен был все это организовать, оставаясь капитаном корабля, отправляющегося в исследовательское плавание? Научная составляющая, хоть она и должна была повысить престиж государства, усложнила все еще больше. Даже удвоенное жалованье не компенсировало возросшей ответственности и фантастически сложной логистики. Один из младших офицеров Беринга, лейтенант Свен Ваксель, передает его слова: «Нехитрое дело загнать людей в места, где они сами могут себя пропитать, а вот обеспечить их содержание на месте – это дело, требующее предусмотрительности и разумной распорядительности»[38]. Это наблюдение, несомненно, было вдохновлено огромными расстояниями, примитивными условиями быта, разреженным населением и суровым климатом Сибири, где достать хорошую еду очень трудно. Беринг отлично знал, какие сюрпризы могут ждать в Сибири неподготовленный отряд.
Отряд ученых возглавили три выдающихся профессора Академии наук: Иоганн Георг Гмелин, Герхард Фридрих Миллер и Людовик Делиль де ла Кроер. Гмелин был молодым немецким натуралистом, химиком и минералогом из Вюртемберга, который переехал в Санкт-Петербург в 1727 году и преподавал там химию и естественную историю. Он живо интересовался новыми животными и растениями. Кроме того, коллеги попросили его разузнать, действительно ли у сибирских мужчин из сосков выделяется молоко (ходили такие слухи) и умеют ли они двигать ушами. Миллер – немецкий историк и географ, работавший в Санкт-Петербурге с 1725 года. Ко времени экспедиции ему уже было за тридцать, он имел звание профессора и прославился своими изысканиями в области русской истории. Собратья по научному миру недолюбливали его за высокомерие (он очень гордился своим званием и другими достижениями) и за привычку спорить с коллегами, на которых он смотрел свысока. На портрете Миллер предстает ухоженным толстяком, явно не готовым к тяжелым сибирским условиям. «Объявил и я, – писал он, – свое желание к сочинению сибирской истории, к описанию древностей, нравов и обыкновений народов, также и приключений самого путешествия»[39]. Третьим лидером академического отряда, самым старшим из коллег, стал французский астроном и географ Людовик Делиль де ла Кроер, элегантный и задумчивый; ему на тот момент исполнилось около сорока пяти лет. Он был братом знаменитого французского картографа и географа Жозеф-Никола Делиля, на картах которого рядом с берегом Камчатки ошибочно изображался огромный остров. Кроер уже бывал в Сибири в конце 1720-х годов, во время Первой Камчатской экспедиции. Некоторые позже жаловались, что он совсем не подходил на должность географа и в общем мало что умел.
Как ни странно, трое профессоров подчинялись непосредственно Академии наук. Формально они не находились под началом Беринга; более того, из дальнейших событий может показаться, будто они считали, что это Беринг должен им подчиняться. Ученые, их помощники, сопровождающие и оборудование значительно увеличили размер экспедиции, которая к тому времени уже стала напоминать группу переселенцев, собирающихся основать новое русское общество на севере и западе Азии, а не отряд исследователей-географов. Основной состав отряда включал более пятисот человек: офицеров, ученых с помощниками, художников, геодезистов, студентов, лодочников, плотников, кузнецов, рабочих и так далее. С ними отправились около пятисот солдат, чтобы поддерживать порядок и гарантировать, что приказы начальства будут исполняться. Кроме того, Беринг рассчитывал, что в Сибири удастся нанять до двух тысяч работников – добровольно или силой. Ученым, в частности, требовалось очень много поклажи. Многие ученые, военные и офицеры, в частности Беринг, Чириков, Шпанберг и Ваксель, взяли с собой жен и детей, что также заметно увеличило тоннаж снаряжения, которое предстояло везти по двум континентам. И, конечно же, снова пришлось брать с собой все то, из-за чего так медленно и тяжело продвигалась первая экспедиция, – материалы и инструменты для постройки кораблей, одежду и промышленные товары, необходимые для путешествия, которое, как считалось, займет не менее десятилетия. Среди необычного оборудования значились 28 железных пушек, геодезические, астрономические и геологические инструменты (в основном сделанные из тяжелой бронзы) и другие приборы для измерения климатических показателей и температуры. Экспедицию сопровождали тысячи лошадей и сотни собак. На ключевых водоразделах нужно было строить лодки. Даже на бумаге задание казалось невероятно сложным.
Беринг был против участия в экспедиции ученых – не только потому, что не хотел лишней ответственности, но и просто из-за того, что считал, что такому огромному отряду не хватит пищи и крова в малообитаемом регионе со скромными жилищными условиями. Он отлично помнил реалии Сибири времен первой экспедиции: суровую погоду, отсутствие крупных городов, плохо развитое земледелие, малочисленное и рассеянное по огромной территории население. Охотск, в котором Скорняков-Писарев должен был к прибытию экспедиции выстроить инфраструктуру, был всего лишь кучкой домишек в продуваемой всеми ветрами долине, поросшей грубой травой и карликовыми деревьями, с песчано-каменистой, неплодородной почвой. Участники первой экспедиции едва не умерли с голоду, дожидаясь весенней миграции лосося. Как тысячам людей искать еду, где зимовать? В самом большом сибирском городе, Тобольске, расположенном чуть к востоку от Уральских гор, живет всего 13 000 человек, и это больше, чем в любом другом поселении в Сибири. Население Якутска тогда составляло около 4000 человек, не считая нескольких тысяч коренных жителей в окрестностях. При этом командиры, в частности трое ученых и их ассистенты, весьма настойчиво требовали положенных им по статусу удобств, кроме того, они взяли с собой немало вещей, которые на самом деле не требовались ни для путешествия, ни для научной работы и нужны лишь для личного комфорта: много вина и настоек, столовое белье и приборы, одежду, библиотеки и так далее. Назревал конфликт. Между возможностью и ожиданиями зияла пропасть, а ответственным за несбывшиеся мечты и ожидания считали Беринга.
Как этот чудовищный спрут с перепутавшимися щупальцами, у каждого из которых были свои требования, интересы и задачи, должен был пересечь два континента, не погибнув от голода, доставить все свое снаряжение в Охотск, а потом еще и выжить там? У Беринга тоже хватало ресурсов и важных связей, и он обсудил этот вопрос со своим свояком Сандерсом и его командиром из Адмиралтейств-коллегии, графом Николаем Головиным – одним из трех человек, чьи мечты превратили экспедицию во что-то невообразимо огромное. После множества встреч в Москве и Санкт-Петербурге, обсуждения вариантов и приблизительных подсчетов, а также после доклада Беринга об условиях путешествий в Сибири, которые трудно было по-настоящему оценить людям, там не бывавшим, Головин отправился к императрице с радикальным предложением[40]. Он решил принять командование над несколькими кораблями и отправиться из Санкт-Петербурга на запад в Атлантический океан, затем на юг, обогнуть мыс Доброй Надежды, пересечь Индийский океан, повернуть на север и по Тихому океану добраться до Охотска или Авачинской губы на Камчатке, доставив необходимые припасы. Это продемонстрирует миру, утверждал он, морское могущество России и ее способность организовать долгое и далекое путешествие (лишь несколько десятилетий спустя Джеймс Кук отправится в свои знаменитые путешествия по южной и северной части Тихого океана). Сотни молодых русских моряков пройдут подготовку в суровых океанских условиях, и это немало поможет основанию новых колоний в Тихом океане и укрепит репутацию России как могучей империи. Кроме того, участники экспедиции построят морскую базу и форт, чтобы защитить новые торговые пути в Японию, и, помимо всего прочего, организуют на Камчатке скотоводство и земледелие. На бумаге все выглядело весьма заманчиво, в том числе и потому, что это помогло бы России опередить Великобританию в деле освоения Тихого океана; к тому времени уже было известно, что голландцы часто ходят этим маршрутом и торгуют с японцами в Нагасаки.
Но пыл Головина быстро остудили: русскую экспансию в Тихом океане нужно было сохранять в тайне от других европейских держав – они могут решить, что Россия хочет отбить у них славу первооткрывателей, и попытаются ей помешать. Кирилов заявил, что, по его мнению, пересечь Сибирь будет просто, даже со всеми тоннами припасов и снаряжения, благодаря многочисленным «естественным каналам», соединенным всего тремя волоками. Похоже, он просто не поверил докладу Беринга о мучительных трудностях предыдущей экспедиции – тому, как все едва не умерли с голоду, а на этих каналах и «простых волоках» погибали люди. Так или иначе, кругосветное плавание обошлось бы государству в колоссальную сумму, и предложение Головина отклонили. В официальной записке Адмиралтейств-коллегия заверила Сенат, что экспедиция полностью продумана, все возможные проблемы известны и предприняты необходимые действия, чтобы «провиант и прочее отправить в путь со всяким поспешением» в Сибирь. Более того, власти Тобольска, Иркутска и Якутска получат официальные сообщения и предоставят Берингу всю необходимую помощь, «дабы оные к прибытию капитан-командора Беринга были в готовности»[41].
Часть вторая
Азия
На этой гравюре из атласа XVIII в. изображена печально знаменитая дорога для вьючных животных от Якутска до Охотска. «А с каким трудом оною дорогою проехал, истинно не могу писать»[42], – сообщал Беринг в докладе
Прекрасная естественная гавань в Авачинской губе. Иллюстрация из книги Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (1755)
Якутка с ребенком верхом на воле, из атласа XVIII в. Многие якуты оказались доведены до нищеты принудительными работами и требованиями предоставить лошадей для Великой Северной экспедиции
Караван собачьих упряжек в северных районах Камчатки, из атласа XVIII в. Для перевозки снаряжения для Великой Северной экспедиции по Камчатке их сотнями забирали у местного населения
Глава четвертая
Из Санкт-Петербурга в Сибирь
Стороннему наблюдателю, который видит парад или армию на марше, например ту кавалькаду, которую Беринг вел по горным дорогам к Тобольску в 1733 году, может показаться, что всё в порядке: время подобрано безупречно, все работают слаженно и эффективно и быстро исчезают за горизонтом, оставляя за собой клубы пыли. А вот человеку, которому приходится обеспечивать эту слаженность, изнутри видится все совсем иначе. Когда грандиозные, отлично составленные планы Адмиралтейств-коллегии и Сената встретились с реалиями Сибири, Беринг, возглавлявший экспедицию, столкнулся с ворохом логистических проблем, трудностей и жалоб. Сложностей во второй экспедиции на самом деле было даже больше, чем в первой, потому что и людей, и поклажи было больше, и для их транспортировки, соответственно, требовался иной объем ресурсов.
Экспедиция была неповоротливой и разношерстной по составу, ее участниками двигали разнообразные, часто конкурирующие интересы; все требовали от Беринга обеспечить им комфорт и удовлетворить их потребности, а людей, на которых можно было бы переложить часть задач, не хватало. Логистический кошмар во многих случаях усугублялся еще и враждебным приемом. Когда передовые отряды приезжали в сибирские поселения, их редко встречали улыбками и распростертыми объятиями. Люди все еще помнили, какой урон им нанесла Первая Камчатская экспедиция. Правительственные требования о предоставлении рабочих рук, продуктов и припасов оказались серьезным бременем для местной экономики и доставили немало хлопот населению. Среди сибиряков были бывшие крепостные, сбежавшие на восток в поисках свободы, шведские военнопленные, преступники и политические ссыльные (в том числе представители древних аристократических родов). Но большинство составляли казаки, настоящие завоеватели Сибири. Казаки, пришедшие в эти места из областей севернее Черного и Каспийского морей, вытеснили аборигенов. Потомки казаков-завоевателей формально были русскими и говорили на русском языке, но к прибывавшим с запада соотечественникам, в том числе к огромной группе Беринга, относились с такой же враждебностью, как и к коренным народам. Они не собирались подчиняться «западным» русским или предлагать им помощь только потому, что кто-то доставил им письмо с указом от живущей где-то далеко императрицы, или потому, что ученые, привыкшие к жизни в Санкт-Петербурге, требовали относиться к ним с почтением даже в путешествии. На огромных просторах Сибири, где редко бывали представители российского двора, царила почти полная анархия. Различные кочевые племена нередко совершали набеги и воровали скот, если им казалось, что они смогут избежать наказания, а казаки подчиняли себе местное население и требовали дань, обычно мехами. Кроме того, за время правления императрицы Анны в Сибирь было сослано не менее двадцати тысяч человек, осужденных за различные преступления против государства. Атмосфера в регионе складывалась специфическая, напоминавшая ту, которой позднее прославится Дикий Запад США.
Проблемы, связанные с логистикой, стали для всех очевидны, едва экспедиция пересекла Уральские горы и вошла в Тобольск. Это произошло в начале 1734 года. К тому времени участники провели в дороге уже несколько месяцев, но эта часть пути была самая легкая. Первый, медленно движущийся отряд, возглавляемый капитаном Шпанбергом, вышел из Санкт-Петербурга 21 февраля. Его задачей было сопровождение саней, нагруженных громоздкими, тяжелыми материалами, необходимыми для постройки кораблей. В апреле за ним последовал капитан Чириков во главе группы из пятисот с лишним человек, в том числе женами и детьми офицеров; они ехали верхом и в скрипучих повозках. В Сибири к ним присоединились еще почти пятьсот солдат и около двух тысяч работников – по своей воле или принудительно. Лейтенант Ваксель называл их «ссыльными для работы на наших судах при путешествии по рекам»[43]. Сам Беринг выдвинулся в путь 29 апреля с Анной и двумя младшими детьми, которым было один и два года. Старших сыновей, возрастом десять и двенадцать лет, оставили на попечении друзей семьи и родственников, чтобы они получили образование – в такие важные для развития годы на границе им было не место. К тому времени, как семья снова воссоединится, сыновья уже станут взрослыми, так что они прощались на много лет – даже в том случае, если все пойдет хорошо. Наконец, последними, в августе, из Санкт-Петербурга вышли ученые и торопливо отправились на восток со своей небольшой передвижной академией.
Шпанберг со своим отрядом не стал останавливаться в Тобольске, а только нанял там 74 работника и сплавил по реке больше трех тонн железа в полутора тысячах кожаных седельных сумок. А вот остальные планировали зимовать в городе. По пути в Тобольск с ними не случилось ничего примечательного, и в январе 1734 года основные силы экспедиции там перегруппировались. Их, конечно, ждали, но зимой городок с населением 13 000 человек был просто не в состоянии всерьез подготовиться к прибытию такого количества людей. Начались яростные перепалки. Беринг по прибытии не только реквизировал большинство самых лучших домов для своих сопровождающих: ему был дан приказ нанять (или увезти с собой силой, если будут сопротивляться) сотни местных жителей перед тем, как весной экспедиция отправится дальше.
В конце февраля Беринг с небольшим отрядом вышел на юго-восток, к Иркутску, стоявшему на озере Байкал, чтобы приобрести товары, в большинстве своем китайские – зеленый чай, шелка, фарфор, – в дальнейшем ими предполагалось задабривать чиновников, когда экспедиция разойдется по Сибири. Далее командор с несколькими десятками людей направился в Якутск и добрался туда в октябре 1734 года – всего через полтора года после отъезда из Санкт-Петербурга.
Чирикову досталась более трудная и неприятная работа: доставить на восток основную часть экспедиции после того, как сойдет лед. Лишь к середине мая капитан сумел подготовить главный отряд численностью примерно 2000 человек. Они покинули Тобольск, несомненно, к вящему облегчению местных жителей, на лодках, следуя тем же путем, что и в Первую Камчатскую экспедицию. В их планах было спуститься по Иртышу к Оби, подняться вверх по течению, волоком перетащить лодки до Енисея, спуститься по нему до Илима и Тунгуски и в конце концов добраться до Лены. Как и раньше, каждая речная система несла с собой свои трудности и препятствия и требовала строительства новых лодок или телег для погрузки и выгрузки тонн снаряжения, которые пришлось тащить труднейшими волоками в морозные бури или через духоту и сводившие с ума облака гнуса. И, конечно, все это время приходилось кормить тысячи лошадей и людей всех возрастов. Так они шаг за шагом продвигались к Якутску, население которого ненамного превышало численность экспедиции.
Легко догадаться, что все пошло не так, как предусматривалось замечательными планами, составленными в Санкт-Петербурге. Плотники, которые должны были построить лодки заранее, этого не сделали, запасы еды в пути так и не появились, телеги и сани строили очень неторопливо, обещанные лошади оказались не готовы, а многие работники, которые должны были помочь экспедиции или присоединиться к ней, таинственным образом исчезли. Вся поддержка, о которой так любезно говорили, все обещанные экспедиции ресурсы оказались химерой. Даже просто провести неповоротливую экспедицию с тоннами громоздкого снаряжения по Сибири, чтобы никто не утонул и не умер от голода, оказалось труднейшей задачей. Дезертировало так много людей, что из-за нехватки личного состава временами возникали опасения, что кавалькада просто не сможет двигаться дальше, не избавившись от лишнего груза. Условия труда и жизни, судя по всему, были в самом деле ужасны, раз столь многие решились на побег, поскольку в Сибири бежать некуда: враждебное местное население, еды мало, поселений еще меньше, зимы смертельно опасные. Так что побег от дисциплины и тяжелого труда был весьма сомнительным предприятием.
Лейтенант Свен Ваксель вспоминал:
Так как наши люди, в особенности из числа ссыльных, стали толпами убегать, то пришлось поставить крепкие караулы, а вдоль берегов Лены через каждые двадцать верст поставить виселицы. Это произвело прекрасное действие, так как с этого времени убегало уже весьма немного людей[44].
33-летний швед Ваксель, в России получивший имя Савелий, успел послужить и в английском, и в русском флоте. Ваксель был человеком толковым и непритязательным; в путешествие он взял с собой жену и пятилетнего сына Лоренца (Лаврентия). В последовавших драматичных событиях Ваксель и его сын сыграли куда большую роль, чем они могли себе представить.
Основные силы экспедиции добрались до Якутска в июне 1735 года, воссоединившись с капитан-командором Берингом.
Для Берингов путешествие выдалось не таким тяжелым: недавно полученный дворянский титул давал определенные привилегии даже в Сибири. Как глава огромной экспедиции, которая представляла собой беспрецедентную по масштабам и сложности миграцию людей из Центральной России в Сибирь и означала для этой земли как немедленные перемены, так и перспективы коренных преобразований и усиления присутствия Российского государства, Беринг стал символом власти и прогресса. Его жена Анна с той же решимостью хлопотала о благе семьи, как она его понимала, стремясь добиться более высокого положения в обществе и ранга, а с ними и уважения, хотя бы формального, со стороны нижестоящих. Желание подняться по социальной лестнице стало одной из главных причин, побудивших Беринга согласиться занять столько серьезный и ответственный пост. Анна же явно была настолько привязана к мужу, что последовала за ним на самый край известного мира, оставив дома двоих детей. В Сибири, несмотря на суровые условия жизни, Витус и Анна чувствовали себя хозяевами, элитой местного общества, представителями императорской власти.
Хотя самые высокопоставленные чиновники Якутска, Иркутска и Тобольска, а также самые богатые торговцы пушниной старались подражать западноевропейской роскоши, но культура в понимании Анны и Витуса Берингов в Сибири по большей части отсутствовала. Так что они привезли частичку привычной петербургской жизни с собой. Тысячи рабочих и сотни вьючных лошадей были задействованы только для того, чтобы Беринги как можно меньше страдали от некомфортных условий Сибири. Они спали в палатках так редко, насколько было возможно, и путешествовали с целой свитой слуг. Во время переходов командор вел себя в полном соответствии с репутацией сурового человека, а сплавляясь по рекам на лодках, наравне со всеми терпел облака мух и комаров. Но как только Беринги добирались до городов и реквизировали для себя лучший дом, слуги ставили на стол серебряную посуду для повседневных обедов и изящный фарфоровый сервиз на тридцать шесть персон для торжественных случаев. На званых ужинах Беринги выделялись и одеждой: в багаже Анны содержалась большая коллекция шелковых, бархатных и хлопчатобумажных платьев, обшитых горностаем и парчой. Беринг надевал роскошный камзол с накрахмаленным воротником, припудренный парик и атласные брюки. Они носили льняные рубашки, начищенные туфли и шелковые чулки, более уместные скорее при дворе в Санкт-Петербурге, а выходя на улицу в мороз, кутались в элегантные шубы. Их апартаменты были украшены канделябрами, а в лакированных шкатулках хранились драгоценности и другие внешние атрибуты имперской утонченности и роскоши – все это сразу говорило о том, что они находятся на несколько ступеней выше местной сибирской аристократии[45].
Одним из самых вопиющих предметов роскоши в доме Берингов был клавикорд – музыкальный инструмент, похожий на фортепиано. Можно лишь посочувствовать той лошади, которой пришлось тащить его на своей спине. Впрочем, Анне в холодные сибирские годы клавикорд, скорее всего, принес немало радости: она могла учить детей играть или оживлять унылые вечера с другими офицерскими женами или сибирскими сановниками.
Беринг прибыл в Якутск в октябре 1734 года, и увиденное ему совсем не понравилось. Шпанберг оставил в городе бо́льшую часть снаряжения, которое должен был переправить в Охотск, потому что обещанные лодки для него никто не построил. Скорняков-Писарев, бывший дворянин, а ныне – ссыльный, которому приказали организовать строительство речных лодок и подготовку Охотска к экспедиции, еще не прибыл туда, где должен был приступить к работе. Они с Берингом не понравились друг другу при первой же встрече. Скорняков-Писарев заявил, что люди, которые должны были помочь ему с выполнением поставленных задач, не явились, и оправдывал этим свое бездействие, предоставив Берингу самому разбираться в ситуации. Но у того не было ни времени, ни ресурсов, чтобы разрешать все проблемы лично, и он рассчитывал на Скорнякова-Писарева: как ему без лодок перевезти снаряжение для экспедиции через горы? Если ему придется заниматься еще и организацией строительства лодок, задержка составит несколько месяцев. Тысячи прибывших людей не имели ни крова, ни пищи, и Берингу пришлось перескакивать от одной проблемы на другую, туша маленькие пожары недовольства и борясь с бесчисленными мелкими неожиданными трудностями; времени на полноценное планирование экспедиции у него не оставалось.
Одной из главных задач, поставленных перед Берингом, стало исследование и нанесение на карту всех рек, впадающих в озеро Байкал. Правительство хотело узнать, можно ли там проложить полноценный морской путь, по которому европейские купцы смогут путешествовать в Азию. Одна эта миссия была едва ли не сложнее, чем плавание по Тихому океану.
Одной из главных задач, поставленных перед Берингом, стало исследование и нанесение на карту всех рек, впадающих в озеро Байкал; кроме того, его люди должны были дойти по трем крупнейшим сибирским водным артериям – Оби, Енисею и Лене – до самого Студеного моря и пройти вдоль арктического побережья. Правительство хотело узнать, можно ли там проложить полноценный морской путь, по которому европейские купцы смогут путешествовать в Азию. Английские и голландские торговцы в прошлые века несколько раз пытались найти северо-восточный проход, но все эти попытки закончились неудачей или катастрофой. Одна эта миссия, возложенная на Великую Северную экспедицию буквально в самый последний момент, была едва ли не сложнее, чем плавание по Тихому океану, которое являлось главной целью всей экспедиции[46].
Один из первых исследовательских отрядов, организованных Берингом, возглавил Дмитрий Овцын, молодой лейтенант, которому выдали под начало 56 человек. В конце 1733 года они построили дубель-шлюпку «Тобол» и спустя несколько недель отплыли на север из Тобольска по Оби в сопровождении нескольких плоскодонок и примерно восьмидесяти солдат. Вооруженные бойцы должны были идти вдоль берега реки параллельно экспедиции, обеспечивая защиту от возможных нападений со стороны аборигенов. Перед Овцыным стояла задача выйти через Обскую губу к арктическому побережью, затем повернуть на восток и проплыть вдоль берега до устья Енисея. Это потрясающее плавание стало настоящим подвигом; Овцын невероятным образом сумел выполнить задание, потратив на него несколько лет: сначала пробрался через льды Обской губы, затем прошел вдоль арктического побережья и в 1737 году повернул на юг, вверх по течению Енисея.
К большому несчастью для Овцына, за время экспедиции он познакомился и подружился со знаменитым сибирским ссыльным, князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым. Тайная полиция арестовала Овцына и отправила сообщение о его связях в Санкт-Петербург. Овцына поблагодарили за исследование и нанесение на карту рек и побережья, а затем отдали под трибунал, лишили звания и отправили простым работником под начало Беринга в его экспедиции в Америку. От таких решений зависели судьбы людей в России при императрице Анне[47]. Лишение звания сильно деморализовало Овцына, а кроме того, осложнило положение на обратном пути из Америки, когда образовалась путаница в иерархии.
В 1735 году Беринг отправил из Якутска на север два отряда с похожими заданиями. Одна группа должна была пройти вдоль арктического побережья вплоть до самой восточной точки Азии, до которой Беринг добрался во время своей первой экспедиции. Второй отряд направился на запад, к Енисею, чтобы встретиться с отрядом Овцына. Этот отряд, выдвинувшийся в конце июня 1735 года, возглавлял лейтенант В. В. Прончищев. Однако им не повезло: река замерзла, и они провели зиму недалеко от арктического побережья; многие умерли от цинги, включая самого Прончищева и его жену. Его последователь Харитон Лаптев закончил съемку побережья от устья Лены до Енисея лишь в 1741 году. Другой отряд, возглавляемый лейтенантом Петром Ласиниусом, тоже сильно страдал от цинги и лишений, застряв неподалеку от устья Лены. Выжившие участники продолжали составлять карту побережья, следуя приказам, и в конце концов правительство получило примерное описание всего северного побережья Сибири. «Грустно слушать рассказы о бедствиях и страданиях, испытанных несчастной командой этих судов, – писал Ваксель. – Многим из них была суждена смерть»[48]. Кроме того, Ваксель изложил свое мнение о целесообразности дальнейших исследований арктического побережья: «Люди из-за недостатка пищи, нездорового климата, сильных холодов и полного отсутствия привычных для европейцев удобств в большинстве обречены на гибель. Люди в этих случаях гибнут как мухи»[49].
Беринг провел в Якутске несколько лет, организуя лодочные экспедиции на север и исследовательские походы к востоку от Охотска. Анна и дети получили возможность пожить спокойно, но для Беринга это было не лучшее время: его преследовали неудачи, к тому же приходилось заниматься работой, не связанной напрямую с исследованиями. Бесчисленные задачи, которые казались такими легкими, когда их беспечно записывали на бумаге в просторных палатах санкт-петербургских дворцов, в реальности оказались намного более трудными: в Сибири не было ни инфраструктуры, ни нужных припасов, а рабочие оказались весьма упрямы. Среди поставленных задач было немало таких, которые на первый взгляд кажутся незначительными: например, завезти пеньку из Иркутска и построить смолокурню, канатный и железоделательный заводы. Беринг потратил почти год на организацию речных экспедиций; лишь в июне 1735 года в Якутск прибыл Чириков с основным отрядом. После этого они наконец смогли заняться строительством домов, складов и лодок, на которых можно добраться до Охотска.
Перед Берингом стояла еще одна важная цель: проложить новый путь до Охотска, который был бы лучше, чем дорога через Юдомский Крест, где несколько лет назад произошла катастрофа. Он отправил две большие экспедиции на поиски удобной тропы, но обе закончились неудачно. Вдоль восточного побережья Сибири непрерывной стеной стояли крутые горы. Никакой реальной альтернативы прежней дороге не существовало, и понадобилось еще два года, чтобы в несколько приемов перевезти все припасы через горы. Тяжелые грузы доставляли по реке, а более легкие – по ужасному наземному караванному пути. Ваксель был поражен путешествием; территорию между Юдомским Крестом и Охотском он назвал «совершенно пустынными местами»[50]. Еще один участник экспедиции, молодой натуралист Степан Петрович Крашенинников, отмечал, что подъемы были слишком крутыми для повозок или телег, и «труднее проежжей дороги представить нельзя… Берега обломками камней или круглым серовиком так усыпаны, что тамошним лошадям довольно надивиться нельзя, как они с камня на камень лепятся. Впрочем однакож ни одна с целыми копытами не приходит до места. Горы чем выше, тем грязнее; на самых верхах ужасные болота и зыбуны, в которые ежели вьюшная лошадь проломится, то свободить ее нет никакой надежды»[51].
В попытках улучшить дорогу Беринг приказал построить на ней теплые избы на расстоянии около двух миль друг от друга и отправил людей на строительство дорог через болотистую местность. Зимние дома должны были содержаться и отапливаться всю зиму, чтобы по прибытии караванов людям и лошадям было где укрыться. Чтобы перевезти припасы в Охотск, 400–500 человек вынуждены были несколько раз проделать путь от Якутска и обратно. На этот раз Беринг не просто хотел добраться до Охотска; он собирался укрепить влияние российского государства в этих местах, чтобы последующим экспедициям пришлось уже намного легче. Его целью было проложить официальную дорогу, пусть даже довольно трудную и неровную, но достойную того, чтобы ее можно было нанести на карту. Однако, несмотря на все старания Беринга, маршрут через Юдомский Крест оставался опасным и довольно долгим. Однажды Анна Беринг с детьми едва не пропала без вести, когда их лошадь понесла, и никто не знал, куда она убежала.
Охотск был явно не готов к приему тысяч новоприбывших. Это была деревня, населенная русскими и окруженная стоянками тунгусов и ламутов. Когда летом 1735 года туда прибыл Шпанберг с передовым отрядом, он ожидал увидеть новые дома и склады, готовые принять людей и снаряжение, провизию, собранную в окрестностях, и поля, где разводят коров и овец. Он думал, что на верфи уже заложено судно. Но на деле не было сделано вообще ничего. Скорняков-Писарев, ссыльный, на которого возложили важнейшие для успеха проекта задачи, все это время бездействовал. Ему приказали отправиться в Охотск еще в 1731 году, но прибыл он туда лишь три года спустя. Судя по всему, он отправил в Охотск небольшую группу, но люди либо умерли, либо разбежались в пути. Скорняков-Писарев не исполнил ни одного из данных ему приказов – возможно, он решил, что они настолько нелепы и нереализуемы, что можно их просто проигнорировать. В Охотске не было ни новых домов, ни дорог, ни полей, ни скотоводческих хозяйств, ни школ, не говоря уже о торговых отношениях с Камчаткой. Он оставался пыльным приграничным городком, окруженным травой и галькой, и его обитатели были застигнуты врасплох, когда в один прекрасный день в город вошла толпа усталых путешественников и потребовала еды и отдыха.
Вакселю город не понравился. «Это, в общем, нездоровое место, лишенное всяких источников питания во всякое время года, за исключением только весны, когда из моря в реку приходит в больших количествах рыба»[52]. Чем больше времени он здесь проводил, тем негативнее становилось впечатление. «Сам острог расположен совсем низко; в случае особо высокого паводка, вовсе нередкого во многих здешних местах, Охотску угрожает опасность оказаться целиком под водой… Почва состоит здесь из мелкой гальки, очевидно, намытой морем, и с течением времени поросшей низкой травой»[53]. Не самое лучшее место для строительства города. Но, по крайней мере, местный лосось оказался «весьма приятен на вкус»[54] и особенно хорош с диким луком.
Поскольку Скорняков-Писарев ничего не подготовил, Шпанбергу сначала пришлось заняться строительством складов для привезенного провианта и снаряжения, а затем – более-менее подходящего жилья для своих людей, чтобы они не замерзли зимой насмерть. Лишь по выполнении этих прозаических задач, необходимых для выживания, он смог заняться главным – работой над доками и верфью. Без верфи он не мог построить два корабля, необходимых для запланированного путешествия в Японию. Но даже в этом отношении Ваксель рассматривал Охотск весьма критически. «Весной совсем не исключена опасность повреждения судов льдом; одним словом, эта гавань годится как временное убежище, а не как порт, на который можно безопасно положиться»[55]. Тем не менее Беринг постепенно поставлял припасы и снаряжение по коварным дорогам, чтобы плотники и корабелы Шпанберга имели все необходимое.
Охотск не был готов, а может быть, и вовсе не подходил для уготованной ему роли океанского порта, но это не единственная трудность, с которой столкнулся Беринг. Несмотря на годы планирования и невероятные объемы выделенных ресурсов, так и не удалось решить еще одну проблему, от которой страдала первая экспедиция, – неуважение жителей Восточной Сибири к властям в Санкт-Петербурге. Имперские чиновники были привычны к тому, что их указы и приказы немедленно исполняются. Если что-то написано на бумаге, можно считать, что оно будет выполнено. Но верховная власть не сразу осознала то, о чем предупреждал Беринг: формально Сибирь была частью Российской империи и подчинялась власти императора или императрицы, но разношерстные, неграмотные, влачившие жалкое существование обитатели этих далеких мест не вставали по стойке смирно и не бежали исполнять приказ, едва услышав его. Это был совершенно другой мир. Если Беринг хотел чего-то добиться, ему приходилось применять силу.
Впрочем, самой большой проблемой в Охотске стал Скорняков-Писарев. Он вел себя грубо и непочтительно и построил собственный конкурирующий порт неподалеку от города, куда переманил часть работников. Он злоупотреблял полученной от императрицы властью и в целом лишь мешал работе экспедиции. Высокомерный, властный, он сразу же поссорился с прямолинейным Шпанбергом и конфликтовал с Берингом, считая их ниже себя по положению, не настоящими русскими, а «чужестранцами». Скорнякову-Писареву было уже семьдесят лет, но, «ожесточенный долгой и несправедливой ссылкой… [он] стал злым гением Беринга… Он был грубым, беспокойным и вспыльчивым, как юноша, и в речи, и в делах, распутным, продажным клеветником, лживым, зловредным сплетником»[56]. Беринг писал, что только для того, чтобы разобраться со всей критикой, адресованной ему Скорняковым-Писаревым, понадобилось бы три секретаря.
Глава пятая
Конфликтующие стороны
Великолепные наблюдения и теории загадочного натуралиста Георга Вильгельма Стеллера стали важнейшей частью наследия Великой Северной экспедиции. Но он был трудным в общении, нелюдимым человеком, и из-за сложного, противоречивого характера его не любил и не уважал практически никто из тех, с кем он провел свои последние годы. Во время экспедиции он делал высокомерные заявления, которые, впрочем, часто оказывались верными, таким менторским тоном, что на него вскоре перестали обращать внимание. Русские товарищи по плаванию считали его заносчивым, неприятным чужестранцем и старались держаться от него подальше. Стеллер не отличался ни тактичностью и скромностью, ни внимательностью к чувствам других, но при этом крайне обижался на любое явное или кажущееся неуважение и терпеть не мог возражений. Несмотря на полное отсутствие мореходной подготовки, он смело высказывал свои соображения в морских вопросах, первым указывал на чужие ошибки и постоянно намекал, что все бы прошло как надо, если бы только главным был он.
То, что Стеллер оказывался прав в своей оценке ситуации по крайней мере не реже, чем бывал не прав, нисколько не утешало его ни в Сибири, ни в американском походе. Своей непреклонностью он в конечном итоге вынудил офицеров делать все наперекор ему, лишь бы не признавать, что они послушались его совета. В присутствии Стеллера решения принимались не в трезвой, рассудительной манере, а под влиянием раздражительности и импульсивности. Стеллер в конце концов возненавидел своих русских сопровождающих, и те отвечали ему тем же.
Впрочем, когда речь заходила об изучении природы, Стеллер был настоящим фанатиком и лихорадочно записывал все, что отмечал его бойкий, великолепный ум. Он был неутомим в своих трудах, подвергая себя большой опасности и добровольно страдая от лишений, холода и голода, чтобы собрать и изучить открытые виды. Он изучал флору и фауну северо-восточного побережья Сибири и северо-западного побережья Северной Америки, и его труды еще столетие оставались самым точным и надежным источником материала на эту тему. Стеллер вел эти записи в тяжелейших условиях. Так, зимой 1742 года он записывал свои наблюдения на латыни, дрожа от холода в грубо сделанной, продуваемой всеми ветрами парусиновой хижине на необитаемом острове; вокруг него умирали от цинги моряки, а песцы разрывали неглубокие могилы и ели умерших.
Георг Стеллер, второй из восьми детей, родился 10 марта 1709 года в немецком городе Виндсхайме и рос в зажиточной семье. Его отец был городским кантором и органистом. Должность кантора, ведущего певца в церкви, приносила небольшое жалованье, но зато немалый социальный престиж; канторам разрешалось ходить по городу со шпагой. Канторами были, в частности, Бах и Гендель. В школе Стеллер был лучшим учеником и в 1729 году добился стипендии в Виттенбергском университете, обучаясь музыке и богословию. В молодости он выказывал, по словам брата, «большую склонность к исследованию природы», и бросил учебу в лютеранском учебном заведении, потому что стремился познавать мир, а не проповедовать религиозные доктрины[57]. В конце концов Стеллер перевелся в университет Галле, где изучал анатомию и медицину, и уже через два года сам стал читать популярный курс лекций по ботанике. Но зависть к профессорам, получавшим жалованье, и собственный неуемный темперамент заставили его в 1734 году уехать в Берлин, где он надеялся поступить на официальную государственную службу.
Перспективы для вольнонаемного ботаника в Берлине оказались не слишком многообещающими, и невысокий, голубоглазый и амбициозный молодой человек обратил свой взор на Россию. Среди прогрессивных реформ, запущенных Петром I в предыдущие десятилетия и продолженных его вдовой Екатериной I и племянницей Анной, была и поддержка Академии наук в Санкт-Петербурге, где в основном работали ученые-иностранцы.
Когда датский мореплаватель Витус Беринг предложил русскому правительству устроить второе путешествие в Тихоокеанский регион, вести об этом исследовательском предприятии неслыханных для Европы масштабов быстро разнеслись по научному сообществу. Для 25-летнего ученого слухи об амбициозной Великой Северной экспедиции, которая собиралась преодолеть огромные расстояния, исследовать обширнейшие территории и, возможно, даже добраться до Америки через Тихий океан, стали трубным гласом, призывавшим к действию. Позже он признался в «ненасытном желании побывать в далеких странах»[58]. Стеллер отправился в польский Гданьск, переживший весной того года осаду русской армии. Он представился властям хирургом, и в конце концов его назначили на корабль, который должен был доставить раненых русских солдат в Санкт-Петербург. Там он стал медиком у архиепископа Новгородского.
Благодаря своим связям и неустанным усилиям 28-летний Стеллер сумел получить работу в Академии наук. Верхушка академии, состоявшая из немцев и других иностранцев, относилась к русским с презрением, и это явно повлияло на впечатлительного молодого адъюнкта. Окружающая обстановка, похоже, пробудила в Стеллере высокомерие в его худшем виде и стала причиной многих его проблем в американском походе. Желаемую должность ботаника в Великой Северной экспедиции он получил в 1737 году. Во время краткого пребывания в Санкт-Петербурге он женился на Бригитте Мессершмидт, привлекательной вдове одного из бывших коллег. Она обещала поехать с ним в Сибирь сразу после свадьбы. Однако когда настало время отъезда, она начала сомневаться в практичности своего решения, а добравшись до Москвы по тяжелым зимним дорогам, поняла, что была права в своих сомнениях. У нее подрастала дочь от первого брака, и зимнее путешествие показало ей, что Сибирь – явно не подходящее место для воспитания ребенка. Жена осталась в Москве, а муж поехал на восток.
Разочарованный и огорченный Стеллер отправился искать счастья в Сибири в одиночестве; ему приказали встретиться с Гмелиным и Миллером и, возможно, присоединиться к Шпанбергу в плавании в Японию. Романтическая неудача, похоже, еще больше ухудшила характер Стеллера. Он стал вспыльчивым и раздражительным – более склонным к догматическим разногласиям и грубостям, хотя и писал Гмелину в письме: «Я совершенно забыл о ней и влюбился в Природу»[59]. Путешествие по Сибири заняло целых два года, но друзей он там не нашел, полностью посвятив себя исследованию флоры и фауны окружающих земель. Его манера путешествовать говорила о характере, заметно отличавшемся от других ученых. Гмелин изумленно писал, что Стеллер «сократил до минимума число сопровождающих его людей. Он пил из одной кружки и пиво, и медовуху, и виски; от вина он отказался совершенно. У него была всего одна тарелка, на которой ему подавали всю еду. Повар ему не требовался – он готовил все сам… Он легко мог провести целый день, страдая от голода и жажды, если это помогало ему добиться важных научных результатов»[60]. Гмелин и Стеллер постоянно спорили по поводу обязанностей последнего; Гмелин пытался приказывать Стеллеру, как ассистенту, а тот сопротивлялся и отправлял жалобы и депеши в Санкт-Петербург. Гмелин считал, что стоит выше в иерархии, а Стеллер – что он должен действовать независимо, особенно учитывая, что они оба были одного возраста, имели сходное образование и полномочия. Вторым после конфликта с коллегой негативным впечатлением, оставшимся у Стеллера от Сибири, была ненависть к жестоким и коррумпированным сборщикам ясака (дани пушниной), регулярно притеснявшим местное население.
Среди научных целей Великой Северной экспедиции значился сбор общей информации о Сибири: насколько там холодно зимой, какова продолжительность светового дня в каждое время года, сухо там или влажно, сколько рек и озер пригодны для судоходства, есть ли там ценные минералы. Кроме того, ученые должны были описать обычаи различных нерусских народов и составить историческую справку о каждом городе или регионе, а художники – зарисовать здания, пейзажи и людей.
Среди научных целей Великой Северной экспедиции значился сбор общей информации о Сибири: насколько там холодно зимой, какова продолжительность светового дня в каждое время года, сухо там или влажно, сколько рек и озер пригодны для судоходства, есть ли там ценные минералы. Кроме того, ученые должны были описать обычаи различных нерусских народов, их национальные географические названия, и составить историческую справку о каждом городе или регионе, а художники – зарисовать здания, пейзажи и людей[61]. Наблюдение и сбор информации о флоре и фауне Сибири тоже были важной целью, вполне соответствовавшей духу эпохи. Каталогизация природы была одной из главных задач того времени: большинство известных нам растений и животных попали в руки европейцев и были классифицированы и названы именно в ходе интенсивных научных экспедиций. До выхода в 1859 году книги Дарвина «Происхождение видов» считалось, что биологических видов на планете конечное число, и при надлежащем усердии можно систематизировать и изучить их все. Составление огромного списка всех живых существ казалось отправной точкой для понимания невероятного разнообразия природного мира. С расцветом торговли между континентами, когда корабли морских держав – Великобритании, Нидерландов, Франции и Испании – обошли весь земной шар, моряки привозили из путешествий множество образцов животных, растений и природных диковинок, не описанных ни в одном древнем тексте. Подобные находки сделали непригодными все старинные травники и бестиарии. В большинстве этих текстов изображения и описания зверей и птиц, распространенных в той или иной местности, соседствовали с фантастическими существами вроде русалок, единорогов и морских чудовищ, которые, конечно же, жили в местах, не обозначенных на картах.
Примерно в то же время, когда работала Великая Северная экспедиция, шведский натуралист Карл Линней (1707–1778) разрабатывал свою знаменитую систему классификации. Впервые он описал ее в книге «Система природы» в 1735 году; эта система использует биноминальную номенклатуру: каждому виду присваивается название из двух латинских слов – обозначение рода и собственно вида. Решение Линнея классифицировать виды по признаку половых органов и методов размножения было весьма практичным, но вызвало негодование среди ханжеской части интеллигенции. Английский ботаник преподобный Сэмюэл Гуденаф отмечал, что буквального перевода первых принципов линнеевской ботаники достаточно, чтобы потрясти скромную женщину. Несмотря на все эти опасения, система Линнея быстро стала стандартом для обмена информацией между ботаниками, но к тому времени, как Стеллер отправился в свое путешествие по Сибири и тихоокеанскому побережью Америки, она еще не имела всеобщего распространения, и молодой ботаник пользовался ею далеко не всегда. Каждое из трех «царств природы» – животные, минералы и растения – было разделено на классы, отряды, семейства и роды. В царство животных, в частности, входили млекопитающие, птицы, гады (пресмыкающиеся и земноводные), рыбы, насекомые и черви. Линней считал всех живых существ частью огромной иерархии, от самых низших существ к высшим; на вершине ее находился человек. Сибирь и Камчатку еще никогда раньше не посещали ученые-натуралисты, а там было столько растений и животных, неизвестных в Европе, или новых разновидностей известных видов, что понадобились бы годы и годы, чтобы найти, идентифицировать и описать их все. То было грандиозное предприятие, которое требовало предельной организованности и подвижного, пытливого ума, а у Стеллера и того и другого хватало.
Когда Беринг в августе 1740 года познакомился со Стеллером в Охотске, молодой естествоиспытатель сразу произвел на него большое впечатление и стал важной частью его планов на будущее.
Характер Стеллера разжег тлевшие угли конфликта внутри академического отряда. Ученые были для Беринга головной болью с самого начала экспедиции. Когда Миллер, Гмелин и Кроер на дюжине лодок прибыли в Якутск в сентябре 1736 года в сопровождении помощников и работников, они обнаружили, что город и без того едва не лопается: люди Беринга и Шпанберга готовились к перевозке грузов через горы в Охотск и к путешествию в Японию. Если считать всех новоприбывших, то четырехтысячный город пополнился еще восемью сотнями жителей – притом что домов было всего 250. Экспедиция реквизировала дома местных жителей для собственного пользования, но все равно остались недовольные. Миллер и Гмелин были высокого мнения о собственном положении и хотели заполучить просторные дома богатых торговцев пушниной вместо скромных, но вполне пригодных для жизни обиталищ, подобранных для них Берингом. Конечно же, они не преминули пожаловаться на оскорбление своей чести и престижа. Командор бесцеремонно отмахнулся от них, но тогда жалобы стали поступать различным официальным лицам. Сибирь по-настоящему открыла им глаза: тяжелые условия, отсутствие каких-либо удобств, свирепые и грубые чиновники, которые не понимали или не ценили их научных задач и отказывались предоставлять помощь, а в Якутске ждало еще и плохое жилье. Их мучили комары и другие насекомые, в еде завелись паразиты, летом стояла невыносимая жара со столбами пыли, а зимы были мрачными, ветреными и морозными. Но, к чести ученых, они продолжали работать. Гмелин собирал растения для своего опуса «Флора Сибири», а Миллер опрашивал местных жителей и изучал архивы для исторической справки. Он беседовал со многими русскими, ходившими в интересные и опасные походы, и обнаружил немало оригинальных документов в отрезанных от мира архивах Тобольска, Якутска и Иркутска.
Неприязнь к сибирякам, которые не уважали их статуса и не относились с надлежащим почтением, была не самой большой проблемой; академический отряд страдал от тех же проблем, что описывал Ваксель, в частности дезертирства. Гмелин писал, что работникам, или, как точнее выразился Ваксель, «ссыльным», против воли присоединенным к экспедиции, невозможно было доверить никакой ответственной работы. «Никакой доброты, никакого снисхождения, никакого дружелюбного обращения – это не поможет, – писал Гмелин. – С ними нужно обращаться с крайней строгостью, если вы хотите, чтобы они хоть что-то сделали. Для нас же хуже всего было то, что нам пришлось выяснять это все на собственном опыте, потому что некому было дать нам совета»[62]. Злоупотребление сибиряков спиртным тоже приводило Гмелина в ужас; он писал, что празднование Пасхи пришлось проводить с раннего утра, и оно стало своеобразной прелюдией к последовавшей за этим вакханалии: «Безбожное пьянство продолжалось без перерыва четыре-пять дней подряд, и безумие было не остановить»[63]. Частично их недовольство вызывал и Беринг, командир экспедиции, который, как они считали, должен был защищать их интересы. Гмелин и Миллер отправляли гневные письма в Санкт-Петербург, критикуя умения и решения своего лидера, утверждая, что все продвигается слишком медленно и что Беринг снисходителен там, где должен быть строг, и строг там, где должен быть снисходителен; в целом их жалобы сводились к тому, что проблемы экспедиции, вызванные условиями жизни в Сибири, еще и усугубляются руководством.
Гмелин и Миллер не ушли бы далеко в Сибири без авторитета и поддержки Беринга, но искренне этого не понимали и считали, что он – причина по меньшей мере части их неудач. У академиков и моряков из основной экспедиции было мало точек соприкосновения, они даже не осознавали, что преследуют одни и те же цели. Управленческая структура хромала на обе ноги: Беринг нес ответственность за всех, в том числе за группу академиков, и должен был обеспечивать потребности, но формально не имел над ними никакой власти. Ученые занимались своей работой, пользуясь присутствием отряда Беринга, чтобы добиться уважения к себе и выдвигать требования к местному населению, но при этом их раздражало, что они находятся под началом Беринга. А тот отказался гарантировать быструю и безопасную доставку их провизии из Якутска в Охотск; не обещал он им и хорошего жилья в суровом тихоокеанском городке, в котором, по сути, вообще не было инфраструктуры, кроме той, что поспешно отстраивал Шпанберг. Не собирался Беринг удовлетворять и их просьбы о просторных койках на кораблях, которые должны были выйти из Охотска на Камчатку.
Столкнувшись с проблемами со снабжением и неспособностью (или нежеланием) Беринга гарантировать им комфорт, Гмелин и Мюллер решили отложить или вовсе отменить путешествие дальше на восток из Якутска. Вместо себя они отправили молодого русского ассистента Степана Крашенинникова, чтобы тот сопровождал Кроера и недавно прибывшего натуралиста Стеллера, тоже собиравшего сибирские растения. Стеллер встретился с Гмелиным в Енисейске в январе 1739 года, через год после отъезда из Санкт-Петербурга, и Гмелин предложил Стеллеру занять его место главного ученого в экспедиции на Камчатку. Тот с радостью согласился – это был его шанс стать первопроходцем, открыть что-то новое и важное. А еще он больше не будет подчинен Гмелину, даже номинально.
Конфликтующие стороны отправляли в Санкт-Петербург гневные письма. Каждый обвинял другого в неподобающем поведении, халатности или пьянстве и прочих незаконных деяниях. Спорили между собой не только ученые: Шпанберг и Чириков тоже друг друга недолюбливали. Датчанину Шпанбергу казалось, что его русский коллега слишком много внимания уделяет общественной иерархии и слишком суетится со снаряжением. Шпанберг был компетентным и благонадежным офицером, но часто поступал, как ему заблагорассудится, запугивал людей и угрожал затравить их огромными собаками, требуя, чтобы они выполняли его приказы. Чириков под командованием Беринга нервничал, словно орел, привязанный к насесту; ему хотелось больше действовать и меньше сидеть на месте. Он считал Шпанберга своим «главным врагом» – настолько разные у них были взгляды. Чириков засыпал Беринга предложениями новых мини-экспедиций и просьбами дать ему возможность совершить открытия, но перегруженный заботами командир постоянно ему отказывал: его в первую очередь интересовали не волнующие перспективы, а строгие инструкции императрицы. Чириков утверждал:
я… обращаюсь в [экспедиции] истинно бес пользы, понеже предложении мои к господину капитан-командору о экспедичном исправлении от него за благо не приемлются, токмо он господин командор за оные на меня злобствует[64].
Впрочем, Чириков и Шпанберг ненадолго объединились, чтобы отправить в Санкт-Петербург доклад, в котором отрицательно отзывались о лидерских качествах Беринга.
Скорняков-Писарев тоже по-прежнему мешал работе, тянул время и отправлял пренебрежительные отчеты о действиях и прогрессе Беринга: что тот якобы халатно относится к обязанностям и вместо этого катается на санях с Анной и детьми, что тайно гонит самогон и обменивает его у местных жителей на меха, что он похищает местных жителей и заставляет их работать у себя домашней прислугой. Один из выдающихся историков экспансии России в Тихоокеанском регионе Фрэнк Голдер писал: «Сколько правды и сколько лжи в этих обвинениях, определить нелегко»[65]. Беринг, естественно, защищался – и от своих подчиненных, и от обструкционистских и эгоистичных действий сибирских чиновников. Но главным его способом защиты стала все более консервативная интерпретация приказов. Он понимал, что природа и жители Сибири не в состоянии удовлетворить все амбиции Великой Северной экспедиции за такое короткое время, так что продвигался медленно, сотрудничая, насколько это возможно, с враждебно или безразлично настроенными местными властями. Отказываясь отступать от буквы приказов, он хотел избежать наказания, подобного тому, которое понес Овцын за то, что общался не с теми ссыльными.
Беринга сломили годы бюрократических колебаний и стресс от попыток найти компромисс между сотнями высокомерных, склочных делегатов, офицеров и ученых из экспедиции. Перед отъездом российское правительство обещало ему всевозможную поддержку, но в Сибири фантастические мечты столкнулись с реальностью. А теперь, после нескольких лет тяжелой работы в невыносимых условиях, его стали критиковать за медлительность. Два его главных заступника в правительстве Томас Сандерс и Иван Кирилов, с самого начала поддержавшие проект, уже умерли. Экспедиция отставала от графика, траты быстро увеличивались. К 1737 году расходы выросли до трехсот тысяч рублей – в десять раз больше, чем предусматривал исходный проект Беринга. Русскому правительству нужно было кого-то в этом обвинить, и глава экспедиции лучше всего подходил на роль козла отпущения. За непредоставление необходимой информации и задержку в выполнении поставленных целей с 1738 года ему вдвое урезали жалованье[66] и пригрозили понизить в звании; это явно не подняло его моральный дух, учитывая бесконечную работу и трудности, которые ему пришлось пережить. Беринг доехал из Якутска в Охотск лишь летом 1737 года. Российский Сенат обсуждал возможную отмену экспедиции или смену Беринга Чириковым, в другом докладе предлагали поставить командиром Шпанберга. Отношения между двумя заместителями со временем становились все напряженнее, потому что никто из них не хотел подчиняться другому.
Начальник Беринга в Адмиралтейств-коллегии, граф Головин, которому удалось убедить Сенат продолжить финансирование экспедиции, несмотря на отсутствие – по крайней мере, кажущееся – какого-либо прогресса, отправил письмо Чирикову с разрешением отменять неоправданные приказы командира. Самым большим недостатком Беринга, если это, конечно, можно считать недостатком, была его излишняя дотошность: вместо того чтобы как можно скорее выполнить главную задачу путешествия, он решил сначала оборудовать инфраструктуру всей экспедиции, чтобы позже ее можно было повторить без прежних логистических трудностей. Правительство, с другой стороны, с нетерпением ожидало известий об успехах путешествия, чтобы оправдать дальнейшее финансирование – даже если ради них придется пожертвовать прочным фундаментом. У Беринга напрочь отсутствовало политическое чутье, он уделял больше внимания скучным основополагающим пунктам своего задания, нежели впечатляющим мелким деталям. Пока что он не представил ни одной воодушевляющей истории и не сделал ни одного интересного открытия, которое вдохновило бы других на поддержку. Жалоб на него становилось все больше, он почувствовал опасность и не смел отступать от полученных указаний, чтобы никто не смог возложить на него ответственность за неудачи. Такая позиция, конечно, была вполне оправданна в России времен императрицы Анны, но она нервировала молодых офицеров вроде Шпанберга и Чирикова, которые стремились к приключениям, риску и великим делам.
Нет никаких сомнений в том, что у сибирских сановников не было веских причин помогать экспедиции, кроме боязни наказания, а Санкт-Петербург находился далеко. Требования, предъявленные Берингом, было практически невозможно удовлетворить, не нарушив общественный порядок. В экспедиции участвовало слишком много людей, и они требовали бессчетное количество ресурсов – еды, железа, кожи, лошадей и рабочих рук; малочисленное сибирское общество и без них жило практически на пределе возможностей. Крестьяне, которых принудительно призвали на службу, впали в «крайнее разорение»: они не могли возделывать поля, собирать урожай и даже видеться с семьями.
Один из политических ссыльных в Сибири Генрих фон Фик описывал непосредственные последствия экспедиции для местного населения:
Каждый год русские крестьяне обязаны вести провизию на расстояние 2000–3000 верст до города Якутска для этой экспедиции… Соответственно, многие крестьяне покидают дом надолго, некоторые – даже на три года. Вернувшись, они вынуждены просить милостыню или наниматься батраками[67].
Кочевников-якутов, впрочем, тоже не пощадили: от них «требовали весной отправлять несколько сотен лошадей в полной сбруе в Якутск, а также одного человека для присмотра на каждые пять лошадей. Этих лошадей используют для перевозки провианта и снаряжения наземным путем в Охотск. Поскольку земля между Якутском и Охотском – болотистая, голая степь, очень немногие лошади переживают этот переход. Чиновники, которых отправляют для того, чтобы они привели этих лошадей, всячески обременяют якутов с целью личного обогащения»[68]. Фон Фик сообщал, что в случае невыплаты огромной дани, смерти или побега кого-либо из родственников чиновники могли конфисковать у человека скот, а если скота было недостаточно для компенсации, они забирали жену и детей в услужение, после чего многие кончали с собой.
Если новоприбывшая Камчатская экспедиция и дальше будет таким же бременем для местных жителей, необходимо будет принять любые меры, чтобы не дать ей полностью разорить местное население[69].
В докладе Беринга Головину также неоднократно упоминаются трудности, с которыми столкнулась экспедиция в те годы:
К тому ж служителем команды моей платья и обуви и купить не на что, ибо на нынешней 738 год денежного жалованья за неприсылкою от Иркуцкой правинцыальной канцелярии ничего не получали, и будучи служители в такой нужде у перевоски правианта, весьма исхудали и в зимнее время от великой стужи иные руки и ноги познобили и от такой трудности и за неимением же другова харчю многие такие есть, что едва ходят, и во весь июнь месяц не менее 22 человек было болных, и все исхудали[70].
Постоянный недостаток пищи и отсутствие нормальных инструментов и материалов мешали работе и подрывали моральный дух. Лишь в конце лета 1740 года бо́льшая часть экспедиции со всем провиантом и оборудованием добралась спустя годы до Охотска. К этому времени вся запланированная работа, по расчетам, уже должна была завершиться. Причиной почти всех задержек, по крайней мере, отчасти, стала труднопроходимая местность между Якутском и Охотском. Сам Беринг в докладе писал о том, что необходимо найти более быстрый, дешевый и безопасный путь, несмотря на годы, которые он потратил на оборудование нынешней дороги:
Весма нужно искать способа в перевозе до Охоцка правианта и всяких припасов бес такого труда, каков прежде был[71].
Несмотря на невероятную трудность и опасность, дорога, проложенная Берингом между Якутском и Охотском, оставалась главным путем к Тихому океану вплоть до 1850-х годов, когда удалось отвоевать у Китая реку Амур.
Пока тонны провианта и снаряжения медленно перевозили из Якутска в Охотск (на это потребовалось более двух лет), Беринг отправил Шпанберга в Охотск руководить строительством кораблей: на одних тот должен был отплыть в Японию и на Курильские острова, а другие позже отправились в Тихий океан. Вверх по реке Охоте послали работников для рубки деревьев – на каждый корабль уходило более трехсот стволов, и, как обычно, из-за недостатка провизии и ненадежности исполнителей работа затянулась. Когда три корабля с экипажем из 151 человека наконец спустили на воду 29 июня 1738 года, на год позже запланированного срока, они забрали с собой все запасы пищи, имевшиеся в Охотске. Флотилия состояла из старого отремонтированного «Св. Гавриила», участвовавшего в первой экспедиции, и двух новых кораблей – «Архангела Михаила» и «Надежды». Сначала они прошли почти 1100 километров через паковые льды Охотского моря до Большерецка на западном побережье Камчатки, потом повернули на юг, к не нанесенным на карту туманным водам вокруг Курильских островов к северу от Японии. Вскоре налетела буря, и корабли потеряли друг друга. Команды, не сообщаясь между собой, открыли и нанесли на карту около тридцати островов, и к сентябрю вернулись в Большерецк, нигде не высаживаясь. Следующим летом Шпанберг организовал еще одну экспедицию. Он остался зимовать в Большерецке и выдвинулся раньше, чем год назад, планируя пройти дальше к югу до осенних штормов. Российское правительство поставило перед ним задачу определить взаимное расположение Камчатки и Японии с перспективой наладить торговые отношения. Обмен товарами с Японией укрепил бы положение России на востоке, а с ростом населения Сибирь бы стала менее зависимой от европейской части страны и перестала бы быть бездонной бочкой, в которую утекают казенные деньги.
Вторая экспедиция началась в мае 1739 года и принесла куда более ценные и интересные результаты. Флотилии не повезло с погодой: один из кораблей заблудился и вернулся обратно, а еще два, под командованием Шпанберга и лейтенанта Уильяма Вальтона, продолжили путь к югу. К концу июня моряки добрались до острова Хонсю на севере Японии, где увидели множество небольших кораблей в мелких гаванях. Прибрежные деревни были окружены людьми, работавшими в полях, где рос какой-то неведомый злак, а дальше от берега располагались поросшие лесом холмы. Несколько раз им навстречу выплывали лодки, и на борт поднимались люди, чтобы выменять у них свежую рыбу, воду, большие листья табака, рис, фрукты, соленые овощи и другую пищу на русскую ткань и одежду. Это были невысокие, «чрезмерно вежливые» люди, кланявшиеся при входе в каюту. Шпанберг не разрешил членам экипажа спуститься на берег и не позволял японцам подниматься на борт сразу толпой, потому что «тиранские поступки [японцев] по отношению к христианам хорошо известны из истории». Он отметил, что «почти все суда были нагружены большим количеством камней весом от двух до трех фунтов, которые, быть может, служили им лишь балластом, но в случае необходимости могли быть отлично использованы и как метательные снаряды»[72]. Японцев он описывал так:
Японцы обычно невысокого роста. Иногда, правда, попадаются отдельные люди и среднего роста, но очень высоких людей удается встретить крайне редко. По цвету волос они брюнеты, с черными глазами. На голове довольно густые черные волосы. Половина головы выстригается наголо, а на другой половине волосы зачесываются сзади совершенно гладко, смазываются клеем или жиром, затем заворачиваются в белую бумагу… Носы у них небольшие, плоские, но не настолько плоские, как у калмыков; остроносые же встречаются между ними очень редко. Они носят широкие одежды, укрепляемые поясом, с широкими рукавами, вроде европейских шлафроков, но без воротников. Сколько их ни было видно, все ходили без штанов и босиком[73].
Они умели читать географические карты и объяснили Шпанбергу, что их страна правильно называется Ниппон («Нифония»), а не Япония.
Убедившись, что добрался до Японии, Шпанберг поспешил на север с этой новой информацией, сделав остановку на одном из больших Курильских островов, чтобы добыть пресной воды. Там он встретил восемь человек, называвших себя «айнами»; по его словам, их тела были крайне волосаты, но эти люди отличались дружелюбием. Айны упали на колени и отвесили земные поклоны, когда их «угостили» джином. «[Б]ороды у них великие, продолговатые, черные, а которые престарелые, у тех с сединою как бороды, так и на теле; у некоторых имеются в ушах кольцы серебряные»[74]. Рассказ Шпанберга о визите в Японию очень напоминает бесчисленные описания других путешественников: старые как мир сенсационные байки о чужих народах и их странных обычаях, которые сочинялись с тех пор, как вообще изобрели письменность, а то и раньше. 9 сентября 1739 года датчанин вернулся в Охотск и составил детальный доклад о своем путешествии для Беринга, который как раз заканчивал строительство двух кораблей для американской экспедиции, планируя завершить ее к следующей весне. Шпанберг хотел вернуться на Курилы, чтобы подчинить их Российской империи, но Беринг отказался поддержать операцию; вместо этого он предложил ему вернуться в Санкт-Петербург и обсудить это с властями.
Когда Скорняков-Писарев увидел карту, составленную Шпанбергом после путешествия в Японию, он заявил, что она плохо сделана и ошибочна, потому что на ней не изображен ряд больших островов, которые, как тогда считалось, находятся в этих водах. Он торопливо отправил официальную депешу в Санкт-Петербург, в которой обвинил Шпанберга в некомпетентности. Шпанберг решил, что ему придется лично отстоять свое открытие, прежде чем пуститься в еще одно плавание, и направился в столицу. Однако ему не пришлось далеко ехать: спустя несколько недель он встретил посыльного из Санкт-Петербурга с приказом вернуться в Охотск и отплыть в Японию в третий раз, на этот раз – в поисках легендарных островов. На пути обратно в Охотск Шпанберг повстречал Стеллера, тоже направлявшегося на восток, и они вместе вернулись в город в августе 1740 года. Путешествие Шпанберга пришлось отложить, но Беринг был рад возможности взять Стеллера с собой на Камчатку и, может быть, в Америку. Стеллеру, прямолинейному и дерзкому, тогда исполнился тридцать один год, он стремился к новым приключениям, благо после расставания с семьей его внимание ничто не отвлекало. Берингу было уже пятьдесят девять; он еще не растерял энергии, но семь лет работы во главе экспедиции тяжким бременем легли на его плечи; он беспокоился за жену, детей и свою карьеру.
За все эти годы Беринг так еще и не пересек Охотское море и не добрался даже до Камчатки, не говоря уж об Америке, и чиновники в Санкт-Петербурге заламывали руки. Адмиралтейств-коллегия наконец поняла, что одними указами процесс не ускорить. Они отправили офицеров, чтобы те потребовали подчинения у сибирских властей и в случае неповиновения пригрозили им пытками. В 1739 году прибыли два лейтенанта, Толбугин и Ларионов, которые должны были расследовать обвинения в адрес Беринга и его многочисленные возражения. Имперский кабинет потребовал от них узнать, «возможно ль [Камчатскую экспедицию] в действо произвесть, дабы от того, хотя б впредь, напрасных казне ея императорского величества убытков не было»[75]. Скорнякова-Писарева наконец сменили на более компетентного и не чинившего проблем градоначальника, политического ссыльного по имени Антон Мануилович Девиер. Одного прибытия этих особо уполномоченных офицеров оказалось достаточно, чтобы заметно ускорить работу, помогли и угрозы физического наказания: люди работали прилежнее, лодки отправлялись в срок, появились даже отсутствовавшие припасы и лошади, и к 1740 году практически все необходимое для путешествия в Америку доставили из Якутска в Охотск по новой дороге. В Охотске появились новые здания, производства и хозяйства. Но было у этого давления со стороны государства и другое, незапланированное последствие: офицеры, в особенности Беринг, занимавший самое видное положение, стали еще больше бояться отступить от письменных приказов, даже когда обстоятельства указывали на необходимость нового плана. Таким образом, экспедиция продолжала работать так, как было задумано и описано в Санкт-Петербурге чиновниками, никогда не бывавшими ни в Сибири, ни в Америке.
Глава шестая
Призрачные острова
На охотской верфи медленно строились два новых корабля для американской экспедиции – «Святой Петр» и «Святой Павел». Поначалу они напоминали ребра гигантского кита, и работники сновали внутри этого каркаса, обшивая его досками из сибирской древесины и устанавливая металлические детали, в основном привезенные с запада России. К июню 1740 года корабли были готовы к спуску на воду; можно было уже начинать работу над балластом и такелажем и загружать припасы. То были два корабля-близнеца: двухмачтовики водоизмещением 211 тонн, длиной 27,5 метра, шириной 7 метров и высотой от киля до палубы 3 метра. Они были построены по чертежам голландского торгового-пассажирского судна средних размеров для маршрутов по Балтийскому и Северному морям, но конструкцию слегка изменили, чтобы установить на них по 14 легких пушек (двух– и трехфунтовых) и 3 фальконета. Капитанские каюты, учитывая общий размер кораблей, получились большими и просторными – в них могло с комфортом разместиться до дюжины офицеров; всего спальных мест на кораблях было по семьдесят семь. На корабли загрузили примерно по 106 тонн провизии, по 100 бочек пресной воды, дрова и боеприпасы, запасные якоря, насосы, кабестаны для тяжелых канатов и брашпили для подъема якорей. На палубах было три люка и большой проем для грузов; на оба корабля установили по две лодки для выхода на берег – десятивесельный баркас длиной около шести метров и шестивесельный ял, оба – с небольшой мачтой и простым такелажем и парусом. Казавшиеся бесконечными задержки наконец прекратились.
С самого прибытия в Охотск в 1737 году Беринг организовывал строительство верфей и многочисленных кораблей: сначала для путешествий Шпанберга в Японию, затем двух судов для собственного грандиозного плавания через Тихий океан. Все это, бесспорно, отнимало время, но главной трудностью оставалась необходимость доставлять припасы через горную гряду из Якутска. Ваксель писал: «[Мы] могли оставить у себя для продолжения постройки судов лишь каких-нибудь двадцать плотников, а всех остальных должны были отправить к складу на реке Урак и к Юдомскому Кресту, с тем чтобы перебросить оттуда как можно больше провианта»[76]. Даже квалифицированным специалистам пришлось превратиться в разнорабочих. В течение двух лет подготовка японских плаваний Шпанберга отнимала немало ресурсов у американской экспедиции, но к осени 1739 года работы над «Святым Петром» и «Святым Павлом» значительно ускорились. Парусина прибыла только весной того же года – ее целый год везли из Санкт-Петербурга. И лишь к началу 1740 года Беринг наконец собрал полноценную команду работников, необходимую для строительства кораблей: около восьмидесяти плотников, десятки кузнецов, лебедочников и парусных мастеров.
Берингу тяжело далось расставание, потому что они с Анной очень любили друг друга, и она последовала за ним на край света, оставив старших детей на попечение друзей и родственников.
19 августа 1740 года погрузка всего необходимого практически закончилась, и Беринг попрощался с Анной и младшими детьми – к тому времени им исполнилось уже девять и десять. Слуги, упаковавшие весь их багаж и личные вещи, отправились в долгий путь к Санкт-Петербургу вместе с сотнями работников, корабелов, плотников и солдат, которые уже не требовались на Камчатке и в Америке. Семьи остальных офицеров тоже уехали. За годы экспедиции Охотск превратился из деревни в небольшой городок, но он все равно оставался не лучшим местом для того, чтобы ждать возвращения «Святого Петра» и «Святого Павла». Путешествие вполне могло продлиться до двух лет, и семьи решили, что им будет лучше вернуться к нормальной жизни на западе России. Вероятно, Берингу тяжело далось расставание, потому что они с Анной очень любили друг друга, и она последовала за ним на край света, оставив старших детей на попечение друзей и родственников. Из личных писем, отправленных еще до того, как в 1740 году супруги расстались, видно, что они отчаянно пытались поддерживать единство большой семьи – особенно Анна, – несмотря на огромные расстояния, для преодоления которых письмам требовалось до полугода. Анна называет мужа «мой Беринг», переживает из-за карьеры старших детей и из-за проблем со здоровьем родителей. Она негодует из-за того, что девятнадцатилетний Йонас пошел служить в пехоту, опасаясь, что он свяжется с компанией «дурных и низких людей» и надеясь, что он не будет «по постоялым домам… таскаться». Несмотря на то что ее муж долго служил в военно-морском флоте, Анна очень беспокоится, что их сыну «отстрелят… руку или ногу в младые… годы»[77]. Родители жили слишком далеко и ничего не могли сделать для старших детей, кроме как отправлять с гонцами советы и наставления. Беринг написал официальное письмо в Адмиралтейств-коллегию, запросив отставку с действительной службы по возвращении:
Я тридцать семь лет в службе нахожуся и в состояние не пришел, чтобы на одном месте для себя и фамилии своей дом иметь мой и яко кочующий человек живу[78].
Буквально через неделю после отъезда работников и офицерских семей, когда корабли уже готовились к отплытию, в Охотск въехал необычный визитер, изможденный и усталый. То был посыльный императорского двора из Санкт-Петербурга, и он вез с собой письма для Беринга. Императрица требовала подробного отчета о прогрессе экспедиции, в частности, насколько точно он следует инструкциям, и этот документ должны были подписать все офицеры. Такой документ требовал несколько дней, а то и недель, для подготовки, если они хотели в точности описать свою деятельность в течение этих лет таким образом, чтобы сохранить карьеру и избежать наказания. Но откладывать отплытие на Камчатку было невозможно: осенью, когда начнутся шторма и обледенение, путешествие станет слишком опасным. Если пропустить судоходный сезон 1740 года, экспедиция могла затянуться еще на год. На общем собрании офицеров все согласились, что дальнейшие задержки недопустимы. Глава экспедиции вручил посыльному документ, в котором говорилось, что Шпанберг, который должен был оставаться в Охотске, пока не будут готовы корабли для третьего путешествия в Японию, напишет все, что сможет, о своих путешествиях, а сам Беринг подготовит более обстоятельный документ зимой на Камчатке и отправит позже. Кроме того, Беринг ответил на запрос по поводу еще одной пока что невыполненной задачи, возложенной на него: создания системы почтовых станций в Сибири. Задание, естественно, оказалось практически невыполнимым. Как он мог построить эти станции, да еще и укомплектовать их, особенно на пути между Якутском и Охотском и до Камчатки? Почта между Камчаткой и Охотском должна была ходить раз в два месяца, но Охотское море безопасно для судоходства лишь с мая по сентябрь. Тем не менее отсутствие почтовых станций вполне могли счесть примером неудовлетворительного исполнения Берингом возложенных на него обязанностей.
30 августа «Святой Петр» и «Святой Павел» снялись с якоря и отплыли на восток, оставив эти проблемы позади – и столкнувшись с новыми. Первым их пунктом назначения значился Большерецк, стоявший в нескольких километрах от побережья на реке Большой, среди невысоких песчаных дюн и лагун. Ветры были неблагоприятными, капитаны – нетерпеливыми, но еще до того, как суда вышли из устья реки Охоты, они с ужасом увидели, что один из кораблей с припасами, «Надежда» под командованием лейтенанта Софрона Хитрово, сел на мель, наткнувшись на скрытую под водой песчаную косу. Отплытие пришлось задержать еще на восемь дней: корабль разгрузили, снова спустили на воду, отремонтировали и загрузили. Невероятно, но именно на «Надежду» была погружена бо́льшая часть сухарей, которыми должны были питаться моряки в американском путешествии следующей весной. Они оказались испорчены морской водой. Первоначально Беринг планировал отплыть от Камчатки на восток весной 1741 года, исследовать тихоокеанское побережье Америки, найти безопасную гавань для зимовки и вернуться на Камчатку летом 1742 года. Теперь же всех крайне занимал вопрос, как сделать это без нормальной еды.
Через четыре дня в путь отправились Стеллер и Кроер на небольшом судне, где в основном размещались ученые, их багаж и слуги. Флотилия добралась до реки Большой к 20 сентября. Там академики сошли на берег, а остальные корабли продолжили путь к югу, обогнули Камчатку и повернули к северу, добравшись до Авачинской губы. Из-за задержек в пути Беринг решил, что один из кораблей с припасами не выдержит осенних штормов, так что в море вышли только «Святой Петр», «Святой Павел» и «Надежда». Было новолуние, а течения и приливы вокруг мыса Лопатка, южной оконечности Камчатки, образовали настоящий водоворот с брызгами белой пены. Расстояние между мысом и первым из Курильских островов – всего шесть с небольшим километров, а в центре пролива торчит огромный каменистый риф, захлестываемый волнами. В тот день мощный восточный ветер нес их вперед, а маятниковые приливные волны отталкивали назад на запад.
«Святой Павел» и «Надежда» остались позади, а Беринг повел «Святого Петра» прямо в водоворот, не подозревая об этой борьбе ветра и волн. Лейтенант Ваксель позже писал:
[З]а всю мою жизнь (а я ведь почти сорок лет плаваю в море) мне никогда не приходилось подвергаться такой серьезной опасности[79].
Почти час они вообще не могли сдвинуться с места: ветер толкал их вперед, волны тянули назад. Нос корабля глубоко погружался в ложбины между волнами, вода заливала палубу с обоих бортов. «Судовая шлюпка, шедшая на буксире у нашего корабля и привязанная на конце кабельтова длиной в сорок саженей, была подброшена волнами и ударилась о корму корабля», повредив судно и разбросав матросов. Ветер завывал и раздувал паруса, едва не сломав главную мачту, а они пытались держать корабль по ветру. «[П]опади мы между волнами в поперечном положении, нам не было бы спасения»[80]. Лишь после того, как приливные волны ослабли, «Святой Петр» медленно двинулся вперед и обошел мыс. Чириков прождал около часа, а затем провел «Святого Павла» через пролив без особых трудностей, выйдя из Охотского моря в Тихий океан.
Затем два корабля стали ждать, но «Надежда», которой все еще командовал Хитрово, так и не появилась. Корабль с провизией не последовал за ними. Позже они узнали, что Хитрово, увидев, какая опасность грозила «Святому Петру», приказал вернуться в Большерецк вместо того, чтобы идти через пролив. Для Беринга это стало вторым доказательством того, что Хитрово плохой моряк, что явно не поспособствовало хорошим отношениям между командиром и младшим офицером. Это испытание лишний раз напомнило, что теперь им предстоит идти по капризным, неизведанным морям.
Когда «Святой Петр» и «Святой Павел» добрались до новой гавани в Авачинской губе, которую назвали Петропавловском (залив Петра и Павла, в честь кораблей), там уже было расчищено место для поселения и построены несколько бараков и складов – эту работу провел Иван Елагин, которого вместе с подчиненными направили туда в прошлом году. То было идеальное укрытие, но на тот момент «Святой Петр» и «Святой Павел» оказались первыми морскими судами, вошедшими в этот красивейший залив с песчаным дном. Было отмечено, что в заливе легко может поместиться двадцать кораблей даже без бросания якоря – настолько хорошо он был защищен от ветра и приливов. Длина Авачинской губы составляет 24 километра, она окружена впечатляющего вида коническими вулканами, покрытыми снежными шапками. Вулканы были действующими; один из них извергался в 1737 году, занеся окрестности пеплом и вызвав мощные цунами.
Пока экспедиция готовилась к зимовке в Петропавловске, происходили события, изменившие политический климат в России. Императрица Анна, которая, как и ее дядя Петр I, отличалась любовью к западноевропейской культуре, умерла в 1740 году. Победительницей в последующей борьбе за трон вышла дочь Петра Елизавета; она пришла к власти в ноябре 1741 года и была коронована 25 апреля 1742 года. Елизавета и ее придворные куда подозрительнее относились к иностранцам и заграничным идеям. Немцев начали снимать с высоких должностей, а к любой критике правительства, даже самой невинной и обыденной, теперь относились с неодобрением; публикации, неугодные правящей верхушке, запрещались. Академия наук начала терять свою свободу и финансирование. Впрочем, до Камчатки эти новости, не сулившие экспедиции ничего хорошего, дошли уже после отплытия.
Стеллер и Кроер нашли состояние Большерецка ужасным. Командир гарнизона, Колесов из Якутска, оказался пьяницей, торговля была медленной и коррумпированной, солдаты – распутными и плохо подготовленными, а деморализованные коренные жители могли в любое время восстать. Чиновники выжимали из местного населения налог пушниной и клали себе в карман разницу между тем, что удалось собрать, и тем, что они высылали вышестоящим официальным лицам в Сибирь. Сам городок стоял вверх по течению, на мрачном, поросшем дремучим лесом берегу реки. Острог и часовня были окружены палисадами, но гражданские здания, числом около тридцати, стояли прямо на островках посреди реки. Самыми большими постройками были винокурня и кабак. Стеллер и Кроер нашли себе жилье рядом с острогом и стали готовиться к туманной и снежной зиме. Стеллер встретился с молодым натуралистом Крашенинниковым, который тщательно исследовал территорию полуострова. Они стали работать вместе, собирая и изучая растения и животных и ведя дневник погоды.
Стеллер раздумывал об одной из самых таинственных медицинских загадок той эпохи – цинге. Почему участники экспедиции Беринга в Студеное море так ужасно страдали от этого недуга – почерневшие, кровоточащие десны, мрачное настроение, открывающиеся старые раны, – а туземцы им никогда не страдают? Он пришел к выводу, что это как-то связано с рационом питания – проницательное наблюдение, на десятилетия опередившее время и имевшее жизненно важное значение. Кроме того, Стеллер опросил многих казаков и камчадалов, чтобы узнать, что они думают о возможной земле к востоку, часто предлагая им выпить, чтобы развязать их язык. Он был совершенно уверен, что жители Камчатки время от времени вступают в торговые контакты с землями, лежащими к северо-востоку. Но когда Стеллер позже рассказывал об этих слухах Берингу, тот отвечал: «Люди много болтают» и «Кто верит казакам?»[81] У командора и без того было слишком много дел, и он не задумывался ни о здоровье участников экспедиции, ни о рассказах и слухах о деятельности туземцев; то были лишь очередные пункты в длинном списке вещей, которые он никак не мог контролировать. Беринг устал даже пытаться составлять перечень невероятных проблем, стоявших перед Сибирью на пути к развитию цивилизованного общества. Исследование возможных торговых сетей дальше к северу стало бы лишь еще одной помехой к исполнению приказов.
Впрочем, в это время главной проблемой было отступление Хитрово, который вез все припасы. Из-за этого возникли задержки и другие трудности с зимовкой, и вся экспедиция едва не погибла. Теперь нужно было разгрузить «Надежду» в Большерецке, заново упаковать все припасы и везти их 220 километров до Авачинской губы, прямо через гористую местность посреди полуострова, где нет ни дорог, ни рек. В отсутствие лошадей и хороших троп пришлось обратиться к местным жителям в радиусе сотни километров вокруг. Им приказали доставить в Большерецк сани и собак (их оказалось более 4000) и начать перевозки тонн припасов по снегу до Авачинской губы. Ваксель был в ужасе от того, как обращались с коренным населением:
Для некоторых камчадалов это оказалось, однако, непривычным делом, о таких перевозках им никогда не приходилось до того слышать, и большинство местных жителей не привыкло удаляться от места своего жительства далее чем на пять миль. Теперь же их заставили (по их мнению) идти на край света, и к тому же со своими собаками, которых они любят превыше всех земных сокровищ. Деньгами они вовсе не соблазнялись, денег они вообще не употребляют, они им вовсе не нужны, и большинство едва ли даже понимает, что такое деньги[82].
Сложности, напряженное положение и плохое обращение с принужденными к труду камчадалами в конце концов привели к бунту, и многие отказались работать дальше. Группа разозленных камчадалов сожгла семерых русских в избе и бежала в горы. Наказание оказалось быстрым и жестоким. Отряд из пятидесяти солдат нашел их по следам в снегу и застал врасплох на зимних стоянках, расположенных на далеких скалах в устье реки. Солдаты бросили гранаты в дымовые отверстия хижин. Не зная, что такое граната, камчадалы подошли посмотреть, и те взорвались, убив и ранив многих, в том числе женщин и детей. Выживших захватили в плен, отвели к Авачинской губе и «сильно пытали кошками, с целью узнать виновных в убийстве»[83]. Наказания, по словам Стеллера и Вакселя, были жестокими и бесчеловечными. Ко времени, потраченному на перевозку припасов по полуострову на собачьих упряжках, прибавились еще и несколько недель, ушедших на поиски и наказание камчадалов, а его и без того не хватало.
Новые трудности стали очередным ударом для усталого, стареющего командора. Беринг отчаялся вообще выйти в море. Неудачи, казавшиеся бесконечными, лишь усугубляли стресс, от которого он страдал не первый год. А сейчас рядом еще и не было жены. Каждая предыдущая неудача увеличивала вероятность новых, и с продвижением экспедиции они только накапливались.
Зимой 1740–1741 годов Беринг составил окончательный список команды для плавания. Он освободил Хитрово от командования «Надеждой» и сделал его вторым помощником «Святого Петра», чтобы постоянно наблюдать за молодым моряком. Кроме того, Беринг решил взять в американскую экспедицию Стеллера; несмотря на враждебные отношения с Хитрово, им обоим пришлось несколько месяцев провести вместе на маленьком судне. Личный врач Беринга попросил отправить его в Санкт-Петербург из-за болезни, а другой замены у него не было. Стеллер имел подготовку медика, к тому же учился лютеранскому богословию, а Беринг и некоторые другие офицеры принадлежали к той же вере. Командор отправил Стеллеру письмо с одной из собачьих упряжек, прося его пересечь Камчатку и обсудить с ним «некоторые дела». Стеллер получил письмо в Большерецке 17 февраля и примерно понял, что это означает. Перспективы его невероятно взволновали, так что он свернул работы и с единственным сопровождающим пересек полуостров за десять дней, добравшись к началу марта. «Едва я приехал, – писал он, – [Беринг] представил мне множество аргументов в пользу того, какую важную и полезную службу я могу оказать и как высоко оценят мою работу в высших кругах, если я соглашусь отправиться с ним»[84].
Вскоре они обсудили все подробности. Беринг обещал убедиться, что Стеллер не нарушит приказов, ранее полученных в Санкт-Петербурге. Беринг «отмахнулся от всех моих возражений, взяв на себя всю ответственность за последствия». Кроме того, по словам Стеллера, глава экспедиции обещал предоставить ему все возможности для проведения исследований в области естественной истории и дать в подчинение людей, чтобы он «смог добиться чего-то значительного» в путешествии в Америку. Стеллера назначили личным врачом командора и поселили в каюте Беринга. Молодой ученый беспокоился, что ему нечего будет показать по возвращении из «тяжелого и опасного морского путешествия»[85]. Но это путешествие имело не только научно-исследовательское значение; были у него весьма практичные цели. Беринг считал, что у Стеллера достаточно знаний и умений, чтобы найти и распознать металлы и минералы.
Петропавловск быстро превратился в маленький, но чистый и приятный городок в прекрасной природной обстановке. Остаток зимы, впрочем, вышел для путешественников весьма неприятным: они были перегружены работой, им пришлось иметь дело с последствиями бунта местных жителей. Стеллер пришел в ужас от невежества, грубости, продажности, распущенности и жестокости казаков и, что было вполне в его духе, прилюдно жаловался и осуждал их. Даже такая благая цель, как основание школы в Большерецке, для достижения которой он упорно работал, не нашла отклика: его манеры вызывали неприязнь, а то и ненависть окружающих. От него часто можно было услышать нападки на ведущих аморальный, нехристианский образ жизни, но в своей искренности он был слишком резким и со слишком явной укоризной относился к поведению казаков. Стеллер написал рапорт и петицию в Санкт-Петербург, призывая обращаться с камчадалами с уважением и сдержанностью и напоминая, что у них есть права. Кроме того, он давал свои непрошеные советы о том, как лучше управлять этой далекой страной, не раз призывал к социальной справедливости, но к его проповедям оставались глухи – хотя бы потому, что все были слишком утомлены тяжелой работой.
Беринг и офицеры на несколько лет отстали от графика и очень беспокоились и за предстоящее путешествие, и за свою карьеру. Когда Стеллер бесцеремонно обвинял их в нетерпеливости и неподобающем поведении, это их только раздражало. Устремления самого командора были предельно просты: выполнить поставленную задачу и вернуться к семье. У других офицеров, без сомнения, желания были похожие. Стеллер, напротив, был в экспедиции практически новичком и имел смутные представления о том, какими тяжелыми выдались предыдущие годы. На его плечах не лежало невыносимого бремени провалов и ожиданий – им по-прежнему двигали энтузиазм и любознательность. Для него экспедиция была приключением, а не обязанностью и тем более не препятствием, которое нужно как можно скорее преодолеть и вернуться к нормальной жизни. «Ни одно мое предложение, – писал Стеллер зимой перед отплытием, – даже самое незначительное, не считалось достойным воплощения, потому что командиры слишком упивались собственной мудростью, пока прискорбный конец и справедливая расплата не раскрыли их, к сожалению, слишком неприкрытого тщеславия»[86]. Стеллер уже тогда конфликтовал с Берингом, а Беринг конфликтовал с Чириковым, которому не терпелось выдвинуться в путь после нескольких лет задержки, вызванной, как он считал, нерешительностью руководителя. К этому времени лишь немногие сохраняли уважение к капитан-командору, но тому, похоже, было уже все равно.
К маю 1741 года корабли наконец были готовы к отплытию. Май был идеален для начала похода в Тихий океан, но им пришлось задержаться до июня, ожидая, пока из Большерецка довезут все припасы. После подсчета провианта выяснилось, что его хватит лишь на один сезон, без зимовки, хотя она планировалась изначально. Путешественники отправлялись в неизвестность, в надежде пересечь Тихий океан, но должны были вернуться осенью того же года, до того, как на камчатском побережье начнутся агрессивные зимние бури. Они уже так долго пробыли в Сибири, что сама мысль о том, что придется провести там еще год, сводила с ума. Их семьи уже вернулись домой, а Восток давно утратил всякий ореол заманчивости.
Последнее важное решение, которое было принято перед отъездом, – по какому именно пути отправляться искать новую землю на другой стороне океана. 4 мая Беринг созвал офицерский совет и вслух зачитал приказы из Санкт-Петербурга, чтобы затем обсудить разные варианты и определить, насколько они соответствуют указаниям. По обычаям русского флота, любые важные решения выставлялись на голосование всего старшего руководящего состава. Беринг был не диктатором, а скорее первым среди равных. Стеллера на собрание не пригласили. Будь он там, возможно, ему удалось бы уговорить совет высших чинов пойти не тем путем, который в конце концов был избран, потому что он слышал рассказы казаков о земле на севере, лежавшей ближе к Азии. Всю зиму офицеры обсуждали варианты, взвешивали все за и против и сопоставляли доступные им географические данные, какими бы скудными они ни были. В официальном указе императрицы Анны говорилось, что Беринг должен устроить собрание и «в том следовании помянутых американских берегов или островов искать с крайнею прилежностию и старанием и чинить им все с общаго согласия по науке морской, к чему в совет приобщать посланнаго Академии наук профессора, и как о разных путях до Америки от Академии наук в инструкции показано»[87], и на том этапе экспедиции он уже не собирался отступать от выданных инструкций – за неисполнение приказов могли строго наказать, да и он устал от любых споров по поводу возможных изменений. Кроер, представлявший на собраниях Академию наук, поскольку Стеллер приглашен не был, принес офицерскому совету свои карты и энергично настаивал на том, что сначала нужно искать земли и острова, теоретически лежащие между Азией и Америкой. Они заметно выделялись на картах, составленных его братом, французским географом Жозеф-Никола Делилем, тоже работавшим в Санкт-Петербургской академии наук. Делиль составил карту северной части Тихого океана, чтобы помочь Берингу добраться до Америки.
Делиля уважали в Санкт-Петербурге, а на его картах изображались крупные острова, еще не присвоенные ни одной европейской державой. Беринг не решился перечить приказам после всех случившихся задержек и неудач: вдруг если эти острова действительно существуют, и именно он будет виноват в том, что их не присоединят к России? К сожалению, на карте Делиля значились несколько воображаемых островов, якобы лежащих на пути экспедиции, в частности, Иездо (Эдзо) и земля Жуана да Гамы – те самые несуществующие острова, которые Беринг безуспешно пытался найти в конце первого похода десять лет назад. Поскольку эти земли, по слухам, были весьма изобильны, их поиск включили в официальный перечень инструкций Беринга.
Шпанберг фактически опроверг существование Иездо – или, по крайней мере, показал, что это просто один из Курильских островов, размеры которого были значительно преувеличены, – но ему не поверили. Ваксель, старший помощник Беринга на «Святом Петре», был с ним согласен, заявив, что «карта Шпанберга составлена на основании его личных наблюдений, а не по показаниям третьих лиц или по предположительным данным… Шпанберг не признал, однако, эти острова так называемой землей Иездо… Все же я лично остаюсь при твердом убеждении, что если только существует в этих местах земля, называемая Иездо, то это не может быть не что иное, как эти острова, равно как и вся цепь Курильских островов, которую тоже можно разуметь под этим наименованием. Если бы где-нибудь существовала еще другая земля Иездо, то ее обязательно нашли бы»[88]. Кроер, впрочем, настойчиво утверждал, что Беринг и Шпанберг не нашли этих островов, потому что они находятся дальше к востоку, чем кто-либо мог предположить. Он говорил весьма убедительно, к тому же его поддерживала Академия в Санкт-Петербурге, а у Беринга был приказ консультироваться с ним.
Несмотря на данные экспедиции Шпанберга и возражения Чирикова и Вакселя, которые считали эти земли несуществующими, Беринг решил, что сначала «Святой Петр» и «Святой Павел» отправятся на юг в поисках мифических земель, чтобы его не обвинили в неподчинении приказам. Другие офицеры, присутствовавшие на собрании, неохотно поставили свои подписи под документом, подтвердив, что экспедиция направится на юго-восток и восток, а не на северо-восток. Чириков позже сообщал, что они решили согласиться с предложенным курсом, потому что на картах было указано, что земля Жуана да Гамы – это «часть Америки, ибо по генеральным картам от самой Калифорнии до онаго места, где показана земля Иан де Гамма, положен вид земли, которой вид изображен и на карте профессора Делиль де ла Кроера»[89].
Из-за этого решения кораблям пришлось описать огромный, долгий круг по обширным, не нанесенным на карты просторам Тихого океана. Курс оказался катастрофическим, особенно учитывая, что они и без того на месяц задержались с отплытием, и у них не хватало припасов. Через десять лет Ваксель в своей книге возмущался Делилем и его помощниками из Академии наук:
А таким людям, которые берутся утверждать непроверенные вещи, основанные только на предположениях, я бы посоветовал лучше совсем молчать, а если им уж так хочется пофантазировать и порассуждать, то делать это про себя и не давать посторонним людям в руки плодов своей фантазии; тогда, по крайней мере, никто не был бы обманут их домыслами… [К]ровь закипает во мне всякий раз, когда я вспоминаю о бессовестном обмане, в который мы были введены этой неверной картой[90].
Морской совет также официально утвердил решение, о котором не сообщили командам: оба корабля должны были вернуться в Петропавловск к концу сентября. Утратив прошлой осенью значительную часть припасов, они не могли перезимовать на Аляске. А учитывая, что они уже задержались и сначала к тому же отправились на юго-восток в поисках мифических островов, для одного мореходного сезона задача стала абсолютно непосильной.
Остаток мая провели, спешно готовясь к отплытию: изготавливали канаты, конопатили щели, проверяли такелаж, варили смолу и заделывали трещины, чистили и выскабливали, занимались деревообработкой, доставкой и погрузкой припасов, ремонтом поврежденного оборудования. Проверяли и оснащали оба судна, чтобы убедиться, что те в идеальном состоянии, и составляли окончательные списки экипажей. Стеллер, словно не замечая лихорадочных последних приготовлений и не подозревая, насколько сложное с точки зрения логистики предприятие им предстоит, описывал необычный новый вид рыб, открытый им в Авачинской губе. Кроме четырнадцати пушек с ядрами и пороха для огнестрельного оружия, на корабли загрузили провизию, которой должно было хватить всему экипажу примерно на шесть месяцев: 4 тонны крупы, 3 тонны соленой говядины в бочках, 3 тонны сливочного масла в бочках, более тонны соленой свинины в бочках, около 300 килограммов соли, 120 бочек пресной воды (примерно двухмесячный запас), 3,5 тонны сухарей, а также 17 бочек пороха, дров, железа, запасных парусов, канатов, смолы и т. д.[91]
22 мая команды перевезли на борт личные вещи и расселились по каютам. На борту «Святого Петра» находились 76 человек, не считая 14-летнего Лаврентия, сына Вакселя; столько же и на борту «Святого Павла». В каютах было довольно тесно. «Святым Петром» командовал Беринг, старшим помощником стал лейтенант Свен Ваксель, также в число старших офицеров входили лейтенант Андрис Эзельберг, мастер Софрон Хитрово (в корабельных документах значился как Хитров) и второй помощник («подштурман») Харлам Юшин. Хирургом и натуралистом назначили Георга Стеллера. Алексей Чириков командовал «Святым Павлом»; ему подчинялись лейтенанты Чихачев и Плаутин, а также астроном и географ Людовик Делиль де ла Кроер. Кроме командиров, на кораблях размещались 19 морских пехотинцев с командирами и другие специалисты: казначей, помощник хирурга, бочары, конопатчики, парусный мастер, кузнец, четыре плотника и обычные матросы. Наконец, в плавание отправился художник Фридрих Плениснер, один из немногих друзей Стеллера, и три толмача, уроженца Камчатки, – их либо пригласили, либо силой заставили присоединиться к экспедиции, чтобы помочь объясниться с людьми, которые могут встретиться путешественникам в далеких странах за океаном.
В воскресенье, 24 мая, Беринг поднял свой флаг на борту «Святого Петра» и провел последний осмотр обоих судов, которые должны были плыть вместе, чтобы прийти друг другу на помощь в случае бедствия. В этот волнующий момент ветер внезапно стих, и корабли стояли в штиле, с обвисшими, бесполезными парусами, вплоть до 29 мая. Когда ветер снова поднялся, корабли отбуксировали во внешнюю часть гавани. К сожалению, ветры дули беспорядочно и не с нужной стороны, весь день ветры менялись между Z и E[92]. Корабли пришлось буксировать по Авачинской губе вплоть до вторника, 4 июня, когда подул легкий северо-западный ветер, паруса расправились, и суда медленно вышли из гавани. Они подняли паруса и вышли из Авачинской губы в хорошую погоду, направившись в сторону пустынного горизонта – на юго-восток, к земле Жуана да Гамы.
Утром 9 июня, после пяти дней плавания на юго-восток в хорошую погоду, два корабля дошли до 49-й широты, и моряки стали замерять глубины, потому что, согласно картам, до таинственной земли Жуана да Гамы оставалось совсем немного. Они внимательно следили за любыми необычными происшествиями. Ваксель писал:
На довольно дальнем расстоянии справа по ходу корабля мы увидели на поверхности воды какой-то черный предмет, над которым кружилось множество морских птиц всевозможных пород. Мы не могли догадаться, что это такое, бросили лот, которым не достигли дна, несколько изменили курс так, чтобы черный предмет, увиденный нами, остался не слишком далеко от нас, и в конце концов сумели разобрать, что это не что иное, как мертвый кит; тогда мы подплыли поближе к нему. Вначале мы были несколько встревожены и полагали, что это, возможно, каменный риф, которого нам следовало опасаться, так как, плавая в совершенно неизвестных и никем не описанных водах, никогда нельзя быть уверенным в том, что все обстоит благополучно[93].
В последующие три дня они постепенно продвинулись до 46-й широты, не найдя никакого дна на глубине 90 саженей и не увидев земли. 12 июня Чириков записал в судовом журнале:
[П]отому открылось, что земли Иан де Гамма нет, понеже мы место, где надлежало ей быть, перешли все через[94].
Тогда же случилась первая из известных ссор Стеллера с морскими офицерами: он не согласился с этой оценкой. Он заявил, что в кильватере корабля «впервые заметил весьма характерные признаки земли к югу или юго-востоку. Море было весьма спокойным, но мы видели различные водоросли, вдруг появлявшиеся возле нашего корабля в огромных количествах, особенно фукус пузырчатый, который, как правило, не встречается вдали от берега, ибо приливом его относит обратно к земле»[95]. Кроме того, он утверждал, что видел чаек, крачек и каменушек – также считая это несомненным доказательством того, что поблизости есть земля. Он не стеснялся высказывать свое мнение офицерам, но, не имея никакого флотского звания, не мог участвовать в принятии решений на корабле. Офицеры по большей части были русскими моряками, а Ваксель – шведом. Стеллер же был немцем, человеком совершенно иного образования и культуры. Он привык к открытым дискуссиям, пускай и организованным по определенным правилам, воспринимая споры как возможность попрактиковаться в ораторском искусстве. Здесь же от офицеров требовалось высказывать мнение, когда попросят, а в остальное время следовать приказам начальства.
Стеллер и офицеры были обречены на взаимное непонимание и конфликт, и их обоюдная враждебность со временем лишь росла. Он все чаще подвергался остракизму и насмешкам со стороны моряков и выплескивал весь свой гнев и обиды на страницы дневника. «Как раз тогда, когда были наиболее необходимы здравые рассуждения, чтобы достичь желаемой цели, – возмущался он, – морские офицеры стали вести себя странно. Они стали высмеивать или игнорировать любое мнение, которое высказывал не моряк [Стеллер был едва ли не единственным на борту «Святого Петра», кто подходил под это описание], словно вместе с правилами навигации они усвоили и все остальные науки и логику»[96]. Стеллер искренне считал, что судьба путешествия полностью зависела от его научных наблюдений и мнений, и те, кто к нему не прислушивается, просто идиоты. Его талант и опыт пропадали втуне «в то время, когда единственный день – позже столько этих дней было потрачено впустую – мог стать решающим для всего предприятия»[97]. Конечно же, корабли и близко не подошли ни к какой земле, но Стеллер обиделся, что от его мнения отмахнулись: он привык, что к его словам относятся серьезно. Морякам же он казался несносным, надутым занудой, считавшим, что может отдавать приказы профессионалам, которые провели в море всю жизнь и точно знают, по каким признакам можно определить, что берег близко.
Стеллер редко отступался, когда искренне считал, что прав (то есть почти всегда), и продолжал высказывать свои мнения. Моряки провоцировали и дразнили его просто для того, чтобы жизнь в море казалась не такой монотонной. Стеллер стал для них объектом насмешек и часто этого не осознавал. Иногда моряки нарочно спорили с ним, чтобы посмотреть на его реакцию. Один из них заявил, что океанских течений не существует. Другой показал на карту мира и уверенным тоном сказал, что они в Атлантическом океане, к востоку от Канады. Третий уверял его, что Мальдивские острова на самом деле находятся в Средиземном море, а не в Индийском океане. Стеллер был настолько высокомерен и лишен чувства юмора, настолько недооценивал познания русских и вообще моряков, что искренне верил, что они говорят серьезно, и громко спорил. Возможно, он стал раздражительным еще и из-за неумеренного употребления алкоголя; не считая более тонких намеков, в судовом журнале «Святого Петра» за май 1741 года, в самом начале экспедиции, имеется следующая запись: «Мичман Лагунов набрал из одного из бочонков на борту ведро водки и отдал его адъюнкту Стеллеру»[98].
13 июня два корабля сошлись совсем близко, и Ваксель через «говорную трубу», перекрикивая ветер и волны, переговорил с Чириковым на «Святом Павле». Как и было обговорено, Беринг приказал обоим кораблям прекратить поиски земли Жуана да Гамы и отправиться на северо-восток к Америке; указание о поиске мифических островов в Тихом океане было выполнено. Два корабля, оба – единственная надежда друг друга в огромном, не нанесенном на карту пустынном океане, – вместе двинулись на запад. Но рано утром 20 июня погода испортилась. Из-за темноты, тумана и «штормовых ветров», характерных для региона, корабли потеряли друг друга из виду.
Капитаны заранее договорились, что делать в таком случае; оба судна кружили по окрестным водам, ища друг друга, в течение трех дней. Но все было зря: из-за неблагоприятных ветров и плохой погоды они так друг друга и не увидели, хотя подходили близко. После того как истек обговоренный срок, Беринг и Чириков продолжили путь по отдельности. Беринг приказал «Святому Петру» идти на юг еще четыре дня в сумрачную, туманную погоду, вплоть до 45 градусов северной широты, чтобы проверить гипотезу Стеллера о близкой земле. Но, когда выяснилось, что время оказалось потрачено зря, раздраженный Беринг объявил курс на северо-восток. По крайней мере, никто теперь не мог сказать, что он не выполнил приказа советоваться с учеными, а к догадкам Стеллера было утрачено всякое доверие, как бы энергично он их ни отстаивал.
Часть третья
Америка
На этой гравюре 1790-х годов видны лодки тлинкитов, живших на побережье Аляски. Гравюра сделана по наброску Джона Сайкса в книге Джорджа Ванкувера «Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг света»
На рисунке Свена Вакселя изображена первая встреча команды «Святого Петра» и алеутов с островов Шумагина
Изображение острова Беринга и странных животных, которых обнаружили потерпевшие крушение моряки: стеллеровой коровы и северного морского льва. Рисунок Софрона Хитрово, похожий на зарисовку Свена Вакселя
Otaria ursina, медвежий тюлень, или стеллеров морской медведь (современное название – Callorhinus ursinus, или северный морской котик), из раннего издания знаменитого трактата Георга Стеллера о естественной истории «О морских животных»
На этой иллюстрации к немецкому изданию трактата «О морских животных» 1753 года изображены Стеллер, Фридрих Плениснер и Фома Лепехин во время знаменитого вскрытия стеллеровой коровы, вымершего представителя семейства дюгоневых
Глава седьмая
Большая земля
Погода стояла хорошая, и моряки, когда не были заняты работой, собирались возле лееров «Святого Петра», обсуждая затруднительное положение, в котором оказались: они прошли огромное расстояние, но так и не увидели земли ни с одной стороны. К концу июня бочонки с пресной водой наполовину опустели, а рационы урезали на случай, если земля окажется еще дальше. Кок готовил кашу для ужина по слегка измененному рецепту, чтобы она была крутой, а не водянистой. Корабль несколько недель шел к востоку при хорошем ветре и погоде.
Мы не видели ничего, кроме неба и моря, и слышали лишь изумленные восклицания офицеров – как мы могли так сильно ошибиться, посчитав, что Камчатка отделена от Америки лишь узким проливом[99].
Беринг почти все время лежал в каюте, страдая от неизвестной болезни, вызывавшей упадок сил, так что офицеры стали управлять кораблем сами, не советуясь с ним и не сообщая о своих решениях. Во главе экспедиции, по сути, встал старший помощник Ваксель при поддержке морского совета, и Беринг очень редко упоминается в его воспоминаниях о путешествии. «Уже так вскоре у них возник другой замысел, – вспоминал Стеллер, – не сообщать капитан-командору, который не выходил из каюты, больше, чем считали нужным»[100]. «Святой Петр» по-прежнему шел на северо-восток, и около месяца путешествие было тоскливым и неясным; никаких явных опасностей не возникало, но неизвестность все равно тревожила. Они не видели ничего достойного внимания и слышали только шипение волн и шум ветра в парусах.
Распорядок дня оставался неизменным; никуда не делись и внутренние конфликты. Если на корабль размерами 27,5 на 7 метров втиснуть 77 человек, остаться наедине с собой практически невозможно. Как всегда, в центре перебранок оказывался Стеллер, который продолжал называть офицеров дураками из-за того, что они не следовали его советам о том, куда вести корабль. Несмотря на постоянные споры и явное отвращение к тому, что его воспринимали несерьезно, а его мнения игнорировали или высмеивали, Стеллер не считал себя причиной каких-либо межличностных проблем на корабле. Русские моряки, со своей стороны, продолжали оскорблять его и насмехаться за привередливость и чуждое им высокомерное поведение. Стеллер писал:
Из-за бесстыдных, весьма грубых выговоров со стороны офицеров, которые бесцеремонно и презрительно отвергали все самые обоснованные и своевременные предостережения и предложения, будто по-прежнему имели дело с казаками и несчастными ссыльными, везущими провизию из Якутска в Охотск и обязанными просто делать, что им говорят, не отвечая и не возражая, и я, и другие уже давно закрыли рты. Неважно, что́ мы видели и обсуждали ради общего блага и общественного интереса, всегда был готов ответ: «Ты ничего не понимаешь; ты не моряк; ты не Господь Бог, чтобы это знать!»[101]
Офицеры, возмущался Стеллер в дневнике после того, как кто-то задевал его честь или не демонстрировал уважения, которого, по его мнению, он был достоин, привыкли иметь дело с невежественной толпой в Сибири, а не с образованным джентльменом вроде него. Они «совершенно забылись и вследствие дурной привычки верили в собственную непогрешимость и чувствовали себя оскорбленными, если кто-либо рассуждал о том, о чем они не имели представления»[102].
В первый раз, в начале июня, Стеллер был уверен, что они пропустили землю на юге. Теперь, в начале июля, он заявил, что суша должна быть совсем недалеко на севере. Увидев спутанные клубки водорослей под поверхностью океана, он пытался убедить офицеров, что земля близко, скорее всего – на севере, и крайне разгневался, когда его подняли на смех и продолжили идти на северо-восток. Стеллер представил им доказательства, основанные исключительно на книжных познаниях о растениях и животных, а не на личном опыте. Вот большой пучок «камышовой травы», распространенной на Камчатке, и это несомненно значит, что где-то недалеко земля, потому что он бы распутался, если бы корабль был далеко в открытом море. Сильное течение натуралист тоже считал доказательством близости к земле. Часто появлялись «стаи чаек, которые, особенно в июне, всегда держатся близко к берегу, когда рыбы приплывают к большой земле и входят многим числом в устья рек, обеспечивая им наилучший прокорм»[103]. Стеллер заметил, что птицы обычно летели на север или северо-запад. Иногда мимо проплывали «красные и белые стрекающие медузы», которые, как ему казалось, не встречаются дальше, чем в пятнадцати – двадцати милях от берега. Были там и каланы, которых он называл морскими бобрами; Стеллер иногда замечал их в комках водорослей, хотя, кроме него, их никто там не видел. Зная сейчас, где именно находился корабль по отношению к Аляске, можно с уверенностью сказать, что так далеко в море морских выдр быть просто не могло.
Хотя «эти неопровержимые доказательства близкой земли», как уверял Стеллер будущих читателей своего дневника, были представлены русским офицерам и недужившему датскому командиру с «рассудительностью, большим уважением и терпением», когда он рекомендовал им «проложить курс на север, чтобы добраться до земли быстрее», те лишь вздыхали и игнорировали его. Сам Беринг, похоже, уже пожалевший о решении пригласить Стеллера в путешествие, заявил тому, что считает «смехотворной», «неподобающей их достоинству» и «раздражающей» необходимость к нему прислушиваться и что «во многих местах океана водорослями заросло все море»[104]. Стеллер был ошеломлен, когда его в высшей степени разумный вывод о том, что поблизости «неизбежно» находится земля, глава экспедиции просто отверг, да еще в столь грубой форме. «Что я мог на это сказать?» – писал он. На этот раз Стеллер был неправ, как, впрочем, и во многих других случаях. В дневнике он очень подробно описал свои рассуждения, и определенная логика в них просматривается; но если бы корабли в тот момент повернули на север, а не продолжили движение на северо-восток, они заблудились бы, и дорога к Америке или Алеутским островам заняла бы гораздо больше времени.
Несмотря на подобные сомнительные советы, порой Стеллер бывал весьма проницательным. Свои нехорошие предчувствия описал он едкими, но по-своему мудрыми словами:
Впервые мне представилась печальная возможность понять, отчего так часто самые грандиозные и самые полезные предприятия, несмотря на все внимание к ним, на большие затраты и на предоставление им всех ресурсов, которые только можно предоставить, в конце концов достигают намного меньшего с точки зрения общественного блага, нежели планировалось изначально; и отчего, с другой стороны, самые малые начинания благодаря взаимовыгодному сотрудничеству искренних умов, лишенных всяких эгоистических побуждений и алчности, могут увенчаться великими достижениями, которые окупают вложенные в них усилия тысячекратно[105].
К середине июля они пробыли в море почти шесть недель. Ветер был попутный, солнце приятно светило и вроде бы ничего не предвещало беды, но запасы пищи и воды постепенно заканчивались, и все были очень встревожены из-за того, что земля все никак не появлялась на горизонте. Насколько долгим может оказаться путь до земли? Что, если прежде, чем они доплывут, у них закончится провизия и питье, или их поразит цинга, и они все до единого сгинут ужасной смертью, подобно другим знаменитым мореходам, бороздившим просторы Тихого океана, о которых они, несомненно, читали, например Фернан Магеллан? Моряки достаточно разбирались в географии, чтобы понимать, что океан не бесконечен, но фантазия рисовала страшные картины того, что с ними может произойти, если они окажутся далеко от дома, на чужих берегах, не нанесенных ни на одну карту. Морской совет собрался в большой каюте, и офицеры договорились, что если к 20 июля не увидят земли, то развернут корабль, прекратят экспедицию и поспешно вернутся в Авачинскую губу.
15 июля был ясный, солнечный день, благоприятный ветер гнал корабль вперед. Вечером, когда на востоке собрались облака, Стеллер гулял по палубе и вглядывался в сгущавшуюся дымку. Увидев едва заметный силуэт в тумане, он закричал: «Земля!» и бросился к лееру. Волна воодушевления прокатилась по кораблю; у леера собралось много людей, некоторые даже полезли на мачты, чтобы разглядеть все получше. Но из-за своего прошлого поведения ему не удалось никого убедить, что на этот раз он сказал правду. «Поскольку именно я первым объявил, что вижу землю, – дулся он, – и поскольку очертания в самом деле были не настолько ясными, чтобы их можно было зарисовать, мое объявление сочли просто очередной причудой»[106]. Несмотря на небольшой дождь, уже на следующий день, 16 июля, землю заметили «официально». Стеллер уже в третий раз объявлял, что поблизости земля, но лишь единожды оказался прав. Ваксель писал, что они провели наблюдения и вычислили, что «Святой Петр» находится на широте 58 градусов 30 минут, в 50 градусах к востоку от Авачинской губы. Они уже видели Аляску, но до нее было еще три-четыре дня пути.
На страницах своего дневника Стеллер злорадствовал: он был прав с самого начала. Если бы они сразу послушали его, а не ждали, пока земля покажется на горизонте «через шесть недель после выхода из Авачинской губы, мы бы добрались всего за три-четыре дня».
Согласно судовому журналу, первое, что они увидели в Америке, – гряду из могучих заснеженных пиков, скрытых в тумане, и «над ними высокую сопку»[107]. Располагавшаяся примерно в сотне морских миль от корабля «сопка» возвышалась над широкой грядой небольших гор, простиравшихся в обе стороны вдоль берега, насколько хватало глаз. Через туман виднелись бесконечные зеленые леса. Был Ильин день, и гору решили назвать в честь Св. Ильи[108]. Горы, по наблюдениям Стеллера, «были такими высокими, что мы отлично видели их в море с расстояния шестнадцати голландских миль [почти 90 км]… Не могу припомнить ни одной столь же высокой горы в Сибири или на Камчатке»[109]. Ваксель подтверждает его слова в своей практичной манере: «Перед нами находились необычайно высокие горы, покрытые снегом»[110].
Все офицеры и матросы радостно кричали и поздравляли друг друга с открытием новых земель. Они хлопали друг друга по спинам, представляли будущий почет и славу и обсуждали, какие награды ждут их в Санкт-Петербурге. Но Беринг, который по такому случаю ненадолго вышел из каюты, не выказал никакой радости, когда прошелся по палубе, увидел открывшуюся перед ним сцену и услышал далекий шум прибоя. Он пожал плечами, вернулся обратно в каюту и позже мрачно, пророчески отметил:
Сейчас мы думаем, что добились всего, и многие ходят надувшись, но они не задумываются о том, какой именно земли мы достигли, насколько мы далеко от дома и что еще может произойти; кто знает, что случится – вдруг задуют пассаты, которые не дадут нам вернуться? Мы не знаем этой страны, и у нас нет припасов для зимовки[111].
Хотя это была кульминация его карьеры, Великой Северной экспедиции и воплощение мечты, которую лелеял еще Петр Великий поколение назад, Беринг видел только новые проблемы и не порадовался моменту. Он провел своих людей через полмира, чтобы открыть новые земли для Российской империи, но как теперь добраться с ними обратно домой? Судьба Чирикова и «Святого Павла» тоже беспокоила его; о них до сих пор ничего не было известно. Может быть, их корабль разбился, а команда утонула? Или же они сейчас на берегу и отчаянно нуждаются в помощи?
Америка, Аляска, Большая земля, известная по слухам и легендам, имела разное значение для разных людей на корабле. Для Стеллера силуэт горы Святого Ильи на горизонте означал исполнение мечты, прекрасную возможность сделать себе имя как естествоиспытателю, который первым посетил новую землю, описал флору и фауну, открыл и показал миру научные сокровища незнакомой территории. Ему представлялись долгие вылазки вглубь континента для сбора больших коллекций экзотических образцов и поиска месторождений ценных минералов, за открытие которых Академия и правительство в Санкт-Петербурге наградят его почестями и должностями. С другой стороны, для Беринга и некоторых других неизвестный берег представлял собой в первую очередь опасность, от которой нужно держаться подальше, или, если и приближаться, то с крайней осторожностью: там могли ждать враждебно настроенные люди, опасные для мореходства условия, скрытые рифы или мели. Пока Беринг, Ваксель и другие офицеры, беспокоившиеся из-за бесчисленных возможных опасностей, которые могли повредить или даже потопить корабль, призывали к осторожности, Стеллер носился туда-сюда – ему не терпелось поскорее сойти на берег и исследовать новый континент. Каких новых животных, какие растения удастся ему открыть и назвать?
Из-за встречных ветров, дождей, облаков и тумана парусник три дня не мог подойти к берегу. Они болтались туда и сюда, пытаясь подобраться ближе. Глубина по-прежнему не промерялась лотом. Стеллер все больше волновался, ожидая шанса исследовать новую землю, и не преминул сообщить офицерам свое мнение по поводу того, где можно безопасно бросить якорь, основанное на наблюдении за течениями. Когда его резко осадили (он что, уже бывал здесь и точно все знает?), он огрызнулся, что «если не уверен, лучше действовать исходя из самых скудных сведений, нежели вообще ни на что не опираясь, полагаясь лишь на удачу»[112]. Стеллер был настолько уверен в себе, что даже не пробовал отнестись уважительно к мнениям, противоположным его собственному, – особенно к мнениям морских офицеров, привыкших к командной иерархии. На этот раз, как часто случалось до этого, он оказался неправ в своих предположениях. Эти течения свидетельствовали не о близости спокойного устья реки; это было быстрое морское течение, проходившее между мысом Саклинг и островком возле берега, где они собирались бросить якорь. Осторожный Беринг приказал на ночь отойти от побережья острова на случай, если разразится буря.
Всю ночь корабль лавировал и лишь на следующее утро снова подошел к острову. После дня наблюдений за западным берегом, заметив несколько опасных рифов, Беринг снова приказал отойти в море, и они провели еще одну ночь, лавируя. На следующее утро, 20 июля, офицеры наконец решили бросить якорь на довольно открытом месте у острова, который ныне носит название Каяк; он находится совсем рядом с материком. Они увидели «красивейшие леса близ моря, а также большую равнину у подножия гор. Сам берег был плоским, ровным и, насколько мы могли разглядеть, песчаным»[113]. Лейтенант Хитрово сообщил, что остров «стоит один в море, словно каменный столб; при отливе виден скрытый под водой скалистый риф»[114]. «Святой Петр» бросил якорь в серовато-голубую глину и спустил лодки на воду для более подробных исследований. Стеллер разглядывал новую землю: о, если бы только он смог сойти с корабля, постоять на песке, а потом уйти вглубь острова!
К тому времени две трети запасов воды уже были израсходованы, так что поиск пресной воды стал главной целью. Беринг приказал Хитрово взять команду из пятнадцати человек и добраться на баркасе (лангботе) до другого небольшого острова поблизости, ныне носящего название Уингем. Его задачей было найти более защищенное место для стоянки и место, где можно срубить несколько больших деревьев на древесину. Вылазка Хитрово должна была быть максимально короткой: ему приказали в кратчайшие сроки вернуться на «Святой Петр» с докладом. Беринг не собирался рисковать: после расставания со «Святым Павлом» любой просчет мог обречь их на гибель. Но среди поставленных перед ним задач значился поиск безопасной гавани для будущих тихоокеанских экспедиций, так что он, как всегда, следовал инструкциям до последней буквы.
Пока Хитрово осматривал остров Уингем, небольшую лодку, ялик, отправили прямо на запад, к середине острова Каяк, для поисков ручья с пресной водой. Со Стеллером пока никто не говорил, так что он стоял и смотрел, как спускают на воду лодки. Наконец он прошел по палубе к Берингу и спросил, к какому береговому отряду должен присоединиться. Стеллер на мгновение даже лишился дара речи, когда Беринг ответил, что ему на берег сходить слишком опасно, и на остров отправятся только добытчики пресной воды с бочками. Беринг считал желание Стеллера собрать образцы растений и животных на острове пустой тратой времени: куда они денутся? Это могло быть сделано в ходе следующего путешествия. По мнению Беринга, ограниченное время, которым они располагали, следовало потратить на изучение географии берега, составление карт и поиск гаваней, чтобы сделать следующие путешествия безопаснее – и, конечно, чтобы у России было больше оснований претендовать на эти земли. А затем нужно возвращаться на Камчатку, потому что судоходный сезон подходил к концу, и Берингу вовсе не хотелось застрять на этом далеком и опасном берегу без провианта. Кроме того, Беринг беспокоился из-за ветра. «Святой Петр» стоял не в безопасной гавани, и если погода вдруг переменится, он, конечно, сможет быстро вызвать обратно команды на лодках, но что ему делать, если Стеллер и его помощник уйдут куда-нибудь вглубь острова и не успеют вернуться на корабль?
Стеллер воображал, как вернется в Санкт-Петербург триумфатором и привезет туда чудеса нового мира. Оправившись от потрясения, он саркастически заявил, что изумлен тем, что они проделали весь этот путь просто «для того, чтобы доставить американскую воду в Азию»[115]. И Хитрово, и Ваксель были согласны взять Стеллера с собой, но Беринг был непреклонен и попытался запугать Стеллера «ужасными историями об убийствах». Стеллер горячо возражал. Он напоминал, что «он не женщина, чтобы бояться опасностей». Ступить на берег в этот исторический день первой высадки европейцев на берегах северо-запада Америки, – говорил он, – «моя главная работа, мое призвание и мой долг»[116]. Баркас Хитрово и его команды отплыл, и Стеллер ошеломленно смотрел, как они удаляются на север.
Он снова стал умолять командора отпустить его, а затем пригрозил, что доложит о его действиях в адмиралтейство, Академию и Сенат «в тех выражениях, которых он заслуживает». «Святой Петр» был достаточно маленьким судном, так что их спор услышали многие. Беринг назвал его дикарем, и после этого Стеллер «отбросил всякое уважение и прочитал особую молитву»[117], а затем указал, что изучение флоры и фауны – его первоочередная задача в путешествии. «Особая молитва», о которой писал Стеллер, на первый взгляд кажется каким-нибудь проклятием, но, возможно, это была молитва, одинаково важная для обоих лютеран, потому что она, похоже, возымела необходимое действие: вместо того чтобы потерять терпение и посадить Стеллера на гауптвахту, «командор тут же смягчился». Беринг с неохотой разрешил Стеллеру отправиться на берег на яле с командой Вакселя, но помощников, не считая его слуги, казака Фомы Лепехина, не выдал. Когда в девять часов утра Стеллер и Лепехин устроились в яле среди пустых бочонков для воды, Беринг приказал двоим трубачам выйти к лееру и трубить, как если бы Стеллер занимал высокое положение во флоте. Это, несомненно, была насмешка, но Стеллер нашелся и с честью вышел из положения, весело помахав рукой. Он был совершенно уверен, что Беринг смилостивился и отпустил его на берег только для того, чтобы иметь возможность заявить, что отправил своего представителя для оценки минеральных богатств земли, как гласили официальные инструкции. Возможно, саркастически рассуждал Стеллер, он «будет наблюдать воду», а команда Хитрово «исследует ветра». День стоял хороший, была переменная облачность, дул приятный восточный бриз.
Пока матросы наполняли бочки пресной водой в маленьком ручье (ныне он носит название Стеллерс-Крик, «Стеллеров ручей»), Стеллер, понимая, что «время его мало и драгоценно», торопливо прошел по песчаному берегу и проник в густой лес; вслед за ним следовал Лепехин. Временами ученый наклонялся и выкапывал растения, которые казались ему необычными, и вскоре обнаружил следы «людей и их деятельности». Под кроной большой ситхинской ели он нашел выдолбленное бревно, похожее на корыто. В нем лежали еще тлевшие угли, и Стеллер заметил, что местные жители, «не имевшие горшков и иной посуды, готовили мясо на раскаленных докрасна камнях»[118]. Он также отметил, что обгоревшие кости, «на которых еще кое-где оставались кусочки мяса», разбросаны по всей стоянке, где «сидели едоки». Кости, судя по виду, не принадлежали морскому млекопитающему, и Стеллер предположил, что это, возможно, останки северного оленя, но, поскольку никаких оленьих следов на острове не было, его, должно быть, привезли с материка. Еще он нашел куски сушеной рыбы того же вида, что на Камчатке часто использовалась «вместо хлеба для всякого приема пищи», а также несколько «очень больших» морских гребешков шириной около 20 сантиметров. Наконец, он нашел огниво и трут из мха, очень похожие на те, которыми пользовались камчадалы. Пройдя дальше по лесной тропинке, они увидели несколько поваленных деревьев и заметили, что срубили их множеством тупых ударов каменными или костяными топорами, «похожими на те, что когда-то использовали древние германцы, и называемыми ныне молниями». С других деревьев была содрана кора до высоты, до которой мог дотянуться человек; кору, скорее всего, использовали для изготовления корзин, шляп и хижин. Стоянка и инструменты, которые обнаружил Стеллер, ассоциируются современными этнографами с летней стоянкой чугачей близ пролива Принца Вильгельма[119]. Деревья были поистине впечатляющих размеров, высотой более тридцати метров, и они могли поддерживать кораблестроительную промышленность «веками», как писал Стеллер, большой любитель преувеличений.
Стеллер и Лепехин продолжили путь по влажному, туманному лесу. На тропе они обнаружили и другие признаки того, что по ней недавно проходили люди. Они нашли «место, забросанное скошенной травой», которую Стеллер осторожно разбросал и обнаружил под ней углубление с камнями, лежащими на древесной коре. Он нервничал, несмотря на сильнейшее желание увидеть «людей и поселения», потому из оружия у него имелся только небольшой нож; у Лепехина, кроме ножа, было еще и ружье. Судя по всему, это был погреб или схрон размером примерно четыре с половиной на шесть с половиной метров и четыре с половиной метра в глубину; в нем лежали инструменты, посуда, сладкая трава, «из которой гонят самогон», и засушенные травы, похожие на те, из которых на Камчатке делают сети. Еще там лежали несколько лукошек с копченым лососем, ремни, сплетенные из водорослей, и длинные стрелы. Это были тайные запасы еды на зиму. Стеллер взял образцы каждого предмета и отправил Лепехина обратно к кораблю предупредить береговой отряд, чтобы они были осторожны. Он продолжил путь по «густому и темному лесу», чтобы изучить и рассмотреть «достойные внимания образцы трех царств природы». С трудом забравшись на поросший елями холм, он увидел вдалеке, в глубине острова, дым костра. Стоянка, скорее всего, принадлежала другому народу – эякам, которые жили вдоль реки Коппер, или тлингитам с залива Якутат к востоку. Будь у Стеллера время, он мог бы встретиться с несколькими разными племенами. Но ему нужно было возвращаться. Он «еще раз с печалью подумал о препятствии для моих исследований, сожалея о действиях людей, в чьих руках находилось принятие решений по этим важнейшим вопросам»[120].
Хотя Стеллер сгорал от желания пойти туда, откуда шел дым, и встретиться с людьми, времени на это не было, так что он побежал обратно на берег со своей охапкой растений. Со следующей партией бочек с водой, отправленной на корабль, стоявший на якоре поодаль от берега, он послал записку, в которой просил у Беринга разрешения взять ял и небольшую команду и исследовать дальнюю часть острова, который, по его подсчетам, был примерно тринадцать миль в длину и всего две в ширину, чтобы собрать еще больше образцов. «Я смертельно устал, – писал он. – За время ожидания я составил на берегу описания редких растений, которые, как я опасался, могут завянуть, и с радостью выпил чаю, заваренного на великолепной воде»[121].
Ожидая ответа на свою просьбу, Стеллер услышал крики и щебет неизвестных птиц, увидел незнакомые отпечатки ног на земле, а повсюду вокруг росли растения, неизвестные ни в Азии, ни в Европе. Птицы, в частности, были «странными и неизвестными… легко отличимыми от европейских и сибирских видов благодаря яркому окрасу»[122]. Он по-прежнему изумлялся изобилию природной красоты, лежавшей перед ним, и с волнением ждал разрешения исследовать новую землю более тщательно. «Примерно через час, – саркастически писал он, – я получил патриотичный и вежливый ответ, что должен вскорости вернуться на борт, иначе меня не станут ждать и оставят на берегу»[123]. Стеллер, всегда готовый испытать судьбу, не собирался отказываться от своей цели, даже несмотря на угрозы товарищей по экипажу. Рассчитав примерное время наполнения бочек с водой, он снова пошел в лес. «Поскольку времени на морализаторство не оставалось, – писал он (хотя, вернувшись на борт, он морализаторствовал весьма охотно), – и нужно было собрать как можно больше, потому что еще до наступления вечера мы покинули эти земли, я попросил своего казака подстрелить нескольких редких птиц, которых я заметил, а сам я снова отправился на запад и вернулся на закате с различными наблюдениями и образцами»[124].
Стеллер задержался дольше, чем следовало. Ял, впрочем, ожидал его, и он с немалым опасением поспешно вернулся на корабль – и очень удивился, когда ему протянули чашку горячего шоколада, в те дни – редкого угощения, употреблявшегося только в особых случаях. Вряд ли ему могли предложить более необычный напиток. Только представьте: какао вырастили где-то в Америке, скорее всего – в Мексике, перевезли через Атлантический океан (скорее всего – в Испанию), а оттуда через Амстердам в Санкт-Петербург. Потом его на телеге доставили в Москву, провезли через всю Сибирь, погрузили на «Святого Петра», оно пересекло Тихий океан, вернулось обратно в Америку, и Стеллер выпил его после того, как стал одним из первых европейцев, ступивших на землю Аляски. Шоколад проделал еще более длинный путь, чем моряки, он практически совершил кругосветное путешествие.
Примерно через час после Стеллера вернулся и Хитрово со своей командой из 15 человек. Он сообщил хорошую новость: ему в самом деле удалось найти хорошую, безопасную гавань на восточном берегу острова Уингем, примерно в милю длиной и полмили шириной. «[Г]лубина от нашего пакетбота 20, 18, 15, 10, 8, а в самом во уском месте 3, 3 1/2, 4 сажени, а за островом 4, 4 1/2 сажени, грунт – песок и местами ил и ото всех стран закрыты»[125]. Исследуя маленький остров, моряки обнаружили летнюю хижину («балаган») из тесаных досок. В хижине нашлись инструменты и домашняя утварь, в том числе корзинка необычной конструкции, лопата и небольшой камень с пятнами меди. Хитрово считал, что этот камень, возможно, служил точилом для медных инструментов. Они не нашли людей, но, по всем признакам, незадолго до прибытия путешественников они там были. Хитрово предположил, что местные жители, как и обитатели острова Каяк, «увидев нас, бежали и спрятались, или жилища у них на материке, а на этот остров они приплывают летом, чтобы ловить рыбу и других морских зверей»[126]. Вывод вполне логичный, учитывая маленькие размеры острова: спрятаться от команды из 15 человек на таком клочке земли было бы весьма затруднительно. Но хорошей новостью для Беринга стало то, что Хитрово не только открыл гавань, но и составил ее примерную карту, выполнив один из конкретных пунктов данной ему инструкции.
Беринг приказал нескольким морякам вернуться на яле, чтобы наполнить последние бочонки пресной водой и оставить подарки; Ваксель описывает это так:
После того как мы полностью запаслись водой, мы послали нашу шлюпку на берег, чтобы положить в упомянутую земляную юрту несколько подарков для их обитателей. Подарки эти состояли из куска ситца или гладкого полотна зеленого цвета, двух железных тарелок, двух ножей, двадцати больших стеклянных бус, двух железных курительных трубок и фунта листового табака[127].
Они хотели оставить хорошее впечатление о бородатых незнакомцах, чтобы заложить прочный фундамент для будущих визитов. Ваксель сказал, что копченая рыба, которую они забрали со стоянки, «оказалась очень вкусной», и был доволен обменом. Стеллер, впрочем, смотрел на все мрачнее, узнав, что после того, как он рассказал, где находится стоянка, ее разграбили:
Если мы снова вернемся в эти места, местные, скорее всего, убегут еще быстрее или же проявят такую же враждебность, как проявили к ним, особенно если они захотят съесть или выпить табак… они тогда решат, что мы хотели их отравить![128]
Стеллер либо возражал из принципа, либо же смотрел на все через призму плохого отношения к коренным жителям Камчатки. Если судить по данным других ранних встреч европейцев с далекими народами, то подарки с железными вещами, например котелками или ножами, обычно считались весьма ценными и затем вспоминались с большой теплотой.
Находясь неподалеку от стоянки, Стеллер чувствовал, что за ним кто-то следит, – некое непонятное беспокойство. Его подозрения нашли подтверждение полвека спустя из неожиданного источника. Моряки с другого российского корабля под командованием Гавриила Сарычева, участвовавшего в экспедиции Иосифа Биллингса в 1790 году, встретили «очень дружелюбного и умного» эяка, который через переводчика рассказал им историю из далекого детства. Его семья часто бывала на острове после рыбалки и охоты на материке, и однажды к берегу пристал корабль.
Люди с сего судна сходили на берег и оставили в их шалашах некоторое число ножей и корольков[129].
После того как были погружены последние бочки с водой, рассказаны все истории и выпит горячий шоколад, все вернулось на круги своя. Поскольку его не стали сразу отчитывать за небольшое опоздание, Стеллер, по его выражению в дневнике, «изложил свои идеи о разных вещах» – и, скорее всего, в своей обычной высокомерной манере, вызывавшей всеобщее отвращение. Узнав, что южную оконечность острова собираются назвать мысом Святого Ильи и обозначить ее соответствующим образом на карте, он стал ворчать, что «офицеры твердо вознамерились нанести на карту мыс», несмотря на то что он «в ясных выражениях разъяснил им, что остров нельзя называть мысом». Он даже позволил себе в рамках общего поучения указать, что мыс должен отходить от материка, «тот же смысл выражает и русское слово нос, а в данном случае остров представляет собой лишь оторванную голову или оторванный нос»[130]. Педантов не любит никто, и, читая эти строки, легко представить, как окружающие раздраженно вздыхали и мрачно поворачивались спиной.
Утром следующего дня, 21 июля, Беринг неожиданно вышел на палубу, «против своего обыкновения», и, не посоветовавшись ни с кем, приказал поднять якорь и идти на север вдоль берега. Ваксель попытался убедить Беринга задержаться хотя бы на несколько часов, чтобы наполнить последние 20 бочек пресной водой, но Беринг отказался, заявив, что «поскольку приближается август, а мы не знаем ничего ни о земле, ни о ветрах, ни о море, в этот год мы должны удовлетвориться уже сделанными открытиями»[131]. Ваксель и Хитрово были недовольны приказом, особенно тем, что придется идти без полного запаса воды, но решили не созывать морского совета для дальнейших обсуждений и исполнили, по крайней мере, частично, пожелания капитана. Вместо того чтобы отправиться обратно домой по известным водам, они, по словам Вакселя, «намеревались следовать вдоль берега»[132]. У Беринга были свои причины для опасений: его снедал страх, что, имея провианта всего на один сезон и не зная ни ветров, ни течений, они на самом деле попали в весьма опасную и рискованную ситуацию. На пересечение океана у них ушло семь недель, так что, очевидно, на обратный путь у них уйдет как минимум не меньше времени. Просмотрев закономерности в перемене ветров, записанные в судовом журнале, Беринг пришел к выводу, что в течение большей части лета ветра вдвое чаще дуют с северо-востока или востока, чем с противоположного направления. Если эта закономерность сохранялась так же, как и в других муссонных системах, думал он, то со сменой времен года ветра сменятся на противоположные. В этом случае кораблю придется бороться со встречными ветрами, которые две трети всего времени будут дуть с противоположной стороны – с юго-запада. Ветер будет им мешать. Если это действительно так, то у них есть всего три с небольшим недели, чтобы исследовать побережье Аляски, продвигаясь при этом к северо-западу.
Позже тем же утром, когда корабль отошел от островов, Стеллер философски размышлял, что «единственная причина, по которой мы не попытались высадиться на материк, – косное упрямство и тупой страх, что на нас нападет горстка невооруженных и довольно робких дикарей, от которых не было причин ждать ни дружелюбия, ни враждебности, и трусливая тоска по дому, которую они считали извинительной… [В]ремя, проведенное за исследованиями, арифметически пропорционально времени, потраченному на подготовку: десять лет они готовились к этому великому предприятию, чтобы затем посвятить самой работе всего десять часов»[133]. Мимо медленно проплывали земли, а он мог лишь воображать себе, сколько интересных вещей остались неоткрытыми; он был недоволен тем, что удалось сделать, и с презрением относился к трусости, которая, как ему казалось, руководила решениями Беринга и других русских офицеров. (Знай Беринг, с чем пришлось в это же время столкнуться Чирикову на том же побережье, но дальше на юго-восток, он был бы еще осторожнее.)
От острова Каяк корабль отошел к западу, а затем направился в северо-западном направлении через туман, ветры и короткие, но суровые бури. Вот типичная запись в судовом журнале: «Шторм с находящими шквалы и с дождем…»[134] Заросшие густыми лесами острова – Хокинс, Хинчинбрук и Монтагью – скрывали за собой проливы и побережье и сильно затрудняли составление карты. Если бы у команды было больше времени или погода была лучше, они бы увидели ледниковые фьорды в проливе Принца Уильяма, дельту реки Коппер и множество поселений коренных жителей. Чем дальше они заходили, тем более бурным становилось море («…постоянные шторма и мокрая погода»)[135]. Но земля не уходила на север, как они предполагали, а сворачивала на запад, заставляя корабль постоянно менять курс, чтобы избежать неизвестных опасностей на берегу.
Пока «Святой Петр» продвигался на северо-запад, у Стеллера было время подумать о разнице между Камчаткой и Аляской. «Американский континент (с этой стороны), – писал он, – с точки зрения климата намного лучше, чем северо-восточная оконечность Азии»[136]. Хотя горы были «потрясающе высокими», а их вершины покрывал вечный снег, они были «намного лучшей природы и характера», чем горы Камчатки. С любознательностью и широтой интересов, характерной для ученых XVIII века, Стеллер предполагал, что горы на Камчатке «совершенно разрушены и давно лишились целости и, следовательно, слишком рыхлы для циркуляции минеральных газов и лишены всякого внутреннего жара, а вместе с ним и драгоценных металлов. С другой стороны, американские горы тверды – не голые камни, поросшие мхом, а покрыты хорошим черноземом и, соответственно, не… бесплодны, с кривыми карликовыми деревцами среди камней, а плотно покрыты прекрасными деревьями до высочайших вершин»[137]. Стеллер был уверен в правильности теории (ныне смехотворной), что именно из-за внутреннего жара аляскинских гор растительный мир Аляски крупнее и многочисленнее, чем на тех же широтах Азии. Стеллер не стеснялся выдвигать теории и делиться ими даже с людьми, нисколько в них не заинтересованными; в отсутствие каких-либо точных познаний о природном мире отправной точкой для научных изысканий являлись бесхитростные, бессистемные предположения.
Наблюдая за гористым, богато поросшим лесами побережьем, проплывавшим мимо, Стеллер изучал собранные образцы – по крайней мере, те, которые Беринг разрешил пронести на корабль, – и записывал свои наблюдения. Ему были знакомы многие растения острова Каяк, потому что они были похожи на те, что растут на Камчатке, в том числе черника, вороника и морошка. Но одним из самых ценных его открытий стало большое, похожее на малину растение, в изобилии росшее в тех местах, по которым он ходил. Эта малина нового вида, ныне носящая название «малина великолепная», была «еще недостаточно спелой». Он осторожно выкопал несколько экземпляров, поскольку считал, что ему должны позволить доставить на борт живые образцы для обратного путешествия и держать их в горшках на палубе «из-за их размера, формы и прекрасного вкуса». Но пришлось удовлетвориться засохшими растениями. Он записал очередную шпильку в адрес своих товарищей по приключениям: «Я не виноват, что места для них мне не выделили, ибо, как спорщик, я и так уже занимал слишком много места»[138].
Помимо прочего, Стеллер увидел десять «странных и неизвестных» птиц. Знакомы ему были лишь сорока и ворон. Лепехин, слуга Стеллера, подстрелил одну птицу, которая особенно привлекла его внимание. Она была похожа на голубую сойку из справочника птиц Каролины в академической библиотеке Санкт-Петербурга. У него перед глазами стоял «рисунок, выполненный яркими цветами» натуралистом, чье имя припомнить так и не удалось (то была книга «Естественная история Каролины, Флориды и Багамских островов» английского натуралиста Марка Кейтсби). Ярко окрашенная птица, похожая на голубую сойку с восточного побережья, но с пучком черных перьев на голове, позже получила официальное наименование «стеллерова черноголовая голубая сойка», Cyanocitta stelleri, в честь ученого, впервые описавшего ее. «Одна эта птица, – писал Стеллер, – стала для меня достаточным доказательством, что мы на самом деле в Америке»[139].
Кроме того, Стеллер объяснил и то, что ему не удалось найти никаких минералов, а это было одной из ключевых и важнейших целей, стоявших перед экспедицией. Вышестоящее начальство в Санкт-Петербурге, с надеждой писал он, «легко поймет, что отсутствие находок каких-либо минералов вызвано не беспечностью или леностью с моей стороны. Я не боюсь признаться, что не видел ничего, кроме песка и серых камней. Также известно, что вблизи песчаных берегов Природа не способна и не привычна производить ничего, кроме марказитов и пиритов»[140]. Все, кто находился на русской службе, с большой осторожностью старались следовать букве данных им указаний и боялись даже малейших отступлений. Беринг отмечал все пункты в списке своих приказов, а над остальным работал с куда меньшим энтузиазмом; Стеллер же хотел убедиться, что сможет оправдать свои действия, в частности, то, что вообще отправился в это путешествие без официального разрешения, лишь по словесному заверению Беринга, что все будет хорошо. Все участники экспедиции немного побаивались наказания за недостаточную прилежность или излишнюю самостоятельность.
25 июля «г-н капитан-камандор Беринг имел концилиум с лейтенантом Вакселем, мастером Хитровым, штюрманом Андрис Эйзельборхом о тракте нам к гавани Св. Петропавловской и о смотрени американского берега, по которой концили согласно определили, чтоб в мрачную погоду благополучным ветрам следовать малым ходом к помянутой гавани на румб по кампасу ZW, а ежели в чистую погоду и благополучным ветрам следовать между норда и веста для осмотрения берега американскаго обстоятельно, как оной положение имеет, и оной описавать»[141]. Желание Вакселя и Хитрово подробнее исследовать побережье Аляски все же перевесило стремление Беринга немедленно вернуться; капитан больше не контролировал курс единолично. Как только погода улучшилась, корабль снова подошел к земле и пошел вдоль побережья более медленным, но и более интересным путем.
Однажды видимость настолько ухудшилась, что они, по сути, плыли вслепую. Ни в одном направлении не было видно земли, но лот показал, что судно попало на мелководье с сильным волнением. «Мы произвели измерения по сторонам корабля, чтобы определить, как сойти с этого рифа или грунта (так как не знали, что он собой представляет), – писал Ваксель, – но во всех направлениях, куда мы ни шли, глубина оказывалась еще меньше. Я был в полном недоумении, что же надлежит предпринять… Я решил тогда направиться прямо на юг; в течение долгого времени глубины оставались неизменными; наконец мы вышли на глубокую воду»[142]. Когда утром 26 июля туман рассеялся, они увидели «высокую землю», возможно, в 20–30 милях к северу от корабля. Скорее всего, это был остров Кадьяк или находящийся неподалеку от него Ситкалидак. Но вскоре шторм возобновился, и «Святой Петр» продвигался вперед через «морось» и туман, а 29-го числа «лег в дрейф из-за бури». 30 июля небо постепенно стало проясняться, а 31-го ветер переменился, и они изменили курс к северу, снова приблизившись к материку. Над водой периодически поднимался туман.
Вскоре после полуночи 2 августа, когда выглянула луна, с палубы стал виден «большой поросший лесом» остров, возвышавшийся над туманом, словно ужасный призрак. Беринг назвал его островом Архидьякона Стефана, по именинам святого, отмечавшимся в тот день, но Ваксель и Хитрово на карте обозначили его как «Туманный остров». В 1794 году капитан Джордж Ванкувер переименовал его в остров Чирикова в честь командира «Святого Павла», хотя Чириков этого острова никогда не видел. Он находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Кадьяка. Когда погода стала «необычно приятной и теплой, солнечной и совершенно спокойной» и к кораблю лениво подплыл морской лев, Стеллер в последний раз стал упрашивать отпустить его на берег, где видел пресноводные озера, ручьи и покатые травянистые холмы. Ему отказали, потому что командор считал, что высадка может оказаться опасной из-за рифов или отмелей. Стеллер и Беринг «устроили небольшую перебранку»[143]. Затем капитан собрал в каюте морской совет, чтобы договориться, что офицеры не станут «бранить» Стеллера или обвинять его в нежелании выполнять свой долг «усерднейшим образом и по мере всех моих возможностей». Это еще раз демонстрирует, как боялся Стеллер порицания со стороны Академии или Сената за то, что он не выполнил свой долг и не оценил природных богатств новой земли. После того как эта информация, позволившая всем сохранить лицо, была записана, и ему пообещали всяческую поддержку в усердных стараниях, Стеллер согласился: «Пусть так и будет»[144].
«Святой Петр» поднял якорь и продолжил идти на северо-запад; ученый занимал себя рыбной ловлей с леера, поймав двух лучеперых рыб неизвестных видов, водившихся в прибрежных водах. Впрочем, решить проблем с пресной водой им не удалось, и дойти до Камчатки, вообще нигде не остановившись, они бы не смогли. Беринг беспокоился из-за неблагоприятных ветров, а Стеллер просто ждал шанса наконец-то сойти на берег. По их расчетам, Камчатка находилась примерно в полутора тысячах морских миль к западу.
Глава восьмая
Любопытные встречи
Ранним утром 20 июня, на просторах северной части Тихого океана к югу от Аляски и острова Чирикова, команда «Святого Павла» увидела на северном горизонте «Святого Петра». Видимость была плохая, и через два часа «Святой Петр» исчез из виду, оставив их в одиночестве. Чириков приказал идти дальше прежним курсом, спустив грот. Но на следующий день они по-прежнему шли в одиночестве, и капитан «приказал держать как можно к тому месту ближе»[145], где они в последний раз видели «Святого Петра», согласно обговоренным инструкциям. Ветра были неблагоприятными, и держаться в нужном месте оказалось очень сложно. Утром 23 июня Чириков собрал в своей каюте офицеров, и они согласились продолжать путешествие в одиночку в надежде встретиться со вторым кораблем позже. «Святой Павел» продолжил идти по ветреному морю на северо-восток.
Вскоре им показалось, что на севере впереди горы, но позже выяснилось, что это просто облака. Прошла целая неделя с хорошими ветрами и ясным небом, начался июль. Мимо корабля проплывали зеленые водоросли. Предположив, что это трава, они бросили лот, но даже на глубине ста саженей не нашли дна. Чириков написал в докладе: «Цветы осмотрели, что оные не травяные токмо згустившая вода наподобие киселя, каких обычайно много выбрасывает на морские берега»[146]. 12 июля они увидели «одну береговую утку»[147]. 13-го числа – «одну береговую утку, да чайку, два древа плавающих старых». 14 июля они с немалым волнением наблюдали «довольно береговых уток и чаек, также видели китов и морских свинок [дельфинов], да три небольшие древа носящих, старых»[148]. А затем на востоке появилась земля, «на которой горы высокие», а «глубина воды не была меньше 60 сажен, грунт песок серой и местами маленькой камень»[149]. Мимо корабля регулярно пролетали птицы. То было 15 июня, тот же самый день, когда Стеллер, вглядываясь в северные дали с палубы «Святого Петра», увидел землю в нескольких сотнях миль впереди, что было подтверждено лишь на следующий день.
«Святой Павел» подходил все ближе к земле; над ними пролетали «птицы юрики и ару»[150] (гагарки и кайры). Моряки были уверены, что это «подлинная Америка по месту, по положению ее, по длине и по ширине»[151], потому что, согласно карте Людовика Делиля де ла Кроера, они находятся к северу от Испанской Америки. Они добрались до мыса Бартоломе на острове Бейкер, к западу от Кетчикана в континентальной части нынешнего штата Аляска. Конечно же, на карте Кроера было лишь очень приближенное изображение той части побережья, на которую претендовала Испанская империя. Впрочем, никакого реального испанского присутствия там не было, а ближайшим поселением испанцев был Акапулько, в трех тысячах миль к югу. Сейчас это может показаться абсурдным, но с людьми, жившими на побережье, никто из европейцев еще даже ни разу не разговаривал, и они знать не знали о том, что какая-то далекая империя претендует на их земли. «Святой Павел» еще несколько часов шел к северу вдоль берега в поисках хорошего места для остановки. «На земле везде горы и изредка снег по горам, на тех же горах виден был и лес»[152]. Путешественники оказались буквально на противоположном конце Земли относительно отправной точки – Санкт-Петербурга.
На следующий день, в 4 часа пополудни, Чириков приказал спустить шлюпку, и боцманмат Григорий Трубицын вместе с 8 матросами отправился исследовать гавань, чтобы узнать, сможет ли «Святой Павел» безопасно в нее войти. Сейчас этот залив, располагающийся на острове Коронейшен, называется Винди-Бей. Трубицын обошел его на лодке и доложил, что «видел лес большой ельник, пихтовой и сосновой, да видел же и мне много зверей морских, [сивучей]», но поселений не нашел, а в качестве стоянки залив не подходил. На ночь корабль из соображений безопасности отошел от берега, а на следующий день продолжил движение курсом норт-вест-тень-норт через туман; «во окончание суток видели землю, протязующуюся к северу высокими горами, которые покрыты снегами»[153]. Чириков вспоминал: «Ежели б не возпрепятствовал несчасливой случай [18 июля], то надеялся я немалую часть Америки описать»[154].
Когда туман рассеялся, экипаж увидел, что на горах стало больше снега, чем несколько дней назад. Они подвели «Св. Павла» «сколько можно к берегу»[155], но, так и не найдя подходящего места, чтобы бросить якорь, решили отправить на берег лангбот – поискать гавань для безопасной остановки. После этого они смогли бы организовать базу для более подробного изучения новой земли. Чириков передал флотскому мастеру Авраму Дементьеву копию инструкции, которую тот несколько раз прочитал, а также собственноручно подписанный приказ, где обговаривалось поведение в незнакомой стране. Чириков остался на «Святом Павле», лавируя примерно в морской миле от берега, а Дементьев отплыл на берег в сопровождении десяти вооруженных людей. Сейчас это место называется залив Таканис[156] на острове Якоби, лежащем к северо-западу от города Ситка. Чириков приказал ему, высадившись на берег, запустить сигнальную ракету, сообщив о том, что они в безопасности, вечером разжечь на берегу костер, а местным жителям предлагать подарки – котлы, бисер, ткань, иглы и табак. Он хотел, чтобы они определили качество гавани, зарисовали ее, узнали, «какия на берегу ростут леса и травы»[157], а также «посмотреть, нет ли каких отменных камней и земли, в которой можно чаять быть богатой руде»[158]. Наконец, матросы должны были набрать пресной воды. Как и у «Святого Петра», ее было недостаточно для возвращения, так что пополнение запасов было одним из приоритетов. Но, что важнее всего, Чириков приказал им, как участникам важнейшей имперской экспедиции, «во всем поступать как верному и доброму слуге ее императорского величества»[159].
Моряки отплыли в туман и вскоре пропали из виду. Лангбот нагрузили провизией на неделю на случай, если из-за шторма они не смогут вернуться, но приказ им был отдан совершенно четкий: «…всеми силами стараться, чтоб, осмотря вышеписанное, ничего не мешкав, возвратиться к судну того ж дня, а по крайней мере на другой день»[160]. Но ракету так никто и не выпустил. Настал вечер, но костер на берегу тоже не зажегся. «Великия дожди с туманом и с сильными ветры»[161] не давали большому кораблю подойти к земле. Шли дни, но береговой отряд так и не подавал признаков жизни, а из-за сильного тумана они не могли опознать местность. Все подозревали, что Дементьев с товарищами вообще не добрался до берега или, хуже того, на них напали и убили. Сначала погода стояла хорошая, но затем начались дожди, туманы и ветры, и «Святой Павел» вынужден был отойти от берега.
23 июля Чириков приказал подойти ближе к берегу в том месте, куда отправился Дементьев. Они заметили скалы, торчавшие со дна и прятавшиеся прямо под поверхностью воды, и стали продвигаться вперед с очень большой осторожностью. Чириков выстрелил из двух пушек, выстрелы эхом отразились от леса, но ответа не последовало. Туман слегка рассеялся, и с палубы они увидели дым на берегу на месте предполагаемой высадки Дементьева. Огонь заставил их воспрянуть духом, и они дали еще семь пушечных залпов. В предыдущие дни «нигде на берегу огней, строения и при береге судов и протчих признаков к жильу никаких не видали, почему не очень чаели, чтоб были жители на оном месте»[162]. Костер становился все больше, но лодки на воде не оказалось. Чириков зажег кормовой фонарь, словно маяк, и, поскольку погода была тихая, держал «Святого Павла» недалеко от берега. К утру костер на берегу погас, и лишь струйка дыма поднималась вверх, смешиваясь с туманом.
Тогда Чириков и его офицеры решили, что лангбот поврежден и не может дойти до корабля. Они подготовили документ, подтверждавший это, и поставили под ним свои подписи. Затем морской совет решил снова рискнуть и отправить на берег оставшуюся небольшую лодку с плотником, конопатчиком и всеми инструментами для ремонта. Боцман Сидор Савельев вызвался возглавить второй береговой отряд; ему приказали немедленно вернуться вместе с лодкой и застрявшими на берегу членами экипажа. Примерно в полдень четверо моряков отплыли к берегу, находившемуся примерно в девяти морских милях, а «Святой Павел» осторожно шел вслед за ними, следя за рифами. К шести часам вечера «Святой Павел» вынужден был отступить из-за сильного волнения, и экипаж мог лишь следить с палубы за тем, как ял подходит к берегу. Они стали ждать. Сигнала подано не было, ял на корабль не вернулся. На следующий день, 25 июля, в час дня они увидели две лодки, которые вышли из залива и направились к кораблю. Решив, что это его люди, Чириков подвел «Святого Павла» ближе, но вскоре стало ясно, что это не русские лодки: «корпусом остр[ы] и гребля не роспашная, а гребут веслами просто у бортов»[163]. Большая лодка, в которой сидело много людей, не приближалась к кораблю, а маленькая и быстрая, с четырьмя пассажирами, подошла ближе. Они разглядели, что один человек был одет во что-то ярко-красное. Люди в лодке встали, протянули руки к «Святому Павлу», словно приглашая подойти поближе, и дважды воскликнули: «Агай, агай», затем повернулись и погребли обратно к суше. Чириков приказал помахать белыми платками, но лодки продолжили двигаться к берегу и вскоре исчезли из виду. Они не могли за ними последовать, потому что «видно [было] около берега много наружных и подводных камней, на которых играет бурун»[164]. Сильные волны помешали им стать на якорь, и пришлось отступить. Больше никаких огненных или дымовых сигналов не подавали.
К этому времени, писал Чириков, «мы утвердились, что посланные от нас служители всеконечно в нещастии»[165]. Дементьев со своим отрядом отсутствовали уже восемь дней, а возможностей добраться до корабля, если они могли это сделать, было немало. «Можно чаять по тому, понеже американцы к нашему пакет-боту не смели подъехать, что с посланными от нас людьми от них на берегу поступлено неприятелски или их побили или задержали»[166]. Когда Ваксель позже узнал о несчастье, случившемся со «Святым Павлом», он предположил, как именно это могло произойти. «[К]огда они подошли к берегу, американцы, вероятно, спрятались, и что люди, прибывшие на лодках, не подозревая о грозящей им при высадке на берег опасности, разошлись в разные стороны за водой, за ягодами и плодами или по другим надобностям. Таким образом, они, надо полагать, были разобщены друг от друга, когда американцы, улучив, наконец, удобное время, появились вдруг между ними и лодкой, преградив обратный путь»[167]. Он писал, что Чириков оказался слишком наивен и должен был спрятать большинство людей в трюмах, увидев приближающиеся лодки, и тем самым подманить американцев поближе, потому что, как считал Ваксель, у них было, «быть может, намерение захватить судно»[168]. А затем Чириков мог бы захватить их в плен и, возможно, обменять на свою команду[169].
Чириков держал корабль поблизости еще два дня, медленно ходя вдоль берега, но «Святой Павел» лишился обеих шлюпок и 15 человек экипажа. На второй день две индейские лодки снова показались в заливе, но не отходили далеко от берега, а потом вернулись обратно в бухту и исчезли. С берега поднялся небольшой дымок, но вскоре рассеялся. Без лодок, на которых можно выйти на берег или исследовать мелководье, «Святой Павел» оказался в большой опасности. Подсчеты показали, что осталось всего сорок пять бочонков с водой, некоторые из них неполные из-за протечек. Их было «не очень довольно»[170] для возвращения, а восполнить запасы теперь не было никакой возможности. Они пробыли в Америке лишь несколько дней, но Чириков понимал, что у них не осталось иного выбора, кроме как возвращаться на Камчатку, и как можно быстрее. 27 июля всю команду перевели на сокращенные рационы, и «Святой Павел» пустился в обратный путь, сражаясь со встречными ветрами и дождем.
«Святой Петр» прошел вдоль восточного берега острова Кадьяк, несколько дней лавируя против встречных ветров. Пока корабль дрейфовал к цепи островов, ныне известной как Семиди, Стеллер целыми днями наблюдал за стаями тюленей, морских котиков, каланов, морских львов, дельфинов и морских свиней – как оказалось, туманные берега островов были полны подобных животных. Корабль шел все дальше через густой клубящийся туман; временами из него вырастали призрачные, зловещие мысы. 4 августа моряки увидели на юго-западе большой вулкан (гору Чигинагак); корабль шел вдоль 25-километровой гряды из девяти островов, увенчанных огромными пиками. Затем корабль изменил курс и направился на юг, чтобы отойти на определенное расстояние от земли, которая виднелась к северу и западу – полуострова Аляска. Всем казалось, словно они застряли в большом заливе; во все стороны, кроме юга, виднелась суша. Стеллер отчаянно хотел исследовать эти земли, а Ваксель и Хитрово уговорили Беринга согласиться на их план – составить более подробные карты побережья, прежде чем возвращаться домой. Однако под тяжеловесными волнами иногда прятались едва заметные рифы. Все на борту, даже Стеллер, понимали, что без точных карт идти близко к земле будет очень опасно. Ваксель подозревал, что едва различимая земля – это гряда островов, потому что «временами в течение 2–3 часов при неизменных ветре и погоде корабль плыл среди значительно меньших волн и шел совершенно спокойно, а затем вдруг снова попадал в крупную океанскую волну, так что мы едва справлялись с управлением кораблем»[171]. Беринга уже не интересовали никакие исследования – он просто хотел поскорее добраться до Камчатки, – но из-за того, что в западной части залива Аляска было довольно проблематично отличить материк от островов, прямую дорогу домой найти не удавалось. Все происходящее лишь доказывало правоту Беринга, опасавшегося неизвестной земли, а туман и дождь усиливали этот страх.
Возвращаясь на юг, корабль снова прошел к западу от острова Чирикова, но на этот раз остров был очень далеко к востоку, и Стеллер отметил, что «ветры, которые в это время и до 9 августа были в основном восточными или юго-восточными и могли бы помочь нам пройти несколько сотен миль по прямому курсу до Камчатки, теперь использовались лишь для бесплодного лавирования»[172]. Как и боялся Беринг, начинались встречные сезонные западные ветры. Корабль стал идти медленнее, а затем ветер отогнал его обратно на 43 морские мили к юго-востоку. Стеллер задумался об изобилии «штормовых рыб» (морских свиней), которые окружали судно. Считалось, что если их «видят необычно часто в очень тихом море, вскоре начинается шторм, и чем чаще они появляются и чем активнее себя ведут, тем яростнее за ними следует буря»[173]. Стеллер насчитал их много. А потом, 10 августа, через туман и дождь он увидел животное, какого не видел еще никогда. То был не калан, не морской лев, не кит и не морская свинья. «Голова напоминала собачью, с острыми торчащими ушами, – писал он. – С верхней и нижней губы по обе стороны свисали усы. Глаза были большими, тело длинным, довольно толстым и округлым, постепенно сужаясь к хвосту. Кожа, казалось, была покрыта густой шерстью, серой на спине, но рыжевато-белой на брюхе; в воде, однако, все животное казалось рыжим, словно корова»[174]. У странного зверя вместо передних лап были плавники. Он грациозно выпрыгивал из воды, словно играя, и следовал за кораблем почти два часа, подныривая под медленно идущим судном и выныривая с другой стороны; последнее он проделал не менее тридцати раз. Когда мимо проплыл пучок водорослей, существо игриво подплыло к нему, схватило зубами и приблизилось к кораблю так, что Стеллер мог достать его шестом. Животное производило такие «движения и обезьяньи трюки, что невозможно представить ничего смешнее». После нескольких трюков, вызвавших всеобщий смех, оно уплыло и больше не приближалось. Стеллер назвал его «морской обезьяной», и оно стало загадкой для многих будущих натуралистов. Очевидно, это не было какое-то другое морское млекопитающее, которых Стеллер видел на Камчатке и Аляске; он достаточно хорошо их знал, чтобы безошибочно идентифицировать. Споров по поводу знаменитой «стеллеровой морской обезьяны» случилось немало, но освещение тогда было плохое, «светили луна и звезды», а из-за тумана и дождя многое разглядеть не удалось. Скорее всего, им встретился взрослый морской котик-одиночка или молодой северный морской котик[175]. Впрочем, мы знаем, каким образом «морская обезьяна» спаслась бегством. Стеллер выстрелил по ней, потому что хотел заполучить ее для своей коллекции, но промахнулся[176].
Примерно в это же время подлекарь Матис Бетхе официально сообщил, что 5 моряков заболели цингой, а 16 «сильно больны». Вскоре непригодных к службе стало еще больше. Беринг, два дня не выходивший из каюты, тоже, скорее всего, страдал от ранней стадии болезни. Поскольку в течение почти всей экспедиции кораблем фактически управлял Ваксель – он выставлял вахты, назначал рулевых и распределял прочие работы, – недомогание капитана мало повлияло на ситуацию на судне.
Подлекарь Матис Бетхе официально сообщил, что пять моряков заболели цингой, а шестнадцать «сильно больны». Вскоре непригодных к службе стало еще больше. Беринг, два дня не выходивший из каюты, тоже, скорее всего, страдал от ранней стадии болезни.
После того как корабль целый день лавировал, борясь со встречными ветрами, Беринг созвал морской совет в каюте, чтобы обсудить ситуацию. На совете присутствовал сам Беринг и его старшие офицеры – лейтенант Ваксель, мастер Софрон Хитрово и старый штурман Андрис Эзельберг, которому тогда было уже за семьдесят. Сначала они просмотрели записи предыдущих морских советов, уделив особое внимание приказу вернуться в Петропавловск «в последние дни сентября». Сейчас это казалось невозможным «из-за сильных осенних штормов и постоянных густых туманов»[177]. Приближаться к земле было небезопасно, потому что у них не было карт, и они не знали ни возможных скрытых рифов и скал, ни течений, ни кос; острова лишь еще больше ухудшали видимость. После дискуссии офицеры созвали в каюту всех младших офицеров и старшин и высказали мнение, что пора поворачивать прямо к дому и идти по пятьдесят третьей параллели «или так близко к ней, как позволят ветра»[178]. Документ под названием «Решение о скорейшем возвращении» затем подписали все присутствующие. Они находились в море уже 69 дней. Был отдан приказ идти в юго-западном направлении. Стеллер отметил, что, «как обычно», его не пригласили ни поделиться своим мнением, ни подписать документ. Но он все же тайком записал в дневнике:
Сопоставив логически задачи, для которых собран был морской совет, и последующие действия его членов, мне приходится сделать вывод: эти господа хотят вернуться домой самой короткой, но при этом самой медленной дорогой[179].
На этой параллели, считал он, дорогу, несомненно, будут преграждать острова, а вот если взять курс к югу, то путь, конечно, выйдет дольше, но зато ветры не помешают.
Следующую неделю, до 17 августа, они лавировали вдоль 53 параллели из-за встречных ветров. Все ясно уже из бортового журнала: они постоянно поднимали и опускали паруса – кливер, топсели, фоки, брамсель, грот, трисель и стень-стаксель, – заставляя корабль разворачиваться и идти в нужном направлении против ветра; погода постоянно была «дождливой», «мокрой», «тяжелой», «туманной», «студеной», «мрачной»[180] и так далее. В это время, хотя никто на обоих кораблях об этом не знал, курсы «Святого Петра» и «Святого Павла» несколько раз пересекались; они расходились друг с другом буквально на пару дней и ни разу не находились в зоне прямой видимости. «Настоящий шторм»[181] разыгрался днем 17 августа, и вскоре поднялась «буря» с «сильным вольнением»[182], которая продолжалась целый день. Постоянная борьба с ветром и волнами изматывала команду.
18 августа Стеллер проснулся и услышал разговоры о земле; он тут же выбежал на палубу, чтобы узнать, что происходит. В течение путешествия Стеллеру не раз казалось, что земля на горизонте, и он громко об этом объявлял и ругал офицеров за то, что они не хотят подойти ближе и исследовать ее, так что, возможно, не стоило удивляться, что, увидев его на палубе, о земле с ним никто не заговаривал. «Однако, возможно, все уже договорились не упоминать ничего об увиденной земле»[183], – ворчал он, потому что никто из них не подтверждал, что видел берег; Стеллер был совершенно уверен, что это либо очередная попытка подшутить над ним, либо же сушу узрели «в весьма необычном месте – на юге». Затем он заявил, что землю хорошо было видно с утра, прежде чем она спряталась в тумане. «То, что земля недалеко, было сразу очевидно по количеству бурых водорослей, плывущих в нашу сторону»[184]. А «то, что западный ветер внезапно стих», стало для него еще одним доказательством, что они идут между Америкой и неким островом на юге. Офицеров откровенно не интересовала никакая «земля», и Стеллер очень злился, потому что считал, что они специально притворяются, что не видят землю, чтобы им не пришлось исследовать ее и наносить на карту. «Оставлять ее без внимания было совершенно недопустимо», – возмущался он.
Когда Стеллер спросил, что это за местность, Ваксель ответил: «Земля Жуана да Гаммы [sic]» (скорее всего, при этом он подмигнул остальным, потому что уж кто-кто, а он не верил в мифические острова, на которые они попусту потратили столько драгоценного времени). Стеллер был сторонником «месье Делиля» и его карты и напомнил себе, что, в конце концов, является членом Академии наук, а не просто невежественным моряком. 19-го числа Стеллеру снова показалось, что он увидел землю, «но никто, кроме меня и еще нескольких человек, не верил и не видел ее», хотя все признаки были налицо: стихающий ветер, водоросли, морские млекопитающие и «вид трески, которая живет в прибрежных водах на глубинах не более 90 саженей»[185]. Возможно, треску в тот день моряки съели на обед. 20 августа, когда они повернули дальше на юг, Ваксель «насмешливо спросил, вижу ли я все еще землю». Но Стеллер, которого никогда не приглашали на обсуждение важных решений, писал в своем обычном язвительном тоне, что «они не видят дальше, чем позволяет им их природа и опыт»[186]. В этом регионе никакой земли нет, и в лучшем случае кто-то мог увидеть разве что облака на горизонте. Чем дальше они продвигались, тем сильнее становились споры и трения.
Затем наступили несколько дней хорошего восточного ветра, после которых на корабль снова налетела «свирепая» буря, во время которой «тяжелые шквалы и волны»[187] захлестывали палубу. 27 августа Беринг снова вызвал троих старших офицеров в каюту для очередного совета: от запасов воды осталась лишь треть, и они знали, что этого недостаточно, чтобы добраться до Авачинской губы на Камчатке, «если продолжат дуть встречные ветры»[188]. По их вычислениям, до пункта назначения предстояло идти около 1240 морских миль, но с нынешней скоростью они доберутся до нее лишь через два с половиной месяца. Они согласились снова повернуть корабль к северу «ради безопасности»[189] и «подойти ближе к земле, чтобы найти хорошее место для стоянки и набрать достаточно воды, чтобы хватило до возвращения без страданий, даже если будут и дальше дуть встречные ветры»[190], о чем все подписали соответствующий документ. Стеллер прокомментировал в своем дневнике, что, конечно же, если бы они просто наполнили все бочки пресной водой, когда месяц назад были в полной безопасности на острове Каяк, то эта новая задержка и поиски были бы не обязательны.
Корабль пошел к северу под хорошим ветром и чистым небом, и вскоре показались признаки близкой земли: морские львы, чайки и плавучая растительность. 29 августа они увидели скопление пяти небольших островов, а на горизонте – землю, напоминавшую материк, и подошли ближе в поисках безопасного места для высадки. К полудню «Святой Петр» встал на якорь с восточной, подветренной стороны острова Нагай, одного из самых крупных островов Шумагинской группы – его длина составляет около 50 километров. Всего в Шумагинскую группу входят 50 островов различного размера. Погода была идеальной для высадки на берег – слабый ветер и чистое небо, – так что днем Ваксель отправил Юшина к острову в небольшой лодке, чтобы найти хорошее место для стоянки. Около восьми вечера они решили перевести корабль к месту между Нагаем и небольшим островком под названием Ближний, чтобы «защитить его от многих ветров»[191]. Они оказались окружены целым скоплением небольших островов; сейчас это место метко назвали «Островным заливом». Позже тем вечером Хитрово увидел вдалеке пламя, горевшее на небольшом островке на расстоянии около восьми миль к северо-западу (ныне он носит название остров Тернер).
Утром Ваксель организовал два отряда: один, под началом Хитрово, отправился разузнать о пламени на острове Тернер, а другой, который возглавил Эзельберг, высадился на ближайший остров Нагай в поисках пресной воды. Беринг предложил Стеллеру отправиться вместе с Эзельбергом, и тот «с большой радостью» согласился. Отношения между Стеллером и остальными не улучшились, и он подозревал, что предложение Беринга – это отвлекающий маневр, «чтобы морским офицерам досталась честь ожидавшейся первой встречи»[192] с местными жителями на другом острове. Молодому ученому, конечно, было интересно встретиться с коренным населением островов, но он надеялся, что «оба отряда найдут что-нибудь полезное». Эзельберг провел лодку с десятью членами экипажа, Стеллером, Плениснером и слугой Стеллера Лепехиным к защищенной бухте под скалой. По словам Стеллера, остров был «голым и убогим», покрытым пометом многих поколений морских птиц и поросшим кривыми, тонкими кустами, переплетенными между собой и отчаянно цеплявшимися за каменистую почву. На всем острове он не нашел палки длиннее двух футов.
Стеллер и его спутники немедленно отправились вглубь острова, к горам и скалам, и обнаружили несколько ключей с пресной водой. Вернувшись, он с ужасом увидел, что Эзельберг нашел небольшое озерцо или пруд метрах в двухстах от берега, и «матросы, выбрав первую же ближайшую застоявшуюся лужу, уже начали работу». Стеллер попробовал воду, нашел ее щелочной и солоноватой, выплюнул и отправил срочное послание Вакселю на корабль, в котором утверждал, что такая застоявшаяся вода «быстро усугубит цингу, а из-за содержания извести люди станут страдать от жажды и обессилеют, и эта вода, простояв немного на судне, с каждым днем будет становиться все более соленой и в конце концов, настоявшись, превратится в морскую воду»[193]. Вместе с запиской он отправил на борт образец найденной пресной воды, заявив, что эта вода намного лучше, чем у Эзельберга, и попросил Вакселя попробовать оба образца. Несмотря на то что он действительно нашел очень хороший источник, прошение было составлено в таких выражениях, да и в целом его так не любили, что просьбу проигнорировали.
Моряки продолжали набирать воду из своей «обожаемой соленой лужи» и возить бочки «рассола» обратно на корабль. Им стоило прислушаться к советам Стеллера и не утолять жажду испорченной водой. Стеллер, будучи корабельным хирургом, заявил, что его проигнорировали «из давно укоренившейся привычки противоречить», – вполне возможно, учитывая его натянутые отношения с большинством офицеров и то, что раньше он неоднократно уже бывал неправ. Хотя в этом случае Стеллер пытался «сохранить жизнь моих сотоварищей и собственную», ответ был примерно таким: «Да ладно, что такого с этой водой? Хорошая вода, наполняйте бочки!»[194] Стеллер, сгорая от отвращения, вместе со своими сопровождающими снова ушел вглубь острова и нашел поблизости большое озеро длиной почти две мили и шириной одну, после чего попросил Эзельберга набрать отсюда озерной воды. Для этого требовалось пройти на веслах лишнюю милю, но, уже получив ответ от Вакселя, Эзельберг отказался. Ваксель позже признал, что ошибся, недостаточно внимательно отнесшись к качеству воды, – это решение он принял в первую очередь из-за раздражающего характера Стеллера. «Вода была хорошая, – писал он об этих двух образцах, – но, хотя ее взяли из озера, в ней все равно было немного соленой воды, нанесенной приливом, который иногда накрывал остров. Последствия от ее питья оказались катастрофическими – у нас умерли несколько человек». Впрочем, продолжал он, «лучше иметь такую воду, чем никакой; во всяком случае, она была вполне пригодна для приготовления пищи»[195].
Ваксель обосновывал свое решение тем, что времени на задержку у них не было, и в целом хоть какая-то вода лучше, чем никакой. «Судно стояло на не вполне безопасном месте, так как оно было совершенно открыто действию южных ветров, и мы не видели никакой возможности от них укрыться. Мы торопились поэтому как можно скорее запастись водой, чтобы без всякой задержки снова выйти в открытое море»[196]. Слова Вакселя больше похожи на оправдание постфактум, потому что в Островном заливе они провели два дня и могли легко добыть пресной воды из источника или озера, показанных Стеллером. Больных моряков вывезли на берег подышать свежим воздухом, а Стеллер угрюмо разгуливал по голому каменному острову. Когда на него залаяла маленькая черно-бурая лисица, он вскинул ружье и выстрелил, надеясь сохранить ее как «доказательство». Но стрелок из него был не очень хороший, и лиса сбежала, прежде чем он успел перезарядить оружие. Несколько встреченных рыжих лис также не пополнили его коллекции образцов.
Пока Стеллер осматривал Нагай, а Эзельберг руководил сбором и хранением испорченной воды, Хитрово исследовал остров, на котором прошлой ночью они увидели костер. Поначалу Ваксель, исполнявший обязанности командира, не хотел, чтобы Хитрово брал для своего похода ял, потому что место якорной стоянки «Святого Петра» было ненадежным, а расстояние до острова – довольно значительным; он опасался, что, если начнется шторм или переменится ветер, они не смогут вернуться обратно на корабль. Хитрово, вторя жалобам Стеллера и Чирикова на Беринга, стал ругать Вакселя, который, по его мнению, слишком много думал о безопасности. Хитрово настаивал, чтобы отказ разрешить ему воспользоваться ялом внесли в судовой журнал, так что Ваксель все же вынужден был отступиться, «[з]ная, что появление огня на берегу уже отмечено в судовом журнале, и не желая подвергать себя ответственности по этому случаю»[197], и отправился в большую каюту обсудить этот вопрос с капитаном. Беринг решил, что Хитрово нужно дать разрешение на этот поход во главе небольшой команды. После того как консультации были завершены, а все необходимые бумаги подписаны, Хитрово выбрал себе в спутники 5 человек, в том числе переводчика-чукчу. Они взяли с собой ружья и подарки. Беринг дал им указания, как вести себя в разных ситуациях, но прежде всего попросил их «быть добрыми». Днем они на веслах добрались до острова, затем пешком дошли туда, где был замечен огонь.
Моряки нашли еще горевшее кострище, но людей вокруг не было. Заметив надвигающийся шторм, Хитрово и остальные пятеро бросились с холмов обратно к лодке и попытались подготовить ее к возвращению на «Святого Петра». Но к тому времени, когда они спустили ял на воду, волны стали настолько огромными, что его едва не залило, так что Хитрово направил лодку на остров Нагай, который был намного ближе к кораблю, к месту предыдущей высадки. Волны выбросили лодку на каменистый берег, повредив ее и отрезав моряков от корабля. Они поспешно собрали на берегу все, что можно было поджечь, и развели огромный костер, чтобы подать сигнал о помощи и не умереть от холода – все замерзли и насквозь промокли. Когда Хитрово с отрядом не вернулись на корабль из-за шторма, Стеллер, который недолюбливал его особенно сильно, писал: «Я возблагодарил Бога, что благодаря хитроумным замыслам моряков оказался избавлен от его компании»[198]. Шторм продолжал бушевать, «и мы были открыты всей ярости моря» вплоть до вечера 2 сентября, когда Вакселю удалось отправить лангбот им на помощь. Лишь 3 сентября Хитрово и его люди вернулись на «Святого Петра», бросив разбитый ял.
Хитрово многие не любили, и Стеллер писал, что «если бы он вообще не отплывал, или, никого не встретив, вернулся бы вовремя и не затянул сбор воды, лишив нас яла, мы смогли бы выйти с хорошим сильным ветром и пройти более ста миль дальше по курсу… Все были недовольны, ибо к чему бы этот человек ни притронулся, от Охотска до самого возвращения, шло не так и приносило одни несчастья»[199]. Если бы Хитрово не задержался из-за шторма, что стало третьим связанным с ним происшествием, которое прямо повлияло на график экспедиции, – стоит отметить, что эти события не были вызваны его некомпетентностью как морехода или офицера, – то «Святой Петр» уже несколько дней шел бы на запад, вместо того чтобы стоять на якоре возле острова Нагай, ожидая окончания очередного шторма. Говорят, что любое предприятие редко обрекается на гибель одним-единственным несчастьем – обычно к печальному концу приводят накопившиеся мелкие ошибки и не вовремя случившиеся неудачи.
Это последнее промедление имело весьма далекоидущие последствия, но благодаря ему стала возможна любопытная и занимательная встреча, которой на данном этапе путешествия никто не ожидал.
Днем 5 сентября моряков вывели из ступора крики людей, стоявших на высоких травянистых холмах, возвышавшихся над крутыми, каменистыми скалами острова Берд. Вскоре к кораблю подошли две небольшие одноместные весельные лодки из шкур (которые Стеллер верно сравнил с каяками гренландцев). Подобравшись достаточно близко, чтобы их можно было услышать, люди в лодках начали длинную речь на языке, неизвестном обоим камчадалам-толмачам – и чукче, и коряку. То были первые американцы, которых они встретили, и Стеллер дрожал от волнения, «нетерпения и очарования». Когда с корабля ответили, люди в лодках показали на уши. Затем, покопавшись в лодке, один из них достал палку с прикрепленным к ней ястребиным крылом и бросил ее в сторону корабля. Решив, что это знак дружбы, Беринг приказал спустить на воду доску с подарками: красной тканью, зеркалами, медными колокольчиками, железными бусинами и пятью ножами. Подплыв ближе, они вручили эти дары, которые американцы «приняли приятно»[200]. Затем люди в каяках бросили им две тонкие палки с соколиными перьями и когтями. Стеллер писал: «Не могу сказать, было ли это жертвой или же знаком хорошей дружбы»[201]. Потом они отплыли обратно на берег и криками и жестами стали звать моряков присоединиться к ним, знаками показывая «есть» и «пить». Беринг приказал Вакселю подготовить единственную оставшуюся лодку и отвезти им еще одну партию подарков и немного русской водки. Отряд состоял из девяти вооруженных матросов, переводчика-камчадала и Стеллера; «пики, сабли и ружья покрыли парусиной, чтобы не вызывать подозрений».
Ваксель бросил якорь на расстоянии броска камня от каменистого, коварного берега. Два русских моряка и камчадал-переводчик сняли одежду и спрыгнули с лодки, погрузившись по плечи в ледяную воду. Они были не вооружены, и Ваксель приказал им оставаться в пределах видимости и не делать ничего слишком быстро или в угрожающей манере. Выбравшись на берег, они подошли к небольшой группе американцев, которые были «полны изумления и дружелюбия» и все показывали за холмы, на дальнюю часть острова, возможно, пытаясь объяснить, что живут на другой стороне. Русские предложили им новые подарки, но аборигены отказались. Затем американцы взяли новоприбывших за руки «с большим почтением», отвели их к своему лагерю неподалеку, посадили с собой и предложили им китовый жир. Они были «в основном молоды или средних лет, среднего роста, сильные и коренастые, но довольно хорошо сложенные»[202], с длинными черными волосами, немного плоскими носами и темными глазами, носили «рубахи из китовых кишок с рукавами, очень аккуратно сшитые». У многих из них на лицах и телах были костяные серьги.
Один человек взял под мышку свой каяк, отнес его на берег, сел в него и подплыл к «Святому Петру». «По всей видимости, это был один из старейшин, – писал Ваксель, – и, по всей вероятности, наиболее знатный из них всех»[203]. Ваксель, невзирая на мольбы Стеллера, достал водку и табак и, после того как несколько русских матросов выпили, протянул старейшине полную чарку. Американцу угощение не понравилось; он «выплюнул [водку] обратно с ужасным криком, как будто рассказывая своим товарищам о случившемся с ним»[204]. Затем, как вспоминает Стеллер, русские объявили, что «у американцев моряцкие желудки» и, «решив компенсировать одну неприятность другой», вручили старейшине зажженную трубку с табаком и показали, как ею пользоваться. Тот закашлялся и отплыл с отвращением на лице. «Умнейший европеец, – размышлял Стеллер в одной из своих на удивление прогрессивных записей, – сделал бы ровно то же самое, если бы ему предложили мухомор или суп из тухлой рыбы и ивовой коры, а камчадалы считают это деликатесом»[205].
Пока люди на берегу присматривались друг к другу, Ваксель пытался уговорить других американцев подплыть ближе к «Святому Петру» на каяках. Он достал книгу, которую держал при себе именно для таких встреч, английский перевод труда французского офицера барона Луи-Армана де Лаонтана о пребывании в Америке и наблюдениях за коренным населением. Ваксель стал читать в алфавитном порядке различные «американские» слова (гуронские и алгонкинские), означавшие «дерево», «пищу», «воду» и другие подобные понятия, и был совершенно уверен, что эти люди его поняли. Скорее всего, на «понимание» больше повлияли жесты, сопровождавшие речь, потому что языки и культура алгонкинов и гуронов, обитавших на востоке Северной Америки, не имели ничего общего с культурой этих людей, которые, скорее всего, были алеутами. Алеуты, коренные обитатели полуострова Аляска и Алеутских островов, с этнической точки зрения родственны юпикам и инуитам.
Волнение на море усилилось, и Ваксель позвал своих людей обратно. Двое русских направились к воде, но девять американцев схватили за руки переводчика и крепко держали; тот отчаянно вырывался и упрашивал Вакселя, чтобы его не бросали здесь. Поскольку он выглядел похоже на местных жителей, Ваксель и Стеллер предположили, что те решили, что он должен остаться с местными, а не уходить на корабль. Ваксель кричал и знаками показывал, чтобы переводчика освободили, но те «делали вид, будто не замечают меня»[206]. Затем несколько человек схватились за причальный канат и потянули лодку к берегу по камням, «вероятно, не со злым умыслом, но лишь от недогадливости, не понимая, в какой мы опасности, и что если лодку с пассажирами и дальше тащить на берег, она разобьется о камни»[207]. И те и другие кричали, не понимая друг друга. Ваксель приказал дважды выстрелить из мушкетов, и, когда грохот отразился от скал, «они так перепугались, что все попа́дали на землю, как громом пораженные, и выпустили все, что держали в руках»[208]. Камчадал-переводчик бросился в воду и забрался в лодку, а Ваксель приготовился к отплытию. Но якорь застрял в скалах. Он безуспешно пытался его высвободить, но затем обрезал канат, и они быстро вернулись обратно на корабль. Было уже поздно, почти восемь вечера. Еще один шторм с юга ночью обрушил на судно сильнейший дождь. На берегу они видели огромный костер, горевший всю ночь, который, как писал Стеллер, «заставил нас задуматься о произошедшем». Эта первая демонстрация мощи пороха стала предвестием не такого уж и далекого будущего, когда русские колонисты с помощью огнестрельного оружия подчинили коренные народы побережья Аляски.
Первая демонстрация мощи пороха стала предвестием не такого уж и далекого будущего, когда русские колонисты с помощью огнестрельного оружия подчинили коренные народы побережья Аляски.
На следующий день, когда команда «Святого Петра» подготовила судно к выходу в море, к ним с острова приплыли 7 человек на каяках. Двое из них подвели лодки совсем близко к кораблю, и Беринг подарил им железный котелок и иголку с ниткой, а те, в свою очередь, подарили русским шапки из коры, одна из которых была украшена резной статуэткой из моржового бивня, напоминающей человека. Затем все каяки вернулись на берег, и американцы стали кричать или распевать вокруг большого костра. Ваксель предложил Берингу взять их в плен – по крайней мере, нескольких, – но Беринг «письменно запретил [ему] это и не велел чинить над ними никаких насилий»[209]. Стеллер, описывавший все, что видел, в том числе одежду, инструменты, снаряжение и внешний вид, заметил сходство между американцами и жителями Камчатки и был совершенно уверен, что это родственные народы, хоть и говорящие на разных языках. Он очень жалел, что у него нет времени, чтобы доказать это с помощью обширного исследования.
Я не сомневаюсь, что смог бы дать идеальное доказательство этой теории, если бы мне позволили действовать сообразно собственным суждениям, но из-за своих предрассудков моряки запретили мне это[210].
Дальнейшее общение или торговля между народами прервалось из-за переменившейся погоды и ветра, которые позволили «Святому Петру» еще до темноты выйти в открытое море. Так случилось, что 8 дней, проведенные ими на островах Шумагина, возможно, решили их судьбу. К тому времени, как они подняли паруса и отправились на запад, уже начинались осенние бури.
Глава девятая
Чума морей
31 августа, на следующий день после того, как Хитрово отправился на поиски костра, умер первый матрос, которого вывезли на остров Нагай подышать свежим воздухом (скорее всего, от цинги); его похоронили и поставили деревянный крест. Матроса звали Никита Шумагин, и в его честь назвали остров (сейчас вся гряда называется островами Шумагина, а сам остров переименовали в Нагай). Утром 1 сентября остальные больные матросы вернулись на корабль, а все 52 бочонка, наполненных солоноватой водой, подняли на борт. Начавшийся шторм неожиданно усилился. Ветер и волны были такими ужасными, что многие считали, что Беринг или Ваксель прикажут обрезать якорный канат, чтобы отойти подальше от земли, бросив Хитрово, но это, возможно, обрекло бы их всех на верную гибель, потому что, по мнению Стеллера, «нас бы, безусловно, вынесло на скалы»[211].
К тому времени сам Беринг практически не покидал каюту, а еще 12 человек были в списке больных с обострившейся цингой. Стеллер, который учился медицине, но врачом почти не работал, исполнял обязанности хирурга и отмечал все пополнявшийся и пополнявшийся лазарет. Он даже фиксировал некую странную летаргию в своем поведении и писал, что его собственное тело «попало под чужую власть» – это означало общую слабость в конечностях. Подозревая, что цинга вскоре примет характер эпидемии, Стеллер обыскал корабельную аптечку в поисках хоть какого-нибудь лекарства от этого недуга, но отметил, что в сундуке нашлись «по большей части пластыри, притирания, масла и другие хирургические средства, которых хватило бы для четырех или пяти сотен людей в бою, но не было никаких лекарств, наиболее необходимых в морских путешествиях и применимых против цинги и астмы, самых распространенных заболеваний»[212].
Когда Стеллер запросил у исполняющего обязанности капитана «отряд из нескольких человек, чтобы собрать столько противоцинготных растений, чтобы хватило на всех»[213], ему грубо отказали и предложили нарвать их самостоятельно, раз уж он считает, что это так важно. Вакселя раздражали характер и манера общения Стеллера, и к тому времени он считал любые его слова просто нытьем иностранца-академика, высокомерного человека, который смотрит на всех с презрением, и каждая произнесенная им фраза буквально источает превосходство. Очевидно, ученый сноб всех выводил из себя. Прислушаться к его утверждениям (многие из которых явно казались бессмыслицей любому, кто привык к морской жизни) – значит потерять лицо и признать его правоту. И даже сейчас, когда Стеллер давал вполне здравые советы, от него отмахивались, как от назойливой мухи. Когда Стеллер писал, что ему «грубо» возразили Ваксель и другие офицеры, как и позже, когда он снова заговорил о солоноватой воде, ответ, скорее всего, был примерно таким: «Заткнись и уйди с дороги. Мы тут занимаемся важными делами».
Когда Стеллер с печалью осознал, что отношения испортились настолько, что его мнения и «эту важную работу, от которой зависело здоровье и жизнь всех нас, сочли недостойными труда нескольких моряков, я раскаялся в своих благих намерениях и решил, что в будущем буду спасать лишь себя самого, не тратя лишних слов»[214]. Стеллер и Плениснер за время, проведенное на острове Нагай, собрали (и съели) столько свежих растений, сколько смогли: горечавки, пустырника, брусники, вороники «и других растений, похожих на кресс-салат». Позже он узнал, что офицеры, «опасаясь смерти», в конце концов все-таки прислушались к его предупреждениям о соленой воде и отправили на берег две бочки, чтобы наполнить их ключевой водой «для собственного употребления», но, торопясь вернуть больных на борт перед надвигающимся штормом, оставили бочки на острове.
Запасшись солоноватой водой и небольшим количеством свежих лекарственных растений, которыми Стеллер тут же стал лечить Беринга и двенадцать больных моряков, воссоединившаяся команда «Святого Петра» была готова продолжить путь домой. Берингу и другим пациентам, принимавшим лекарство Стеллера, понемногу стало лучше. Командор снова стал выходить на палубу, а многие переболевшие цингой вернулись к работе, когда их зубы перестали шататься, а силы восстановились. «По милости божьей, они обратили внимание на мои предложения о помощи», – писал он. О, если бы его послушали раньше и собрали больше этих растений, чтобы хватило всем морякам…
Одно из самых ярких и пугающих описаний цинги можно найти в книге «Путешествие вокруг света в 1740–1744 годах» Джорджа Ансона, служившего в Британском королевском флоте; события происходили в том же году, когда «Святой Петр» и «Святой Павел» отправились из Азии на Аляску. Ансон, прославившийся дерзким ограблением испанского галеона, стал сказочно богатым национальным героем; к сожалению, большинство моряков, вышедших с ним из Англии, постигла печальная участь. Бо́льшая часть из них умерла; лишь двести из двух тысяч человек и один из пяти кораблей, могучий шестидесятипушечный «Центурион», вернулись из кругосветного плавания. Остальные же погибли ужасной смертью, в основном от цинги. Лишь очень немногие умерли по другим причинам.
В век парусников цинга прямо или косвенно унесла больше жизней моряков, чем штормы, морские сражения, кораблекрушения и все остальные болезни, вместе взятые.
Хотя на кораблях на самом деле было тесно – команды набирали с лихвой, ожидая высокой смертности, – вскоре матросов уже стало не хватать: некоторых поразили обычные корабельные болезни – дизентерия и тиф. Но самой большой бедой стала цинга. Когда бушевали шторма, угрожающие опасностью кораблям, когда людям больше всего нужны были силы, они стали угрюмы, их конечности словно налились свинцом, а мысли затуманились. Треть матросов лежала в гамаках и стонала, не в силах подняться на палубу. Старые боевые ранения снова стали открываться и кровоточить, когда-то сломанные и сросшиеся кости снова разделялись, десны распухали и чернели, болели и кровоточили, зубы шатались и выпадали.
Одни лишились чувств, у других мышцы так искривились, что ноги подтянулись к бедрам, а третьи гнили заживо[215].
Здоровых не хватало, чтобы поддерживать чистоту на нижних палубах, так что отвратительная слизь телесных жидкостей хлюпала под ногами, пока корабли боролись с чудовищными волнами. Люди стали умирать, они стонали и кричали в агонии, страдая от таинственного недуга. Окоченевшие, негнущиеся трупы падали на пол. Один из кораблей Ансона лишился «двух третей личного состава, а из тех, кто остался жив, практически никто не мог исполнять свои обязанности, кроме офицеров и их слуг». Добравшись до берега с жалкими остатками команды, моряками, едва способными стоять на ногах, они нашли «почти все растения, помогающие при скорбутических расстройствах… Эти овощи вместе с рыбой и мясом, найденными там, помогли больным самым замечательным образом выздороветь, да и тем, кто был здоров, оказали немалую услугу, избавив от прячущихся ростков цинги в теле и восстановив давно утраченные силы»[216].
В век парусников цинга прямо или косвенно унесла больше жизней моряков, чем штормы, морские сражения, кораблекрушения и все остальные болезни, вместе взятые; более того, она была причиной многих крушений, когда матросы были слишком больны и слабы, чтобы тянуть канаты или забираться на мачты, и корабли несло на скалы или переворачивало огромными волнами. От Жака Картье, Васко да Гамы и Френсиса Дрейка до Фернандо Магеллана, Джеймса Кука и графа Луи-Антуана де Бугенвиля от цинги страдали моряки практически во всех длительных путешествиях той эпохи. Она была настоящей чумой морей. Хуже всего то, что никто точно не знал, из-за чего же начинается эта ужасная болезнь. Один из лейтенантов Ансона, Филип Саумарес, описывал собственные мрачные впечатления от болезни. Цинга, писал он, «проявляет себя такими ужасными симптомами, что поверить невозможно… И ни один врач со всей их materia medica не может найти лечения. Но я со всей очевидностью видел, что есть некое je ne sans quoi[217] в человеческом организме, которое нельзя восстановить… без помощи определенных земных частичек, или, выражаясь проще, земля – та стихия, где должен жить человек, а овощи и фрукты – единственное его лекарство»[218].
Взяв за основу учение о «соках» тела, врачи из разных стран изучали болезнь и пытались сформулировать собственные теории, объясняющие развитие цинги. О цинге были написаны десятки трактатов, в которых назывались такие разные причины болезни, как, к примеру, нечистые испарения, влажность, переизбыток черной желчи, леность, отравление медью, наследственность или нарушения потоотделения. В качестве средств для восстановления баланса соков предлагали очищение организма соленой водой, кровопускание, подмешивание соляной кислоты в питьевую воду, смазывание открытых язв ртутной пастой, питье безалкогольного пива и другие неэффективные, но приемлемые для государства и экономически оправданные решения. На некоторых кораблях предлагали избивать занемогших матросов, предполагая, что это заболевание – на самом деле проявление лености, и «больные» просто пытаются отлынивать от работы. «Лекарства» иной раз оказывались даже смертоноснее болезни.
Шотландский врач Джеймс Линд на борту корабля «Солсбери» в 1747 году провел, как считается, первое в истории медицины контролируемое клиническое исследование. Он отобрал 12 моряков, страдавших цингой, с «симптомами самыми сходными из возможных… У них у всех были гнилые десны, сыпь, усталость и слабость в коленях»[219]. Он повесил их гамаки парами в отдельном помещении в сыром, темном полубаке и «кормил всех одинаково», но лечил разными принятыми тогда средствами от цинги: «эликсиром купороса», уксусом, сидром, морской водой «по половине пинты в день, а иногда меньше или больше, как принимало тело» и три раза в день пилюлями-«электуариями» «размером с мускатный орех»; эти пилюли состояли из чеснока, горчичных семян, сушеного корня редиса, бальзама, или перуанской смолы, промытых в ячменном отваре. Последней, самой удачливой паре давали по два апельсина и одному лимону в день, которые они «ели с жадностью» в течение шести дней, пока запасы южных фруктов не закончились. Что неудивительно, моряки, которых кормили цитрусовыми, – единственные, получавшие хоть какую-то свежую пищу, – быстро восстановились и вернулись к службе. Но Линд оказался весьма озадачен открытием. Фрукты были редкостью, их трудно было достать в северных странах. Пытаясь сделать цитрусовый концентрат, который легче перевозить и хранить, Линд вскипятил его, уничтожив активный ингредиент, и тем самым отсрочил появление эффективного средства от цинги на десятилетия. Настоящей причиной цинги были способы консервации, применявшиеся тогда в морских путешествиях для всех продуктов, – засушка и засолка.
Сейчас, конечно, мы знаем, что главной причиной цинги является отсутствие свежей пищи, содержащей витамин C; его недостаток приводит к дегенерации соединительной ткани в организме: от костей до хрящей и кровеносных сосудов тело, по сути, начинает разваливаться. Надежное средство, пригодное для транспортировки и защищавшее от цинги не хуже свежих фруктов и овощей, было создано лишь сорок лет спустя. На заре наполеоновских войн, в 1790-х годах, сэр Гилберт Блейн, врач британского флота, убедил свое начальство, что к ежедневной порции рома, положенной британским морякам, нужно добавлять сок лайма.
Стеллер намного опередил свое время; его идеи о цинге были основаны на беседе с коренными жителями Камчатки и наблюдении, что даже во время долгих зим они не заболевают цингой, тогда как некоторые русские к ней уязвимы. Насколько он мог видеть, камчадалы не принимали никаких особых мер для профилактики цинги, поэтому он пришел к выводу, что секрет кроется в их рационе – единственном, что их отличало от русских. Стеллер взял эту гипотезу и связал ее с употреблением свежих растений, иногда – горьких и неприятных, которые вряд ли кто-нибудь согласился бы есть, если бы единственным соображением был вкус. Русские, пришедшие в этот регион издалека, в основном ели походную провизию, иногда добавляя к ней дичь. Цинга не была так широко распространена в русском флоте, как в британском, испанском или французском, которые намного чаще выходили в длительные морские путешествия и больше времени проводили в открытом море, пересекая океаны. Русский флот, напротив, в основном действовал в Балтийском и Черном морях и редко отходил далеко от портов, где можно было пополнить запасы свежей еды. Так или иначе, меры предосторожности, которые Стеллер принял осенью 1741 года, его любознательность и способность экспериментировать были единственным фактором, действовавшим в пользу моряков «Святого Петра».
К концу сентября, через две недели плавания к западу в дождливую, пасмурную погоду, «Святой Петр» все еще был в сотнях миль от Авачинской губы, проделав лишь сорок процентов пути домой. В дневнике Стеллера имеются сообщения об увиденных каланах или пучках водорослей, совах и чайках и направлении их полета. Встреча с китами послужила предвестием шторма, и морские свиньи, следовавшие за кораблем, помогли предсказать еще один короткий шторм. В целом, впрочем, дули западные ветры, которые быстро несли их к цели. Но солнце и звезды были почти все время скрыты за тучами, так что они шли на запад практически вслепую, надеясь, что прямой путь, избранный ими через эти неизвестные воды, станет также самым безопасным и быстрым и не будет перекрыт невидимыми рифами или туманными островами. «[И]ной раз, – писал Ваксель, – в течение двух-трех недель не удавалось увидеть солнца, а ночью – звезд»[220], что делало навигацию невозможной.
Мы должны были плыть в неизведанном, никем не описанном океане, точно слепые, не знающие, слишком ли быстро или слишком медленно они передвигаются[221].
Команда была весьма встревожена. Матросы не знали, где находится корабль, где – земля, а где – опасные препятствия; за каждой тучей или сгустком тумана, возможно, таилась катастрофа, так что стресс все накапливался, а тревожный сон не восстанавливал сил. «[М]ы не имели понятия, что может встретиться нам по пути, – писал Ваксель, – и каждую минуту были готовы испытать последний, гибельный для корабля, удар»[222]. Они шли по навигационному счислению и, не подозревая об этом, двигаясь на запад, постепенно уходили к югу.
21 сентября наконец выдалось ясным и спокойным. Волны ослабли, а ветер был свежим и дул на северо-запад. Люди вышли на палубу погреться на солнце; все с надеждой смотрели в будущее. Но после полудня ветер переменился на юго-западный, а потом усилился и стал постоянно менять направление. Так начались две с лишним недели свирепых штормов, которые, достигнув кульминации в начале октября, отнесли их на пятьдесят миль к югу и востоку. Судовой журнал весьма красноречив: «Ветер весьма крепкой с великим волнением», «Находят сильные шхвалы с тучами, из которых бывает снег, град и дождь», «Ветр весьма жестокий и страшны шхвалы», «Жестокий шторм с страшными сильными шхвалы, отчего в великом страхе себя находили»,
Ветер прибавился с нахождением жестоких шхвалов, от которых многократно валы с обоих стран на палубу бывают», «Больных разных чинов 21 человек, и протчие весма нездравы»[223]. Стеллер писал: «Временами мы слышали, как ветер вырывается словно бы из узкого прохода, с таким ужасным свистом, яростью и шумом, что нас каждую минуту подстерегала опасность сломать мачту или руль или повреждения самого корабля волнами, которые налетали с силой пушечных выстрелов, так что мы каждый момент ждали последнего удара и смерти[224].
Шторм был такой силы, что никто из моряков за все свои десятилетия мореходного опыта не мог вспомнить ничего подобного; испорченная вода в бочонках стала соленой и совершенно непригодной к питью. Скудный рацион, состоявший из соленой говядины, сухарей, круп и гороха, нанес сильный удар по здоровью моряков. Стеллер израсходовал все немногочисленные запасы противоцинготных трав и курчавого щавеля еще в первую неделю после отплытия с островов Шумагина. Больше ничто не могло сдержать распространение цинги. Моряки пали духом, и на корабле царила мрачная апатия. Стеллер отмечал, что «вредная вода день за днем уменьшала число здоровых, и многие жаловались на непривычные до того расстройства»[225]. Многие стали сомневаться, что вообще смогут добраться до дома в этом году; они стали роптать и говорить, что капитан и старшие офицеры должны планировать зимовку в Японии или Америке.
Умами моряков владело отчаяние и уныние, а тела все сильнее терзала цинга. Вскоре больна была уже треть экипажа, раскачиваясь в гамаках в вонючем трюме, пока корабль бросало по волнам. Пол был залит липкой жидкостью, и люди лежали навзничь прямо в ней или с трудом ходили, хлюпая. Ваксель писал:
Они до такой степени были разбиты цингой, что большинство из них не могло шевельнуть ни рукой, ни ногой и тем более не могло работать[226].
Зубы у большинства моряков шатались, а десны чернели и кровоточили. Хотя Стеллеру удалось ненадолго вылечить Беринга при помощи противоцинготных трав, как только запасы иссякли, к командору вернулось его прежнее мрачное безразличие, и он то ли не мог, то ли уже не хотел вставать с постели.
Шквалы разорвали в клочья паруса. Корабль бесконтрольно вертелся в море, раскачиваясь на самом краю гребня, а затем погружаясь в провал между чудовищными волнами.
Шторм стал крайне свирепым; ветры теперь дули не с севера, а с юго-востока, по словам Стеллера, «с такой удвоенной яростью, какой мы не знали ни раньше, ни позже; мы и представить не могли, что буря может быть настолько могучей и нам удастся ее пережить»[227]. Иногда ветер был таким сильным, что облака «с невероятной быстротой, словно стрелы, проносились мимо нас, а затем с такой же скоростью сталкивались друг с другом, иногда с противоположных направлений»[228]. Ветры набрасывались на такелаж под самыми разными углами, пурпурные и черные тучи делали всякую навигацию невозможной, а палубу захлестывало пеной. «Каждое мгновение мы ожидали разрушения нашего судна, – писал Стеллер, – и никто не мог ни лечь, ни сесть, ни встать. Никто не мог оставаться на своем посту; мы дрейфовали, а гневные небеса посылали нам знамения силы Божьей. Половина команды лежала, больная и немощная, а другая половина… сходила с ума из-за ужасающего хода корабля. Многие, конечно, молились, но из-за проклятий, накопившихся за десять лет в Сибири, молитвы остались без ответа»[229]. Иногда Стеллер или другие объявляли, что видели землю, но, поскольку кораблем управлять никто не мог, земля оставалась лишь еще одним неконтролируемым источником беспокойства и опасности. Ваксель позже вспоминал:
[В] течение пяти месяцев этого плавания в никем еще не изведанных краях мне едва ли выдалось несколько часов непрерывного спокойного сна; я всегда находился в беспокойстве, в ожидании опасностей и бедствий[230].
Шквалы разорвали в клочья паруса. Корабль бесконтрольно вертелся в море, раскачиваясь на самом краю гребня, а затем погружаясь в провал между чудовищными волнами, содрогаясь всем корпусом. Ближе к концу сентября с севера пришел холод; начался снег, град и ледяной дождь. Лед нарос коркой на такелаже и заморозил люки, а ветер стонал и мрачными, тягучими днями, и долгими ночами. Моряки либо сходили с ума от ужаса, либо были уже настолько немощны, что им было все равно. Но чем меньше становилось еды, тем сильнее возрастал их аппетит, «для удовлетворения которого у нас, к сожалению, оставалось очень мало провизии», – писал Ваксель. Команде пришлось питаться сухарями, потому что готовить при качке было совершенно невозможно. Хуже того, 16 октября закончились запасы спиртного. Ваксель сокрушался:
[В] течение нескольких недель у нас не было водки, от которой наши больные, пока мы имели возможность ее давать, испытывали немалое облегчение[231].
Водка при цинге совершенно бесполезна, если не разбавлять ее апельсиновым соком, но, возможно, она оказывала своеобразный целительный эффект, притупляя чувства и не давая людям понять, насколько же ужасно и безнадежно их положение. «Чтобы избавиться от своего ужасного состояния, – писал Ваксель, – они нередко призывали смерть, говоря, что предпочитают лучше умереть, чем вести такой образ жизни»[232].
За 18 дней бурь они практически потеряли все расстояние, пройденное от Шумагинских островов: «Святого Петра» отнесло назад на невероятные 304 мили. 12 октября, когда «Святой Павел» заходил в Петропавловск, «Святого Петра» все еще носило по нещадно стегаемому ветрами океану; он находился на расстоянии более 1000 морских миль от Камчатки и на три градуса долготы южнее, чем месяц назад, 13 сентября.
К середине октября большинство моряков были больны или немощны. Первая смерть случилась 24 сентября, когда «Волею божею преставился гренадер Алексей Третьяков цинготною болезнию»[233]. Следующая запись о смерти датируется 20 октября – «Волею божию умре камчацкой служилой Никита Харитонов», – но затем матросы стали один за другим умирать в темном, вонючем трюме, где стояли их койки. «Умирали не только больные, – писал Стеллер, – но и те, которые утверждали, что чувствуют себя хорошо, сдав вахту, падали и умирали от усталости. Небольшие порции воды, отсутствие сухарей и водки, холод, влажность, нагота, паразиты, страх и ужас были не самыми незначительными причинами»[234]. Вскоре после смерти Третьякова Ваксель объявил, что воды осталось всего пятнадцать бочек, причем три из них повреждены и протекают. День за днем моряки умирали с муками, застывшими на мертвых лицах; оставшиеся в живых поднимали окоченевшие трупы на палубу и выбрасывали бывших спутников за борт. Беринг страдал от лихорадки и лежал без сознания в каюте; его кожа больше напоминала высохшую шкуру, а взгляд расфокусирован. «Даже самое красноречивое перо, – писал Стеллер, – обнаружило бы, что неспособно описать наши страдания». Путешествие было полно «страданий и смерти»; никто не мог думать больше почти ни о чем и уже не надеялся на будущее.
28 октября снег и град ненадолго закончились, и, к своему изумлению, в тумане они увидели низкий, плоский остров с песчаным берегом всего в миле впереди. «Во второй раз, – писал Стеллер, – нам была оказана милостивая помощь Божия, ибо нам бы несомненно настал конец, окажись мы в таком положении на пару часов раньше, в темноте ночной, или даже сейчас, если бы Бог не разогнал туман. Можно вполне сделать вывод, что кроме тех островов, что мы видели, по нашему курсу там и тут есть много других, мимо которых мы прошли ночью и в туманную погоду»[235]. Стеллер, набожный, богобоязненный человек, которого еще не поразила цинга, был едва ли не единственным, кто относился ко всему происходящему со смирением и считал, что они еще могут выжить. Команда бросилась к штурвалу, чтобы отвести корабль от скал и берегов обратно к пенистым серым волнам неизвестного моря. Теперь они уже знали, что побережье Америки не уходит ровно на восток от островов Шумагина, а сворачивает к юго-востоку – и что прямая дорога домой не просто не самая короткая: она вообще невозможна. Хитрово предложил спустить лодку и высадиться на берег, чтобы поискать пресную воду. Стеллер писал, что испытал огромное облегчение, когда «прискорбное предложение» о высадке отвергли остальные офицеры, потому что «оставалось лишь десять немощных людей, которые, конечно, могли помочь, но были бы не в состоянии снова поднять якорь со дна». Так или иначе, вскоре поднялся очередной шторм, и если бы он застал их в лодке, то они, «бесспорно, нашли бы последнее пристанище в воде»[236].
Ваксель, как и Стеллер, каким-то образом сохранил силы, но он оставался одним из немногих, кому это удалось. Паруса были разорваны и истрепаны. Моряков, сохранивших достаточно сил, чтобы забраться на мачты, почти не осталось. Вскоре не нашлось даже людей, которые могли бы удержать в руках штурвал и управлять кораблем, и он «плыл, как кусок мертвого дерева, почти без всякого управления, и шел по воле волн и ветра, куда им только вздумалось его погнать»[237]. Ваксель продолжает:
Матросов, которые должны были держать вахту у штурвала, приводили туда другие больные товарищи, из числа тех, которые были способны еще немного двигаться. Матросы усаживались на скамейку около штурвала, где им и приходилось в меру своих сил нести рулевую вахту. Когда же вахтенный оказывался уже не в состоянии сидеть, то другому матросу, находившемуся в таком же состоянии, приходилось его сменять у штурвала[238].
Возможно, самым странным стало то, что Стеллер превратился из высокомерного академика в простого работника. В разгар эпидемии цинги, когда осталось всего человека четыре, у которых было достаточно физических и умственных сил, чтобы управлять кораблем, Ваксель «слезно умолял [Стеллера] помочь ему», и Стеллер стал работать «голыми руками» по мере своих «сил и возможностей, хоть это и не была моя епархия, и от моих услуг до катастрофы всегда отмахивались»[239]. Он прикусил свой язвительный язык и впервые за все путешествие подчинился морской иерархии, выполняя приказы офицеров, которых так долго презирал, и занимаясь «недостойным» его, как он раньше считал, ручным трудом.
Вакселя тоже вскоре начали оставлять силы. «Сам я тоже с большим трудом передвигался по палубе, и то только держась за какие-нибудь предметы», – сокрушался он. Он попытался поднять боевой дух умиравших от цинги, умоляя их не отчаиваться.
Я обещал им, что если мы, с Божьей помощью, вскоре увидим землю, мы сразу же причалим туда, чтобы спасти свою жизнь, – пусть то будет хоть какой бы то ни было берег, затем, быть может, найдем какие-нибудь средства, чтобы обеспечить дальнейшее наше возвращение[240].
Но корабль дрейфовал, и у них не было никакой возможности изменить курс или как-то иначе повлиять на свою судьбу. «[К]ороче говоря, – писал Ваксель, – мы испытывали самые ужасные бедствия»[241].
«Святой Павел» страдал от таких же несчастий и происшествий, как и «Святой Петр». К сентябрю никто не пил нормальной воды вот уже шесть недель. Рты у всех распухли, и моряки мечтали о холодном питье. Ветры были неблагоприятными, в тумане мелькали берега и острова, корабль, спешивший к Камчатке, терзали шторма. После того как они 27 августа отошли от залива Таканис и пошли к западу на широте Авачинской губы, Чириков строго приказал экономить воду: ее выдавали ровно столько, чтобы не умереть от жажды. Шлюпок больше не осталось, так что они не могли сойти на берег, чтобы пополнить запасы воды или свежей пищи. Чириков сообщал, что «в дожливыя дни служители збирали текущую воду с парусов, поставляя ведры и другия [со]суда, которая хотя вкусом от примешения с снастей смолы и горька, точию оную служители пили охотно, понеже они еще до настоящей нужды дождевую воду опробовали и сказывали, что им она здорова, разсуждая, бутто смольною горестью цынгу выгоняет»[242]. Это «средство» от цинги, впрочем, действовало недолго. Дневной рацион состоял из вареной гречневой каши и чарки вина, с дополнительной порцией каши каждый третий день. Заканчивался август, корабль шел неровно и медленно, и Чириков заметил, насколько быстро пустеют бочки. После этого кашу стали готовить через день, а в промежутках моряки питались сухарями и прогорклым сливочным маслом, а иногда соленым мясом, сваренным в морской воде. Настолько соленая еда, должно быть, обжигала им губы. Вскоре кашу пришлось готовить вообще раз в неделю, потому что воды почти не осталось.
«Но уже люди все стали быть слабы», – писал Чириков. Вскоре на «Святом Павле» тоже началась цинга – как ни странно, практически в то же время и на том же пути домой, что и на «Святом Петре». «[С] великим трудом афицеры по должности своей – управление, а рядовыя – работы исправляли», а некоторые настолько ослабли, что не могли выйти на палубу и лишь лежали и стонали в койках. «[Ч]тоб в крайнее изнеможение не пришли люди, – вспоминал Чириков, – приказал давать рядовым, сверх определенной порции, вина простого по две чарки на день»[243]. Это, несомненно, внесло в монотонную диету приятное разнообразие, но от цинги не помогало никак. Корабль медленно шел на запад через штормы, моряки слабели и впадали в отчаяние и страх перед неизвестными морями и землями. Они не видели суши, несмотря на обильные доказательства ее близости – птиц, каланов, плавучие растения и призрачные очертания далеко на севере.
Туманным утром 9 сентября, в условиях плохой видимости, Чириков приказал встать на якорь на глубине 24 саженей. Издалека слышался шум бурунов, но из-за густого тумана ничего не было видно, и Чириков не хотел идти дальше. Через несколько часов, когда туман рассеялся, буквально в нескольких сотнях метрах перед кораблем появилась земля – сейчас этот остров называется Адак. На нем были высокие горы с вершинами, скрытыми за облаками; их склоны поросли травой, но деревья здесь не росли, а скалы в некоторых местах тянулись до самого берега. Волны разбивались об опасно торчащие скалы буквально на расстоянии броска камня от «Святого Павла». Если бы Чириков не приказал остановить корабль, они бы сели на мель. Оставшись без шлюпок, команда «Святого Павла» оказалась заперта на корабле, смотря на землю и мечтая о пресной воде, которая там, несомненно, была; их губы жгло от соленой еды и нестерпимого желания сделать глоток из прозрачного ручья, спускавшегося по камням и впадавшего в маленький залив.
«Святой Павел» стоял настолько близко к острову, что они увидели на берегу двух человек. Команда стала кричать через переговорную трубу «руским и камчацким языками», чтобы те поднялись на корабль. «И чрез малое время, – докладывал Чириков, – услышели мы голос от людей, крычащих к нам с земли, точию за шумом приражающихся волн к земле слов разслушать было неможно»[244]. Через несколько часов они снова услышали крики с берега, а затем к кораблю направились семь человек в каяках из шкур. Они запели церемониальную песню – как считал Чириков, «по своему обычаю шаманили или молились и заговаривались, дабы от нас им вреда какого ни сделалось»[245]. Затем чужаки собрались вместе и стали переговариваться, а Чириков сказал своим людям, чтобы те вели себя обходительно, кланялись и махали руками, приглашая туземцев подняться на борт. Большинство русских прятались в трюме, зарядив оружие и готовясь отражать нападение, а на палубе стояло лишь несколько человек. Чириков отметил, что «они… руками разводили наподобие, как лук растягивают, из чего мы догадались, что они опасаются, дабы от нас по них не было стрелено»[246].
Чириков и его подчиненные с удвоенным старанием, прикладывая руки к сердцу, показывали, что их намерения дружелюбны. Затем Чириков «для ласкания их» бросил им чашку. Один из людей поднял ее и швырнул в воду, где она и затонула. Тогда Чириков предложил им камку, но и ее они с презрением выбросили. После этого «я велел вынести разных из подарочных вещей корольков, колокольчиков, игол, шару и трубок, чем они курят, и показывали, и звали к судну»[247]. Все было бесполезно – люди в каяках так и не приблизились. Алеуты были весьма осторожны. Наконец Чириков попытался объяснить им, что ему нужна вода, показав пустую бочку. Один человек подплыл ближе, и Чириков дал ему трубку и табак, положив их прямо на палубу каяка. Вскоре подплыл и второй, узнав, что удалось заполучить его более смелому товарищу. Чириков и несколько его подчиненных раздали небольшие подарки, которые «принимали не с великим приятельством». Через какое-то время «увидели мы, что из них некоторые, принеся одну руку ко рту, другую [под … тили] и вдруг ото рта руку отрывали, тогда мы узнали, что они спрашивают у нас ножей», потому что камчадалы обычно отрезали куски мяса прямо у рта, когда ели.
Когда Чириков вручил алеуту нож, тот очень обрадовался, а когда выставил пустую бочку, тот быстро понял, что от него требуется, но они предпочли возить воду туда-сюда в пузырях, а не в громоздкой бочке.
[О]дин пузырь подавали к нам, требуя за оной ножа, за что я и велел дать нож. Токмо приняв нож, пузыря воды не отдал, а отдал пузырь товарищу своему, показывая, чтоб и тому нож дали за тот же пузырь воды, также и на третьего товарища указывали, чтоб и тому дать нож за тот же пузырь»[248].
Торговля продолжалась еще некоторое время; они обменяли коренья и травы на сухари, а также какой-то странный минерал, завернутый в водоросли, несколько стрел и шапку из коры за «тупой топор, которой они приняли с великою радостию». Медный котелок алеуты почему-то отдали обратно, сочтя бесполезным, а затем уплыли к берегу. Позже днем к кораблю подплыли четырнадцать человек и теми же режущими движениями, что и раньше, потребовали ножей. К тому времени Чирикова это уже стало раздражать, да и воды, которую они таким образом могли добыть, было явно недостаточно. «[М]ожно признать, – недовольно писал он, – что они люди совести худой, что и из других их действ видеть было можно»[249].
Начались беспорядочные ветры, и они, «уповая на божию помощь, чаели выттить безвредно из объявленных земель»[250]. Когда корабль оказался в опасной близости от рифа, Чириков, опасаясь других, погруженных под воду камней, приказал отрубить якорный канат «у клюза», а затем поднять все паруса, чтобы попытаться выбраться из каменистого залива. «И хотя с немалою трудностию, понеже от гор ветр в сторонах и в силе своей переменялся, точию всемогущею божиею помощию отошли без большаго бедствия»[251]. Экипаж вздохнул с облегчением, выйдя из коварного залива обратно в океан. Воды им по-прежнему не хватало, но, по крайней мере, подул благоприятный ветер, и они шли на запад. Шли дни, и Чириков записал предположение, что они идут параллельно американскому континенту, потому что на севере из-за тумана периодически показывалась земля. Несмотря на трудности, они вели подробный ежедневный бортовой журнал, отмечая, например:
Во все сутки видели носящейся по морю морской капусты и травы довольно, которая растет близь морских берегов, також и вода цветом зелена, а не мориста[252].
20 сентября Чириков лежал в своей койке, не в силах двинуться от цинги, «и уже по обычаю был приготовлен к смерти»[253]. Даже прикованный к постели, он все равно рассчитывал курс корабля по бортовому журналу и передавал указания старшему помощнику Ивану Елагину, управлявшему судном. «[Я] по милости божии был в памяти»[254], – писал Чириков. Вскоре десятки матросов уже не могли встать с постелей. Первый из них скончался 26 сентября, а вскоре после этого умерли еще шесть человек, в том числе три офицера – констебль Иосиф Качиков, лейтенант Чихачев и лейтенант Плаутин. 8 октября вдали показались лесистые пики Камчатки, а еще через день они вошли в Авачинскую губу и пять раз выстрелили из пушки, подав сигнал бедствия. Вскоре к ним на помощь пришли небольшие суда. У них оставалось всего две бочки солоноватой воды. Профессор Кроер, болевший несколько недель, умолял, чтобы его отвезли на берег, но когда его вынесли на ярко освещенную палубу и свежий воздух, он внезапно умер. Остальных пришлось очень осторожно выводить из трюма, а потом долго выхаживать на берегу. К моменту прибытия на родину они потеряли 21 человека из первоначальных 76: пятнадцать пропали без вести на Аляске, а шестеро умерли от цинги в последние две недели путешествия.
Чириков начал готовить подробный доклад о путешествии, в том числе тщательно описывая все случаи, когда офицеры согласились отступить от официальных приказов. Кроме того, он привел в порядок коллекцию образцов естественной истории и культуры, которую удалось собрать за время путешествия. Он объяснил свои действия, когда в начале путешествия корабли разошлись в бурю, рассказал, как они потеряли матросов и шлюпки, как из-за недостатка воды подробное исследование Большой земли оказалось невозможным, как продвижению мешали штормы и как они едва не погибли от цинги. Кроме того, Чириков извинился, что не привез с собой живых американцев: русские не смогли убедить туземцев поехать с ними, а забирать их против воли без особых инструкций было опасно. Чириков считал, что туземцы вряд ли поднялись бы на борт по доброй воле, и сомневался, «что ее императорское величество хотели бы», чтобы моряки применили силу. В рапорте он написал, что для этих целей необходимы более многочисленные отряды[255]. Трудно предположить, какая судьба могла бы ждать тлингита или алеута, который оказался бы достаточно смелым, чтобы подняться на борт корабля. В прошлые века англичане, испанцы, французы и голландцы часто похищали туземцев из Америки, на побережье как Атлантического океана, так и Карибского моря.
К декабрю Чириков завершил доклад и отдал его гонцу, который отправился в тяжелейший путь из Азии в Санкт-Петербург. В официальных приказах для экспедиции значилось, что доклад должен лично доставить один из старших офицеров, но Чириков написал, что это невозможно, «точию морския афицеры, как выше объявлено, по воли божией померли»[256]. О себе он писал, что стал совершенно непригоден для службы во флоте. Его организм был поражен цингой, и искоренить ее было трудно из-за тяжелого воздуха и в особенности из-за плохой и скудной пищи. Он благодарил Бога за то, что едва был способен сидеть; его ноги отнимались и покрылись пятнами, зубы в деснах шатались[257]. Что же касается лекарств от цинги, доступных на Камчатке, «они настолько старые, что уже бесполезны. Похожим нездоровьем страдает и команда»[258]. Команда понесла немалые потери и была неукомплектована, многие тоже стали непригодны к морской службе, а из разбирающихся в навигации остался лишь один человек, не считая самого Чирикова. «Святой Павел», сообщал он, находится в состоянии едва ли лучшем, чем экипаж, – поломки, недостача канатов и якорей, а «такелаж в плохом состоянии», а заменить или отремонтировать все это прямо в Петропавловске почти невозможно[259]. Здоровье Чирикова было необратимо испорчено непереносимыми страданиями и эпидемией цинги, вспыхнувшей под конец путешествия. Когда-то храбрый и амбициозный офицер, изо всех сил пытавшийся вырваться из-под ограничений, наложенных Берингом, он вынужден был завершить карьеру путешественника и исследователя.
Пока выжившая команда «Святого Павла» приходила в себя в маленьком городке, наступила зима, и мореходный сезон подошел к концу, но второй корабль так и не появился. Чириков и его люди не могли не беспокоиться за своих старых товарищей и командора Беринга. Пришлось ли им зимовать на Аляске? Или «Святой Петр» затонул во время шторма? Или же они умерли ужасной смертью от цинги? Судьба товарищей оставалась неизвестной.
Часть четвертая
Неизвестность
На этой иллюстрации из немецкого издания книги Георга Стеллера «О зверях морских» (1753) изображены животные, населявшие остров Беринга; они привлекли внимание Стеллера и в то же время помогли морякам выжить в 1741–1742 годах
На этой драматичной, но не имеющей отношения к реальности картине XIX века «Святой Петр» налетает на рифы острова Беринга
На этой советской марке, посвященной 250-летию плавания Беринга и Чирикова через Тихий океан к Аляске, командор смотрит с палубы «Святого Петра» на гору Святого Ильи
Беринга находят мертвым, его тело закапывают в снегу; стилизованное и не вполне точное изображение событий 8 декабря 1741 года из русской книги, изданной в 1890-х годах
Множество тюленей на берегу – современная фотография острова Беринга. Охота на этих и других животных, населявших необитаемый остров, помогла морякам пережить зиму 1741–1742 годов
Глава десятая
Остров голубых песцов
Навигационные технологии в середине XVIII века находились в зачаточном состоянии из-за несовершенства географических представлений и недостаточной точности инструментов, которые работали только в идеальных условиях. Определить широту, положение относительно севера и юга, было намного проще, чем долготу, положение относительно востока и запада. И на земле, и на море широту можно было вычислить, измерив склонение солнца в полдень (или другой звезды) с помощью морской астролябии (или, позже, секстанта), конструкция которых позволяла им работать на кораблях при умеренных ветрах и волнах. Офицер, разбирающийся в навигации, держит инструмент за кольцо наверху и оставляет тяжелый бронзовый полукруг (лимб) свободно болтаться. После того как лимб остановится, навигатор наводит его на горизонт, чтобы определить склонение солнца. Потом он сверяется с таблицами, чтобы получить измерение и отметить положение на карте. Идеальным такой способ назвать нельзя, но он позволял с достаточной точностью определить положение корабля на оси «север – юг»; у секстанта был очевидный недостаток – он был, по сути, бесполезен в плохую погоду или при затрудненной видимости, а осенью 1741 года «Святой Петр» долго шел именно в таких условиях.
Определение долготы, напротив, было чревато ошибками и техническими трудностями, и проблемы с точностью вычислений удалось решить лишь через много десятилетий после путешествий Беринга. Долгота – это расстояние на восток или запад от нулевого меридиана долготы. Стандартов за время навигации было несколько, но к 1740-м годам базовой линией считался меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию в Лондоне. Земля вращается с постоянной скоростью, так что каждый час разницы между местным временем и временем по Гринвичу равняется пятнадцати градусам к западу или востоку. Позже решение удалось найти: моряки стали возить с собой точный хронометр или часы, показывающие время в Гринвиче, и в полдень по местному времени определяли разницу с гринвичским. Таким способом им удавалось довольно точно вычислить широту. Одним из первых точных морских хронометров стал хронометр-прототип, которым пользовался британский мореплаватель Джеймс Кук в своих знаменитых путешествиях 1760-х годов.
В 1740-х, однако, Берингу и Вакселю приходилось рассчитывать на куда более изощренные и трудоемкие методы измерения долготы, основанные на наблюдении за небесными телами. Поскольку Земля, Луна и планеты Солнечной системы движутся с постоянной скоростью относительно друг друга, долготу можно рассчитать с помощью сложного набора математических вычислений. В то время навигаторы часто стояли на палубах, вглядываясь в подзорную трубу, чтобы увидеть затмение одного из спутников Юпитера по местному времени. После этого они уходили в каюту и просматривали стандартные таблицы, в которых предсказывалось затмение того же спутника по Гринвичу. После этого разницу во времени затмения, наблюдаемого из двух точек, переводили в градусы долготы. Когда спутники Юпитера не были видны за облаками, приходилось измерять угол между Луной и двумя неподвижными звездами, а затем сверяться с астрономическими таблицами или звездными картами. Все эти методы требовали многих часов наблюдений и математических вычислений и могли выполняться только старшими офицерами, имевшими хорошую подготовку и находившимися в здравом уме. Определяя курс, они также должны были учитывать склонение компаса, или магнитное склонение – разницу между истинным и магнитным севером. Штурманы-навигаторы должны были в совершенстве знать математику и проводить бесчисленные часы за измерениями и решением уравнений для того, чтобы определить местоположение.
Несколько недель продолжались штормы, когда ни солнца, ни звезд видно не было; кроме всего прочего, у Вакселя и прочих офицеров, которые должны были вычислять положение корабля в обширных водах севера Тихого океана, было немало других проблем – в частности, штормы и эпидемия цинги, – так что задача перед ними стояла почти невыполнимая. Их расчеты положения корабля были, по-хорошему, просто догадками. Они, конечно, надеялись, что приближаются к Камчатке, но не знали, насколько далеко до нее плыть и не встретятся ли на пути другие географические препятствия.
В конце октября ветер стал западным – более благоприятным для «Святого Петра», и корабль начал отыгрывать потерянные мили, продвигаясь на северо-запад. Иногда сквозь «быстролетящие» облака пробивалось солнце, но его быстро закрывали дожди и туманы. Моряки не представляли, насколько к югу отнесло корабль за несколько недель штормов. Навигационные расчеты, прикидки скорости и направления были совершенно бесполезны после ужасного шторма, а из-за тумана и облаков не удавалось даже определить положение Солнца или звезд для того, чтобы узнать широту или долготу, не говоря уж о проведении каких-либо вычислений. Ваксель призывал Беринга, который уже не мог встать с постели, но все еще сохранял достаточную ясность ума, чтобы командовать, найти место для зимовки, пока они все не погибли, но Беринг был резко против; он хотел добраться до Авачинской губы. Испытав короткий прилив сил, он приказал собрать у всех моряков деньги и поклялся пожертвовать их двум церквям – свежепостроенной русской православной церкви в Авачинской губе и лютеранской церкви в Выборге. Люди молились, давали обеты и занимались духовными исканиями.
Несколько недель продолжались штормы, когда ни солнца, ни звезд видно не было.
В последние дни октября корабль шел вперед, иногда проделывая до ста морских миль за двенадцать часов и временами приближаясь к небольшим островкам, видневшимся через туман и дождь. Они плыли с хорошей скоростью, несмотря на нехватку здоровых матросов и поврежденные паруса, такелаж и мачты. Стеллер писал, что «1, 2 и 3 ноября не произошло ничего необычного, разве что наши пациенты умирали быстро и во множестве, так что управлять кораблем или менять паруса стало почти невозможно»[260]. Ежедневные смерти от цинги стали настолько привычными, что про них говорили: «ничего необычного». В судовом журнале только за 4 ноября безразличным тоном сообщают о нескольких умерших, которых спускали в воду, завернув в грязную ткань: в три часа ночи «умре барабанщик Сибирскаго гварнизона Осип Ченцов»[261]. В час дня «Волею божиею умре сибирской салдат Иван Давыдов цынготною болезнию»[262]. В четыре часа – гренадер Алексей Попов. 12 человек умерло от цинги, 33 матроса и несколько офицеров не могли даже встать со своих коек, а почти все остальные были слабы и немощны. Все знали, что корабль потонет, если снова попадет в шторм.
4 ноября дождь закончился, и небо ненадолго расчистилось. Еще сохранившие силы моряки собрались у леера и, плача и не веря глазам, смотрели на далекую землю с горной грядой, покрытой снегом. Ваксель в судовом журнале оптимистично написал: «увидели землю… оной по счислению нашему надлежит быть Камчацкой»[263]. Стеллер вспоминал: «Невозможно описать, как велика и невероятна была радость людей, увидевших землю. Даже полумертвые выползли наверх, чтобы посмотреть на нее, и все искренне благодарили Бога за великое милосердие»[264]. Даже Беринг был взволнован.
Капитан-командор, будучи уже очень болен, пришел в немалое возбуждение, и все говорили о том, как, пережив такие ужасные страдания, наконец смогут поправить здоровье и отдохнуть[265].
Ваксель заверил команду, что, согласно его вычислениям, они подошли к Камчатке, и стал убеждать Беринга направиться к земле. Стеллер, как и многие другие, был изумлен и испытывал сильнейшее облегчение. «Даже если бы здесь была тысяча штурманов, – писал он, – они не смогли бы рассчитать все вот так, с точностью до волоска; не ошиблись даже на полумилю»[266]. Моряки достали все оставшееся спиртное, которое долго хранили именно для такого момента, и передавали друг другу маленькие чашки и чокались, радуясь избавлению. Офицеры принесли на палубу карты и стали их изучать, сравнивая зарисовки с землей, лежавшей в тумане на горизонте. Все согласились, что контуры берега совпадают с камчатскими, и узнали выдающиеся мысы вдали, маяк и устье Авачинской губы. Но вскоре Стеллер засомневался. «По навигационным расчетам, – писал он, – мы находимся по крайней мере на 55-й параллели, а Авача лежит на два градуса южнее»[267].
На следующий день Беринг устроил в каюте собрание офицеров. Оно проходило при открытых дверях, дискуссию разрешили слушать всей команде. В судовом журнале сообщается о темах обсуждения: «невозможность управления судна работными людьми» и «воды пресной малое число»[268]. Ваксель добавил, что снасти и паруса сильно повреждены, людей, которые в состоянии были бы их починить, нет, сейчас уже поздняя осень. Хитрово в своем журнале записал примерно то же: они не могли идти дальше «за не возможностью управления судна работными людьми и худости такелажа, а так же за неимением провианта и воды»[269]. Беринг сказал, что предпочел бы двигаться дальше, туда, где, по их мнению, находится Авача, но Ваксель и Хитрово выступили резко против, приведя аргументы, которые, судя по всему, заранее обговорили между собой. Они настаивали на высадке в любом ближайшем заливе, чтобы затем наземным путем отправить посланника в Нижнекамчатский острог за лошадьми.
Ваксель и Хитрово убедили унтер-офицеров и команду в своей правоте, но многие из них согласились подписать предложенный ими документ только на условии, что им точно сообщат, что эта земля на самом деле Камчатка, поскольку они не разбираются в навигации, после чего Хитрово заявил, что «готов отдать голову на отсечение, что это Камчатка»[270]. Несмотря на смелость этого заявления, в целом их с Вакселем аргументация звучала убедительно: дело не в страданиях и не в стойкости; люди умирают ежедневно, такелаж и паруса испорчены, а управлять кораблем можно лишь в идеальную погоду, а зимой дней с такими условиями будет все меньше. Впрочем, некоторые поддержали Беринга в его желании плыть дальше, в частности, его адъютант Дмитрий Овцын, разжалованный лейтенант. Но, возможно, он просто не решился при всех перечить своему командиру. Ваксель и Хитрово накричали на него, судя по всему, назвав собакой и подлецом, и прогнали из каюты. Затем они обратились к Стеллеру с просьбой подписать документ о согласии, но вспыльчивый немецкий натуралист отказался. «Со мной никогда ни о чем не советовались с самого начала, – смело заявил он, – да и мой совет не будет принят, если я не соглашусь с тем, что нужно; кроме того, господа и сами говорят, что я не моряк, так что я лучше ничего не скажу». Впрочем, Стеллер согласился подготовить документ, подтверждавший плохое здоровье экипажа, – это он считал своим долгом судового врача. Ваксель и Хитрово удовлетворились и этим, потому что доклад лишь подкреплял их мнение, что для управления кораблем просто не хватает людей.
Ваксель и Хитрово победили, морской совет изложил свою позицию, и «Святой Петр» не направился вдоль берега в попытке найти Петропавловск. Вместо этого они, «не отпуская благополучного ветра, определили иттить к видимому берегу для сыскания якорного места, чтоб спасти судно и служителей»[271]. Ситуация была настолько тяжелой, что они были готовы спуститься на берег сразу же, вместо того чтобы провести корабль в закрытую бухту, увиденную к западу. Ваксель все еще надеялся «сохранить в целости судно»[272]. Возможно, меньшим из двух зол было бы плыть дальше, как хотел Беринг, но в то время, когда люди ежедневно умирали от цинги, корабль был поврежден, а со сломанных мачт свисали порванные паруса, это не казалось настолько очевидным. Пройдя к северо-западу мимо острова, ныне известного как Медный, они сумели разглядеть землю получше, и их стали терзать сомнения и отчаяние, когда они не разглядели характерных сопок, стоявших к югу от Авачинской губы.
Обойдя мыс, они направили «Святого Петра» к заливу. Облака наконец разошлись, и навигатору удалось определить широту по солнцу; оказалось, что они на самом деле находятся более чем в ста морских милях к северу от Авачинской губы. Ваксель позже объяснил их ошибку: «…встреченные же нами земли были неизвестны не только нам, но никому на свете… [М]ы и не имели никакой возможности с точностью определить землю, которую мы, наконец, увидели, тем более что в течение пяти месяцев плавания мы ни разу не встретили на своем пути изведанную и описанную землю, исходя из чего могли бы исправить и привести в порядок наши судовые журналы и расчеты. Мы не имели ведь даже морской карты, которой могли бы руководствоваться, но шли как слепые, ощупью, не зная, куда идем»[273]. Ваксель по-прежнему проклинал ложную карту с землей Жуана да Гамы, которая сбила их с верного пути.
Но кто из них вообще был способен к логичным, трезвым суждениям, страдая от цинги и боясь за сохранность корабля, потерявшегося у неизвестных берегов на бурном севере Тихого океана в ноябре? Позже в тот же день они направили полуразвалившийся корабль к земле, чтобы лучше разглядеть местность. После того как было принято решение как можно скорее высадиться на берег, больные и умирающие моряки стали падать от утомления или облегчения, а потом все улеглись спать по своим местам в трюме, чтобы восстановить хоть какие-то силы. Примерно в четыре часа пополудни Стеллер оказался на палубе, смотря, как корабль-призрак медленно направляется к заливу; до него оставалась всего миля, а Ваксель и Хитрово «сладко и спокойно» спали в трюме (впрочем, не стоит забывать, что и они страдали от цинги). Корабль, которым никто не управлял, направлялся прямо к земле. Стеллер бросился в каюту и сообщил об этом Берингу; тот, проснувшись, приказал заместителям подняться на палубу и взять ситуацию под контроль. С трудом встав, те наблюдали за приближением к земле вплоть до заката. Приблизившись к берегу, они бросили якорь неподалеку от песчаного берега, где не было видно ни рифов, ни бурунов.
Все знали: если корабль получит пробоину и начнет тонуть, они погибнут в ледяной воде или разобьются о скалы. Смерть казалась неизбежной.
Ночью на ясном небе ярко светила луна, дул небольшой ветер. Но волны без предупреждения вдруг стали бурными и мощными. После отлива обнажился скрытый под водой риф, и «корабль бросало из стороны в сторону, словно мяч, и он угрожал удариться о дно»[274]. Якорный канат лопнул. «Несколько раз волны ударяли в наш корабль с такой силой, что все судно содрогалось, и мы опасались, что палуба не выдержит тяжести волны… [М]ы дважды ударились днищем корабля о камни»[275]. Матросы поспешно бросили второй якорь, но через несколько мгновений потеряли и его – канат был разорван мощным течением, которое тащило корабль; «пользы от него было столько же, как если бы его вовсе не бросали». Остался всего один якорь, и несколько человек, еще сохранивших силы, пытались бросить его, а прилив и шторм тянули «Святого Петра» к рифу. Люди в панике бегали по палубе, выкрикивали, чуть не плача, вопросы, словно дети, а днище ужасно скрипело по камням. В хаосе и панике «никто не знал, кто должен отдавать и выполнять приказы», и их «охватил страх смерти»[276]. Один матрос закричал:
О Боже! Нам конец! О Боже, наш корабль! Беда постигла наш корабль![277]
Несколько моряков схватили трупы двоих умерших от цинги, которых собирались похоронить на берегу, и выбросили их за борт, «бесцеремонно, за шею и за ноги»[278], очевидно, считая, что они прокляты и навлекли на них несчастье. Стеллер «не смог сдержать смеха», когда один ошеломленный матрос спросил, «очень ли соленая вода… словно смерть в пресной воде была бы приятнее!»[279] Все знали: если корабль получит пробоину и начнет тонуть, они погибнут в ледяной воде или разобьются о скалы. Смерть казалась неизбежной.
А затем огромная волна перебросила поврежденное судно через риф в мелкую лагуну у берега, «подобное спокойному озеру, и вокруг сразу стало тихо, и мы были избавлены от страха немедленной гибели»[280]. Воцарился практически полный штиль, и когда матросы бросили последний оставшийся якорь, он достиг песчаного дна на глубине четыре сажени и примерно в шестистах метрах от берега. Риф оставался позади, заперев корабль в маленьком заливе. Стеллер отмечал, что его злейший враг Хитрово попытался скрыться от ответственности и ужаса: «Тот, кто до этого больше всех говорил и давал советов», спрятался в трюме, пока опасность не миновала, а затем вышел «и стал громко разглагольствовать о храбрости, хотя сам был бледен как труп»[281]. Тем не менее сейчас все стихло, опасность миновала, ночь снова была спокойной, и моряки, изнуренные цингой и решившие, что им удалось добраться до Камчатки, забылись сном.
Узкий берег был окружен утесами. Поросшие травой дюны тянулись к подножию низких, покрытых снегом гор. Именно такой вид открылся перед моряками, когда они проснулись на следующий день и посмотрели с палубы на землю. К тому времени 12 человек умерли от цинги, а сорок девять из шестидесяти шести выживших официально значились больными. Не было никого, кто бы крепко стоял на ногах, за исключением, может быть, Стеллера, его друга Плениснера и слуги Лепехина. Эти трое не болели цингой исключительно благодаря противоцинготным травам, собранным на острове Шумагина. «Святой Петр» был в безопасности, в спокойных водах, но при этом оказался в ловушке между берегом и рифом. Ноябрь был сезоном бурь в одном из самых неспокойных регионов мира. Рано или поздно погода должна была снова испортиться, и тогда корабль либо выбросило бы на берег, либо разбило о риф. Ваксель назвал это «неожиданным счастьем»[282].
Утром 7 ноября волнение было настолько сильным, что лишь в одиннадцать часов они смогли спустить лангбот и отправиться на берег, чтобы найти место для лагеря, отыскать пресную воду, чтобы заменить тот рассол, что остался у них в последних шести бочках на борту, добыть свежего мяса и найти противоцинготные растения. Стеллер, Плениснер, Лепехин, Ваксель с сыном Лаврентием, трое матросов и несколько больных вошли в первый отряд. Они взяли с собой разнообразное снаряжение и большой парус, который использовали как палатку. Когда они приблизились к берегу, Стеллеру показалось «странным и пугающим», что к ним с любопытством направилась стайка каланов, а на утесе выстроились песцы; почему этих животных на берегу так много и почему они совершенно не боятся целой лодки вооруженных людей?
На берегу они разделились. Гребцы остались присматривать за больными на берегу возле лодки, Плениснер отправился охотиться в одну сторону, а три матроса в другую. Стеллер, Лепехин и Ваксель с сыном дошли до ближайшего ручья, не покрытого льдом, и нашли там хорошую, чистую пресную воду, пригодную для питья. Они не обнаружили ни деревьев, ни кустов – ничего, что можно было бы использовать в качестве топлива, не считая «выброшенного морем плавника, который, однако, в это время уже был покрыт снегом и разыскать который было нелегко»[283]. Подходящее место для лагеря они отыскали среди ряда песчаных дюн близ устья ручейка, рядом с утесом. Ямы между дюнами можно было приспособить для жилья больных в ожидании подмоги. Из песка собирались построить стены для защиты от ветра, а над ними натянуть парус, чтобы укрыться от снега и дождя. Выброшенное морем дерево тоже могло пригодиться для укрепления стен и крыши. И, что тоже было немаловажно, моча больных, не способных подняться самостоятельно, уходила бы в песок.
Ваксель с сыном вернулись на баркас, чтобы помочь первой партии больных моряков перебраться в новый дом, а Стеллер и Лепехин ушли дальше в дюны, чтобы поискать среди местной растительности возможные противоцинготные средства. Стеллер нашел несколько растений, которые часто добавляют в салат в Северной Европе: веронику поточную, веронику американскую, цветы, похожие на настурцию, и другие крестоцветные – все, что еще удавалось собрать под снегом. Затем он вернулся к Вакселю, который был «очень слаб и бледен» и по-прежнему ждал возле лодки. Присев на берегу под дюнами и сжимая в руке чашку с горячим чаем, Стеллер заметил: «Бог знает, в самом ли деле это Камчатка». Ваксель резко ответил: «Что это еще может быть? Вскоре мы пошлем за почтовыми лошадьми, и казаки доставят наш корабль к устью реки Камчатки. Сейчас самое важное – спасти людей»[284]. Вскоре после этого разговора пришел Плениснер с шестью подстреленными крупными белыми куропатками. Ваксель вернулся на корабль с несколькими птицами и салатом, приготовленным Стеллером специально для Беринга, а сам Стеллер в большом котле сварил суп из оставшихся птиц. Когда стемнело, вернулись оставшиеся трое матросов и притащили двух каланов и двух тюленей; эта новость показалась всем «весьма радостной». Охотиться там было легко. Береговой отряд провел первую ночь, сгрудившись под парусом, поставленным на колышки; большинство моряков по-прежнему оставались на корабле, страдая цингой.
Следующие несколько дней шел мокрый снег. Ваксель, Стеллер и их товарищи продолжали исследовать землю и охотиться, а те, кто остались на «Святом Петре», готовили корабль к зиме и ухаживали за больными. В следующие несколько недель те, у кого еще оставались силы, стали перевозить больных и припасы на каменистый, туманный берег и углублять ямы среди песчаных дюн, чтобы поставить над ними палатки. Главной задачей было перевезти десятки больных с корабля на землю. Многие моряки, находившиеся при смерти, тихо умирали, как только их выносили из зловонного трюма на свежий воздух, другие умерли в лодке на пути к берегу, третьи – едва встав на твердую землю. Ваксель записал, что матрос Иван Емельянов, канонер Илья Дергачев и сибирский солдат Василий Попков умерли на борту до того, как их успели доставить на берег, а матрос Селиверст Тараканов – при высадке. Один из матросов, которому сообщили, что его отправят на берег следующим, настолько разволновался, что встал, оделся и объявил:
Слава Богу, мы переходим на землю, там мы поправимся и сами сможем позаботиться о своем выздоровлении[285],
а потом замертво упал на палубу. Савин Степанов, Никита Овцын, Марк Антипин, Андрис Эзельберг – в судовом журнале почти каждый день говорится о новой смерти от цинги; кто-то умирал на борту, кто-то – во все растущем палаточном лагере. Поскольку все были очень слабы, перевозка больных и припасов с корабля шла до боли медленно, особенно когда из-за сильного волнения становилось трудно грести.
В это время Стеллер, Плениснер, Лепехин и несколько моряков продолжали охотиться и исследовать новую землю, на которой, как уже стало понятно, им предстояло зимовать. За утесами они нашли поросший кустарниками склон, вдали виднелись низкие заснеженные горы. Стеллер стал серьезно сомневаться, что они добрались до Камчатки. В основном его вывод был основан на наблюдениях за природой. Растения здесь были похожи на камчатские, но некоторые виды больше напоминали те, что он летом собирал на Аляске. Не было ни деревьев, ни знакомых кустарников. И, что характернее всего, животные, похоже, никогда не встречались с людьми. Белых куропаток легко было поймать прямо голыми руками; каланы и тюлени подплывали близко к берегу на расстояние выстрела.
У берега они с Плениснером увидели огромную спину медлительного, похожего на кита животного, которое отдыхало возле берега и каждые несколько минут всплывало, чтобы сделать шумный вдох, похожий на лошадиное фырканье. Стеллер никогда не видел и не слышал о таком животном. Это был не кит, но существо выглядело слишком большим для любого другого морского животного, известного натуралисту. Его слуга Лепехин подтвердил, что такие звери на Камчатке не водятся. «Я начал сомневаться, что это Камчатка, – писал Стеллер, – особенно учитывая, что по морскому небу на юге было достаточно хорошо понятно, что мы попали на остров, окруженный водой»[286]. То было «водное небо», характерное для Арктики: темное отражение открытого моря, хорошо различимое на облаках. Когда он стал тихо обсуждать свои подозрения с другими, ему отвечали не с прежним раздражением, а с недоверием. Он снова размышлял о «недостойном поведении различных лиц»[287], под которыми имел в виду Вакселя и особенно своего злого гения Хитрово. Впрочем, даже его друг Плениснер не желал верить в правду об их положении. Если они не на Камчатке, значит, они попали в какое-то место, не нанесенное ни на одну карту, и они не получат помощи ни из какого российского города – ни сейчас, ни когда-либо.
Стеллер подозревал, что они, возможно, не просто единственные люди на острове, но и вообще первые люди, когда-либо здесь побывавшие. И на этот раз его подозрение оказалось совершенно верным. Они высадились на острове, который позже назовут именем Беринга. Небольшой залив был единственным безопасным местом для корабля на всем 200-километровом побережье; почти весь остров окружали ступенчатые скалы и рифы. Ваксель писал:
Место, где нам удалось проскочить, настолько узко, что пройди мы на двадцать саженей севернее или южнее, мы неизбежно сели бы на каменный риф, и ни одному из нас не удалось бы спасти свою жизнь[288].
Во вторую ночь на берегу Стеллер, Плениснер и Лепехин впервые встретились с животным, которое не только подтвердило теорию Стеллера о том, что местные животные ранее не встречались с людьми, но и затем преследовало их всю зиму – голубым песцом, Vulpes lagopus beringensis. Песцов на острове, казалось, было бесконечное множество, и они ничего не боялись. Плениснер и Лепехин сразу застрелили восемь песцов, и Стеллер отметил, что «количество и упитанность их, а также то, что они были не боязливы, меня поразило»[289]. Когда они втроем сели у небольшого костра и стали пить чай, поев супа из куропаток, голубой песец бесцеремонно подошел к ним и «прямо у нас на глазах» украл двух птиц.
Уже через несколько дней после того, как моряки выбрались на берег и разбили лагерь в дюнах, им пришлось ближе познакомиться с голубыми песцами. Когда они стали строить укрытия от надвигающейся зимы, разрывая ямы, найденные Стеллером и Вакселем вблизи от дюн и ручья, стайка рычащих песцов набросилась на моряков и стала раздирать им штанины, и их пришлось разгонять пинками и криками. Сами того не желая, моряки выбрали для лагеря спорную территорию: в дюнах располагались временные или сезонные норы песцов. Животных там никто не беспокоил многие годы, так что они защищали насиженные места. Особенно свирепыми и жестокими сражения с песцами за территорию были в первые несколько недель, а в целом они затянулись на несколько месяцев. Стеллер позже писал, что у песцов были и другие места обитания, а летом «они особенно любят рыть логова в горах или у их подножия»[290]. В ноябре и декабре, однако, они постоянно штурмовали лагерь в дюнах.
Моряки раскопали и укрупнили норы и сколотили из плавника грубые остовы зданий, к которым прикрепили шкуры песцов и уцелевшие порванные паруса. Но работа шла медленно, потому что даже те, у кого еще оставались силы, едва могли стоять, не говоря уж о том, чтобы заниматься тяжким трудом. Люди продолжали умирать, а места для трупов под сделанными на скорую руку навесами уже не было. Толпы песцов шныряли по лагерю, привлеченные с холмов запахом еды. Они становились все агрессивнее: воровали одежду и одеяла, таскали инструменты и утварь. Однажды Стеллер и Плениснер, орудуя ножом и топором, убили за три часа шестьдесят песцов и их мертвыми замерзшими телами укрепили стены землянок. Хищники «врывались в наши жилища и утаскивали все, что могли, даже те вещи, которые для них совершенно бесполезны – ножи, палки, сумки, обувь, носки, шапки… Освежевывая дичь, нам нередко приходилось убивать двоих-троих ножами, потому что они пытались вырвать мясо прямо у нас из рук»[291]. Приходили песцы и по ночам, срывая одежду с беспомощных больных и пытаясь стащить с них обувь, пока их не прогоняли.
Однажды, когда матрос, встав на колени, захотел помочиться в дверях хижины, песец схватил его за незащищенное место и не желал отпускать, несмотря на крики. Никто не мог облегчиться, не держа в руках палки, и они тут же съедали экскременты с таким же аппетитом, как свиньи[292].
Песцы могли в любой час пробраться в лагерь и испражниться или помочиться на одежду или провизию, и даже пробовали сделать то же самое со спящими людьми. Впрочем, больше всего пугает строчка из доклада Вакселя:
Песцы, весьма многочисленные на этих островах, отгрызали [мертвым] руки и ноги, прежде чем удавалось похоронить их»[293].
Чтобы защитить себя, морякам пришлось прибегнуть к бездумной жестокости: они избивали и рубили взрослых песцов прямо с детенышами и, если предоставлялась возможность, даже пытали их. «Каждое утро, – писал Стеллер, – мы вытаскивали для казни перед казармой пленников, захваченных живыми; одних обезглавливали, другим ломали лапы или отрезали одну лапу и хвост. Одним мы выдавливали глаза, а других связывали друг с другом за лапы, чтобы они загрызли себя до смерти. Иных мы сжигали или забивали до смерти девятихвостой плеткой»[294]. Тем не менее песцы оказались очень упрямыми: даже после пыток они возвращались, хромая на трех лапах позади товарищей, рыча и лая так же громко, как и остальные. Иногда моряки снимали с мертвого песца шкуру и бросали его в ближайшую канаву; десятки песцов тут же бросались на мясо, и их забивали до смерти. Стеллер любил описывать свои наблюдения за природой в больших подробностях, но, когда речь заходит о назойливых голубых песцах, в его словах слышатся презрительные нотки. «Они намного зловоннее, чем рыжие лисы, – писал он. – Во время гона они спариваются днем и ночью и, как собаки, больно кусают друг друга из ревности. Само же соитие сопровождается громким воем, подобным кошачьему»[295].
Но моряки не решались истребить песцов – даже если в столь жалком положении они все еще были на это способны, – на случай, если каланы и тюлени исчезнут, и ими придется питаться. Все с ужасом представляли себе «необходимость есть вонючих, отвратительных, ненавистных песцов»[296].
К середине ноября Стеллер отметил, что на берегу люди умирают не так часто, как на корабле. Их силы медленно восстанавливались благодаря новой диете – салатам из местных растений и свежему супу из мяса каланов, тюленей и куропаток. На борту, пока Ваксель и Хитрово продолжали руководить перевозкой людей, снаряжения и провианта на берег и готовили корабль к зимовке, люди по-прежнему умирали практически ежедневно. Ситуация была тяжелой: работа шла медленно, погода становилась все суровее, а нападения песцов не прекращались.
Разговор, невообразимый при прежнем режиме, когда слуга никогда не смел перечить хозяину, открыл Стеллеру глаза на то, что было очевидно не всем. Пред лицом голода и смерти все изменилось: никто не мог ожидать особого обращения и ни одна жизнь не была ценнее другой.
Полувоенная дисциплина, прежде пронизывавшая отношения между членами команды, в дни трудностей значительно ослабела. Больше никто не выкрикивал приказы во весь голос; никто не салютовал вышестоящим офицерам и не признавал иерархии. Атмосфера напоминала бунт, во всяком случае, моряки готовы были пойти на что угодно ради самосохранения. Но самыми лучшими организаторами по-прежнему оставались офицеры, поэтому они продолжали пользоваться заслуженным авторитетом. Унтер-офицеры – боцманмат Алексей Иванов и квартирмейстер Лука Алексеев – добились уважения к себе благодаря силе духа, а вот власть Хитрово и в меньшей степени Вакселя ослабла, как и навязывавшаяся прежде покорность флотскому командованию. Ваксель так охарактеризовал Иванова: «В самых наших нужнейших случаях многое в работе чинил собою вспоможение»[297]. И хотя Ваксель не привел ни одного примера «вспоможения», да и вообще больше ничего не сообщил об этом человеке, Иванов, возможно, хорошо умел утешать и ободрять больных и умирающих, а также мог заниматься организацией отрядов для строительства и ремонта укрытий, охоты и сбора плавающего дерева.
Слуга Стеллера Лепехин, которому становилось все хуже от цинги в первую неделю на берегу, упрекал своего бывшего хозяина за то, что тот взял его в путешествие и довел до этой печальной судьбы. Стеллер, ошеломленный, решил ответить дипломатично; этот ответ он назвал «первым шагом к нашей будущей дружбе». Вместо того чтобы разгневаться, он спокойно сказал:
Не падай духом. Бог поможет. Даже если это не наша страна, у нас все равно есть надежда туда добраться; ты не умрешь с голоду; если ты не сможешь работать и прислуживать мне, я сделаю это для тебя. Я знаю, ты порядочный человек, и ты многое для меня сделал – все, что у меня есть, принадлежит и тебе; лишь попроси, и я буду делиться с тобой поровну, пока Бог не поможет[298].
Эта мудрость и проницательность после кораблекрушения были так не похожи на его желчные манеры во время путешествия. Но Лепехин все равно злился и боялся умереть от цинги. «Хорошо, – медленно ответил он. – Я рад буду служить их величествам, но сейчас я страдаю из-за вас. Кто заставил вас отправиться с этими людьми? Вам что, плохо жилось на реке Большой?» Стеллер засмеялся над этим неподчинением и непочтительностью. «Мы оба живы!» – воскликнул он, а затем стал уверять Лепехина, что он не мог знать, что случится такая беда, и в любом случае Стеллер теперь его друг до конца жизни. «Мои намерения были благими, Фома, и пусть твои намерения тоже будут благими. Ты не знаешь, что могло бы случиться с тобой на родине»[299].
Этот разговор, невообразимый при прежнем режиме, когда слуга никогда не смел перечить хозяину, открыл Стеллеру глаза на то, что было очевидно не всем. Пред лицом голода и смерти все изменилось: никто не мог ожидать особого обращения и ни одна жизнь не была ценнее другой. Он понял, что «ранг, ученость и иные отличия никак не помогут добыть пропитания; поэтому, прежде чем нас заставили бы это сделать стыд или необходимость, мы сами согласились между собой трудиться, пользуясь теми силами, что у нас остались, и не ожидая приказов, прежде чем что-то сделать, или насмешек после того, как мы это сделаем»[300].
У нескольких десятков человек, собравшихся на берегу, в самом деле была общая цель: выжить. Но очевидных средств для достижения этой цели в их распоряжении не было, среди них было слишком много больных, и Стеллер понимал, что им проще будет себя обеспечивать, разбившись на группы. Вскоре после высадки он сформировал небольшую «коммуну», в которую вошли Плениснер и Лепехин, затем они пригласили присоединиться к ним подлекаря Берхе. Они договорились, что будут жить вместе и всячески помогать друг другу выжить; делили между собой все, включая необходимую для выживания работу – охоту и готовку. К их группе вскоре присоединились три казака и двое слуг Беринга; все решения в этой полуавтономной группе принимались сообща. Они стали называть друг друга «вежливее, по имени-отчеству», чтобы укрепить дружеские отношения и поддержать друг друга, несмотря на «убогое существование»[301]. Вскоре и другие члены экипажа тоже разделились на отдельные группы.
Стеллер с большой проницательностью отмечает, как быстро система ценностей корабельной жизни уступила место другой, более прозаической. Хотя все знали, что шкурки каланов ценны, и в обычных условиях их бы стали запасать, сейчас их бросали песцам, считая лишней обузой. А предметы, о которых раньше особенно не задумывались и, может быть, даже не стали бы подбирать, уронив, вещи, которые уж точно ценились меньше шкуры калана, превратились в «сокровища»: топоры, ножи, шила, иголки, нитки, бечевки, обувь, рубахи, носки, палки, лески. Ничего из их предыдущей жизни на борту «Святого Петра» не сохранило своей прежней ценности.
Впрочем, вражда, начавшаяся еще на корабле, и в лагере не была забыта. До родной земли с ее законами было далеко, флотские порядки были забыты, и офицерам все чаще припоминали былое самоуправство и обиды. Стеллер слышал, как моряки иногда «призывали Божью кару на тех, кто виновен в их несчастье»[302]. Многие из занимавших прежде высокое положение вынуждены были с опаской оглядываться: страдающие люди искали, на кого бы излить свой гнев. Особенно команда недолюбливала Хитрово, который всерьез опасался за свою жизнь. В конце ноября Хитрово настаивал, что хочет остаться на зиму на корабле, уверяя Вакселя, что там будет комфортнее, и от ветра корабль защищен лучше. Хитрово цеплялся за флотские принципы жизни и власти. Может быть, он боялся убогого существования в береговом лагере; может быть, считал, что люди, освободившись от железной дисциплины и получив свободное время, станут вспоминать о былых окриках, о грубых словах, о жестоких розыгрышах, о суровых приказах и о понесенных наказаниях. Хитрово, безусловно, отлично помнил, как он сам уверял команду, что они в полной безопасности, и как готов был ручаться головой, что перед ними Камчатка. Многие винили в катастрофе именно Хитрово и, в меньшей степени, других офицеров. Стеллер писал, что «днем и ночью», проходя мимо или ложась отдыхать, Хитрово слышал не слишком-то тщательно скрываемые «упреки и угрозы за прошлые поступки»[303]. Он пришел к Стеллеру и его друзьям и «взмолился Бога ради» принять его в свой круг. Но Стеллер был непреклонен. Их жилище уже полно, сказал он, и они единогласно решили больше никого не принимать. За время путешествия Хитрово успел оскорбить всех в группе Стеллера, и все считали, что он «главный виновник… несчастий». Они «отказали ему совершенно». Так что Хитрово ушел спать обратно в большую постройку, которую называли «казармами», куда с корабля свозили больных; он притворялся, что не замечал косых взглядов и не слышал «стонов и причитаний» и призывов к расправе.
Командора привезли на берег 9 ноября; четыре человека несли его на импровизированных носилках, сделанных из шестов, перевязанных веревкой. Его положили в землянку в самой лучшей части прибрежного поселения в дюнах. Матросы шутили о «могиле», которую копают для себя в песке. Стеллер был изумлен, увидев, насколько подорвано уже здоровье командира, но «поразился его собранности и странному смирению». После того как больного уложили в землянку, Стеллер выбрался из своей палатки, и они поговорили с глазу на глаз. Беринг спросил, что Стеллер думает о сложившейся ситуации. Добрались ли они до Камчатки? Натуралист ответил, что, «как ему кажется», это не Камчатка, а затем тихо объяснил свои наблюдения за растениями и сказал, что, скорее всего, они находятся недалеко от полуострова, потому что флора не совпадает и с той, которую он видел на Аляске. Кроме того, Стеллер недавно нашел какие-то обломки, выброшенные на берег, и по ним видно, что они сделаны русскими. Потом он показал Берингу сломанный лисий капкан, найденный на берегу. Он напоминал капканы, которые ставили ительмены на Камчатке, но детали были сделаны не из железа, а из заостренных раковин. Это свидетельствовало о том, что его принесло с Аляски, у жителей которой не было доступа к железу. Не решаясь утверждать этого с уверенностью, Стеллер предположил, что они находятся где-то между двумя континентами. Беринг задумчиво ответил: «Корабль, скорее всего, спасти невозможно; пусть Бог сохранит нам хотя бы лангбот»[304].
Ноябрьские штормы становились все суровее. Такелаж «Святого Петра» покрылся ледяной коркой. Все засыпало снегом, а волны били по кораблю, иногда перехлестывая через борт и заливая трюм[305]. Сильное волнение еще больше замедлило транспортировку людей на берег: плавание на лодке стало просто опасным. Моряки выбивались из сил: им раз за разом приходилось спускаться в ледяную воду, а потом грести от берега к искалеченному кораблю и обратно. Когда 17 ноября разыгрался очередной сильный шторм, на корабле оставались Ваксель и четверо матросов. Ваксель выстрелом позвал на помощь, но лангбот никак не смог бы добраться до него. Шторм бушевал четыре дня; у них закончилась вода, и пришлось пить остатки солоноватой жидкости из бочки, но затем пошел снег, и они выбрались на палубу и стали собирать его и растапливать. Ожидая подмоги, они выбросили за борт еще несколько трупов, чтобы не делить с ними судно.
В своей книге Ваксель подробно описывает, какие меры предосторожности принял, чтобы спасти свою жизнь. Он накрыл лицо и завернулся в одеяла, чтобы спастись от резкой перемены между воздухом в трюме и снаружи. За последние несколько недель он «видел, что многие из наших людей, как только их головы показывались из люка, немедленно умирали, словно мыши»[306]. Также постарался забраться подальше от трюма, его резких запахов и влажных, темных коридоров. На камбузе, по крайней мере, было светлее и теплее, и он смог поддерживать там небольшой огонь. Ему казалось, что, может быть, там будет лучше, чем «на берегу, где пришлось бы валяться под открытым небом, все равно, что на снегу»[307]. Но он ошибался, и «дурной и нездоровый воздух, исходивший из кубриков корабля, в которых помещалось столько людей, в течение двух или трех месяцев не покидавших места, неподвижно лежавших в закрытом помещении на своих койках и справлявших на них все свои естественные нужды, этот дурной и нездоровый запах, повторяю, так скверно на меня подействовал»[308], что Ваксель не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой, ни даже челюстью. 21 ноября, когда его нашли, он был при смерти и лежал в беспамятстве, скорчившись на камбузе; он не мог пройти и двух шагов без поддержки под обе руки. Ваксель покинул корабль последним, несколько раз потеряв сознание по пути до лангбота; его донесли до лагеря на носилках и положили в казармы.
На берегу Ваксель вскоре оказался «настолько разбит цингой, что мы оставили всякую надежду на его жизнь»[309]. Стеллер, «даже не задумываясь о прежнем обращении», тут же пришел ему на помощь, предложив свежую еду и салат, приготовленный из увядших кореньев и трав, росших у берега. Ваксель лежал в казарме вместе с другими моряками, не в силах встать и отбиваясь от назойливых лис, пока ему не оборудовали отдельный навес. Стеллер с особой тщательностью ухаживал за Вакселем не только и не столько из чистого альтруизма: он опасался того, что может случиться, если Ваксель умрет. Следующим по старшинству из командиров был почти всеми презираемый Хитрово. Стеллер боялся, что «всеобщая ненависть уничтожит всякую дисциплину и замедлит или даже сделает совсем невозможными предприятия, необходимые для нашего избавления»[310]. Под чутким уходом Стеллера Ваксель стал медленно, мучительно выздоравливать – к облегчению многих других, тоже опасавшихся Хитрово. Еще одной проблемой для Вакселя было то, что его сын Лаврентий не числился официально в личном составе судна и, соответственно, не получал пайка из корабельных запасов. Они с отцом делили на двоих скудную порцию ржаной муки.
К 22 ноября Беринг так ни разу и не поднялся; он по-прежнему лежал в землянке, в которую его принесли почти две недели назад. Он тихим голосом передал приказ Вакселю: собрать всех выживших офицеров и разработать план спасения судна. Через день ему представили «Рапорт о спасении корабля». Уже несколько дней бушевала буря, и все были слишком слабы, чтобы выполнить отданные приказы: добраться на веслах до корабля, всеми оставленного, пришвартованного при помощи всех оставшихся якорей и абордажных крючьев. Рапорт подписали Ваксель, Хитрово и выжившие унтер-офицеры: Харлам Юшин, Никита Хотяинцов, Борис Расилиус и Алексей Иванов. Рапорт начинается так:
Как вам известно, корабль находится в открытом море, и если подует сильный ветер с востока, юго-востока, запада или юго-запада, один якорь его не удержит. На востоке, севере и западе скалистые рифы. Если сильный ветер подует с запада или с юго-запада, то корабль унесет в море[311].
Они предложили вывести корабль на мель, как можно лучше закрепить его, а затем забрать припасы. А затем, весной, они надеялись снова поставить на корабль паруса. Так или иначе им казалось, что если они не сделают вообще ничего, то за зиму корабль либо разобьется, либо пропадет.
26 ноября Хитрово был единственным работоспособным старшим офицером, но и он уже был слишком слаб, о чем написал в своем журнале: «едва стою на ногах». Он попытался произнести вдохновляющую речь и уговорить матросов исполнить приказ Беринга и вывести корабль на мель, но смог найти лишь пять человек, у которых нашлись на это силы. Они попытались вывести лангбот в море, но вымокли в ледяной воде, и им пришлось уйти обратно в палатки. Хитрово наверняка знал, что людей все равно было так мало, что они не смогли бы даже поднять якорь, не говоря уж о том, чтобы поднять паруса и вывести корабль на мель; скорее всего, они налетели бы на риф и погибли бы вместе с судном. Он отменил операцию и сообщил о своей неудачной попытке Берингу, составив письменное разъяснение на случай последствий. На следующий день Хитрово было уже так плохо, что он не мог выйти из палатки, хотя Стеллер весьма едко – и, скорее всего, незаслуженно, учитывая, что цингой страдала вся команда, – обвинял его в том, что он скорее ленится, чем болеет. Так или иначе, в планы вмешалась стихия. 28 ноября сильнейший шторм оторвал от корабля якорь и все крючья и развернул его. А потом случилось невероятное: течение и ветер подхватили «Святого Петра» и бросили его не на рифы, а на мель, «на место, куда мы и собирались его посадить»[312], у небольшого ручья возле лагеря. Стеллер был поражен: буря выполнила работу «даже лучше, чем, наверное, возможно было бы сделать человеческими усилиями»[313].
«Святой Петр» лежал на мели, наклонившись на бок; он медленно погрузился в рыхлый песок залива на глубину около двух с половиной метров, до самых планширей. Больше он никогда не вышел в море. Корабль лежал всего в двухстах метрах от лагеря, постоянно напоминая команде об их прискорбном положении. Когда погода ненадолго успокаивалась, моряки медленно вывозили на баркасе остатки еды. Теперь это было сделать намного легче, потому что им не приходилось бороться с волнами в открытом море. Запасы пищи, которые удалось спасти, состояли в основном из ржаной муки и круп, хранившихся в больших кожаных мешках. К сожалению, в трюме мешки подмочило морской водой. Ваксель установил месячный рацион этих продуктов: тридцать фунтов муки (позже снизили до пятнадцати и, наконец, до нуля), пять фунтов подмоченной крупы и полфунта соли. Еду делили поровну между всеми, невзирая на звания и общественное положение, и это в немалой степени помогло сгладить напряжение между офицерами и матросами. Есть муку, впрочем, – не особенно большое удовольствие. А солоноватую крупу, чтобы сделать хоть сколько-нибудь съедобной, приходилось жарить в тюленьем или каланьем жире. «Пока мы не привыкли к этому, наши животы раздувались от метеоризма, как барабаны»[314]. Оставшийся порох тоже оказался подмочен водой и в основном непригоден к использованию – и это было убийственной катастрофой, намного более тяжелой, чем все остальные, что их постигли. Как всю зиму охотиться без пороха?
Переглянувшись, люди увидели на лицах друг друга приметы своих лишений и страданий. «И ежели б тогда откуда-нибудь из посторонних персон господин какой от слуг своих, а командир от подкомандных своих, – писал Ваксель, – приехали туда и посмотрели б на всех, узнали ль бы, кто из них командир или прочие офицеры, или матрос, или плотник, или кто господин или слуга? Поистине сказать: никак не распознали б, но всех бы за равно почли – и офицера за плотника, и господина за слугу, понеже уже не было разни ни между кем и ни в чем, ни у слуги с господином, ни у подчиненного с командиром, ни в почтении, ни в работе, ни в пище, ни в одежде…»[315]
Глава одиннадцатая
Смерть и игра в карты
«Святой Петр» лежал на боку, погруженный в песок, заброшенный и поломанный, и все внимание теперь было сосредоточено на новой жизни на берегу. Никто больше не помышлял о плавании к Авачинской губе, да и вообще ни о чем, кроме непосредственного выживания. После того как Вакселя и последних матросов забрали на берег, лагерь разросся, чтобы вместить всю команду. Именно таким он и пробудет всю зиму: скопление грязных, бесформенных палаток из рваной, хлопающей на ветру парусины над холмиками замерзшего песка, укрепленными окоченевшими трупами песцов и выловленным из воды деревом, вокруг маленького тлеющего костра. Обитатели землянок, по предложению Стеллера, разделились на более мелкие отряды; так они могли обеспечить собственные потребности, не нуждаясь в централизованной власти. Поскольку большинство участников экспедиции болели цингой, умирали или уже умерли, в примитивном поселении почти не было движения. Неумолкающий шум ветра заглушал тихие стоны больных.
«Вид на берегу был жалким и пугающим, – писал Стеллер. – Одни больные плакали от сильного холода, другие – от голода и жажды, поскольку рты многих были так ужасно поражены цингой, что они не могли есть из-за сильнейшей боли: десны распухли, словно черно-коричневая губка, полностью скрыв зубы под собой»[316]. Ваксель писал, что «больные продолжали умирать один за другим». А мертвым приходилось «в течение довольно долгого времени лежать среди живых, так как не находилось никого, кто был бы в силах убрать их из землянки, а живые также были не в силах отделиться от умерших»[317]. Живых, стонущих, с остекленевшими глазами, было все труднее отличить от мертвых. Большинство находилось, по словам Вакселя, «в тоске и унынии[318]».
У тех, кто поддавался первому приступу этой болезни, дело быстро ухудшалось, в дальнейшем появлялась одышка, одолевавшая больных до такой степени, что они после малейшего движения не могли перевести дух. Вслед за этим вскоре появлялась неподвижность всех членов, ноги и лодыжки распухали, лица принимали желтый оттенок. Вся полость рта, в особенности десны, начинала кровоточить, зубы – шататься. Когда все эти признаки болезни были налицо… [о]н охотно оставался лежать и уже в дальнейшем не прилагал никакого усилия к тому, чтобы спасти себя от гибели, а, напротив, настолько падал духом, что скорее мечтал о смерти, чем о выздоровлении[319].
Моряков поражала сильнейшая лихорадка, необъяснимые сыпи, пронзительная боль, галлюцинации и запоры. Они были совершенно беззащитны и беспомощны, не в силах даже отбиться от голодных песцов. «Поистине, – подтверждает Стеллер, – вид был настолько жалким, что даже самые храбрые теряли присутствие духа»[320].
Перед лицом верной гибели утихли даже старые распри и взаимное презрение. Стеллер не мог оставаться равнодушным к страданиям и неустанно помогал больным, готовя противоцинготный бульон из трав и кореньев, добытых из мерзлой земли. Из русских мучителей они превратились для него в пациентов, нуждающихся в уходе. Из дневника исчез едкий сарказм, да и голос, скорее всего, лишился прежней самоуверенности. Беринг был при смерти, Хитрово никто не любил, а Ваксель сильно страдал от цинги, так что Стеллер превратился в неформального лидера берегового лагеря. Оставшись практически единственным, кого не поразила цинга, он обрел неожиданную власть над прежними противниками. Но он, похоже, не стал пользоваться ситуацией, и его характер совершенно изменился – он стал утешителем и врачевателем. Как ни удивительно, он взял на себя и обязанности повара. Оказалось, что Стеллер умеет великолепно приспосабливаться к ситуации; так или иначе, он позабыл о неотъемлемых атрибутах прежней культурной жизни – о привилегиях образованного дворянина, о комфорте, который полагался ему по званию, о неограниченной власти над личным слугой. Без единой жалобы он занимался черной работой и тем самым добился уважения многих. Он не избавился полностью от привычного едкого тона, но давал ему волю лишь на страницах своего дневника – и критиковал только тех, кого считал некомпетентными или неблагодарными.
Стеллер, конечно, с особым старанием выхаживал Вакселя, потому что это пошло бы на пользу экспедиции; других же спасал из дружбы или из уважения. Когда старого опытного офицера Андриса Эзельберга, датчанина, который прослужил на флоте более пятидесяти лет, разбила цинга, Стеллер особенно опечалился. Эзельберг дружелюбно относился к Стеллеру и вставал на его сторону в ходе обсуждения прежних неоднозначных решений. Стеллер с горечью писал об этой несправедливости: «С ним обращались как с глупым ребенком, как с идиотом люди, которые были вполовину его младше, у которых не было и трети его талантов»[321]. Когда датчанин умер, Стеллер писал, что Эзельберг «исполнял свои обязанности с таким тщанием, что унес с собой в могилу репутацию исключительно ценного человека, чьи советы, возможно, могли бы нас спасти раньше».
Стеллер стал не только врачом, но и священником, утешая умирающих и отпевая уже умерших. Его уход за тяжелобольными, собранные им и другими моряками противоцинготные травы, за которыми он ходил при любой возможности, и супы, готовившиеся по его указанию из свежего мяса убитых животных, скорее всего, спасли десятки человек. Но, хотя обычно он очень подробно описывал все происходящее в дневнике, о своих действиях во время эпидемии цинги он предпочел умолчать – о его решающей роли позже сообщили другие. Миллер, историк, написавший труд об экспедиции на основе разговоров с выжившими участниками, писал, что «люди не могли упасть духом, потому что с ними был Стеллер. Стеллер был врачом, в то же время исцелявшим и дух. Он радовал всех своим живым, приятным обществом»[322]. Как врач Стеллер добился намного большего уважения, чем как натуралист. Его стремление к научной деятельности и признанию постепенно оказалось вытеснено терпением и сочувствием. Стоит также отметить, что перемены в характере Стеллера совпали с изменившимися обстоятельствами, когда его практические знания и навыки оказались по-настоящему полезны, но вместе с тем это случилось только тогда, когда полностью или почти полностью закончились запасы спиртного.
1 декабря Беринг решил отправить небольшую исследовательскую экспедицию в глубь таинственной земли; это была первая из нескольких подобных миссий. Три разведчика во главе с матросом Тимофеем Анчуговым были выбраны из числа наименее пострадавших от цинги. Они с трудом поднимались по продуваемым ветрами каменистым склонам, по «высоким горам и нехоженым тропам», проделав около 10 километров до вершины голого холма, с которой увидели к западу открытое море и берег, омываемый прибоем. В общей сложности их путешествия продлились почти четыре недели; они долго шли по пересеченной местности и в конце концов сделали вывод, что это остров. Дальнейшие исследования подтвердили, что лагерь расположен на восточном побережье, примерно на трети длины от южной оконечности острова, который простирается с юго-востока к северо-западу; ширина его составляла десять – пятнадцать миль, а длина – сорок. Когда через два дня они наконец вернулись с этой новостью, это оказался сильнейший удар. «Мы ясно поняли, в какое беспомощное и тяжелое положение попали и что нам угрожает полная гибель, – вспоминал Ваксель. – В самом деле, мы оказались выброшенными на неизвестный и пустынный остров, без корабля, без леса для постройки другого судна, без провизии, с большим количеством людей, до последней степени больных, без лекарств или каких-либо средств для лечения больных, без жилья, – выброшенными, так сказать, под открытое небо. К тому же вся земля покрыта снегом, впереди предстоит длительная зима с неизбежными сильными морозами, у нас совсем нет дров»[323]. Они были близки к «полному отчаянию» и «усомнились в возможности… спасения». На помощь к ним прийти не мог никто.
За месяц, минувший с тех пор, как его перевезли на берег, Беринг значительно ослабел. Он так ни разу и не поднялся со своего места в песчаной яме, накрытой палаткой. Цинга была не единственной болезнью, от которой он страдал. Благодаря уходу Стеллера он за время путешествия дважды от нее вылечился. Еще на корабле из опухших и потемневших десен у него выпало четыре зуба, но 8 декабря его десны были тверды. Стеллер писал, что Беринг страдал от целого ряда непонятных недугов и «умер скорее от голода, жажды, холода, паразитов и горя», чем от какой-либо конкретной болезни. Его ступни опухли, он страдал от лихорадки, а «внутренняя гангрена» вызвала «воспаление внизу живота». Командор препятствовал попыткам Стеллера разнообразить его диету на берегу. Однажды, когда Стеллер принес в лагерь детеныша калана и «всеми способами» умолял Беринга разрешить ему приготовить мясо специально для него, ответом был решительный отказ. Беринг отвернулся от него и пробормотал: «Меня удивляют ваши вкусы»[324]. Стеллер не оскорбился. Оглядев землянки, заснеженный берег и обломки корабля неподалеку, он ответил, что вкусы его «сообразны обстоятельствам». Но Беринг соглашался есть только вареных куропаток.
Капитана терзали беспокойства и стрессы, он постоянно думал о выживании своих людей и размышлял о неудачах экспедиции. Он признался Стеллеру, что сила у него уже не та, что прежде. Беринг, отличавшийся мощным телосложением, имел в виду не только физическую силу, но и то, что больше не был в состоянии поддерживать порядок в экспедиции. Он жаловался, что предприятие получилось намного более сложным и масштабным, чем он мог себе представить, и что «в его возрасте он бы предпочел, чтобы его освободили от этой задачи и передали ее молодому, энергичному человеку»[325].
Путешествие, запланированное Берингом, должно было стать быстрой и плодотворной вылазкой и сулило ему славу и состояние. Он хотел пересечь Тихий океан, размеры которого в те годы недооценивались, не отвлекаясь даже на тщетные поиски земли Жуана да Гамы; составить примерную карту побережья; попытаться вступить в дружеские контакты с местными жителями в безопасных гаванях с пресной водой; заявить о территориальных притязаниях России на огромные новые земли и добиться, чтобы его личный вклад и вклад его страны в научные исследования, в процесс познания мира получил мировое признание. После этого он собирался вернуться в Петропавловск и пуститься в долгий путь на запад, в Санкт-Петербург, к Анне и детям. Там его ждала почетная отставка, обеспеченная жизнь, возможно, почетные, исключительно церемониальные должности. А теперь он лежал, сокрушенный и чахнущий от болезни, на заброшенном холодном берегу.
Экспедиция и его мечты разрушены, один корабль пропал, а другой разбился и сел на мель в лагуне поблизости, его люди голодают и страдают от цинги на этом пустынном острове, который находится неизвестно где. Он больше никогда не увидится с семьей. Но даже если бы он был совершенно здоров, радоваться почти нечему. Он часто говорил со Стеллером о том, как в жизни и в карьере его преследовала невероятная удача – вплоть до того момента, когда два месяца назад он заболел цингой. Стеллер был уверен, что если бы командора удалось доставить до Камчатки, он бы выжил; что Беринг пал духом, в то время как тело его еще было крепким. Но шестидесятилетний командор был уже слишком слаб и подавлен, чтобы выздороветь.
Он умер 8 декабря в пять часов утра, до рассвета. В ту ночь сильный ветер разносил песок по лагерю. Попал он и в землянку, где лежал Беринг, его ноги были частично скрыты песком. «Оставьте меня, – сказал он Вакселю и Стеллеру, отказавшись от помощи в эти последние часы. – [Т]е части тела, которые глубоко спрятаны в земле, сохраняются в тепле, а те, что остаются на поверхности, сильно мерзнут»[326]. В своих опубликованных записках об экспедиции Стеллер писал: «Беринг принял смерть с большим достоинством и готовностью»[327], до последнего сохраняя рассудок и связную речь. Но позже в частном письме коллеге из Академии наук признался, что Беринг «умер в жалком состоянии под открытым небом… почти заеденный вшами»[328].
На следующий день тело Беринга отнесли примерно на 15 метров от лагеря и выкопали ему в песке могилу рядом с могилой Эзельберга, отметив ее деревянным крестом. Матросы сколотили гроб. Пусть он и оказался слишком мал для тела Беринга, и тело пришлось сгибать, чтобы оно поместилось внутри, это был знак уважения. Доски, которые удалось достать с погибшего корабля, представляли невероятную ценность, и больше никто на острове не удостоился такой чести. Многие матросы и офицеры по-прежнему с почтением относились к своему командиру; Ваксель провел заупокойную службу по лютеранскому обряду.
Хотя память Беринга и почтили похоронной церемонией, Стеллеру очень не понравилась надгробная речь: «Он умер как благородный человек, а похоронен как безбожник»[329]. Беринг, в конце концов, возглавлял не только это последнее путешествие, но и всю экспедицию с момента отправления из Санкт-Петербурга. Он был богатым человеком, занимавшим высокое положение в стране, где иерархии и социальному статусу придавалось огромное значение. В Сибири Беринг имел право отдавать приказания любому губернатору или чиновнику, когда дело касалось нужд экспедиции. Он путешествовал с роскошью, в сопровождении свиты, соответствующей его статусу царского представителя. Он казался символом империи и жил соответствующе. Даже на корабле Беринг оставался дворянином и вез с собой девять сундуков драгоценностей и вычурной, непрактичной одежды. Но после кораблекрушения и резко изменившейся ситуации он лишился прежней власти и уважения, став в лучшем случае первым среди равных. Речь Вакселя, таким образом, стала неплохим описанием ситуации, в которой оказался Беринг. В страданиях и хаосе, царивших на берегу, парадная одежда и высокое звание значили бы куда меньше, чем умение снять шкуру с убитого зверя, ухаживать за больными или разжигать костер. Беринга, не сумевшего приспособиться к новым тяжелым условиям, похоронили на неосвоенной, неосвященной земле.
Хотя Ваксель, бесспорно, произнес эту речь из уважения, желая оказать последние почести, Стеллеру было очень больно из-за того, что в ней подразумевалось, что Беринг не лишен недостатков. Он ворчал: «В гнусных условиях Охотска и Камчатки он [Беринг] пытался поднять и вытащить тех, кто провалился в трясину, и они так сильно повисли на нем, что он и сам увяз»[330]. Стеллер считал, что Беринг, «сойдя в могилу, расплатился по всем счетам команды». По его мнению, «единственное обвинение, которое можно предъявить этому замечательному человеку – то, что своим слишком снисходительным отношением он нанес не меньше вреда, чем его подчиненные своими импульсивными и часто непродуманными действиями»[331]. В своеобразном панегирике Берингу, приведенном в дневнике, Стеллер признал, что командир не был известен быстрыми, решительными действиями, и задавался вопросом, смог бы Беринг лучше преодолеть все опасности и трудности экспедиции, если бы в нем было «больше огня и жара».
Несмотря на все перепалки с Берингом, случившиеся за время путешествия, Стеллер относился к командору с огромным уважением как к руководителю экспедицией и обвинял в неудачах других офицеров – более того, Стеллер даже умудрился заявить, что все промахи Беринга связаны с излишним влиянием подчиненных, которые в конце концов стали слишком самодовольны и «смотрели с презрением на всех, кто был вокруг них». И, как и обычно, особый гнев Стеллера вызвал Хитрово, который, как ему казалось, должен был с бо́льшим почтением относиться к Берингу, повысившему его в звании до лейтенанта, а не перечить своему командиру на морском совете, что в итоге привело к кораблекрушению. Хитрово, писал Стеллер, был перед Берингом в долгу, но «противоречил ему во всем, стал виновником наших несчастий, а после смерти Беринга – его самым большим обличителем»[332].
Хотя Стеллеру не нравились некоторые офицеры, выбранные Берингом (в особенности, конечно, Хитрово), он относился к Берингу с уважением еще и потому, что тот прожил жизнь «как праведный и набожный христианин, который вел себя как человек безупречных манер, добрый, тихий и уважаемый всей командой, и высшими, и низшими чинами»[333]. Офицеры и матросы решили назвать остров в честь Беринга, несмотря на то, что как раз Беринг хотел плыть дальше, а Ваксель и Хитрово отменили его приказ и направили «Святого Петра» к берегу.
В арктических широтах, где расположен остров Беринга, световой день в декабре и январе длится не дольше семи часов, да и сами дни часто бывают пасмурными. Но близость океана смягчает климатические условия; на острове было намного теплее, чем в тех же широтах в Сибири, средняя температура составляла минус 6–8 градусов Цельсия. К сожалению, поздняя осень и зима – это еще и период наибольшей влажности. То было несчастное, смертельно опасное время для кораблекрушения; они оказались на необитаемом острове без нормального крова и пищи, прячась в землянках, выкопанных в замерзшем песке, с рваными парусами вместо крыши и замерзшими трупами песцов вместо стен. В течение зимы эти примитивные постройки разрушались, терзаемые ветром, снегом и дождем.
«[П]остоянное беспокойство причиняла нам… сырость от близости моря, от которой паруса, составлявшие крыши наших землянок, быстро ветшали и не в состоянии были противостоять постоянным сильным ветрам; они разлетались при первом же порыве ветра, а мы оставались лежать под открытым небом»[334], – вспоминал Ваксель. Мощные зимние бури срывали крыши с их хижин и забрасывали жилье снегом. После каждой бури те, у кого были силы, вставали, отряхивали снег, выгребали его из землянок, насколько могли, и готовились к следующей буре. Они не страдали от «особенно сильных морозов или пронизывающего холода», но часто случались ураганы и «штормовые ветры в сочетании с сильным снегопадом». Глубина снега вдали от берега составляла от двух до трех метров. «Иногда ветер бывал так неистово силен, что один раз, например, некоторых из наших людей, которым пришлось выйти из землянок за естественной нуждой, несомненно унесло бы в море, если бы они не догадались броситься на землю, изо всех сил ухватиться за камни и другие находившиеся на земле предметы»[335]. Самого Вакселя однажды чуть не вынесло ветром из палатки. Он успел за что-то удержаться, а его ноги развевались на ветру, и два матроса едва сумели его спасти, схватив за руки. Несомненно, из-за общей слабости люди были склонны переоценивать жестокость ветров и штормов, но погодные условия в любом случае были крайне неприятны.
В декабре и начале января, когда установился снежный покров, цинга стала свирепствовать с новой силой. Стеллер не мог найти достаточно свежих трав, чтобы полностью искоренить заболевание. Однообразная диета состояла из мяса песцов и каланов и жареной ржаной муки. Повара брали соленую ржаную муку, заливали ее водой и оставляли на несколько дней, пока тесто не скисало, а затем жарили на тюленьем жире. Еда была невкусной, но довольно сытной. «В общем говоря, нужда, нагота, холод, сырость, измождение, болезни, нетерпение и отчаяние были ежедневными гостями»[336], – вспоминал Стеллер. Но, по крайней мере, песцы больше им не докучали. К декабрю многих из них убили, а оставшиеся стали намного осторожнее. Возле каждой землянки по настоянию Стеллера были выставлены бочонки для хранения пищи и построены деревянные ко́злы высотой около метра, на которых вывешивали разные вещи и сушили одежду при слабом ветре. Эти две меры тоже помогли с профилактикой нападений песцов, потому что на земле больше не валялись ни еда, ни вещи, которые можно было бы испачкать или украсть.
После смерти Беринга командование экспедицией принял его старший помощник, лейтенант Ваксель, хотя он по-прежнему лежал в казарме, практически не вставая. Ваксель, как и Стеллер, сохранял присутствие духа пред лицом катастрофы и пытался приободрить и остальных, несмотря на мрачную ситуацию. Опять-таки, как и Стеллер, он отлично осознавал новые социальные реалии берегового лагеря. «Я решил руководить командой по возможности кротко и мягко, – писал он, – поскольку жесткость и строгость были бы при таких обстоятельствах совсем неуместными и не привели бы ни к каким результатам»[337]. Он сохранил свое лидерство, но больше не командовал как морской офицер. Либо понимая сложившиеся обстоятельства, либо из-за слабости и сонливости он способствовал определенной децентрализации власти и позволял игнорировать такие правила, которые ни за что бы не позволил нарушить на корабле.
Впрочем, эта общая снисходительность тоже привела к определенным проблемам среди команды, состоявшей из отчаявшихся, умиравших людей. Из пяти общественных землянок – которые называли то ямами, то могилами, то юртами, то хижинами, – четыре располагались неподалеку друг от друга в том месте, которое изначально выбрали Стеллер и Плениснер, а вот пятая палатка стояла демонстративно поодаль, возле песчаного холмика выше по течению ручья. Там жили двенадцать человек, в основном матросы. Их неформальным лидером был Дмитрий Овцын, лейтенант, разжалованный в обычные матросы до путешествия, якобы за сношения со ссыльными во время исследовательского путешествия по Сибири. Беринг ценил способности Овцына и назначил его на ответственную должность своего личного адъютанта, но после смерти Беринга Ваксель не пожелал видеть его в этой роли, и, по крайней мере с точки зрения флотского протокола, его снова понизили до матроса. Овцын был этим весьма обижен, и Ваксель боялся, что тот станет соперничать с ним за власть. Овцын стал лидером недовольных, ожидая возможности воспользоваться слабостью или некомпетентностью нового руководителя, чтобы добиться большей власти или лучшего положения для себя. Хотя Ваксель был командиром, он до сих пор оставался настолько слабым, что ему приходилось полностью полагаться на тех, кто лечил его и выполнял немногочисленные приказы. Ваксель не был уверен в своем положении и даже считал, что ему недолго осталось жить.
При Вакселе, среди прочего, перестали следить за соблюдением флотских правил касаемо карточных и вообще азартных игр. Начиналось все невинно, и когда Стеллер, который из-за религиозного воспитания отрицательно относился к любым азартным играм, пожаловался Вакселю, тот оправдал их, заявив, что он не только очень слаб для того, чтобы отдавать приказы, но и поддерживает это увлечение. «[К]огда издавался указ о запрещении карточной игры, то не имели при этом в виду наш пустынный остров, потому что он в то время еще не был открыт, – писал он. – Я с уверенностью утверждал, что если бы в то время можно было предвидеть наше нынешнее бедственное состояние, то, по всей вероятности, был бы установлен особый артикул, разрешающий всякие пристойные способы препровождения времени»[338]. Ваксель не просто не стал запрещать азартные игры: в его личных вещах нашлось несколько колод карт, которые он раздал или продал морякам. Поскольку в декабре большинство людей еще были разбиты цингой или в целом очень слабы, Ваксель считал, что это будет для них хорошим способом скоротать время. Если бы они слишком много задумывались об отчаянном положении, то совсем пали бы духом, так что он надеялся, что карты отвлекут их, помогут «преодолеть тоску и уныние» и не станут искать виноватых в свалившемся на них бедствии. Он изложил Стеллеру свое мнение и его обоснования, заявив: «Пока я командую отрядом, решение не изменится». А вот после его смерти, «пускай те, к кому перейдет командование, распоряжаются и командуют, как им заблагорассудится»[339].
Но Стеллер, что было вполне в его духе, не мог легко успокоиться, если считал себя правым. Он указал Вакселю на серьезные проблемы, которые начались из-за «презренной игры в карты». Можно, конечно, надеяться, что в лицо он говорил об этом в более дипломатичных выражениях, чем в дневнике, но вряд ли это так. Стеллер окинул критичным взглядом лагерь и возмущенно отметил, что «целыми днями и ночами в жилищах не видно ничего, кроме карточной игры… С утра, на смотрах, мы слышали разговоры только об одном: этот выиграл сто рублей или даже больше, а этот проиграл столько или столько»[340]. И Ваксель, и Стеллер были по-своему правы: большинство моряков с трудом могли двигаться, так что игра в карты стала для них чуть ли не единственным доступным занятием, кроме как разглядывать хлопающую на ветру парусину и слушать стук снега или града по палаткам или, хуже того, молитвы или бессвязный бред больных и умирающих. Без работы и развлечений их охватывала отчаянная скука. Но со временем азартные игры, вместо того чтобы решить проблемы, лишь создали новые. Стеллер писал, что офицеры, которые умели играть намного лучше матросов, выиграли у них все деньги и меха. Он говорил, в частности, о Хитрово и предполагал, что в действительности Ваксель и другие офицеры разрешили азартные игры, потому что им нравилось играть, и они выигрывали. Некоторые так сильно проигрались, что стали воровать у других шкуры каланов, чтобы расплатиться, и вскоре «ненависть, ссоры и распри воцарились во всех жилищах»[341].
Шел декабрь, люди медленно выздоравливали, и эпидемию цинги в самом деле вытеснила эпидемия азартных игр, которые больше вызывали раздоры, чем способствовали единству. К тому времени Ваксель, Хитрово и другие офицеры уже слишком боялись матросов, по крайней мере, некоторых из них, чтобы отнимать у них единственное развлечение. Это могло привести к бунту. А любые недовольные, скорее всего, примкнули бы к затаившему обиду бывшему офицеру Овцыну.
Когда Ваксель отказался даже выслушивать вполне обоснованные возражения, Стеллер начал тайком скупать колоды карт и выводить их из оборота. Позже Ваксель обнаружил, что большинство колод, которые он продал или раздал матросам, оказались в руках натуралиста, – то была довольно рискованная попытка остановить эпидемию. Стеллер, конечно же, был весьма убежденным и принципиальным человеком. Но этот случай показывает, что упрямство нередко заставляло его делать ошибки; он искренне считал, что люди поймут, что ведут себя неправильно, и увидят изменения к лучшему после того, как он, словно родитель, наказывающий неразумных детей, отберет у них игрушки. Напротив, Ваксель, похоже, вполне осознавал и опасность раздоров, и ограниченность своей власти – скорее всего, благодаря офицерской подготовке и опыту: раз уж люди начали играть, его власти и авторитета уже не хватит, чтобы остановить их. Зачем рисковать и ставить под сомнение свои полномочия, чтобы прекратить то, что, как он надеялся, закончится и само по себе?
Другой проблемой, порожденной азартными играми, стала избыточная охота на каланов, служивших одним из главных источников пищи, который поддерживал их редеющие ряды. «Сначала игра шла на деньги», – писал Стеллер. Но в конце концов к деньгам «стали относиться с презрением, и, когда на них играть перестали, каланам пришлось пожертвовать своими дорогими шкурами»[342]. Все знали, что на продаже этих шкурок можно сделать целое состояние, особенно если их купят китайцы. В первые недели на берегу шкуры каланов просто бросали песцам, но когда моряки смогли немного поправить здоровье и лагерь охватила игровая эпидемия, шкурам нашлось новое применение в качестве «валюты», и они вдруг резко возросли в цене. Стеллер возмущался, когда какой-нибудь матрос, «полностью разорившийся, пытался отыграться посредством несчастных каланов, которых убивали без нужды и раздумий и только ради шкур, выбрасывая мясо»[343].
Чтобы достать шкуры каланов, некоторые матросы «яростно набрасывались на животных, без какой-либо дисциплины и порядка, часто лишь смеша друг друга»[344], и вскоре они согнали животных со всех насиженных мест поблизости. После того как закончился порох, охота сильно затруднилась – на нее теперь ходили с палками и дубинами. Люди подкрадывались к спящим или ничего не подозревающим животным, бросались на них и забивали до смерти; иногда охотились сообща – один загонял зверя, другой убивал. Вскоре выдры уже приспособились к новому хищнику, человеку, и стали бояться к нему приближаться. Стеллеру казалось, что стаи каланов теперь выставляют караульных, которые будят остальных на берегу, завидев незваных гостей. Выходя на сушу, каланы крутились вокруг себя, задрав носы и принюхиваясь к новому запаху, означавшему опасность. Стеллеру даже чудилось, что голубые песцы бегут по берегу впереди охотничьих отрядов и лают, будя спящих каланов прежде, чем люди успеют до них добраться. Природа, считал он, обратилась против них, наказывая за грех азартных игр. Охота, в первые дни казавшаяся простым делом, вскоре осложнилась. Пришлось организовывать ночные разведывательные экспедиции, несмотря на свирепые и непредсказуемые снежные бури, чтобы подобраться достаточно близко к лежащим на берегу выдрам. Еще до конца года им уже пришлось ходить по берегу на шесть, а то и десять километров, чтобы добыть еды, а к февралю 1742 года – на все тридцать.
Кроме пищи, вокруг лагеря заканчивалось и топливо. На поддержание огня в центре лагеря и небольших костров, на которых готовили еду, требовалось столько дров, что для их сбора приходилось уходить на много километров, искать, вглядываясь в горизонт, снежные бугорки после бурь, раскапывать их и нести дрова обратно в лагерь, закрепив вязанки на спине. Для ослабевших моряков такие вылазки были сущим мучением, они длились целыми днями при весьма дурной погоде. К счастью, чем длиннее становились маршруты, использовавшиеся для добычи пропитания и топлива, тем лучше становилось здоровье выживших.
Тем не менее с течением времени еды становилось все меньше и меньше. Бывали дни, когда «[п]орции, приходившиеся на долю каждого, бывали иногда настолько малы, что мы были вынуждены употреблять в пищу и внутренности этих животных; даже кишки не выбрасывались вон, а варились в пищу больным и съедались ими с громадным аппетитом»[345]. Умирающим и тем, кто сильнее всего пострадал от цинги, было трудно даже открыть рот, чтобы проглотить жилистые куски каланьего мяса. Ваксель так описывает их главный источник пропитания: «Мясо морских бобров, составлявшее до марта главную часть нашей пищи, вначале тоже внушало всем большое отвращение, так как оно необычайно жестко и состоит почти целиком из сухожилий, напоминая по плотности кусок кожи. Приходилось его жевать, жевать и снова жевать без конца, пока оно, наконец, не становилось немного мягче, и только затем можно было его проглатывать кусочками»[346]. Впрочем, каким бы отвратительным ни было на вкус мясо каланов, даже оно превосходило мясо песцов.
Где-то в январе в нескольких километрах от лагеря на берег выбросило труп огромного кита. «Хотя жир его уже несколько протух, так как, надо полагать, тушу этого кита в продолжение долгого времени носило по морю», кит вскоре стал одним из основных источников пищи в голодные дни вплоть до весны. Его называли «провиантским магазином»; разрубленная туша лежала на берегу, и к ней шли, когда не удавалось добыть другого зверя. Группа матросов отрезала большие куски китового жира, упаковывала их в мешки и приносила в лагерь, где жир резали небольшими кубиками, складывали в котелок и варили, чтобы избавиться от несъедобного «жидкого жира». Жилы и связки, попадавшиеся в жире, они резали на куски и глотали целиком, не жуя. «Это не представляло никаких затруднений, – вспоминал Ваксель, – [и] мы избавлялись от необходимости отделять вручную весь жир»[347]. Позже удалось найти и другие источники мяса. Моряки убили морского льва, разделали его огромную тушу на берегу и принесли жирные куски в лагерь. Это позволило хоть немного разнообразить монотонный рацион из каланов и тюленей. Они пожарили мясо на огне, и Стеллер с одобрением объявил, что «мясо оказалось настолько исключительного качества и вкуса, что нам вскоре захотелось добыть еще. Жир был по вкусу как говяжьи мозговые косточки, а мясо – почти как телятина»[348]. Это уж точно было лучше, чем прогорклый китовый жир из «провиантского магазина».
Все это мясо содержало витамин C, и, поскольку оно было свежим и, как рекомендовал Стеллер, варилось в супах и бульонах, с эпидемией цинги медленно, но верно удалось покончить. Мясо и мясные супы, конечно, были далеко не так эффективны, как определенные свежие растения, но и их оказалось достаточно, чтобы моряки мало-помалу восстановили здоровье. Кроме того, Стеллер отправлял отряды на поиски спрятанных под снегом кустов вороники, которую добавляли в чай. В декабре умерло еще шесть человек, но в январе – всего двое. Последней жертвой эпидемии цинги 8 января 1742 года стал Иван Лагунов. О нем, как и о десятках других умерших на острове Беринга, не сохранилось никакой информации, кроме имени, должности (прапорщик) и даты смерти. Среди прочих он выделяется только тем, что умер самым последним. Всего от цинги умер 31 из 77 членов экипажа «Святого Петра», прежде чем травяные настои Стеллера и его супы из каланов возымели свое действие. Лишь четырнадцать умерших были похоронены на острове Беринга, вдоль ручья неподалеку от лагеря. Остальных же либо выбросили за борт в океан, либо их унесло течением; многих из них поглодали песцы. В лагере осталось сорок шесть выживших, и к середине января большинство из них, пусть и не без усилий, уже могли ходить.
Стеллер и Ваксель регулярно организовывали праздники, чтобы хоть как-то упорядочить будни и дать людям что-то, чего можно с радостью ждать, что напоминало бы о прежней жизни и могло бы укрепить их дух в самые мрачные дни зимы. Они праздновали каждое воскресенье и официальные государственные праздники, в том числе «святое Рождество», словно «мы были у себя дома»[349]. День Рождества, впрочем, выдался мрачным, холодным и темным. Стеллер пригласил к себе офицеров, и все произносили «приятные речи» и тосты за чашками чая, «за отсутствием каких-либо иных напитков». Как ни странно, табака у них при этом было в изобилии. По какой-то причине запасы табака оказались не повреждены соленой водой, и Стеллер сделал курительные трубки из костей крыльев черных альбатросов; моряки попыхивали трубками, хоть ненадолго, но отвлекаясь от убогой жизни в лагере.
В первый месяц на острове Беринга праздновать было особенно нечего, но к концу декабря люди почти перестали умирать, лагерь удалось отстроить, и установилась негласная иерархия. Эта система была основана на равенстве, а офицеры и Стеллер, привнося в нее порядок, играли роль «первых среди равных». Всю церемониальную одежду вроде униформы и «воскресных костюмов» превратили в рабочую одежду и раздавали всем по потребности. Все знали свою работу, и, «следовательно, все всегда знали, что нужно делать, без необходимости напоминать им об этом, и жизнь шла без тревог, и это вызвало радость и хорошее настроение»[350]. На собраниях всем разрешалось высказывать мнения, и эти мнения рассматривались без оглядки на прежние звания.
1742 год принес с собой новые поводы для оптимизма. Дни постепенно удлинялись, и, хотя погода оставалась такой же бурной и холодной, а охотиться на зверей было все труднее, люди чувствовали, что раз уж им удалось протянуть так долго, они сумеют дожить и до весны. После того как цингу удалось укротить, и практически все смогли ходить, все стали по-другому смотреть на жизнь. Постепенно люди выздоравливали, мысли их прояснялись, они уже не были сосредоточены только на выживании; и едва ли не ежедневно стали раздаваться вопросы о том, что делать с кораблем и как покинуть остров. Каждый раз, выбираясь из землянок и смотря вдоль берега, они видели остов «Святого Петра», лежащий на боку, погруженный в песок и омываемый волнами. Он постоянно напоминал им об их печальной судьбе, но с наступлением нового года именно с ним оказался связан вопрос первостепенной важности: в каком состоянии сейчас судно и можно ли его будет когда-либо спустить на воду? Моряки уже убедились, что оказались на необитаемом острове, и их единственной надеждой на спасение оставались обломки «Святого Петра».
18 января 1742 года Ваксель обошел лагерь и сообщил матросам и офицерам, что собирает морской совет, который осмотрит судно и решит, что делать дальше. Это был его первый важный приказ как командира, не считая разрешения играть в карты. Поскольку корабль явно был в плохом состоянии, и Ваксель и Хитрово уже объявили, что он непригоден для выхода в море, кое-кто считал, что этот осмотр – не более чем формальность. Но «Святой Петр» принадлежал государству, и любое решение, связанное с его умышленным повреждением, подлежало последующему рассмотрению со стороны имперских чиновников в Санкт-Петербурге. На кону стояли карьеры, а может быть, даже жизни. Кроме того, хотя корабль принадлежал русскому флоту, а офицеры по-прежнему оставались на службе, Ваксель отлично понимал, что сложившийся на берегу новый порядок отличался от строгой морской иерархии. Нужно было спросить мнение всех, ибо именно так принимались все решения еще с ноября, и благодаря такому подходу удалось свести внутренние разногласия к минимуму. Пожалуй, следовало придерживаться этого принципа, чтобы сохранить настрой, необходимый для возвращения домой. А иерархия и обычаи пусть подождут до тех пор, пока корабли не выйдут в море.
Кроме того, Ваксель знал, что со стратегической точки зрения консенсус – это оптимальный способ избежать репрессий или наказаний. Если изложить все на бумаге, впоследствии никто уже не сможет утверждать, что не был с чем-то согласен, а если разногласия по поводу того, что делать дальше, возникнут прямо сейчас, можно будет при необходимости подготовить письменные контраргументы. В любом случае впереди ждала ревизия, официальное расследование гибели стольких людей, в том числе командира, и разрушения корабля ее императорского величества. Ваксель неизбежно станет участником разбирательства, поэтому он предпочел бы, чтобы у него на руках были документы: с их помощью ему легче было бы защитить себя от обвинений в должностных или иных преступлениях. Итак, весь экипаж собрался на берегу и подошел к разбитому кораблю. Самые сильные забрались на борт и осмотрели трюм, другие проверяли мачты и такелаж. Ваксель собрал всех и четко объяснил, что решение должно быть единогласным, что каждый имеет право спрашивать и высказывать свои идеи и что ему нужно как можно больше предложений. Затем он объявил: «Бог не откажет в своей помощи, так как он помогает везде и всегда лишь тому, кто сам себе помогает»[351]. Обсуждали самые разные варианты: например, прорыть канал, чтобы корабль сам сошел по нему на воду, или положить под днище катки и вытащить его в залив. Но в конце концов стало очевидно, что на острове не найти больше никакой древесины, так что для того, чтобы что-нибудь построить, материалы придется добывать с самого́ корабля.
В следующие несколько дней Ваксель составил официальный документ, в котором излагались результаты осмотра корабля. Он назвал его «Заключение о состоянии судна»[352], и список повреждений и проблем выглядел весьма отрезвляюще. Не осталось ни одного якоря, а затонувшие нельзя извлечь со дна; руль отломало и унесло в море; корпус, киль и ахтерштевень повреждены; такелаж, ванты и канаты были гнилыми, рваными и ненадежными; и, что важнее всего, корабль погрузился в воду и песок на восемь футов и, соответственно, его невозможно сдвинуть. «Святой Петр», сделал вывод Ваксель, «непригоден для продолжения нашего путешествия»[353]. После того как заключение было написано, Ваксель зачитал его вслух собранию и предложил всем поставить свои подписи. Отказался лишь один Дмитрий Овцын. Тогда Ваксель велел ему изложить возражения письменно, что и было исполнено через пять дней. Возможно, Овцын демонстрировал свое недовольство офицерами, которые его игнорировали, или пытался внести в группу раскол, чтобы впоследствии им воспользоваться. А может быть – просто опасался за свою карьеру и хотел письменно заявить, что был против разрушения корабля.
27 января Овцын представил «Контрзаключение матроса Дмитрия Овцына», которое адресовал, возможно, в насмешку, «Его высокопревосходительству лейтенанту Вакселю»[354]. Оно состояло из перечисления пунктов, содержавшихся в заключении Вакселя, и кратких и излишне оптимистичных оценок состояния корабля, данных Овцыным. Он утверждал, что такелаж можно починить, весной могут создаться достаточно благоприятные для спуска корабля на воду условия, потерянные якоря получится выкопать из песка, а древесину для ремонта корпуса и руля, «скорее всего, можно найти». Несмотря на смелые заявления, он отлично знал, что ни одна экспедиция, исследовавшая остров, и ни один охотник не видели ни одного дерева, которое можно было бы использовать в этих целях. Овцын пришел к выводу, что «сейчас трудно сказать, насколько сильно повреждено днище; и, даже если оно и повреждено, его можно отремонтировать»[355]. Пока рано, заявил он, определять судьбу корабля, потому что еще слишком много снега и льда.
Ваксель и Хитрово прочитали его возражения, обсудили их со всеми матросами, офицерами и Стеллером и все вместе выступили против этих утверждений. Затем 29 января они написали официальное «Опровержение»:
Выслушав его заявления и обоснования, их отвергли все присутствующие, потому что 18 января они осмотрели корабль и обнаружили его непригодным к плаванию[356].
Они еще раз повторили, что у них нет древесины, и на острове ее не нашли, нет материалов для ремонта парусов и такелажа на таком большом корабле и недостаточно людей, чтобы управлять кораблем, даже если его удастся починить. Ваксель и Хитрово согласились провести еще один, последний осмотр весной или в отлив, когда вода уйдет из трюма, чтобы подтвердить свои подозрения, но, если не появится никакой новой информации, «Святого Петра» было решено разобрать «и из обломков построить небольшое судно, чтобы добраться до Камчатки»[357]. Это было сложное, эмоционально тяжелое решение: корабль много месяцев служил им домом, и даже обломки, постоянно выступавшие из тумана на берегу, оставались для них символом стабильности и единственной надежды на спасение.
«Святого Петра» строили на совесть, с использованием железных полос и гвоздей, и очень трудно было с уверенностью сказать, что у матросов получится разобрать корабль и потом построить из его обломков что-то новое. «Я не хотел, чтобы, в случае неудачи, вся ответственность была возложена на одного меня», – писал Ваксель. Если что-то пойдет не так, то «сколько голов, столько [появится] проектов», и он боялся, что позже ему скажут, что «если бы, мол, поступили не так, а иначе, то дело пошло бы на лад»[358]. Кроме того, Ваксель беспокоился за свою жизнь – не только непредсказуемых директив из Санкт-Петербурга, но и окружавших его людей, которые вполне могли обвинить его во всех бедах. Впрочем, он все равно верил, что разломать корабль – их единственная надежда на спасение и выживание.
Решение разобрать корабль давило на всех тяжким грузом, пусть даже они и понимали, что это единственный путь к спасению, но многие сомнения развеялись в самом начале февраля, когда случились, по выражению Стеллера, «сильнейший порыв северо-западного ветра и очень высокий прилив»[359]. Во время могучего шторма в «Святого Петра» били огромные приливные волны; они приподняли корабль и отбросили его еще дальше на песчаный берег. Теперь обломки лежали намного выше линии прилива. Поначалу моряки обрадовались, забравшись на борт и увидев, что трюм заполнен водой – это говорило о том, что корпус, вполне возможно, цел. Но радостное волнение продлилось недолго. В трюме не только плескалась вода – он был почти полностью заполнен песком, а в корпусе зияли трещины. Снова спустить его на воду не представлялось возможным.
В начале февраля, в самый разгар зимы, дули яростные ветры, землю засыпало снегом, небеса были серыми и пасмурными почти каждый день. Разбирать «Святого Петра» было еще не время. Пришлось ждать до весны, когда потеплеет и люди восстановят здоровье. Месяцы шли медленно; в лагере установился регулярный режим с вылазками за мясом и дровами, которые занимали почти все время и силы. Один день выделялся среди всех прочих; 7 февраля было ясно, солнечно и приятно, то был первый хороший день за все их время пребывания на острове, предвестник менее суровой погоды. Днем подул сильный ветер с запада, а затем послышалось «сильнейшее шипение и рокот – которые лишь усиливались, приближаясь к нам»[360]. То был предварительный толчок землетрясения, которое продлилось шесть минут. Оно разрушило стены зданий, и в землянки посыпался песок, накрыв отдыхавших и выздоравливавших. Стеллер выбежал на берег, чтобы посмотреть на океан, но не увидел характерного сильного течения, предшествующего цунами. Погода по-прежнему была ясной и солнечной. А землетрясение, вместо того чтобы раздосадовать моряков, которым теперь предстояло восстанавливать лагерь, или напугать их ветрами и рокотом, напротив, лишь ободрило их: землетрясения и извержения вулканов часто бывают на Камчатке, а это значит, рассуждали они, что плыть домой будет просто и недалеко. Им всего лишь нужен для этого корабль.
Глава двенадцатая
Новый «Святой Петр»
Лишь когда в марте из-под снега показались первые несмелые, хрупкие зеленые ростки, Ваксель и Стеллер по-настоящему поверили, что выживут. Хотя умирать люди перестали еще в январе, а сейчас все уже снова могли ходить и обслуживать себя, именно эти ранние «травы и растения» обеспечили их выживание. Стеллер обыскал заснеженные дюны в глубине острова, нашел несколько растений, которые посчитал противоцинготными, и научил и других искать их в тающем снегу. Ваксель хвалил Стеллера: тот «отличный ботаник… собирал различные растения и указывал нам разнообразные травы; из них мы приготовляли чай, а некоторые травы употребляли в пищу, что приносило заметную пользу нашему здоровью. Могу с полной достоверностью засвидетельствовать, что ни один из нас не почувствовал себя вполне здоровым и не вошел в полную силу, пока не стал получать в пищу и вообще пользоваться свежей зеленью»[361].
С весной пришли более солнечные и теплые дни, а дождь стал идти реже, но все равно иногда бывало ветрено и пасмурно. Все, что могло, промокло; ткань и кожа плохо перенесли зиму. Но когда последние симптомы цинги отступили и к людям окончательно вернулись прежние силы, Ваксель захотел узнать больше об их географическом положении. Они уже поняли, что оказались на острове, лежащем к востоку от побережья Камчатки, но насколько он велик? Нет ли на нем других ресурсов в более далеких уголках? Ваксель отлично понимал, что без более-менее точной информации об их положении принять правильное решение о своем будущем они не смогут. Охотиться становилось все труднее: животные вели себя более осторожно, пойманной добычи уже не хватало, чтобы удовлетворить аппетиты сорока шести голодных мужчин. Каланы, едва завидев вдали человека, тут же впадали в панику и бросались в воду.
Лишь когда в марте из-под снега показались первые несмелые, хрупкие зеленые ростки, Ваксель и Стеллер по-настоящему поверили, что выживут.
Так что 24 февраля подштурман Харлам Юшин взял четырех человек в экспедицию на север, «чтобы провести тщательный обзор местности»[362], но после того как они целую неделю плелись по мокрому снегу у подножия огромных скал, уходящих в море, стало ясно, что погода не позволит продвинуться дальше. Они прошли всего шестьдесят верст (64 километра) по сильно пересеченной местности, прежде чем вернуться. Юшин сообщил, что на востоке видели остров; наблюдение было неточным – возможно, за остров они приняли далекое скопление облаков. Другие участники экспедиции ходили охотиться на каланов в отдаленные уголки, но никакой новой информации об острове им найти не удалось. 10 марта Ваксель созвал общий сбор, а потом предложил провести еще одну экспедицию к югу, по другой дороге; на этот раз ее должен был возглавить боцманмат Алексей Иванов, пользовавшийся всеобщим уважением. Иванов и еще четыре человека ушли 15 марта; вернувшись через несколько дней тяжелого похода по холмам и горам, они доложили, что видели море на западном берегу. Они принесли с собой обломки небольшой лодки, которые вынесло на берег. Один из матросов, Иван Окулов, с уверенностью сказал, что это обломки лодки, которую он сам лично построил на Камчатке в прошлом году. И, что еще важнее, Иванов с волнением рассказал о новых животных, в изобилии встречающихся на западном побережье; сам он назвал их «морскими медведями», но Стеллер определил, что это морские котики.
Новость оказалась настолько потрясающей – новый источник пищи! – что отряд Иванова быстро послали обратно в сопровождении Стеллера и еще трех человек. Они получили указание идти до тех пор, «пока не увидят конец острова или материк»[363]. Увидев материк, например, соединенный с островом косой, двое матросов должны были продолжить путь и добраться до Авачинской губы, а остальные – вернуться с хорошими новостями. Ваксель все еще отчаянно надеялся, что они находятся на клочке земли, соединенном с Камчаткой, несмотря на все свидетельства обратного. Впрочем, новое место для охоты оказалось действительно важным открытием. Поскольку уже потеплело, отряды охотников стали постоянно проделывать этот почти 20-километровый путь. Дорога была не только утомительной, но и опасной из-за неожиданных штормов, которые могли застать людей в местах, где нет никакого укрытия. 1 апреля в сильнейший шторм попали четыре человека из группы, возглавляемой Стеллером. «Никто не видел ни своих ног, ни даже на шаг вперед», – вспоминал он. За несколько ночных часов выпали почти два метра снега, и им пришлось ночевать под открытым небом. С утра их полностью засыпало снегом; откопавшись, они с трудом доковыляли до лагеря, «без чувств и утратив дар речи и настолько окоченев от холода, что едва передвигали ноги, словно неуклюжие машины»[364]. В лагере как раз тоже выкапывались из-под того же тяжелого весеннего снега. Они поспешно сняли со Стеллера и его спутников мокрую одежду и вскипятили чай; те дрожали, закутанные под одеялом, на самой грани переохлаждения. Один из четверых страдал снежной слепотой, другой потерялся. Из лагеря отправили поисковую группу и нашли его через час; он шел в полубреду, не разбирая дороги, и был «в прискорбном состоянии». Бедолага упал в ручей, одежда примерзла к телу, а кисти рук и ступни были обморожены. Все боялись, что он умрет, но Стеллеру удалось его выходить. Сам Стеллер, впрочем, предпочел преуменьшить свою роль, написав: «Бог, однако, помог ему пережить это невредимым»[365].
Несмотря на необходимость надежного источника пищи, после этого страшного шторма Ваксель решил подождать, пока не стабилизируется погода, прежде чем снова идти через горы. Но на восточном берегу охотникам больше не удавалось никого изловить, и вскоре еды перестало хватать. Несмотря на опасность, еще одна небольшая охотничья экспедиция, состоявшая из Стеллера, Плениснера, Лепехина и еще одного человека, отправилась по той же дороге на запад 5 апреля, в ясный и теплый весенний день. Переход не изобиловал событиями, а на западном берегу им удалось поймать немало тюленей и дотащить их до подножия скалы, после чего они сели отдыхать у костра, планируя заночевать перед возвращением. Полуночный шторм забросал их кучами мокрого снега, и они едва могли устоять на ногах под могучим ветром. Они несколько часов бегали кругами, пытаясь не дать друг другу заснуть. Стеллер, «безостановочно куря трубку, пытался согреться и прогнать горечь смерти»[366]. Следующий день оказался практически таким же темным, как ночь, и они поняли, что если не найдут укрытие, то умрут. Лепехин уснул, и его засыпало снегом; они поспешно откопали его и подняли на ноги. А потом все вместе начали искать расщелину или пещеру. После многих часов бесплодных блужданий они были «полны отчаяния и полумертвы».
Наконец Лепехину удалось найти широкую трещину, ведущую внутрь скалы, и все спрятались там, а позже перенесли туда дрова и часть мяса. Пещера оказалась просторной, в ней даже было отдельное помещение, где «спрятали пищу от вороватых, злобных песцов»[367], которые последовали за ними на охотничьи угодья. Более того, в пещере даже был естественный «дымоход», рассеивавший дым, так что они смогли готовить в ней, не боясь задохнуться. Они прятались от шторма три дня, и наконец ветер стих. Во время бури с холмов пришли голубые песцы и съели туши тюленей, оставленные на берегу. Людям пришлось снова выйти на охоту, а затем, 8 апреля, они вернулись, нагруженные мясом и с хорошими новостями. Этим невероятным открытием моряки пользовались вплоть до лета; пещера превратилась в базу для охотников и получила имя Стеллера. В следующие два месяца выжившие часто посещали западный берег и пещеру Стеллера, а морские котики превратились в главный источник пищи. Но они явно не были пищей для гурманов. Ваксель писал, что их мясо «весьма отвратительная пища, так как оно обладает очень сильным и острым запахом, напоминающим запах старого козла. Жир их желтого цвета, а мясо жестко и жилисто»[368]. Им было «противно», но это, конечно, лучше, чем голодная смерть.
В то же время другая охотничья экспедиция, возглавляемая Юшиным, ушла на север острова, и там шторм задержал их на целых семь дней. Прилив запер их в расщелине без еды и без огня. В лагере думали, что они «либо утонули, либо раздавлены снежной лавиной, сошедшей с гор»[369], и все очень обрадовались, увидев их на берегу. Юшин подтвердил, что лагерь расположен на острове. Примерно в то же время вернулась и экспедиция Иванова. Они «обошли северный мыс на другой стороне»[370], так что можно было сказать, что в общем и целом экспедициям удалось обойти весь остров. Они по-прежнему не представляли себе точно, где же находится их временное пристанище; и Юшин, и Иванов утверждали, что видели землю к востоку. Стеллер тоже говорил, что «очень ясно» видел землю к северо-востоку, и они согласились, что находятся в самой западной части американского континента. На самом же деле с острова Беринга ни в одну сторону не видно никакой земли. Стеллер считал, что они находятся ближе к Америке, чем к Камчатке. Ваксель и Стеллер не сошлись во мнениях, насколько далеко друг от друга находятся Камчатка и Аляска. Стеллер думал, что из Авачинской губы до Америки можно доплыть за три-четыре дня, Ваксель настаивал, что понадобится до восьми дней. Оба даже не представляли, насколько сильно ошибаются. Прошлой весной им понадобилось шесть недель, чтобы пересечь Тихий океан и добраться до Аляски, а впоследствии плавание даже по самому безопасному и быстрому маршруту длилось около трех недель.
9 апреля Ваксель созвал общее собрание, чтобы огласить новую согласованную географическую информацию и утвердить планы, связанные со «Святым Петром». Юшин и Иванов рассказали о своих открытиях, а затем Ваксель как командир произнес речь. «[Пришло] время обсудить, каким способом или каким образом мы могли бы спастись из этого гиблого места»[371], – объявил он. Он попросил каждого из присутствующих изложить свои мнения, поскольку «все мы терпим совершенно одинаковые бедствия». Он писал, что «последний матрос так же горячо желает избавиться от гибели, как и первый офицер, а потому следует нам всем, единой душой и единым сердцем, дружно помочь в общем деле»[372]. На собрании было выдвинуто три основных идеи о том, как покинуть остров.
Первую выдвинул Овцын, тот самый бывший лейтенант, который выступал против разрушения «Святого Петра» в феврале: приложить все силы, чтобы отремонтировать и спустить на воду судно, даже если для этого придется потратить все имеющиеся ресурсы и бо́льшую часть лета, и постараться отплыть до наступления сезона бурь. Ваксель уже давно отказался от этого плана. Но, чтобы успокоить горстку людей, снова выдвинувших его, он решил подробно объяснить, почему это плохая идея. В корпусе настолько большие трещины, что уровень воды внутри корабля почти всегда такой же, как и в заливе снаружи. У них нет ни людей, ни снаряжения, чтобы провести настолько масштабный ремонт. Прорыть канал, чтобы вытащить корабль на более глубокое место, невозможно, потому что прибой и приливы тут же принесут обратно весь выкопанный песок. «[М]ы стали бы копать и копать бесконечно, не продвигаясь ни на шаг ближе к конечной цели»[373], – заявил он. Самым убедительным аргументом против этого плана стало то, что если они действительно потратят на ремонт все лето, и он окажется неудачным, а это было вполне вероятно, учитывая состояние судна, то застрянут на острове на еще одну зиму, – подобная перспектива приводила всех в ужас. Требовался другой план, и единственным реалистичным вариантом было разломать «Святого Петра» и построить корабль меньших размеров. Но вот каких он должен быть формы, класса и размера, ясно еще не было. С одной стороны, он должен быть намного меньше, чтобы им могла управлять небольшая команда, с другой – выдержать при этом трудное путешествие по океану.
После предложения Овцына выслушали и другой вариант: сделать из парусины подобие «палубы» для шлюпки, чтобы она могла доплыть до Камчатки, не затонув, посадить в нее шесть человек, которые бы добрались до Петропавловска и сообщили в гарнизон обо всем, что произошло, и надеяться, что до конца лета за ними прибудет спасательная экспедиция. Ваксель не стал сразу отказываться от этой идеи, но у него были серьезные сомнения, которые он изложил собравшимся: поскольку они не знали точно, насколько далеко находятся от Камчатки, «при малейшем шторме это суденышко ни в коем случае не может уцелеть, а неизбежно погибнет вместе со всеми находящимися на нем людьми»[374]. Большинство людей останутся на острове, страдая от «тревоги и сомнений» и пассивно ожидая, придет ли за ними помощь, или же им придется провести еще одну зиму, охотясь на немногочисленных оставшихся животных. Этот план «совершенно неразумен и опасен», заявил Ваксель, но к нему можно будет вернуться, если ничего другого не сработает, потому что он требует весьма малых усилий – лишь большой смелости от избранных и столь же большого терпения и тревоги от оставшихся сорока. Ваксель окончил свою речь, сказав, что «[б]ольшим утешением для нас будет также то обстоятельство, что, претерпев вместе все бедствия, мы, таким образом, вместе же и одновременно придем к спасению»[375], а если их постигнут новые несчастья, то и их они перетерпят вместе.
В конце концов Вакселю удалось убедить всех, даже Овцына, избрать третий вариант: разобрать «Святого Петра» и построить новое судно, вполовину меньшего размера, из собранного дерева и материалов. После собрания они все подписали документ под названием «Решение об определении, что эта земля – остров»[376], в котором также содержался и вывод, что «Святого Петра» нужно разобрать, потому что вернуться на родину можно было только морем, а судно невозможно ни отремонтировать, ни спустить на воду. Кроме того, в документе содержались некоторые подробности о том, кто будет работать над кораблем, а кто – охотиться, добывая пищу для всей группы. Они решили оставить последние запасы крупы и ржаной муки для обратного путешествия, которое должно состояться летом. 2 мая Ваксель, Хитрово и несколько других офицеров стали искать подходящее место для закладки нового корабля и в конце концов решили, что лучше всего будет работать «на берегу, прямо перед кораблем»[377].
В апреле и мае стало значительно теплее, и цветущие растения и птицы оживили остров. Моряки потратили три недели, выгружая все из разбитого корабля, снимая доски с корпуса, вынося все это на берег и раскладывая упорядоченными кучами. Все инструменты были подготовлены и разложены по порядку, а для производства новых специализированных инструментов, вроде молотков и ломов, сложили небольшой кузнечный горн. Его топили древесным углем из плавника, который выбросило на песчаный берег за зиму, – сейчас он показался из-под снега. «Вытесали и разложили по канавам точильные камни, инструменты отчистили от ржавчины и заточили, а затем возвели кузню, в которой ковали ломы, железные колья и большие молоты»[378]. Работа была однообразной, утомительной и не слишком радостной, поскольку являлась всего лишь подготовкой к выполнению основной задачи.
Нашлись двенадцать человек, которые умели работать топорами или имели опыт в плотницком деле или кораблестроении. Эти люди постоянно трудились над разбором корабля и строительством нового. Для всех остальных, за исключением Вакселя, Хитрово и Стеллера, был установлен трехдневный график дежурств: день охоты (включавшей в себя многочасовые походы по острову), затем день работы в лагере и день помощи плотникам в любых делах, которые они сочтут необходимыми. Мясо приносили в лагерь, а затем один из унтер-офицеров раздавал его поварам в каждой из пяти землянок. В таком режиме, за редкими исключениями, они прожили несколько месяцев, почти всю весну и лето. Употребление муки сократили, чтобы осталось достаточно для путешествия на родину; ежемесячный паек сократили до двадцати фунтов, так что, по вычислениям Стеллера, в плавании у них тоже должно было остаться по двадцать фунтов на каждого. Во всей выжившей команде нашелся лишь один умелый кораблестроитель – сибирский казак по имени Савва Стародубцов, который работал на строительстве нескольких кораблей, в том числе «Святого Петра», со Шпанбергом в Охотске. Стародубцов сказал Вакселю, что если ему дадут «пропорции судна, то он берется под моим руководством построить такое судно и обеспечить его крепость настолько, что мы безопасно можем выйти на нем в море»[379]. Он проделал такую замечательную работу, что, по общему мнению, без его помощи они бы ни за что не построили новый корабль; по возвращении на родину Ваксель подал ходатайство в Енисейскую канцелярию, и Стародубцова произвели в сибирское дворянство.
Работа стала общей целью группы людей, внешний вид которых с каждым днем становился все неопрятнее и нелепее. Эта цель не позволила им впасть в отчаяние и заглушила внутренние распри. Ваксель вернул себе прежний авторитет лидера, а Стеллер добился всеобщего уважения: как ученый и медик он смог спасти стольких людей, скольких возможно было спасти, и к тому же с большим участием ухаживал за больными и служил им духовным наставником. Но с острова все выбрались именно благодаря Вакселю. Как и Стеллер, поднимавший дух моряков своим оптимизмом и обращением к божественному, Ваксель сохранял энергичное, приподнятое настроение и не терял храбрости. Он никогда не жаловался вслух и всегда обращал внимание на любые хорошие новости, на простые перемены в рационе или улучшение погоды. Ваксель и Стеллер стали путеводными огнями, символами выживания и надежды. В эти трудные месяцы, когда удалось победить цингу, прогнать песцов и справиться с эпидемией азартных игр, конфликтующие группировки сосуществовали в относительной гармонии, которой так не хватало на корабле. Звания и привилегии практически забылись, а работу все делили поровну, не жалуясь, отлично понимая, что от этого зависит их выживание. К немногим «недовольным», которые отказывались работать, товарищи относились не слишком благосклонно, и Ваксель сумел восстановить свой авторитет морского командира, утраченный в первые несколько месяцев на берегу, когда выживание оказалось важнее общественной иерархии. Сейчас, когда перед всей группой встала ясная задача, Ваксель уже не мог терпеть чьего бы то ни было безделья. «[Я] мог по отношению к этой группе недовольных принять меры понуждения и заставить их, под угрозой применения силы, приняться за работу»[380], – писал он.
Работа стала общей целью группы людей, внешний вид которых с каждым днем становился все неопрятнее и нелепее. Эта цель не позволила им впасть в отчаяние и заглушила внутренние распри.
Строительство нового корабля началось 6 мая, когда «вытесали и укрепили форштевень и ахтерштевень»[381]. Планировалось, что корабль будет двенадцать метров в длину, шириной четыре метра и глубиной 1,6 метра. Моряки забрали со старого корабля древесину и доски, которые сочли неподходящими или ненужными для нового судна, и быстро сколотили из них новые жилища – таявший снег и дожди постоянно заливали землянки. День, когда на берегу появился остов нового корабля, принес с собой большую радость и надежду. Вечером Ваксель собрал всех, не считая охотников, находившихся в походе, на праздничный ужин. Все принесли с собой чашки, миски, кружки и все, из чего вообще можно было пить. В качестве особого угощения Ваксель решил приготовить в большом котле сибирский напиток под названием сатуран. Обычно его готовят, обжаривая пшеницу на свежем сливочном масле, а затем смешивая с горячим чаем, пока он не станет «[напоминать] по густоте отвар шоколада». Но, поскольку у Вакселя ничего из этого не было, «за отсутствием необходимых припасов» он решил импровизировать: «вместо масла китовый жир, взамен пшеничной – заплесневелую ржаную муку и вместо чая – отвар из брусничных листьев»[382]. Тем не менее напиток пришелся всем по вкусу, и все «развеселились и приободрились, и притом без всякого опьянения». Стеллер писал: «Все мы получили большое удовольствие»[383].
После этого работа пошла медленно, потому что плотникам недоставало еды. Пищи вообще в целом на всех едва хватало, о том, чтобы есть досыта, не было и речи. Охотиться приходилось без огнестрельного оружия, а тащить добычу – с другой стороны острова, так что еды в изобилии не было никогда. К этому моменту у большинства одежда и обувь пришли в негодность. Они были вынуждены ходить босиком через горы, а затем возвращаться обратно, неся на себе огромные куски мяса, и это сильно сказывалось на ногах. Рацион состоял в основном из отвратительных «морских медведей» (котиков), но, по крайней мере, в это время года на берегу в изобилии встречались молодые животные, а не только тошнотворные старые самцы, которыми пришлось питаться поначалу. Впрочем, по словам Хитрово, даже самки и детеныши были «весьма свирепы и нападали на людей»[384]. Стеллер, всегда отличавшийся большой точностью в описаниях, рассказал о том, какой жестокой была охота. «Звери настолько живучи, что двум или трем охотникам, которые били их по головам дубинами, требовалось не менее двухсот ударов, чтобы наконец убить их, и часто им приходилось по два или три раза отдыхать… Даже с разбитым в мелкие куски черепом, почти полностью вытекшим мозгом и сломанными зубами зверь все равно нападает на охотников и бьет их ластами»[385].
В конце мая на берег, примерно в шести с половиной километрах от лагеря, вынесло тридцатиметровую тушу кита. «[П]о сохранности [она] оказалась в несколько лучшем состоянии, чем туша первого кита», так что они были обеспечены жиром на много месяцев; они хранили его в бочках в доступных местах. Китовый жир, пусть и не слишком аппетитный, не дал им умереть с голоду. А рядом с берегом, словно сонные морские чудовища, поднимаясь и пропадая под поверхностью волн с задумчивым и в то же время беспечным видом, пережевывая водоросли, по-прежнему плавали огромные, похожие на китов млекопитающие, которых раньше никто из них не видел. Все знали, что, убив даже одного из этих огромных таинственных зверей, они обеспечат себя пищей на несколько недель. В мае они твердо вознамерились это сделать, но охота оказалась делом весьма опасным.
После того как кошмарная эпидемия цинги отступила, а матросы и офицеры занялись разбором старого «Святого Петра» и строительством нового небольшого судна, Стеллер оказался свободен от непосредственных обязанностей и смог посвятить время своей главной страсти – изучению природы: именно ради этого, в конце концов, он и решился пересечь Россию, добраться до Сибири и отплыть на Аляску. Посмертную славу ему по большей части обеспечили именно эти наблюдения, какими бы ненаучными они ни выглядели по современным стандартам. Стеллер несколько месяцев наблюдал за поведением, направлениями миграции, рационом, образом жизни и жизненным циклом самых интересных и уникальных существ, живших на острове Беринга, Алеутских островах и на побережье Аляски. Больше всего внимания он уделил каланам, но, кроме того, подробно описал сивучей (этот вид также называется «северным морским львом Стеллера») и морских котиков, которыми «был покрыт весь берег до такой степени, что было невозможно пройти, не боясь за жизнь и здоровье»[386]. Даже голубые песцы, которые, к вящему облегчению всех моряков, в весенний брачный период ушли на холмы, тоже удостоились определенной доли внимания. Кроме того, он подготовил каталог растений, найденных на острове.
Стеллер описал и изучил три вида птиц, которые не водятся ни в Европе, ни в Азии: «белого морского ворона [баклана]… до которого невозможно было добраться, поскольку он садился лишь на скалы, выходящие к морю», и которого с тех пор больше не видел ни один натуралист; «уникального морского орла с белой головой и хвостом», его сейчас называют белоплечим орланом или морским орлом Стеллера (один из трех видов американских орлов, которые больше в этой стране не встречаются), и «особый вид крупных морских воронов с белыми кругами вокруг глаз и красной кожей возле клюва»[387]. Стеллеров баклан (или очковый баклан), был нелетающей, похожей на пингвина птицей размером с гуся. Его было легко поймать, так что после того, как на него стали постоянно охотиться, он быстро вымер, хотя, по словам Стеллера, в 1741–1742 году на острове их встречалось много. Одной птицы, отмечал он, «хватало, чтобы утолить голод трех человек»[388]. Стеллер был единственным натуралистом, которому удалось увидеть очкового баклана, прежде чем они вымерли. Еще он описал множество перелетных птиц, ненадолго останавливавшихся на острове.
Самыми многочисленными из всех животных, изученных Стеллером, были каланы (морские выдры), дружелюбные стайные звери – он видел их каждый раз, когда корабль приближался к берегу. Каланы – игривые животные, и они доставили морякам немало радостных минут, пока в разгар зимней карточной эпидемии кто-то не вспомнил, что их шкурки очень дороги. Мех каланов ценился в Китае, и в конце зимы и в начале весны сотни, а то и тысячи каланов были истреблены ради шкур. Стеллер был возмущен бессмысленной резней. Моряки, ожесточенные годами тяжелой жизни на Камчатке и ужасными страданиями прошедшей зимы, видели в каланах возможность улучшить свою жизнь. Они с яростью набрасывались на животных, избивали их, топили и резали ножами, и вскоре на всем восточном берегу острова не осталось ни одного калана. К концу весны охота за выдрами значительно осложнилась, потому что умные животные стали выставлять часовых, чтобы предупредить сородичей о приближении охотников. Многие матросы стали собирать и припрятывать шкуры, надеясь немало заработать после возвращения. Хорошую шкурку калана можно было продать за двадцать рублей на Камчатке, вдвое-втрое дороже – дальше к западу в Сибири, а на китайской границе – даже за сто рублей.
Стеллер несколько недель наблюдал за поведением каланов для своего трактата, а затем записал эти наблюдения в промокший блокнот в лагере.
Если им удается сбежать, то, едва оказавшись в воде, они начинают так дразнить преследователей, что на это нельзя смотреть без особенного удовольствия. Они встают в воде вертикально, словно люди, и подпрыгивают вверх-вниз на волнах, а иногда прикрывают передней лапой глаза, словно пытаются разглядеть вас получше под ярким солнцем… Если калана загнать в угол, и он не видит никакой возможности спастись, то пыхтит и шипит, словно разгневанная кошка. Получив удар, он готовится к смерти, поворачиваясь на бок, прижимает задние ноги и прикрывает глаза передними. Мертвый калан лежит словно человек, скрестив передние лапы на груди[389].
За бесчисленные часы наблюдений, включавшие в себя в том числе шестидневную экспедицию на юг острова, Стеллер описал, помимо прочего, их пищевые предпочтения, веселые игры, размер и структуру скелета, поведение в брачный период и невероятную привязанность к детенышам.
Он считал, что каланы больше, чем какие-либо другие животные, с которыми они повстречались за время путешествия, заслуживают уважения, хотя вместе с этим называл их ленивыми. Он писал:
В целом [калан] весьма красивое и приятное животное, хитрое и забавное в своих повадках… Если посмотреть на них на бегу, то шкура их блестит лучше, чем чернейший бархат. Они предпочитают лежать вместе семьями, самец с самкой, подросшие детеныши и совсем маленькие сосунки лежат все вместе. Самец ласкает самку, поглаживая ее передними лапами, словно руками, и взбирается на нее; она, однако, часто отталкивает его для развлечения и из притворного кокетства, и играет с потомством, как самая любящая мать. Их любовь к детенышам настолько сильна, что ради них они подвергают себя самой смертельной опасности. Когда у них забирают детеныши, они горестно кричат, словно маленькие дети, и так сильно горюют, что, как я заметил в нескольких случаях, через десять – четырнадцать дней становятся тощими как скелеты, больными и немощными и не уходят с берега[390].
Впрочем, самым большим вкладом Стеллера в науку стало его классическое описание северного дюгоня – гигантской стеллеровой коровы. Ему принадлежит единственное научное описание этого потрясающего существа, напоминавшего нечто среднее между китом и тюленем. Как и в случае с очковым бакланом, Стеллер оказался единственным натуралистом, когда-либо видевшим морскую корову и описавшим ее. Огромные, похожие на китов существа вырастали длиной более десяти метров, передвигались большими стаями и жадно поедали большие пучки морских водорослей, росших в тихих заливах. Они никогда не покидали воды, но их спины торчали над поверхностью, когда они ели. Голодные люди, разбиравшие останки старого корабля, тоскливыми взглядами провожали животных, лениво проплывавших на расстоянии броска камня от берега. По расчетам Стеллера, самые крупные морские коровы достигали веса почти четырех тонн – это очень большой запас мяса.
21 мая Ваксель дал людям отдых от плотницких работ, и они отправились на охоту за морской коровой. За день до этого он приказал кузнецу изготовить железный крюк весом примерно пятнадцать – восемнадцать фунтов и прикрепить его к толстому корабельному канату. Пять человек сели в баркас с крюком и тихо подплыли к ближайшей морской корове, которая паслась, опустив голову и целиком сосредоточившись на водорослях. Самый сильный моряк наклонился над ней и всадил острый крюк между ребер животного, а затем почти сорок человек на берегу потянули за канат. Но морская корова оказалась слишком сильной. Крюк ее, казалось, не слишком беспокоил; она просто медленно отплыла от берега и потащила за собой всех охотников в воду, и в конце концов им пришлось отпустить канат. Они несколько раз пробовали этот способ охоты и все время проигрывали состязание в перетягивании каната. Канаты лопались, крючья тонули, и постепенно люди стали терять всякую надежду изловить хотя бы одну морскую корову.
Стеллер придумал другой план, но для него требовались две лодки; соответственно, необходимо было починить маленький ял, поврежденный во время кораблекрушения. Отремонтировать его удалось лишь к концу июня. К этому времени плотники уже обшивали досками корпус нового судна. В день охоты две лодки вышли в море вместе и приблизились к стаду пасущихся морских коров; в одной лодке сидели люди, вооруженные копьями, в другой – гребцы и охотник с большим острым гарпуном, прикрепленным к канату, который держали люди на берегу. Приблизившись к животному, гарпунер воткнул крюк в его шкуру, и с берега потянули за канат. Вооруженные люди в это время стали наносить удары по спине морской коровы.
Усталую и совершенно неподвижную, ее атаковали штыками, ножами и другим оружием и тянули к берегу. От еще живого животного отрезали огромные куски мяса, но все, что оно могло сделать, – яростно трясти хвостом и так отчаянно размахивать передними конечностями, что отрывались большие куски кожи. Кроме того, морская корова тяжело дышала, словно вздыхала. Из ран на спине, словно фонтаном, била кровь. Пока голова находилась под водой, кровь не шла, но едва она поднимала голову, чтобы вдохнуть воздуха, кровь снова начинала хлестать[391].
Они освежевали ее на берегу и отнесли мясо в свои жилища, радуясь своей удаче. Часть жира съели свежим. Отлежавшись несколько дней, он стал «такого же приятного желтого цвета, как лучшее голландское сливочное масло», а в вареном виде «превосходил по сладости и вкусу лучший говяжий жир»[392]. По цвету он напоминал свежее оливковое масло, а вкус, похожий на «сладкое миндальное масло», был так хорош, что жир пили чашками; он внес приятное разнообразие в их монотонную диету. Даже мясо, пусть и довольно жесткое, оказалось по вкусу неотличимо от говядины. Особенно стоит отметить, что огромное количество мяса, хранившееся не в холоде, пролежало целых две недели, «не испортившись, хотя его настолько засидели мясные мухи, что оно полностью покрылось опарышами»[393]. Теперь, приноровившись, они убивали по морской корове примерно каждые две недели до 31 июля, когда убили сразу восемь и засолили мясо для плавания. Ваксель писал, что «[и]з всех разнообразных видов пищи, которую нам пришлось употреблять во время пребывания на острове, мясо морских коров оказалось самым лучшим… После того как мы стали его есть, мы почувствовали себя несравненно лучше и совершенно выздоровели»[394]. Без морских коров они бы ни за что не сумели прокормить себя, работая над новым кораблем.
Хотя морские коровы были легкой добычей, замечательны на вкус и стали важнейшим источником пропитания, Стеллер не только ел их. Он записывал, все что мог, об их поведении в разные времена года, брачных ритуалах, выкармливании молодняка и других особенностях жизни. Он разделал одну большую тушу и изумился, увидев, что одно сердце весит тридцать шесть с половиной фунтов (более 16 килограммов). Желудок был длиной почти два метра и шириной полтора и настолько плотно набит водорослями, что Стеллер с тремя помощниками едва не надорвались, вытаскивая его из туши за длинную веревку. Он составил на идеальной латыни полное описание всех частей животного – глаз, кожи, конечностей, суставов, мышц, скелета, сосков, пасти. А художник (скорее всего, Плениснер) сделал шесть точных рисунков, изображавших вскрытие. К сожалению, все рисунки позже пропали где-то в Сибири.
Одним из самых проницательных наблюдений Стеллера стало то, что огромные звери были моногамны и, возможно, образовывали пары на всю жизнь. Он был потрясен поведением самца после того, как одну крупную самку вытащили на берег. «Это самое выдающееся доказательство их брачной привязанности, – писал он. – Самец, пытавшийся изо всех сил, пусть и тщетно, освободить самку, схваченную крюком, и, несмотря на нанесенные нами удары, последовал за ней к берегу и несколько раз, хотя она была уже мертва, неожиданно бросался к ней с быстротой выпущенной стрелы. На следующее утро, когда мы вышли, чтобы освежевать самку и унести мясо в землянки, мы увидели, что самец снова приплыл к самке, и то же самое я наблюдал и на третий день»[395]. Стеллеровы коровы были полностью истреблены в последующие десятилетия, в ходе экспансии Российской империи на восток, в направлении Аляски.
Стеллер осознавал, что предоставившаяся ему возможность изучать морских существ, населявших затянутые туманами Алеутские острова, поистине уникальна. В его описании острова Беринга можно найти информацию о повадках и анатомии практически всех животных, которых можно было наблюдать в этих местах, об их сезонной активности и поведении. Кроме того, он описал десятки растений, в том числе цветы, кустарники и травы, росшие в плотном переплетении практически во всех низинах острова, кроме песчаных дюн близ лагеря. Его наблюдения были точными и проницательными, и он попросил своего друга Плениснера нарисовать к ним десятки иллюстраций. Буквально в последний момент, чтобы приказ, содержавшийся в данных ему инструкциях, не оставался невыполненным, Стеллер сообщил Вакселю, что во время своих путешествий по острову он «разведывал руды и минералы, но ничего не нашел»[396].
Охота на морских коров значительно облегчила добычу пропитания и освободила рабочие руки, так что строительство теперь шло быстро. К середине июля корпус уже был полностью обшит. Конструкция нового корабля прекрасно иллюстрировала поговорку «Голь на выдумки хитра». Деревянным деталям находили новое применение. «В качестве киля, – вспоминал Ваксель, – мы использовали грот-мачту нашего старого судна, отпилив ее на высоте трех футов выше палубы… Оставшийся отрезок мачты послужил нам в качестве форштевня, а ахтерштевень мы изготовили из целого шпиля, который был у нас на корабле»[397]. Другие мачты удалось перенести на новое судно целиком, потому что, хотя большинство из них сломались при крушении, новый корабль был меньше, и ему требовались более короткие мачты и перекладины. Корпус «Святого Петра» оказался поврежден даже сильнее, чем им казалось, так что на новый пришлось пустить часть палубных досок.
[Э]ти доски имели многочисленные отверстия от гвоздей и скоб, а при разборке судна сильно поломались и растрескались[398].
Наиболее сильно поврежденные доски использовали для внутренней обшивки, закрепив их огромными гвоздями. На корме построили небольшую каюту для лидеров экспедиции – Вакселя с сыном, Хитрово и Стеллера. Камбуз разместили на носу, а спальные помещения для команды располагались в трюме, под единственной палубой. Было ясно, что судно выйдет маленьким и тесным.
Приближался август; корабль уже был почти готов, и все пребывали в немалом волнении. Даже те, кто поначалу работал неохотно, медленно и только по принуждению Вакселя, стали усердно трудиться и помогать без всяких приказов. Одни вышли на лодке в залив в поисках якорей, и им удалось найти абордажные крючья, другие раздергивали на волокна старые канаты и вытапливали из них смолу для конопатки корпуса, третьи чинили бочки для пресной воды или убивали и засаливали морских коров. 1 августа Ваксель созвал новое общее собрание на берегу перед кораблем. Он объявил: «С Божьей помощью наш корабль вскоре будет закончен»[399]. А затем начались разговоры о будущем. Было очевидно, что все припасы, провиант и материалы со «Святого Петра» на новом корабле не поместятся. Чтобы всем уплыть с острова, придется оставить многое на берегу. Хотя Хитрово провел полную опись и засвидетельствовал, что почти все вещи «бесполезны и сгнили»[400], они все равно оставались государственной собственностью и имели определенную ценность. На острове в результате оставили почти целую тонну припасов: всю артиллерию с боеприпасами, все топоры, ломы, молотки, пилы и другие инструменты, запасное навигационное оборудование вроде компасов, ламп и лотов, флаги, медные котлы и посуду и излишки табака. Несмотря на то что они непрерывно курили несколько месяцев, его запасы так и не были исчерпаны.
Никто не хотел оставаться и охранять эти вещи, какими бы ценными они ни были, и моряки пришли к общему выводу, что это «опасно», потому что пропитание можно добыть только охотой.
Если мы оставим часового, то придется вернуться за ним на следующий год. Здесь нет гавани, нет ничего, кроме скал, рифов и открытого моря, и есть большая опасность разбить корабль[401].
Соответственно, «учитывая все эти аргументы»[402], они единогласно решили не оставлять на острове никого. Все поставили под документом свои подписи, чтобы, опять-таки, распределить вину, если таковую обнаружат, между всеми. На самом деле, на острове и так никого не собирались оставлять, и трудно представить, чтобы они решились отплыть, помахав на прощанье единственному товарищу, но Ваксель и Хитрово хотели письменно подтвердить, что решения единогласно принимались всей командой. Они собирались построить склад из оставшегося дерева для защиты припасов от туманов и дождей на случай, если вдруг на том же острове потерпит крушение другая экспедиция. Помимо прочего, на корабль погрузили почти девятьсот каланьих шкурок, распределенных между всеми в соответствии со званиями. Стеллеру их досталось больше трехсот – очевидно, в знак признания за службу врачом и священником.
В последние недели перед отплытием все были заняты готовкой и складыванием вещей на берегу. «Никто не желал сидеть без дела, ибо все с нетерпением ждали освобождения с этого пустынного острова»[403]. Прежде чем нагружать корабль, его необходимо было спустить на воду, и для этого построили деревянный помост, ведущий от берега к воде. Конструкция вышла весьма внушительных размеров – длина ее составила 45 метров. Ваксель нервничал, потому что после спуска на воду корабль окажется, по сути, не защищен от открытого моря, и буря или мощный ветер могли снова выбросить его на мель, тогда «последняя надежда на спасение была бы потеряна»[404]. 10 августа, в пасмурный, дождливый и ветреный день, обычный для того времени года, Ваксель решил, что пришло время воспользоваться приливом и спустить корабль на воду. Произнеся короткую молитву и отпраздновав рождение корабля с помощью «бурды», напитка, приготовленного из забродившего теста, сваренного в воде и тюленьем жире, они стали спускать корабль по помосту. Но он оказался слишком тяжел. Помост вдавило в песок, и корабль застрял. Всех охватила волна ужаса. Они бросились к кораблю и попытались приподнять его, схватившись за канаты, но безуспешно. Вода сошла, и корабль застрял в песке, наклонившись на бок. Вакселю тем не менее удалось воодушевить всех, и они целый день поднимали корабль выше, подсовывая под помост доски. На следующий день они снова потянули за канаты, и корабль медленно соскользнул в воду и остался стоять на глубине пяти метров, пришвартованный к берегу. Корабль назвали «Святым Петром», в честь предыдущего, но теперь это был гукор – небольшое одномачтовое судно. Позже оно еще много лет использовалось для грузовых перевозок между Охотском и Камчаткой.
Настало время торопиться. Погода была спокойной и ясной, пригодной для плавания, но никто не знал, сколько времени пройдет, прежде чем она переменится. Две маленькие лодки день и ночь сновали между кораблем и берегом, загружая все необходимые припасы; люди переставали работать, только совершенно обессилев. Поскольку они даже не представляли, сколько пробудут в море, им требовались большие запасы пищи и воды, а также все необходимое для управления кораблем, включая балласт. Моряки поспешно укрепили мачты, повесили якорь и установили весь такелаж. После нескольких дней непрерывной работы они падали от изнеможения, но корабль был готов к отплытию. Последними погружали личные вещи, и этот вопрос вызвал ожесточенные споры между Стеллером и остальными. Они решили, что места для его коллекции образцов с Аляски, Алеутских островов и острова Беринга не найдется – несмотря на то, что в трюме лежали целые тюки высушенных каланьих шкур. Стеллеру дозволили забрать с собой лишь записи и несколько особенно ценных вещей. Он собрал большой гербарий (взять ему разрешили лишь семена) и со всей старательностью сделал скелеты и набитые соломой чучела нескольких млекопитающих, в том числе сивуча и детеныша морской коровы. Но никаких исключений не было сделано; Стеллер ворчал, возмущался, но в конце концов вынужден был бросить свою коллекцию.
К полуночи кто-то заметил, что корабль плохо слушается руля, и, заглянув в трюм, они с ужасом увидели, что там полно воды. Вода прибывала быстрее, чем они могли вычерпать или откачать ее.
В четыре часа пополудни 13 августа 1742 года люди в последний раз вышли из своих жилищ, как писал Стеллер, «охваченные сильнейшими чувствами»[405]. Они собрались вокруг могил, вспоминая погибших товарищей. Установив деревянный крест на могиле Беринга, моряки в последний раз почтили его память, а затем поднялись на корабль. Лишь тогда все по-настоящему поняли, насколько же тесно им будет среди вещей и еды. Выходя на веслах из бухты, они оглянулись назад и увидели, что голубые песцы уже ворвались в заброшенный лагерь и «с величайшей радостью» накинулись на брошенные куски мяса и жира и другие вещи, оставленные на берегу.
Новый «Святой Петр», корпус которого глубоко погрузился в воду, поднял паруса и медленно направился к югу, обогнув остров, а затем – к западу, где, как предполагалось, находилась Камчатка (команда надеялась, что не слишком далеко). Погода была необычно «ясной, с редкими облаками»[406]. Они легли на курс, молясь о том, чтобы не попасть в ранний осенний шторм. Корабль не спеша двигался вперед, и моряки в последний раз оглянулись на остров, «где мы знали все горы и долины, по которым нам с таким трудом приходилось ходить в поисках пиши… и которым мы дали имена». Стеллер, неформальный духовный лидер и наставник, писал о печальном расставании: остров стал для них местом борьбы за жизнь, горя и смерти, но при этом натуралист восхищался тем, «как хорошо мы питались и как, несмотря на тяжелейшие труды, мы возвращали себе здоровье и становились все крепче и сильнее, и чем больше мы смотрели на него, прощаясь, тем больше видели, словно в зеркале, чудесное руководство любящего Бога»[407]. Вскоре остров совершенно пропал из виду, и они снова оказались посреди неизвестного океана.
На следующий день ветер усилился, и поднялись такие волны, что пришлось отрезать шлюпку, затруднявшую движение из-за сильного встречного ветра. К полуночи кто-то заметил, что корабль плохо слушается руля, и, заглянув в трюм, моряки с ужасом увидели, что там полно воды. Вода прибывала быстрее, чем они могли вычерпать или откачать ее. Ваксель приказал спустить паруса, и они стали выбрасывать за борт все, что не относилось к предметам первой необходимости, в том числе все ядра и картечь. Моряки отчаянно метались по трюму, передвигали бочки и тюки и искали, в чем же дело. После того, как корабль стал легче и поднялся выше в воде, примерно в три часа утра плотник Стародубцов обнаружил течь: в одном месте из отверстия между досками выпала конопатка. Отверстие законопатили снова, а затем прибили в этом месте несколько досок, и течь заметно ослабла. При постоянном откачивании уровень воды в трюме перестал подниматься; они продолжили медленно продвигаться к западу.
Через два дня, 17 августа, сквозь туман и дождь они разглядели на западе высокие горы с заснеженными пиками и повернули на юг, чтобы дойти вдоль берега до Авачинской губы, которая, по их расчетам, находилась в тридцати милях к югу. Этот путь занял у них восемь дней, проведенных в борьбе со встречными ветрами и штилями; как-то раз им пришлось грести двадцать четыре часа подряд. В залив они вошли 25 августа. Когда они прошли мимо маленького маяка у входа в залив, к ним выплыл камчадал на каяке. Он изумился, узнав, что встретил выживших участников американской экспедиции, которые приплыли на новом судне, сделанном из обломков старого корабля Беринга. Он сказал, что их всех уже считали мертвыми, и, по давней традиции, «вещи, которые они оставили, оказались в руках у случайных людей и по большей части пропали»[408]. Эта новость практически не вызвала недовольства у команды – настолько они уже привыкли к «горю и лишениям». Мужественным мореходам, испытывавшим облегчение, «казалось, что все происходящее – просто сон»[409].
Новый «Святой Петр» направился к Петропавловску и вошел в порт в два часа пополудни 26 августа 1742 года, через тринадцать дней после отплытия от острова Беринга и через десять лет после начала экспедиции. Уставшие моряки сошли на берег, потрясенные, но счастливые, еще не верившие своей удаче. «От величайшей нужды, – вспоминал Ваксель, – мы перешли к полному изобилию»[410]: склады были полны провизии, а отдохнуть можно было в удобных, сухих и теплых квартирах. Их окружали знакомые вещи, которые, как казалось, они не видели уже целую вечность. Несмотря на радость от возвращения домой через пятнадцать месяцев, они вскоре поняли, что теперь у них нет ничего – ни денег, ни собственности, никаких напоминаний о прежней жизни. Они ходили, пораженные, не зная, что делать. «[Это] составило такой контраст с прошлым, что словами высказать это невозможно»[411], – писал Ваксель. Незадолго до смерти Беринг попросил офицеров и матросов в случае успешного возвращения домой пойти вместе, и православным, и лютеранам, вознести в часовне общую молитву и пожертвовать деньги на установку мемориальной таблички с изображением апостолов Петра и Павла и благодарственной надписью за спасение с необитаемого острова. Почтив последнюю волю командира, они так и сделали. А потом разошлись каждый своей дорогой.
Эпилог. Русская Америка
25 апреля 1742 года, когда выжившие на острове Беринга поправлялись после цинги и обсуждали планы спасения, была коронована новая императрица – Елизавета I, двоюродная сестра Анны и дочь Петра Великого. Хотя императрица Елизавета не казнила ни одного человека за все свое долгое правление и горячо поддерживала науки и искусства, она пришла к власти в результате переворота, после которого императорский двор очистили от иноземцев, особенно немцев, и за время ее правления на высокие должности иностранцев практически не назначали. Экспедиция официально продолжалась вплоть до следующего года, но уже утратила прежнее значение символа могущества и прогрессивности России. 25 сентября 1743 года, ознакомившись с докладами Вакселя и Чирикова и узнав о смерти Беринга, Сенат объявил о ее роспуске. Всех участников в конце концов отозвали и расторгли с ними договоры. Невероятно дорогая и амбициозная Великая Северная экспедиция официально завершилась.
О многих моряках, плававших на «Святом Петре» и «Святом Павле», неизвестно практически ничего, кроме имен, должностей и дат смерти, но некоторые офицеры, занимавшие важные должности в экспедиции, нашли свое место в истории. Стеллер и Ваксель написали мемуары, сохранив память об этой невероятной истории.
Переждав зиму в Петропавловске и излечившись от цинги, Чириков, беспокоившийся о судьбе товарищей со «Святого Петра», починил «Святого Павла» и в июне 1742 года отправился в недолгую экспедицию на поиски корабля Беринга. 22 июня он подошел достаточно близко к острову Беринга, чтобы заметить его и назвать Землей Святого Иулиана. Он увидел морских котиков и заснеженные горные пики, но подошел к острову с юга и, таким образом, не обнаружил потерпевших крушение товарищей, которые строили новый маленький корабль на другом берегу. Команда Чирикова все еще страдала от последствий цинги, да и корабль был не в идеальном состоянии, так что после открытия острова Атту экспедиция быстро вернулась в Петропавловск. В середине июля «Святой Павел» отплыл в Охотск в ожидании новых приказов из Санкт-Петербурга.
«Святой Петр» пропал, Беринг считался погибшим, так что Чирикова объявили новым лидером Второй Камчатской экспедиции. Он отправился в Енисейск, чтобы подать рапорт, но и после этого продолжал заниматься делами проекта, в том числе работать над окончательной картой русских открытий. Но его здоровье было подорвано лишениями, пережитыми за время путешествия в Америку. Чириков, который так часто порывался пуститься в новое приключение и с некоторым презрением относился к осторожности и предусмотрительности Беринга, и сам утратил всякий интерес к смелым и сомнительным предприятиям. В 1746 году Чирикова вызвали обратно в Санкт-Петербург, где повысили до чина капитан-командора и сделали главой Морской академии. Так и не сумев поправить здоровье, он скончался в ноябре 1748 года, оставив жену и четверых детей.
Ваксель не стал долго задерживаться в Петропавловске после потрясающего возвращения с острова Беринга в августе 1742 года. Он узнал, что Чириков не только вернулся из Америки в октябре прошлого года с командой, едва не погибшей от цинги, но и уже отплыл в Охотск буквально за месяц до возвращения нового «Святого Петра». Ваксель очень хотел догнать своего нового командира и представить ему доклад, так что быстро подготовил корабль, переконопатил корпус и провел другие ремонтные процедуры, воспользовавшись припасами с флотских складов в Петропавловске. В начале сентября он вышел в море, но, обнаружив, что корабль все же непригоден к длительным плаваниям и дал несколько течей, вернулся и провел зиму в Петропавловске, отправившись в Сибирь только следующей весной.
Ваксель провел несколько лет в Енисейске, приводя в порядок дела экспедиции; в частности, он боролся за выплату своим людям жалованья. По его мнению, государство обязано было выдать им провиантские деньги за время, проведенное на острове Беринга. Провиант входил в их жалованье, которого они, естественно, не получили. Он отправил доклад Чирикову, тот переслал его в Адмиралтейств-коллегию. Ваксель описал «претерпенный смертный голод и претяжкие труды»[412] на острове Беринга и объяснил причины своей дерзости: «Я долг мой отдать [моим служителям] тою совестию обязан, – писал он в своем шестистраничном прошении, – чтоб они на меня Богу жалобы не приносили в том, что ежели я за них старание иметь и нужды их объявлять не буду»[413]. Он хотел, чтобы его люди получили денежные компенсации за недополученный провиант, и подробно рассказал, как из-за отсутствия пищи им пришлось «[есть] непотребную и натуре человеческой противную пищу»[414]. Затем он весьма красочно описал для горожан-офицеров из Адмиралтейств-коллегии эту пищу: «бобровое [мясо], хотя б дух и сносен был, но весьма жестко, как подошвенная кожа, сколько б ни варили, и разжевать неможно, но целыми кусками глотали»[415]. Мясо морского котика «очень воняет… терпеть не можно одного духа, не токмо б есть»[416]. Он живописал, как приходилось есть кишки, чтобы выжить, «[т]окмо и такой скверной пищи не довольно было к пропитанию»[417], и, ко всему прочему, стоял невыносимый холод, а все люди страдали от цинги и других лишений. Ваксель рассчитал стоимость «за муку, и за крупу, и за соль»[418] за все то время, что моряки провели на острове, а затем подробно обосновал эти расчеты. В своем дневнике он цитировал свою переписку с адмиралтейством и с гордостью сообщил, что его прошение и описание ужасных условий жизни возымели действие: каждый рядовой получил дополнительно по сто рублей, а также жалованье за чины, которые они не смогли получить за время путешествия «за претерпение многих и неслыханных нужд»[419]. Прошение Вакселя многое говорит о его приоритетах: хотя он, несомненно, совершал ошибки, для своих людей он оказался достойным руководителем.
В 1749 году Ваксель вернулся в Санкт-Петербург, а к 1756 году закончил мемуары на немецком языке. Он так и не издал их, и они получили широкую известность и были переведены на несколько языков лишь в XX веке. Именно эти мемуары, а также дневник Стеллера являются главным источником информации о ходе экспедиции и путешествия. Ваксель умер в 1762 году в должности капитана первого ранга, а три его сына были произведены в дворянство в знак признания его заслуг. Сын Лоренц (Лаврентий) Ваксель, единственный юнга, участвовавший в путешествии, сделал хорошую карьеру офицера в русском флоте.
Едва ли не самой большой иронией судьбы оказалось то, что Овцын, разжалованный бывший лейтенант, который, как подозревали Ваксель и Стеллер, собирался устроить бунт против Вакселя на острове Беринга, обнаружил, что еще до отплытия «Святого Петра» и «Святого Павла», весной 1741 года, в Санкт-Петербурге было принято решение восстановить его в звании. Письмо, в котором Берингу и ему сообщалось об этом, просто не доставили вовремя. Благодаря своему послужному списку именно он, а не Ваксель, оказался, таким образом, старшим офицером после смерти Беринга и должен был возглавить команду на острове. Если бы этот приказ дошел вовремя, многое бы, возможно, пошло иначе. Восстановленный в чине и звании, Овцын после возвращения вернулся на морскую службу, дослужившись до капитана первого ранга на Балтийском флоте, а затем занял высокую административную должность. Подробная карта побережья Сибири, составленная им в экспедиции, долго хранилась в тайне российским правительством и была опубликована лишь через много лет.
После невероятного возвращения в Авачинскую губу Стеллер решил остаться на Камчатке и заняться научной деятельностью. Они с Лепехиным тут же двинулись в путь и пешком прошли пятьдесят километров до Большерецка, где к ним присоединился Плениснер. Оставшись без средств к существованию (Академия наук перестала перечислять ему жалованье, решив, что он пропал без вести), Стеллер провел зиму, работая учителем и составляя рапорты. Он пересмотрел и отредактировал свои полевые заметки, отправил доклады в академию и написал книгу De Bestiis Marinis («О зверях морских»), в которой подробно описал фауну острова Беринга, в том числе северного морского котика, калана, сивуча, стеллерову корову, сибирскую (стеллерову) гагу и очкового баклана. Кроме всего прочего, он открыл в Большерецке школу для русских и камчадалов. Следующим летом ученый собрал ботанические образцы на севере полуострова, а затем с неохотой отправился на запад, в Санкт-Петербург, не ожидая ничего хорошего. Он слышал, что после перемен в правительстве многие его немецкие коллеги по Академии были уволены или сами покинули город из-за заметно переменившегося отношения к иностранцам.
Глубоко религиозный человек, Стеллер был опечален тем, что ему, как он писал в письме ботанику экспедиции Гмелину, не удалось «добиться ничего стоящего» в путешествии «из-за ленивого и напыщенного поведения офицеров Вакселя и Хитрово»[420]. Его карьера застопорилась, и он боялся, что его подробные доклады, тщательнейшим образом подготовленные на острове Беринга и доведенные до ума в следующем году, не получат никакого признания в академии, более того – их никогда не отредактируют и не опубликуют. Его мечты о мировой славе натуралиста были разрушены. Впрочем, ближе всего к истине оказалось предположение Стеллера о том, что по проложенному им пути пойдут не новые ученые, жаждущие совершать открытия, а алчные охотники за шкурами, которых интересует только нажива: в конечном итоге они уничтожат те природные чудеса, которые он хотел изучить и сохранить. Стеллер, естественно, сочувствовал различным малым народам, с которыми ему доводилось встречаться, особенно камчадалам, как ему казалось, их несправедливо притесняли и угнетали русские. Толком не разобравшись в ситуации, он выпустил нескольких заключенных из тюрьмы в Большерецке, и его обвинили в разжигании бунта. В Российский Сенат отправили несколько противоречивых отчетов о его действиях, и его вызывали в Санкт-Петербург. В конечном итоге обвинения со Стеллера были сняты, однако вести тогда доходили медленно, так что его арестовали близ Тобольска и приказали вернуться на восток, в Иркутск, на слушание дела. Но прежде чем он успел туда добраться, еще один посыльный доставил письмо о его оправдании и освобождении, и ученый снова повернул на запад, к Санкт-Петербургу.
После возвращения из тяжелейшего путешествия по северу Тихого океана (а возможно, еще и раньше) Стеллер начал сильно злоупотреблять спиртным. Получив новость о своем оправдании, по пути в Европу он остановился в Тобольске, чтобы побывать в гостях у друга, архиепископа Антония Нарожницкого. В Тобольске много пили, а архиепископ Антоний любил праздники. Во время трехнедельного запоя Стеллер заболел лихорадкой, а затем принял опрометчивое решение ехать дальше на санях. Когда возница остановился на постоялом дворе неподалеку от Тюмени, чтобы согреться в морозную ночь в ноябре 1746 года, Стеллера, сгоравшего от лихорадки и почти потерявшего сознание, он оставил в санях. Когда ученого нашли, он был уже при смерти, и спасти его не удалось. Ему было тридцать семь лет.
Книга «О зверях морских» вышла посмертно в 1751 году. Сборники его докладов опубликовали позже, в 1774 году, а дневник экспедиции впервые издали лишь в 1793-м. Несколько птиц и морских млекопитающих носят его имя; впрочем, как ученый и опасался, некоторые из них были полностью истреблены.
Подозрительность по отношению к иностранцам, усилившаяся за время двадцатилетнего правления Елизаветы, нанесла удар и по наследию Беринга. Поскольку он был датчанином, не все считали целесообразным подчеркивать важность его вклада как командора. Кроме того, чтобы защитить политические интересы России на новых территориях и коммерческие, связанные с исключительно прибыльной продажей шкурок каланов в Китай, требовалось соблюдать режим секретности. Так что никакой грандиозной книги, прославлявшей достижения экспедиции в Сибири и Аляске, наподобие тех, что были написаны о других путешествиях первооткрывателей, издано не было. О путешествии Беринга, особенно о тяжелейшем морском походе, ходило много слухов, но их источники были по большей части ненадежны и неверны. Лишь через много лет научные записи, карты и дневники собрали и перевезли на другой конец континента, в Санкт-Петербург. А потом прошло еще немало лет, прежде чем какая-либо информация из этих материалов стала достоянием мировой науки.
Из-за стремления Российского правительства сохранить тайну слухи и рассказы об экспедиции поначалу были обрывочными и в основном не соответствовали действительности. Кто-то утверждал, что Беринг вообще не пересекал Тихий океан, что его корабль разбился во время плавания туда, а не обратно, и только Чириков добрался до Америки и видел ее. Брат Стеллера, узнав о его смерти, но не получив никакой информации о ее обстоятельствах, написал доклад на немецком языке, в котором заподозрил, что Стеллер был убит по заказу властей. В 1748 году правительство России опубликовало расплывчатый, сильно сокращенный доклад об экспедиции, чтобы опровергнуть эти подозрения, но в нем не сообщалось о каких-либо достойных внимания открытиях – лишь обрывочный список дат и событий. Это совершенно противоречило замыслам Петра I, который хотел, чтобы научные и географические открытия стали широко известны, чтобы Россия добилась престижа и уважения мирового научного сообщества, а отнюдь не того, чтобы эти находки пылились в российский архивах.
В 1752 году картограф Жозеф-Николя Делиль, брат Людовика Делиля де ла Кроера, умершего на «Святом Павле», опубликовал карты путешествий, нарушив условия соглашения с Академией наук. Он превозносил своего брата и заявил, что тот должен, наряду с Чириковым, войти в историю как первооткрыватель Аляски. Кроме того, он повторил ложное утверждение о том, что «Святой Петр» разбился, не успев пересечь Тихий океан, опять-таки отрицая ведущую роль Беринга в экспедиции. Естественно, последовал «русский» ответ. Этот ответ, скорее всего, написанный Герхардом Фридрихом Миллером, был на немецком языке и основывался на неопубликованных воспоминаниях Вакселя и Стеллера, включавших в себя карты. Это был единственный официальный отчет об экспедиции, опубликованный в XVIII веке. Беринг в этом повествовании играет второстепенную роль, по сути, пассивно соглашаясь с чужими решениями. Хотя Беринг действительно никогда не был единственным полновластным руководителем экспедиции, особенно на самом драматичном ее этапе, именно он сделал это путешествие возможным и провел утомительную, но исключительно важную подготовительную работу в Сибири. Он умер и не мог уже сам говорить за себя, так что его историю за него рассказывали другие.
Оттого, что Россия соблюдала режим секретности, оттого, что доступная информация была весьма скудной, довольно сомнительной, а роль Беринга как командира старались преуменьшить, и, конечно же, оттого, что сам он не мог написать мемуаров и изложить свое видение, о командоре, о крушении его корабля и о невероятном спасении экипажа, которые стали кульминацией Великой Северной экспедиции, почти целое столетие не было известно практически ничего. Имя Беринга не прославляли его современники[421], оно никогда не было громким, а за столетия забвения его затмили имена других, более знаменитых путешественников той эпохи – Кука, Ванкувера, Бугенвиля, Лаперуза, Маласпины, – не говоря уж о таких героях более далекого прошлого, как Колумб, Шамплен, да Гама и Магеллан. Тем не менее данные, доступные нам сегодня, свидетельствуют о том, что Беринг должен войти в историю как один из величайших первооткрывателей, а Великая Северная экспедиция – как одно из величайших исследовательских предприятий.
В августе 1991 года совместная датско-советская археологическая экспедиция раскопала могилы Беринга и пяти других моряков, расположенные возле ручья на берегу, где потерпевшие крушение провели зиму 1741–1742 годов. Их работа помогла рассказать историю выживших, подтвердив некоторые данные из письменных источников[422]. Были, впрочем, и сюрпризы. Судмедэксперты в Москве провели реконструкцию останков Беринга и восстановили его внешность. Оказалось, датчанин был стройным и мускулистым, а не дородным мужчиной с двумя подбородками, как на картине, много лет считавшейся его портретом. Возможно, на самом деле там изображен его дядя Витус Педерсен Беринг, датский поэт и придворный историк. Как ни странно, на зубах Беринга не обнаружилось следов цинги, так что, возможно, незадолго до смерти ему удалось выздороветь. По всей видимости, причиной смерти Беринга стала совокупность нескольких факторов, как предполагал Стеллер. Непосредственной причиной, судя по всему, оказалась сердечная недостаточность, но на самом деле Беринга убила гремучая смесь проблем и тягот. Когда Беринг умер, его жена и дети еще не доехали до Санкт-Петербурга. Анна в конце концов получила пенсию и долю доходов от распродажи его собственности.
Беринг считается первым признанным исследователем севера Тихого океана, но на самом деле через пролив, ныне называемый Беринговым, первым прошел русский казак Семен Дежнев еще в 1648 году. Дежнев оказался надолго забыт, его история была неизвестна даже Петру I. Путешествие Беринга получило более широкую огласку, кроме того, он проложил длинную дорогу через Сибирь к Тихому океану. В его честь названы многие географические объекты: Берингов пролив, Берингово море, остров Беринга, ледник Беринга и Берингия, древняя географическая область, соединявшая Азию и Америку. Пролив в честь Беринга назвал через тридцать лет после его смерти капитан Джеймс Кук, оказавшийся на севере Тихого океана в ходе своего знаменитого третьего плавания.
Великая Северная экспедиция имела важнейшие последствия и для Российской империи, и для севера тихоокеанского побережья Америки. Когда моряки вернулись из плавания, рассказы об изобилии каланов на Алеутских островах и на Аляске вызвали немалый интерес в Петропавловске. Вскоре вести дошли до Охотска и других сибирских городов. На следующий год охотничье судно привезло груз из 1600 шкур каланов, 2000 шкур котиков и 2000 шкур голубых песцов. Вскоре через Берингово море ежегодно стали ходить на кораблях тысячи людей с бусами, хлопковой тканью, ножами и котлами, надеясь выменять их на шкуры каланов и песцов. Торговцы богатели буквально за один день, и к этой своеобразной «золотой лихорадке» присоединялось все больше людей; экспедиции финансировались купцами даже из Москвы. Примерно половина этих путешественников-торговцев была русскими, остальные же представляли коренное население или имели смешанное происхождение. Буквально за четырнадцать лет на острове Беринга не осталось ни каланов, ни морских львов, ни морских котиков, ни песцов, и охотники отправились дальше на запад, временами вступая в кровавые столкновения с алеутами. Ко второй половине XVIII века торговля стала сопровождаться насилием; охотники перебирались с острова на остров и ходили по самой Аляске, острову Кадьяк, заливу Кука и проливу Принца Уильяма, принуждая алеутов работать на них. Одна экспедиция в 1768 году привезла 40 000 шкур морских котиков и 2000 шкур каланов, почти семь тонн моржовых бивней и огромный груз китового уса. Торговля каланьими шкурками оказалась настолько прибыльной, что привлекла даже британских и американских торговцев из Атлантического океана[423].
Вскоре через Берингово море ежегодно стали ходить на кораблях тысячи людей с бусами, хлопковой тканью, ножами и котлами, надеясь выменять их на шкуры каланов и песцов.
Поездки русских торговцев за шкурками каланов породили Русскую Америку, распространив влияние Российской империи за Тихий океан. Мечта Петра Великого о расширении территории и сферы влияния страны осуществилась; именно для этого он хотел исследовать Восточную Сибирь и организовать экспедицию в Америку – чтобы сделать Россию мировой державой. Экспедиции заходили все дальше по цепи островов и на материковую Аляску, там строились постоянные торговые форты и склады, территория присоединялась к России, вместо маленьких кораблей через океан стали ходить большие, а купеческие партнерства превращались в крупные предприятия. Конкурирующие компании конфликтовали друг с другом, расширяя свое присутствие в регионе и воюя с местным населением, пытаясь обратить его в рабство и уничтожая деревни. В условиях юридического и политического вакуума в регионе воцарилась анархия: что строго каралось по закону на основной территории России, стало обычным делом для русских охотников и торговцев. В 1763 году императрица Екатерина II издала приказы русским подданным, укоряя их за поведение и рекомендуя проявлять сдержанность и добрую волю в отношениях между народами, но ситуация становилась все более хаотичной и жестокой, когда торговые компании стали еще крупнее и их стали лучше финансировать. Хотя формально причинение вреда коренным жителям Аляски каралось в России смертной казнью, в Русской Америке не было власти, способной по-настоящему претворить этот закон в действие[424].
Один из исходных приказов Беринга все же был исполнен: портовые города Охотск и Петропавловск росли, принимая моряков, охотников и торговцев и их семьи, а также кораблестроителей. Караванная дорога из Иркутска, проложенная Берингом ценой таких великих страданий, превратилась в надежный и обустроенный тракт. Торговцы перевозили огромные грузы мехов в город Кяхту на границе с Монголией, откуда китайские купцы увозили их за тысячи километров на юг через пустыню Гоби. Регион нельзя было назвать богатым, но он переживал серьезный экономический рост, за которым последовал и рост населения; это помогло России установить культурный и политический контроль над Сибирью.
Анархия и конфликты между конкурирующими российскими компаниями в конце концов привели к основанию колониальной монополии, которая контролировала торговлю мехами и управляла всеми поселениями в Русской Америке. 8 июля 1799 года новый царь Павел I издал указ, распускавший все российские компании, занимавшиеся торговлей американскими мехами; он дал им год на то, чтобы завершить независимую деятельность, после чего они объединялись в Российско-американскую компанию. По масштабам и структуре она напоминала аналогичные предприятия других европейских держав – Голландскую Ост-Индскую компанию, Английскую Ост-Индскую компанию или Компанию Гудзонова залива, которые совмещали и корпоративные, и государственные обязанности. Штаб-квартира новой корпорации размещалась в Санкт-Петербурге, подчеркивая тем самым, что новая организация подконтрольна правительству, а не является независимым предприятием, и что перед ней стоят задачи по распространению русской культуры и православной веры в этих землях. Хотя постоянное население Русской Америки в те годы не превышало примерно семисот человек, даже сейчас на Аляске живет более двадцати тысяч православных из коренных народов. Русская культура задержалась в этом регионе вплоть до XIX века. В следующие шестьдесят восемь лет Российско-американская компания управляла Русской Америкой, территория которой пополнилась форпостами в Калифорнии и на Гавайях. В конце концов из-за резкого снижения популяции каланов компания перестала приносить прибыль, и в 1867 году земля была продана США за 7,2 миллиона долларов и впоследствии стала штатом Аляска.
«Они покоряли непроходимый край штормов, туманов, мглы и дождей, сильных и неизвестных течений, россыпи островов, скалистых берегов, глубоких вод и ненадежных якорных стоянок»[425], – писал Джордж Дэвидсон, президент Географического общества Тихого океана, в 1901 году. Он отметил, что такие корабли, как «Святой Петр» и «Святой Павел», ни за что бы не выпустили из порта даже в начале XIX столетия. Еда по современным стандартам была практически несъедобной, корабли – переполненными и грязными, на борту не было никаких средств для борьбы с цингой и другими недугами. Мореходы той поры отплывали вслепую в неизвестность и лишь иногда возвращались оттуда. Трудно переоценить их смелость и целеустремленность, жажду приключений и любознательность. То, что некоторые из них вели дневники путешествий и своих злоключений даже в тяжелейших условиях, просто потрясает воображение.
Хотя Великая Северная экспедиция остается самой масштабной и дорогой научной экспедицией всех времен – она проходила по двум континентам (но трём частям света) и продлилась почти десять лет, – это не просто рассказ об огромных амбициях молодой империи. Это повествование о личностях, противостоявших невероятным силам природы, о людях, которые боролись со стихией и побеждали ее, это свидетельство находчивости, спасающей человека в трудные минуты, рассказ о неудачах и о достижениях руководителей, о стойкости перед лицом ужасных страданий и о сильнейшем стремлении выжить и вернуться домой.
Хотя Великая Северная экспедиция остается самой масштабной и дорогой научной экспедицией всех времен – она проходила по двум континентам (но трём частям света) и продлилась почти десять лет, – ее история, в частности, описание невероятного плавания через Тихий океан, – это не просто рассказ об огромных амбициях молодой империи. Это повествование о личностях, противостоявших невероятным силам природы, о людях, которые боролись со стихией и побеждали ее, это свидетельство находчивости, спасающей человека в трудные минуты, рассказ о неудачах и о достижениях руководителей, о стойкости перед лицом ужасных страданий и о сильнейшем стремлении выжить и вернуться домой.
Примечания
Примечание об источниках и рекомендуемой литературе
Несколько публикаций оказались бесценными для создания этой книги.
Russian Penetration of the North Pacific Ocean: A Documentary Record под редакцией Бэзила Дмитришина, Э. Краунхарт-Воэн и Томаса Воэна – сборник инструкций, приказов, дневников и рапортов экспедиции, писем, в основном связанных с сибирской частью путешествия, и правительственных директив, посвященных этому предприятию. Это уникальный источник основных документов, связанных с официальной деятельностью Российской империи в Сибири и на Аляске.
Первый том книги Ф. Голдера Bering’s Voyages – это сборник судовых журналов «Святого Петра» и «Святого Павла», официальных докладов и писем, связанных с тихоокеанским путешествием. Если вы хотите знать, как менялись точный курс, направление ветра и местонахождение кораблей день за днем, обязательно прочтите судовые журналы: в них содержатся почасовые описания, а также дополнительная информация – официальные письма, подписанные офицерами, или записи в журналах, сделанные ими же. Это настоящая сокровищница точной информации о действиях команды, погоде, местоположении, размышлениях и предположениях моряков.
Второй том книги Голдера – отредактированный, снабженный комментарием и переведенный на английский язык «Дневник плавания с Берингом» Стеллера. Если вы хотите прочитать дневник Стеллера сами (на английском языке), рекомендую Journal of a Voyage with Bering, 1741–1742 под редакцией О. Фроста. Этот перевод более гладкий, современный и связный и содержит множество интересных примечаний и комментариев.
Рукопись воспоминаний Свена Вакселя об экспедиции вместе с дневником Стеллера она представляет собой основную массу свидетельств очевидцев. Написанная без прикрас и живым языком, без излишних технических подробностей, она помогает лучше понять, как все происходило на самом деле.
Лишь небольшая часть доступных документальных материалов, связанных с Великой Северной экспедицией и содержащихся в российских архивах или опубликованных на русском языке, переведена на английский. Однако в последние годы Петер Ульф Меллер и Наташа Охотина-Линд опубликовали Under Vitus Bering’s Command: New Perspectives on the Russian Kamchatka Expeditions, сборник эссе выдающихся специалистов на различные темы, связанные с современными документальными источниками о Первой и Второй Камчатской экспедициях. В этом издании вы найдете статьи о картографии, навигации, геологоразведке и естественной истории, в основном посвященные академической информации, собранной учеными за время экспедиции.
Возможно, самая интересная недавняя публикация о Беринге и Второй Камчатской экспедиции – книга Меллера и Линд Until Death Do Us Part: The Letters and Travels of Anna and Vitus Bering, сборник личной переписки Берингов, проливающий свет на их отношения и характеры; эти письма совсем не похожи на официальную переписку и доклады. Кроме того, в книге содержится подробное описание множества вещей, которые они взяли с собой в Сибирь.
Bering and Chirikov: The American Voyages and Their Impact под редакцией О. Фроста – сборник исторических статей об экспедиции Беринга. Особенно полезной для моей работы над описанием этой выдающейся экспедиции стала статья Джеймса Гибсона «Supplying the Kamchatka Expedition, 1725–30 and 1742», в которой были впервые переведены на английский язык некоторые русские документы.
Единственная полная биография Стеллера – Georg Wilgelm Steller Леонарда Стейнегера, опубликованная в 1936 году. Она отличается скрупулезностью и сбалансированностью. Steller’s Island Дина Литтлпейджа – хороший и более современный рассказ о работе Стеллера на Аляске и на острове Беринга.
Книга Василия Дивина «Великий русский мореплаватель А. И. Чириков» представляет собой, по сути, панегирик русскому мореплавателю, но тем не менее содержит много ценной информации о Первой и Второй Камчатских экспедициях.
Интерес представляет также «Дневник мичмана Чаплина», подробный журнал унтер-офицера, сопровождавшего Беринга и Чирикова в первой экспедиции. В нем есть несколько интересных статей о навигации, геологоразведке и картографии того периода, которые представляют интерес для любого, кто хочет расширить свои познания в этом вопросе.
Многие подробности работы академического отряда сибирской экспедиции (погода, флора, фауна, наблюдения об обычаях, языках и культуре коренных народов) на английском языке опубликованы не были. В последнее время переводами переписки, докладов и других источников информации занимаются историки, связанные с фондом Carlsberg. См. http://www.carlsbergfondet.dk/en/Research-Activities/Research-Projects/Postdoctoral-Fellowships/Peter-Ulf-Moeller_Vitus-Berings-Kamchatka-Expeditions.
Подробнее об истории русского завоевания Аляски и управления ею см. в книге Лидии Блэк Russians in Alaska, 1732–1867.
Избранная библиография на английском языке
Andreyev, A. I., ed. Russian Discoveries in the Pacific and in North America in the Eighteenth and Nineteenth Centuries: A Collection of Materials. Translated from the Russian by Carl Ginsburg, U. S. Department of State. Ann Arbor, MI: American Council of Learned Societies, 1952.
Anson, George. A Voyage Round the World in the Years 1740–1744. London: Ingram, Cooke, 1853.
Black, Lydia. Russians in Alaska, 1732–1867. Fairbanks: University of Alaska Press, 2004.
Bown, Stephen R. Scurvy: How a Surgeon, a Mariner, and a Gentleman Solved the Greatest Medical Mystery of the Age of Sail. New York: Thomas Dunne Books, 2004.
Chaplin, Piotr. The Journal of Midshipman Chaplin: A Record of Bering’s First Kamchatka Expedition. Edited by Carol L. Urness et al. Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 2010.
Coxe, William. Account of the Russian Discoveries Between Asia and America. Ann Arbor, MI: Ann Arbor University Microfilms, 1966.
Curtiss, Mini. A Forgotten Empress: Anna Ivanovna and Her Era. New York: Frederick Unga, 1974.
Davidson, George. The Tracks and Landfalls of Bering and Chirikof on the Northwest Coast of America. San Francisco: Geographical Society of the Pacific, 1901.
Divin, Vasilli A. The Great Russian Navigator, A. I. Chirikov. Translated by Raymond H. Fisher. Fairbanks: University of Alaska Press, 1993.
Dmytryshyn, Basil, E. A. P. Crownhart-Vaughan, and Thomas Vaughan, eds. and trans. Russian Penetration of the North Pacific Ocean, 1700–1799: A Documentary Record. Vol. 2, To Siberia and Russian America: Three Centuries of Russian Eastward Expansion. Portland: Oregon Historical Society Press, 1988.
Dobell, Peter. Travels in Kamchatka and Siberia. London: Henry Colburn and Richard Bentley, 1830.
Fisher, Raymond H. Bering’s Voyages: Whither and Why. Seattle: University of Washington Press, 1977.
Frost, Orcutt. Bering: The Russian Discovery of America. New Haven, CT: Yale University Press, 2003.
–, ed. Bering and Chirikov: The American Voyages and Their Impact. Anchorage: Alaska Historical Society, 1992.
Gibson, James R. “Supplying the Kamchatka Expedition, 1725–30 and 1742.” In Bering and Chirikov: The American Voyages and Their Impact, edited by Orcutt Frost. Anchorage: Alaska Historical Society, 1992.
Golder, Frank Alfred. Bering’s Voyages: An Account of the Efforts of the Russians to Determine the Relation of Asia and America. Vol. 1, The Log Books and Official Reports of the First and Second Expeditions, 1725–1730 and 1733–1742. 1922. Reprint, New York: American Geographical Society, 2015.
–. Bering’s Voyages: An Account of the Efforts of the Russians to Determine the Relation of Asia and America. Vol. 2, Steller’s Journal of the Sea Voyage from Kamchatka to America and Return on the Second Expedition, 1741–1742. Translated and edited by Leonhard Stejneger. 1922. Reprint, New York: American Geographical Society, 1968.
–. Russian Expansion on the Pacific, 1641–1850. New York: Paragon Book, 1971.
Heaps, Leo, ed. Log of the Centurion: Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship During His Circumnavigation, 1740–1744. London: Macmillan, 1973.
Hingley, Ronald. The Tsars: Russian Autocrats, 1533–1917. London: Weiden feld and Nicolson, 1968.
Hughes, Lindsey. Peter the Great: A Biography. New Haven, CT: Yale University Press, 2002.
Jacobsen, N. Kingo, ed. Vitus Bering, 1741–1991: Bicentennial Remembrance Lectures. Translated by Richard Barnes. Copenhagen: C. A. Reitzels Forlag, 1993.
Korb, Johann Georg. Diary of an Austrian Secretary of Legation at the Court of Tsar Peter the Great. Translated and edited by Count MacDonnel. London: Frank Cass, 1968.
Krasheninnikov, Stephen Petrovich. Explorations of Kamchatka: Report of a Journey Made to Explore Eastern Siberia in 1735–1741, by Order of the Russian Imperial Government. Translated by E. A. P. CrownhartVaughan. Portland: Oregon Historical Society Press, 1972.
Kushnarev, Evgenii G. Bering’s Search for the Strait: The First Kamchatka Expedition, 1725–1730. Edited and translated by E. A. P. Crownhart-Vaughan. Portland: Oregon Historical Society Press, 1990.
Lauridsen, Peter. Vitus Bering: The Discoverer of Bering Strait. Translated by Julius E. Olsen. Chicago: S. C. Griggs, 1889.
Lincoln, Bruce. The Conquest of a Continent: Siberia and the Russians. New York: Random House, 1993.
Lind, James. A Treatise of the Scurvy. 1753. Reprint, Birmingham, AL: Classics of Medicine Library, 1980.
Littlepage, Dean. Steller’s Island: Adventures of a Pioneer Naturalist in Alaska. Seattle: Mountaineers Books, 2006.
Longworth, Philip. The Three Empresses: Catherine I, Anne & Elizabeth of Russia. New York: Holt, Reinhart, and Winston, 1973.
Massie, Robert, K. Peter the Great: His Life and World. New York: Alfred A. Knopf, 1980.
Møller, Peter Ulf, and Natasha Okhotina Lind, eds. Under Vitus Bering’s Command: New Perspectives on the Russian Kamchatka Expeditions. Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 2003.
–, eds. Until Death Do Us Part: The Letters and Travels of Anna and Vitus Bering. Translated by Anna Halager. Fairbanks: University of Alaska Press, 2008.
Montefiore, Simon Sebag. The Romanovs, 1613–1918. New York: Alfred A. Knopf, 2016.
Müller, Gerhard Friedrich. Bering’s Voyages: The Reports from Russia. Translated by Carol Urness. Fairbanks: University of Alaska Press, 1986.
Sauer, Martin. Account of a Geographical and Astronomical Expedition.. by Commodore Joseph Billings in the Years 1785 to 1794. London: A. Strahan, 1806.
Schuyler, Eugene. Peter the Great. 2 vols. New York: Charles Scribner’s Sons, 1884.
Smeeton, Miles. Once Is Enough. 1959. Reprint, New York: International Marine, 2003.
Stejneger, Leonhard. Georg Wilhelm Steller: The Pioneer of Alaskan Natural History. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.
Steller, Georg Wilhelm. De Bestiis Marinis; or, The Beasts of the Sea [1751]. Translated by Walter Miller and Jennie Emerson Miller. Transcribed and edited by Paul Royster. Faculty Publications, University of Nebraska–Lincoln Libraries. Paper 17.
–. Journal of a Voyage with Bering, 1741–1742. Edited by O. W. Frost. Translated by Margritt A. Engel and O. W. Frost. Stanford, CA: Stanford University Press, 1988.
–. Steller’s History of Kamchatka: Collected Information Concerning the History of Kamchatka, Its Peoples, Their Manners, Names, Lifestyle, and Various Customary Practices. Edited by Marvin W. Falk. Translated by Margritt Engel and Karen Willmore. Fairbanks: University of Alaska Press, 2003.
–. Steller’s Journal of the Sea Voyage from Kamchatka to America and Return on the Second Expedition, 1741–1742. Translated and edited by Leonhard Stejneger. New York: Octagon Books, 1968. Vol. 2 of Bering’s Voyages: An Account of the Efforts of the Russians to Determine the Relation of Asia and America, by F. A. Golder. New York: American Geographical Society, 1922.
von Staehlin, Jacob. Original Anecdotes of Peter the Great. London: J. Murray, 1788.
Waxell, Sven. The American Expedition. London: William Hodge, 1952.
Williams, Glyndwr. Naturalists at Sea. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.
–. The Prize of All the Oceans: Commodore Anson’s Daring Voyage and Triumphant Capture of the Spanish Treasure Galleon. New York: Penguin Viking, 1999.
Zviagin, V. N. “A Reconstruction of Vitus Bering Based on Skeletal Remains.” In Bering and Chirikov: The American Voyages and Their Impact, edited by Orcutt Frost. Anchorage: Alaska Historical Society, 1992.
Литература и источники, использовавшиеся при подготовке русского издания
Анисимов Е. В. Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого. М.: АСТ: Астрель, 2010. 608 с.
Берг Л. С. Открытие Камчатки и экспедиция Беринга. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1946. 409 с.
Богословский М. М. Петр I. Материалы к биографии. Т. I. М., 1940. 436 с.
Витус Беринг. Камчатские экспедиции. М.: ЭКСМО, 2014. 480 с.
Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1737–1738. Морские отряды. Сост. Н. Охотина-Линд, Петер Ульф Меллер; отв. ред. Виланд Хинтцше. СПб.: Нестор-история, 2013. 944 с.
Вторая Камчатская экспедиция. Документы 1741–1742. Морские отряды. Сост. Н. Охотина-Линд; отв. ред. Виланд Хинтцше. СПб.: Нестор-История, 2018. 872 с.
Дельнов А. А. Китай. Большой исторический путеводитель. М.: ЭКСМО, Алгоритм, 2008. 848 с.
Дивин В. А. Великий русский мореплаватель А. И. Чириков. М.: Географгиз, 1953. С. 84.
Звягин В. Н., Мусаев Ш. М., Станюкович А. К. Витус Йонассен Беринг (1681–1741). Медико-криминалистический портрет. Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1995. 164 с.
Иоганн Корб, Иван Желябужский, Андрей Матвеев. Рождение империи. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. 552 с.
Исследования русских на Тихом океане в XVIII – первой половине XIX в. Т. 1. Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. Сб. документов / Академия наук СССР, Ин-т истории СССР, Центр. Гос. Архи Военно-Мор. Флота СССР; [сост.: Т. С. Федорова (отв. сост.), Л. В. Глазунова, А. Е. Иоффе, Л. И. Спиридонова]. М.: Наука, 1984. 320 с.
Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. Том 2. СПб.: Императорская Академия наук, 1755. С. 289–290.
Кушнарев Е. Г. В поисках пролива. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1976. 168 с.
Лебедев Д. М. Плавание А. И. Чирикова на пакетботе «Св. Павел» к побережьям Америки. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1951. 431 с.
Охотина-Линд Н. «Я и мой Беринг…» (частные письма Витуса Беринга и его семьи из Охотска в феврале 1740 г.) // Россия в XVIII столетии. Под ред. Е. Е. Рычаловского. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 177–220.
Пасенюк Л. М. Командоры мои и твои. М.: Молодая гвардия, 1989. 253 с.
Пасецкий В. М. Витус Беринг. 1681–1741. М.: Наука, 1982. 176 с.
Сарычев Г. А. Путешествие флота капитана Сарычева. Часть II. Со времени отправления из Петропавловской гавани до окончания экспедиции. СПб., 1802. 194 с.
Свен Ваксель. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Пер. с нем. Ю. И. Бронштейна. Под ред. А. И. Андреева. М.: Издательство Главсевморпути, 1940. 181 с.
Сопоцко А. А. История плавания В. Беринга на боте «Св. Гавриил» в Северный Ледовитый океан. М., Наука, 1983. 247 с.
Устав морской о всем, что касается доброму управлению, в бытности флота на море. СПб.: Императорская Академия наук, 1780. 305 с.
Слова благодарности
Как обычно, целая команда объединила свои силы и таланты, чтобы превратить идею в рукопись, а затем рукопись в книгу. Прежде всего я хотел бы выразить благодарность своему редактору Мерлойд Лоуренс за то, что она помогла мне определиться с направлением проекта и придумала отличное название. Из сотрудников Da Capo Press хотелось бы поблагодарить Лизу Уоррен и всю команду рекламного и маркетингового отдела за энергичную работу, Эмбер Моррис, Аннет Венду, Триш Уилкинсон и дизайнера обложки Керри Рубенштейн. Из сотрудников Douglas and McIntyre хочу поблагодарить Анну Комфорт О’Киф, Говарда Уайта и Кэти Вандерлинден. Кроме того, спасибо Питеру Шледерманну за то, что прочитал один из ранних черновиков и поделился ценными рассуждениями, и картографу Скотту Манктелоу за создание очередной серии интересных карт. Спасибо Alberta Foundation for the Arts и Canada Council for the Arts за писательские гранты. И наконец, но не в последнюю очередь, спасибо моей жене Никки Бринк за то, что выслушивала мои рассказы о только что написанных Главах и читала первые черновики даже прежде, чем рукопись была собрана в единый документ, и задолго до того, как я вообще решился показать хоть что-нибудь кому-либо еще. Пусть никто из вас никогда не заболеет цингой!
Источники изображений
Петр I, 8, Библиотека Конгресса
Анна Иоанновна, Wikimedia Commons
Екатерина I, Wikimedia Commons
Кремль, NYPL
Санкт-Петербург, Wikimedia Commons
Караванная дорога, NYPL
Авачинская губа, NYPL
Якутка, NYPL
Собачьи упряжки, NYPL
Залив Кука, George Vancouver, Voyage of Discovery
Встреча Вакселя с алеутами, Wikimedia Commons
Морской котик, NYPL
Вскрытие стеллеровой коровы, Wikimedia Commons
Рисунок Хитрово, Wikimedia Commons
Северный морской лев Стеллера, стеллеровы коровы и каланы, Wikimedia Commons
Крушение корабля Беринга, Wikimedia Commons
Советская марка, Wikimedia Commons
Смерть Беринга, Wikimedia Commons
Остров Беринга, Sergey Krasnoshchokov, Shutterstock