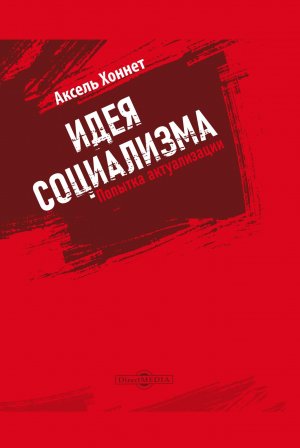
Идея социализма
Предисловие
Этический социализм Акселя Хоннета
Профессора Акселя Хоннета проще всего представить отечественному читателю как представителя третьего поколения Франкфуртской Школы. И не только потому, что он являлся с 2001 по 2018 год руководителем Франкфуртского института социальных исследований, который в первом своем варианте начала 1930-х годов собрал под своей крышей Макса Хоркхаймера, Теодора Адорно, Эриха Фромма, Герберта Маркузе и Рихарда Зорге, но и потому, что будучи учеником Юргена Хабермаса — наиболее известного представителя второго поколения «франкфуртцев», Хоннет как мыслитель безусловно формировался под влиянием этой традиции. Другой вопрос — в какой мере он является ее продолжателем, а в какой — старается ее изменить или даже преодолеть.
Известность Хоннету принесли его книги, опубликованные в конце 1980-х и начале 1990-х годов. В это время он работал в Колумбийском университете в США, одновременно сотрудничая и с нью-йоркской New School (еще одной академической институцией, связанной с «Франкфуртской Школой», здесь преподавал Эрих Фромм и собирались в 1930-е годы близкие ему по взглядам эмигранты из нацистской Германии). В 1988 году Хоннет публикует в соавторстве с Гансом Йоасом книгу «Social Action and Human Nature» (Социальное действие и человеческая природа). В 1991 году выходит наиболее известный труд Хоннета «The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory» (Критика власти: этапы осмысления критической социальной теории). В этой работе автор ставит перед собой задачу совместить аналитические подходы к механизмам власти, разработанные теоретиками Франкфуртской Школы с идеями французского философа Мишеля Фуко. И в том и в другом случае власть мыслится не только как нечто «внешнее» по отношению к обществу (что характерно для большинства интерпретаций — как либеральных, так и марксистских), но напротив, демонстрируется, насколько отношения власти, подчинения и контроля проникают вглубь самого общества и усваиваются им.
Многочисленные другие работы, опубликованные Хоннетом позднее на немецком и английском языках, сделали его одним из наиболее известных и уважаемых представителей моральной философии, подчеркнуто придерживающихся левых взглядов. Именно это сочетание моральной, академической и политической позиции побудило Хоннета в 2016 году включиться дискуссию о судьбах социалистической идеи, явно терпевшей крушение на фоне торжества неолиберализма.
И в самом деле, в условиях очевидного кризиса, кризиса, переживаемого левой мыслью на рубеже ХХ и XXI веков, вопрос о сохранении, переосмыслении или, наоборот, отрицании традиции напрашивается. Однако ровно в той мере, в какой очевидность вопроса провоцирует простые ответы в том духе, что изменившаяся реальность требует радикального отказа от привычных схем и теорий, растет неопределенность по поводу того, что должно стать позитивным итогом такой радикальной самокритики. И вопрос этот не сводится только к самокритике социализма, ибо дефицит позитивных ответов поразил в новой ситуации либеральную мысль ничуть не меньше, чем мысль левую.
Хоннет фиксирует очевидный парадокс нынешнего времени: «утрата привлекательности социализма» наблюдается «на фоне всеобщего разочарования в капитализме». Иными словами, общественное недовольство не находит себе позитивного ориентира для созидательного и преобразующего действия. Прагматические проекты кажутся слишком узкими и недостаточными для решения огромной массы накопившихся проблем, но в то же время красивые утопии всеобщего переустройства не вызывают доверия и тем более — не вдохновляют на действие. Мы видим «кризис утопического мышления наряду с дискредитацией практических альтернатив».
Именно в контексте этого идейного кризиса Аксель Хоннет и предпринимает свою попытку критического переосмысления социализма, не только констатируя явное, с его точки зрения, поражения левых идей, но и пытаясь придать им новый импульс для развития и будущего торжества.
Важнейшее критическое замечание, с которого Хоннет начинает свой интеллектуальный проект, состоит в том, что социализм, в том виде, в каком он сложился в XIX веке и развивался на протяжении ХХ века, есть «духовный плод капиталистической индустриализации».
Уже в середине XIX века стала очевидной чудовищная диспропорция в распределении ресурсов (не только, кстати, финансовых и материальных) в рамках буржуазной рыночной экономики, а отсюда возникало естественная потребность в их перераспределении. То, что в карикатурном виде было сформулировано формулой булгаковского Шарикова: «все взять и поделить».
Этому обывательскому представлению о социализме Хоннет совершенно справедливо противопоставляет подлинное видение радикальных мыслителей, опиравшихся на наследие Великой французской революции и стремившихся расширить сферу социальных прав, ограниченную пределами буржуазного порядка. Рассматривая моральные обоснования раннего социализма, он указывает, что ключевой идеей основоположников левого движения становится «позитивная свобода», отличающаяся от либерального представления о свободе как просто отсутствии политических запретов и произвола. Такая позитивная свобода должна была проявляться прежде всего во всеобщем доступе граждан к принятию социальных и экономических решений, к контролю за собственным трудом и творчеством. В данном случае Хоннет последовательно идет за Эрихом Фроммом, различавшим «негативную свободу» («свободу от чего-то»), достигаемую в либеральной демократии и «позитивную свободу» («свободу для чего-то»), за которую еще предстоит побороться социалистам.
То, что для Хоннета, как этического философа, именно тема свободы — индивидуальной и коллективной — оказывается на переднем плане, совершенно естественно. Это свобода, по его мнению, «выходящая далеко за рамки традиционных представлений о дистрибутивной справедливости». Провозглашая этот принцип, социалисты «стремятся посредством реформы или революционного преодоления капиталистического рыночного хозяйства создать такие социальные отношения, в которых можно было бы реализовать целеполагания Французской революции благодаря тому, что свобода, равенство и братство были бы поставлены в такое соотношение, при котором они взаимно делают друг друга возможными».
Однако именно тут Хоннет видит и ограниченность исторического социализма, сводившего позитивные возможности реализации общественной свободы именно к сфере экономической и производственной деятельности. При этом, по мнению Хоннета, возникает тенденция к недооценке институтов либеральной демократии, вернее, к отрицанию их самоценности даже в контексте признания социалистами общих демократических принципов. Лозунг «демократического социализме» не меняет дела по существу, ибо просто констатирует признание левыми демократических принципов устройства государства. Иными словами, тут констатируется все та же самая буржуазная «негативная свобода». А в результате собственная позитивная программа, как считает Хоннет, мыслится левыми исключительно в плане социально-экономических мер, не затрагивающих сферу политической свободы. При этом, однако, автор оставляет без внимания вопрос, поднятый еще Максом Вебером в его работах о русской революции — почему на определенном этапе развития индустриальный капитализм начинает сам подрывать демократические порядки, им же и порожденные (и следовательно, не является ли попытка выходом за пределы капитализма одновременно и попыткой спасти буржуазную демократию от закономерного саморазрушения).
Другой проблемой классического социализма Хоннет видит склонность идеологов приписывать рабочему классу и, в более широком смысле — пролетариям, заведомую приверженность целям и принципам социализма, что, по мнению Маркса, вытекает из их собственных объективных интересов. Эмпирические исследования дают, однако, более сложную картину, что отметили еще авторы ранней Франкфуртской Школы. Тем самым социалистическая теория становится, по Хоннету, «самореферентной», доказывая свои социальные основания ссылкой на саму себя. Это очень точное замечание Хоннета, впрочем, нуждается в существенном уточнении: за пределами его анализа остаются два важнейших вопроса — существуют ли вообще объективные интересы у классов и крупных социальных групп и почему именно социалистические идеи все же овладели массами рабочих в большинстве индустриальных стран (включая даже США начала ХХ века). Оба этих вопроса автор снимает ссылкой на то, что в любом случае в современном обществе классический индустриальный пролетариат исчезает, а потому делать ставку на него как на силу, способную совершить социалистические преобразования, более не имеет смысла.
Проблема, однако, не сводится к рабочему классу или пролетариату. Анализ объективных социальных интересов мы находим не только у коммуниста Маркса, но и куда более скептического по отношению к идеям левых Макса Вебера. Предполагаемое (хотя социологически не очевидное) «исчезновение» классического индустриального пролетариата не отменяет сути дискуссии, ведь именно наличие объективных противоречий между работниками и капиталистами предопределило не только успех социалистической агитации в XIX веке, но и то, что как великолепно показал Анри Пиренн в своей «Истории Бельгии», всевозможные социалистические утопии и секты начинают распространяться среди рабочих начиная с XIV века, параллельно с процессом формирования института наемного труда — задолго до появления первых идеологов социализма, которые как раз пытались оформить и теоретически обосновать это, уже и без них, в силу объективных обстоятельств, возникавшее движение. Точно также объективный характер имеют и многие тенденции экономического, социального и даже технологического развития — в противном случае существование общественных наук (включая и их либеральную интерпретацию) было бы невозможным в принципе.
Не существование конкретного социального субъекта — «революционного пролетария» — порождает противоречия капитализма и борьбу различных общественных сил, а наоборот объективно заложенные в буржуазном экономическом порядке противоречия порождают противоборствующие интересы и соответственно — классы. И даже если какой-либо из классов сокращается в численности или даже исчезает, это отнюдь не снимает вопроса об объективных причинах и основаниях политических и социальных конфликтов (а соответственно — и левой идеологии, эти конфликты отражающей).
Таким образом, самореферентность социалистических теорий, хоть и порождает целый ряд скептических вопросов, по сути своей является не менее обоснованной, а главное — неизбежной, чем самореферентность, характерная со времен Эвклида для любой науки вообще.
Тут, впрочем, возникает уже другой, более актуальный вопрос — почему и как на рубеже XX и XXI веков происходит распад социалистической культуры. И Хоннет совершенно прав, связывая этот процесс с кризисом индустриализма. Новые формы труда, порожденные технологическими и организационными изменениями прошедших 30 лет, формируют и новую социальную структуру, существенно отличающуюся от той, которую застали Карл Маркс и его младшие современники, сформировавшие корпус идей, на которые опираются современные левые.
Видя упадок рабочего движения, которое безусловно являлось основой для социалистической политики ХХ века, Хоннет констатирует, что поскольку «померкла всякая надежда найти в пролетариате хотя бы остатки некогда приписанной ему заинтересованности в революционном изменении общества, это задело глубочайшее ядро социализма, а именно, его претензию быть выражением некоторого живого движения». Хуже того, опыт ХХ века подорвал свойственное предшествующей эпохе убеждение в неостановимости и линейности прогресса, к которому апеллировали и выразителями которого считали себя левые. Сталкиваясь с подобными проблемами, Хоннет в неокантианском ключе вновь обращается к изначальным этическим основаниям социализма, надеясь таким образом придать этой идеи новый импульс — уже в контексте формирующегося постиндустриального общества.
Опираясь на тезис о функционировании автономных по отношению друг к другу сфер общественной жизни и деятельности, Хоннет предлагает формировать обновленную концепцию социализма, предполагающую скоординированное «взаимодействие независимых сфер свободы». К сожалению, по ходу чтения книги возникает желание уточнить, что именно автор понимает под этими различными сферами, но это остается в книге отчасти недосказанным — по сути дела Хоннет отсылает читателя к традиции либеральных и социал-демократических мыслителей, разрабатывавших подобную проблематику. Прежде всего, конечно, к своему учителю — Юргену Хабермасу.
С помощью подобного переосмысления социалистических идей Хоннет надеется обеспечить этически ориентированное и эксперементаторское преобразование рыночных институтов: «Сегодня одна из самых насущных задач социализма состоит в том, чтобы снова очистить понятие рынка ото всех добавленных к нему задним числом примесей специфичных для капитализма свойств, чтобы таким образом получить возможность проверить его устойчивость к моральным нагрузкам».
Здесь тоже необходима важная оговорка. Представление о возможности использования рыночных отношений для формирования нового социалистического порядка появилось в левом движении уже в 1920-е годы, когда практический опыт нэпа в СССР заставил решать практические вопросы, недооцененные прежними теоретиками, затем получило широкое распространение после Второй мировой войны (достаточно вспомнить труды Карла Поланьи, Ота Шика, Влодзмежа Бруса и десятков других авторов) и является уже вполне доминирующей для современных левых. Проблема лишь в том, что для Хоннета на первый план выходят именно этическая, а не экономическая сторона дела. А «очищение», о котором пишет Хоннет, невозможно без преодоления господства частной собственности, и как следствие — без острой борьбы, порожденной объективным и непреодолимым в данном контексте противоречием интересов.
Основная проблема, встающая сегодня перед теоретиками и практиками социализма, состоит, таким образом, не в самой констатации допустимости социалистического рынка и даже не в конструировании «эксперементальных моделей» экономических или социальных отношений, не в том, насколько верно мы оцениваем специфическую автономию различных сфер общественной жизни, но в формировании массовых общественных коалиций, способных и заинтересованных в том, чтобы за такие модели бороться и реализовать их на практике.
Именно тут мы сталкиваемся с главным вызовом, никак не связанным ни с переосмыслением моральных оснований социализма, ни с готовностью левых к социальному эксперементаторству, ни с тем, насколько те или иные мыслители оценивают автономию различных сфер общественной жизни. Вызов этот состоит в социальном содержании практической деятельности, не только отражающей именно объективные интересы и потребности (как отдельных социальных групп и общества в целом), но и способствующей их консолидации на основе борьбы за эти интересы.
Социализм возник как обобщение коллективной практики рабочего движения. С изменением социологии труда, подвергается разложению и первоначальная общность пролетариата, действительно основанная на его роли в индустриальном производстве, но в то же время классовые противоречия капитализма не только никуда не исчезают, они в известной степени даже обостряются. Именно это предопределило как кризис позитивной программы социалистического движения, так и многочисленные и по большей части неудачные попытки переформулирования его социальной базы и стратегии (как например, социологически беспомощную, но очень ярко изложенную концепцию «множеств» у Хардта и Негри).
Увы, преодоление кризиса требует не только и не столько теоретических усилий по переформулированию этических и философских концепций, сколько практической и политической деятельности, направленной на новую консолидацию массы трудящихся в изменившихся социально-экономических и технологических условиях. Если эта консолидация состоится в реальности, а не на страницах книг, то и вопрос о расширении сфер социальной свободы будет решаться уже не теоретиками. Его будут решать сами люди — миллионы людей — участвующие в практическом преобразовании общества.
Борис КагарлицкийМоим сыновьям Иоганнесу и Роберту,
с самого начала сделавшим все намного легче
От автора
Еще не прошло и сотни лет с той поры, когда социализм был столь мощным движением в обществе модерна, что едва ли кто-нибудь из великих социальных теоретиков эпохи не считал необходимым посвятить ему обстоятельный трактат, порой скорее критический, порой же более явно симпатизирующий, однако всегда исполненный уважения. Начало этому положил еще в XIX веке Джон Стюарт Милль, за ним последовали Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер и Йозеф Шумпетер — если назвать только самые важные фигуры; все эти мыслители, несмотря на значительные различия в личных настроениях и теоретических программах, были согласны между собою в том, что видели в социализме интеллектуальный вызов, который, конечно, должен будет долгое время сопровождать капитализм. Сегодня ситуация принципиально изменилась. Если о социализме вообще еще хотя бы упоминают в контексте социальной теории, то при этом, похоже, признается бесспорно установленным, что социализм в наши дни пережил свое время; его не считают способным когда-либо вновь воспламенить энтузиазм масс, и не находят также пригодным для того, чтобы наметить путеводные альтернативы современному капитализму. Будто в одночасье — Макс Вебер, увидев это, протирал бы глаза в изумлении — два великих противника XIX века поменялись ролями: религии как этической силе, казалось бы, принадлежит будущее, социализм же, напротив, воспринимается как духовное порождение прошлого. Убеждение, что этот попорот произошел слишком быстро и потому не может быть всей истиной, — это один из двух мотивов, побудивших меня написать эту книгу: В нижеследующем я попытаюсь показать, что в социализме еще таится живая искра, если только мы с достаточной решительностью отделим его руководящую идею от его идейной оболочки, коренящейся в раннем индустриализме, и перенесем ее в рамки новой социальной теории.
Второй мотив, которым я руководствовался в своих приведенных ниже размышлениях, тесно связан с тем, как было воспринято читателями мое последнее, обширное исследование «Право свободы (Das Recht der Freiheit)»2. В ходе многочисленных дискуссий о нем мне нередко приходилось слышать, что мой методический исходный пункт в нормативном горизонте модерна все же отчетливо выдает намерение не заниматься более критической перспективой трансформации исторически данного общественного порядка3. Там, где это было нужно и возможно, я уже печатно отреагировал на это возражение, чтобы показать, что оно основано на неверном истолковании сознательно накладываемых мной на себя методических ограничений4. Но у меня по-прежнему оставалось ощущение, что требуется лишь небольшой поворот перспективы, занятой мной в «Праве свободы», чтобы раскрыть эту перспективу вперед, к совершенно иному в институциональном отношении общественному порядку. Поэтому, совершенно вопреки моему первоначальному намерению, я почувствовал побуждение провести вдогонку более обширному исследованию менее обширное, в котором стало бы вполне ясно, в каком видении будущего должны, собственно, сходиться те линии прогресса, которые до сих пор я реконструировал только из некоторой внутренней перспективы.
Оба эти мотива вместе взятые побудили меня, воспользоваться приглашением на Лейбницевские лекции в Ганновер в 2014 году для первой попытки актуализации основных идей социализма. Я очень благодарен коллегам из тамошнего Института философии, прежде всего Паулю Хойнинген-Хюне (Paul Hoyningen-Huene) за то, что они предоставили мне трибуну их ежегодного цикла лекций для рассмотрения некоторой, безусловно, скорее чуждой для них темы; дискуссии, происходившие три вечера подряд по окончании моих лекций, принесли мне столь значительную пользу, что я смог получить ясное представление о том, где требуется переработать или дополнить мой текст. Эти изменения и дополнения я внес затем во вторую редакцию своих лекций, которая оказалась существенно более объемной, прежде всего в части экскурсов о пересмотренной версии социализма. Наконец, в июне этого года дружеское приглашение Рюдигера Шмидт-Грепали (Rüdiger Schmidt-Grépály) принять почетную стипендию Колледжа Фридриха Ницше в Веймаре предоставило мне возможность подвергнуть переработанную версию моего текста критической оценке широкой публики; параллельно с этим в имении Виланда Османштедт под Веймаром много дней подряд проходил семинар со стипендиатами Исследовательского фонда немецкого народа (Studienstiftung des deutschen Volkes), на котором благодаря чрезвычайно плодотворным дискуссиям я еще раз смог получить рекомендации для завершающих корректив текста. Участницам и участникам этого семинара, а также, конечно, директору и сотрудникам коллегиума, я весьма благодарен за интерес, проявленный к моей работе.
Кроме того, я благодарю также друзей и коллег, оказавших мне помощь советами и предложениями в ходе моей работы над рукописью. В первую очередь я хотел бы назвать здесь Фреда Нойхаузера (Fred Neuhouser), одновременно моего близкого друга и доверенного коллегу в департаменте философии Колумбийского университета в Нью-Йорке, который с самого начала работы над этим текстом сильно воодушевлял меня, а кроме того, дал ряд ценных указаний. Кроме того, я многому научился из критических комментариев, которыми снабдили первую редакцию моих лекций Ева Гилмер, Филипп Хёльцинг, Христине Прис-Хоннет и Титус Шталь; всем им я весьма благодарен за оказываемое мне уже многие годы внимание и постоянную готовность помочь. Наконец, Ханна Байер и Фрауке Кёлер были моими надежными помощницами в поиске литературы и оформлении рукописи, и им я также сердечно благодарен.
Аксель Хоннет, июнь 2015 годаВведение
Общества, в которых мы живем, характеризуются в высшей степени раздражающим, трудно поддающимся объяснению расколом. С одной стороны, в последние десятилетия невероятно возросло недовольство социально-экономическим положением, экономическими отношениями и условиями труда; вероятно, никогда со времени окончания Второй мировой войны так много людей одновременно не возмущались социальными и политическими последствиями, порождаемыми освобожденной от цепей в глобальном масштабе рыночной экономикой капитализма. С другой стороны, однако, этому массовому возмущению недостает какого бы то ни было нормативного чувства направления, какого бы то ни было исторического чутья для видения цели излагаемой критики, так что оно, собственно говоря, остается немым и обращенным вовнутрь; будто грассирующее недовольство неспособно мыслить далее налично существующего и вообразить себе общественное положение за пределами капитализма. Оторванность возмущения от всякой ориентированности в будущее, а протеста — от любых представлений о лучшем, в самом деле представляет собой нечто новое в истории современных обществ: со времени Французской революции великие движения бунта против капиталистических порядков всякий раз воодушевлялись утопиями, рисовавшими картины того, как должно быть когда-нибудь устроено общество будущего — вспомните только луддитов, кооперативы Роберта Оуэна, движение советов или коммунистические идеалы бесклассового общества. Напор таких потоков утопического мышления, как сказал бы Эрнст Блох, сегодня, кажется, прекратился; хотя мы довольно точно знаем, чего мы не хотим и что в теперешних социальных отношениях нас возмущает, однако у нас нет никакого, даже только приблизительно ясного, представления о том, куда должно вести целенаправленное изменение существующего положения.
Найти объяснение этому внезапному истощению утопических энергий не так просто, как может показаться на первый взгляд. Крах коммунистических режимов в 1989 году, на который охотно указывают наблюдатели из числа интеллектуалов, чтобы вывести из него распад всех надежд на общественное положение по ту сторону капитализма, едва ли можно приводить здесь как причину этого феномена, ибо, конечно, отнюдь не только падение Берлинской стены должно было убедить возмущенные массы, справедливо жалующиеся сегодня на растущую пропасть между общественной нищетой и частным богатством, не располагая между тем каким-либо конкретным представлением о лучшем обществе, в том, что государственный социализм советского типа распределял социальные благодеяния только ценой несвободы. К тому же тот факт, что до русской революции не существовало реальной альтернативы капитализму, отнюдь не препятствовал людям в XIX веке рисовать себе свободное от насилия сосуществование на началах солидарности и справедливости; почему же тогда банкротство блока коммунистических держав должно было моментально привести к тому, что эта, казалось бы, глубоко укорененная способность утопического трансцендирования ныне существующего положения дел оказалась сегодня исчерпанной? Другую причину, которую часто приводят для объяснения своеобразной бесперспективности и безóбразности сегодняшнего социального возмущения, усматривают, предположительно, в резком изменении нашего коллективного сознания времени: со вступлением общества в постмодерн, совершившимся вначале в области искусства и архитектуры, а затем также и в культуре как целом, характерные для модерна представления о направленном прогрессе были столь устойчиво обесценены, что сегодня вместо них господствует коллективное сознание постоянного исторического возвращения одного и того же. На почве этого нового, постмодернистского понимания истории, как объявляет это второе объяснение, представления о лучшей жизни не могут произрастать уже потому только, что ныне утрачена всякая идея о том, что настоящее благодаря внутренне присущим ему потенциалам всегда уже влечет за свои собственные пределы и указывает в открытое будущее постоянных усовершенствований; скорее, грядущее время представляется лишь как нечто такое, что не может предложить ничего иного, кроме простого проигрывания уже знакомых из прошлого форм жизни или социальных моделей. Между тем, однако, уже одно то обстоятельство, что в других функциональных контекстах мы еще продолжаем рассчитывать на желательный прогресс, например, в области медицины или в реализации прав человека, заставляет сомневаться в убедительности подобного объяснения. Почему только в одной этой сфере — в сфере реформируемости общества — должен иметься дефицит трансцендирующей способности представления, если в других областях эта способность, казалось бы, еще в значительной степени сохраняется? Тезис о принципиальном изменении исторического сознания предполагает, что сегодня утрачена любая антиципация социально нового, не принимая при этом во внимание, какие сильные, бесспорно, преувеличенные надежды люди связывают сегодня, скажем, с внедрением прав человека во всемирном масштабе5. Поэтому сегодня еще одно — третье — объяснение могло бы ссылаться на различие, существующее между двумя названными сферами, а именно между структурно-нейтральным наложением (Überstülpung) санкционированных в международном масштабе прав и перестройкой в базисных социальных институтах, чтобы сделать отсюда вывод, что утопические силы ослабели сегодня только в отношении к этой второй области. По моему впечатлению, этот тезис ближе всего к истине, однако он, конечно, требует дополнения; ведь нужно дополнительное объяснение, почему именно социально-политическая материя уже не может быть более заряжена сегодня утопическими ожиданиями.
Здесь может быть полезно указание на то, что хозяйственно-социальные процессы представляются сегодня общественному сознанию слишком сложными и к тому же непрозрачными, чтобы они еще могли считаться доступными для целенаправленных вмешательств, прежде всего вследствие процессов экономической глобализации с их почти уже необозримыми по быстроте трансакциями ныне сформировалась, кажется, своего рода патология второго порядка, состоящая в том, что население рассматривает институциональные условия совместной жизни только как «вещные» отношения, как недоступные ни для какого человеческого вмешательства данности6. В таком случае только сегодня получил бы всю полноту исторической справедливости знаменитый анализ фетишизма, развернутый Марксом в первом томе «Капитала»; не в прошлом капитализма, когда рабочее движение в своих мечтах и видениях еще считало возможным изменение существующего положения7, а только в наше время распространилось всеобщее убеждение в том, что социальные отношения суть специфическим образом «социальные отношения вещей»8. Если дело обстоит так — в пользу чего говорят как повседневные наблюдения, так и данные эмпирического анализа9 — то наша способность предвосхищения социальных улучшений больше не могла бы разворачиваться на основной структуре современных обществ потому, что эта основная структура, точно так же, как и вещи в их субстанции, считается почти не поддающейся уже никаким изменениям, и ответственность за то, что массовое возмущение скандальным распределением богатства и власти сегодня столь очевидным образом утратило всякое чутье к какой-либо находящейся в пределах досягаемости цели, пришлось бы возлагать не на исчезновение реально существующей альтернативы капитализму, не на фундаментальное изменение нашего понимания истории, а на господство фетишизирующего понимания общественных отношений.
Впрочем, и это третье объяснение также остается еще неполным, поскольку оно ничего не сообщает нам о том, почему же унаследованные утопии уже не обладают силой для разложения или, по крайней мере, перфорации овеществляющего обыденного сознания; ведь на протяжении более чем целого века социалистические и коммунистические утопии обладали способностью снова и снова столь сильно электризовать души своих приверженцев видениями лучшей совместной жизни, что эти приверженцы были неуязвимы для существовавших, несомненно, уже и тогда тенденций к резиньятивному гипостазированию социальных процессов. Объем того, что люди в то или иное время считают «неизбежным» и потому предметно необходимым в своем общественном порядке, зависит в значительной степени от культурных факторов, а в этом отношении прежде всего от влияния политических паттернов истолкования, способных представить мнимо необходимое как поддающееся коллективному изменению. Баррингтон Мур (Barrington Moore) в своем историческом исследовании «Несправедливость» убедительно показал, в какой мере чувство безнадежной неизбежности среди немецких рабочих каждый раз начинало исчезать в тот момент, когда мощные новые интерпретации оказывались в состоянии показать им сугубую установленность, переговорный характер (Aushandlungscharakter) институциональной данности10. В свете подобных размышлений тем с большей силой встает вопрос, каковы причины того, что сегодня все некогда влиятельные классические идеалы утратили свое разоблачающее, уничтожающее овеществление влияние; почему — следовало бы спросить еще более конкретно — видения социализма уже в течение известного времени не обладают более достаточной силой, чтобы убедить своих сторонников в том, что мнимо «неизбежное» все-таки можно было бы коллективными усилиями изменить в пользу чего-то лучшего. Тем самым я подошел к теме размышлений, которые я хотел бы развернуть в четырех главах этого небольшого исследования. В нижеследующем меня интересуют прежде всего два связанных друг с другом вопроса, представляющиеся мне в будущем чрезвычайно актуальными в идейно-политическом отношении. Во-первых, я хочу выяснить внешние либо внутренние причины, приведшие к тому, что идеи социализма, по видимости, столь безвозвратно утратили некогда им присущий мотивирующий потенциал, а во-вторых, в свете этих раскрытых причин я хочу затем спросить себя, какие концептуальные изменения следовало бы произвести в социалистических идеях, чтобы они могли еще раз вновь обрести утраченную ими вирулентность. Впрочем, мои намерения принуждают меня вначале еще раз с возможно большей ясностью реконструировать первоначальную идею социализма (I); только на втором шаге я обращусь затем к рассмотрению причин, в силу которых эти идеи в последнее время устарели (II). Наконец, затем в двух заключительных главах я намерен предпринять попытку при помощи концептуальных новаций помочь этим устаревшим идеям еще раз встать на ноги (III и IV). С самого начала хочу еще подчеркнуть, что все развитые в дальнейшем размышления имеют метаполитический характер, потому что я нигде не пытаюсь установить соотношения с политическими констелляциями и возможными действиями в современности; речь должна идти здесь не о стратегическом вопросе: как социализм мог бы сегодня получить влияние на процессы повседневной политики, но единственно и только о том, как нужно было бы еще раз переформулировать его первоначальное устремление (Anliegen), чтобы оно вновь смогло стать источником политико-этических ориентиров.
Первоначальная идея: снятие революции в социальной свободе
Идея социализма — духовный плод капиталистической индустриализации; она появилась на свет, когда после Французской революции оказалось, что революционные требования свободы, равенства и братства для значительной части населения остались пустыми обещаниями, а потому отнюдь не получили социального осуществления. Хотя само понятие «социализм» проникло в лексикон философских дискуссий уже намного раньше, а именно во второй половине XVIII века, когда католические священники усердствовали в разоблачении немецкой школы естественного права как опасного лжеучения; в то время используемый в полемических целях термин socialistae — неологизм, производный от латинского sociali», — имел в виду предполагаемую у Гроция и Пуфендорфа тенденцию к обоснованию социального правопорядка не на божественном откровении, а на влечении человека к «общительности»11. От этого критического словоупотребления прямая дорога ведет затем к компендиям по юриспруденции конца XVIII века, в которых понятие «социалисты» обозначало, в немецкоязычных странах, прежде всего Пуфендорфа и его учеников; впрочем, тогда это слово уже утратило осуждающий характер и имело целью лишь нейтрально обозначить намерение дать секулярное обоснование естественного права во влечении к общительности12. Но когда, спустя примерно тридцать лет, в 20-е и 30-е годы XIX века, в Европе вошли в обиход английские слова socialist и socialism, их значение не имело более ничего общего с первоначальным словоупотреблением в дебатах о естественном праве; сторонники Роберта Оуэна в Англии и фурьеристы во Франции пользовались обоими этими понятиями для самоназвания, как будто бы речь шла о вновь созданных словах, не связывая с ними каких-либо интенций вмешаться в философские споры об обосновании права13. В этом новом словоупотреблении оба слова превратились, скорее, в «ориентированные в будущее термины движения» (Вольфганг Шидер), которые обозначают политическое намерение — через учреждение коллективных объединений содействовать тому, чтобы приблизить существующее общество к состоянию, которое вообще только и может быть названо «социальным».
Безусловно, стремления впервые сделать общество при помощи целенаправленных мероприятий «социальным» вообще существовали задолго до первой половины XIX века: вспомните только о попытках шотландских философов морали осмыслить человеческие чувства взаимного участия, чтобы вывести отсюда принципы благоустроенного общежития. Готфрид Вильгельм Лейбниц, не могущий вызвать каких-либо ассоциаций с социализмом, также в юности заигрывал с рассуждениями подобного рода, когда с политическими амбициями строил планы учреждения ученых объединений, названных поначалу «обществами» (Sozietäten); эти организации, наименованные затем «академиями», задуманные в духе платоновского идеала правления философов должны были служить общему благу общества, поскольку выполняли не только образовательные и культурно-политические функции, но и несли ответственность даже за социальную включенность экономической жизни14. В небольшой рукописи «Общество и хозяйство», написанной Лейбницем в 1671 году, об экономических задачах будущих академий говорится, что посредством финансовой поддержки бедных, а также обеспечения минимальной заработной платы они должны позаботиться о том, чтобы положить конец экономической конкурентной борьбе и таким путем утвердить «истинную любовь и доверительность» между членами общежития15; в некоторых местах лейбницевские проекты звучат здесь так, как будто бы он предвосхищает те радикальные намерения, которые спустя сто пятьдесят лет Шарль Фурье связывал, должно быть, с учреждением своих кооперативов, окрещенных им «фаланстерами»16.
Правда, Фурье, когда он ковал свои планы кооперативного общежития, действовал уже при совершенно иных нормативных предпосылках, чем те, которые мог найти Лейбниц в своем феодальном окружении, ибо к тому времени Французская революция создала в свои принципах свободы, равенства и братства моральные требования к справедливому общественному порядку, на которые отныне мог ссылаться каждый, имевший намерение дальнейшего улучшения положения в обществе. Те мыслители и активисты, которые в 1830-х годах во Франции и в Англии начали именовать себя «социалистами», делали так в полном сознании этой нормативной зависимости от революционных новшеств, в отличие от Лейбница или других социальных реформаторов добуржуазных времен, которым приходилось понимать, что их проекты не покрываются политической реальностью, они могли апеллировать к уже институционализированным, удостоверенным в общем мнении принципам, чтобы выводить из них более радикальные следствия. Впрочем, с самого же начала не вполне ясно, каким образом вновь возникающие группировки, ретроспективно названные «раннесоциалистическими», пытались опереться на три нормы, утвержденные Французской революцией; между сторонниками Роберта Оуэна в Англии и двумя движениями, сенсимонистов и фурьеристов, во Франции хотя и существовал оживленный обмен мнениями начиная с 1830-х годов — сама мысль представляться «социалистами» впервые появилась после того, как в 1837 году Оуэн посетил Фурье в Париже17, — но представления этих групп о содержании общественных изменений, которые должны быть целью их борьбы, были все-таки слишком различны, чтобы в них можно было заметить некую общую для них цель.
Исходным пунктом протеста против послереволюционного социального порядка у всех трех групп было, безусловно, возмущение тем, что осуществлявшееся в то же время расширение капиталистического рынка не позволяло значительной части населения претендовать на осуществление для себя уже обещанных принципов свободы и равенства18; то, что рабочие и их семьи в сельской местности или в городах, несмотря на готовность много работать, были подвержены произволу владельцев частных фабрик и землевладельцев, которые по соображениям рентабельности вынуждали их жить в постоянной нужде и под угрозой обнищания, воспринималось как нечто «бесчестное», «постыдное» или просто «аморальное». Если бы мы захотели найти некий общий знаменатель для той нормативной реакции, которую вызывало поначалу у всех трех течений раннего социализма восприятие этого общественного положения дел, то целесообразно будет последовать на первых порах предложению Эмиля Дюркгейма. Этот французский социолог в своих знаменитых лекциях о социализме при попытке определить содержание этого понятия предложил считать общим для различных социалистических доктрин намерение вновь подчинить ускользнувшие от общественного контроля хозяйственные функции распорядительной власти общества, представляемой государством. Сколь бы значительно ни различались затем между собой в частностях отдельные течения социализма, тем не менее все они, по убеждению Дюркгейма, принципиально разделяют общее представление, согласно которому нищета трудящихся масс может быть преодолена только путем реорганизации экономической сферы, в смысле привязки осуществляемых в ней видов деятельности к общественно осуществляемому формированию воли19. Даже если это определение будет еще недостаточно для того, чтобы действительно адекватно понять нормативные намерения социализма, оно все же указывает общий «сухой остаток» всех тех школ и движений, которые разовьются вскоре во имя социализма: будь то Роберт Оуэн и его сторонники, Сен-Симон и его школа или фурьеристы, каждая из этих группировок заведомо признает причиной несправедливости в трудящемся населении тот факт, что капиталистический рынок перестал подчиняться контролирующей власти общества, а потому следует только своим собственным законам спроса и предложения.
Между тем, если мы посмотрим более пристально и проанализируем общий лексикон раннесоциалистических течений, разделяемый ими всеми, несмотря на различия между ними, то скоро заметим в предложении Дюркгейма ту особенность, что он вовсе не пытается объяснить их нормативную привязку к идеалам Французской революции20; соответствующие группировки он неизменно трактует так, как если бы для них важна была только, так сказать, социально-техническая проблема восстановления социальной включенности рынка и не имела также значения исторически гораздо более близкая цель осуществления для массы населения уже универсально декларированных принципов свободы, равенства и братства. Аналогичные по диспозиции и, бесспорно, впечатляющие серьезностью своих устремлений попытки установления ключевых амбиций социализма также страдают подобным игнорированием подлинно моральных побудительных сил нового движения; назовем здесь в качестве примеров только Джона Стюарта Милля и Йозефа Шумпетера, оба они в своих работах на эту тему обнаруживают примечательную склонность свести социалистический проект к единственному замыслу — более справедливому распределению ресурсов — и не упоминают сколько-нибудь подробно скрытые за этим замыслом моральные или этические намерения21. Однако то, в какой степени ранние мыслители, именующие себя «социалистическими», в действительности мотивировались сугубо нормативными принципами, которые они считали возможным почерпнуть в списке требований предшествовавшей им революции, становится моментально ясно, как только мы рассмотрим более обстоятельно оправдания, которые они дают своим попыткам: Роберт Оуэн — скорее практик, чем теоретик, и уж конечно, менее всего испытавший влияние последствий Великой революции, обосновывает устройство им трудовых кооперативов в Нью-Ланарке тем, что опыт работы друг для друга воспитывает у членов низших слоев общества «взаимную благожелательность», а постольку и солидарность, включающую также и посторонних22; весьма сходным образом, хотя, конечно, с существенно большими претензиями в части социально-философского основоположения, Сен-Симон и его сторонники убеждены в том, что реальная несвобода рабочих в условиях капитализма может быть преодолена только таким общественным строем, в котором благодаря централизованному планированию каждый получал бы вознаграждение по своим способностям и, соответственно, была бы создана «универсальная ассоциация» взаимно поддерживающих друг друга членов общества23; и наконец, Фурье и его ученики также оправдывают свои планы устройства кооперативного общежития тем, что только учреждение добровольных ассоциаций производителей, а именно уже упомянутых выше фаланстеров, может адекватным образом воплотить нормативное требование непринужденной кооперации всех членов общества24. Нигде в этих обоснованиях социалистических целей перевод средств производства в общую собственность не утверждается как чистая самоцель — более того, этот перевод, насколько он вообще рассматривается как обязательная мера, повсюду служит здесь только необходимой предпосылкой, дающей возможность осуществить совершенно иные, а именно в конечном счете моральные, требования. При этом на первом месте всегда стоят первый и последний элемент из списка принципов Французской революции — свобода и братство, в то время как равенство часто играет только второстепенную роль; при чтении этих текстов порой возникает стойкое впечатление, будто три социалистические группировки довольны уже и фрагментарно институционализированным правовым равенством своего времени и стремятся преимущественно к тому, чтобы воздвигнуть на этом правовом фундаменте солидарную общность производителей, взаимно дополняющих друг друга своими способностями и работами. Фоном этих нормативных представлений служит убеждение, хотя и упоминаемое в сочинениях различных авторов только на полях, однако представляющее собой важный источник их согласия между собой: все они вместе исходят из того, что сформулированное, до сих пор трактуемое прежде всего юридически понятие индивидуальной свободы слишком узко, чтобы его можно было привести в согласие с принципом братства, который, однако, в то же самое время объявляется целью. С некоторым герменевтическим благоволением можно было бы сказать, что три раннесоциалистические группировки обнаруживают в принципах Французской революции внутреннее противоречие, обусловленное тем, что требуемая свобода понимается сугубо юридически или индивидуалистически, поэтому все они, по-настоящему еще не зная того сами, трудятся над попыткой так расширить либеральное понятие свободы, чтобы оно было так или иначе совместимо с другой целью — с братством.
Намерение примирить друг с другом принципы свободы и братства путем перетолкования первого из этих двух понятий становится еще более отчетливо заметно, как только мы обращаемся к авторам, выступившим после первой волны социалистических группировок. Как Луи Блан, так и Пьер-Жозеф Прудон, в остальном идущие весьма различными путями25, обосновывают свою критику расширяющегося рыночного хозяйства тем, что в институциональных основаниях они видят отражение такого понимания свободы, которое ограничивает ее преследованием сугубо частных интересов, «частным эгоизмом», как говорит Блан26. Пока останется в силе подобное узкое истолкование индивидуальной свободы — убеждены оба эти автора — не только не может быть никаких изменений в унизительных экономических отношениях, но тем самым не может быть реализовано даже и официально признанное требование «братского», или солидарного, общежития. Так как Блан и Прудон исходят из того, что задачей отстаиваемого ими социализма является устранение противоречия между одновременно выдвигаемыми Французской революцией требованиями, а именно, что нормативную цель братства, солидарной взаимопомощи не удается реализовать даже отчасти потому, что другая цель, свобода, трактуется исключительно в категориях частного эгоизма, нашедшего выражение в конкурентных отношениях капиталистического рынка, — поэтому хозяйственно-политические планы, намечаемые Бланом и Прудоном для дополнения или же замены рынка иными формами производства и распределения27, ориентированы в первую очередь на цель реализовать в сфере хозяйственной деятельности «свободу» такого рода, которая не будет более стоять на пути остающегося по-прежнему в силе требования «братства»; только, если там, в экономическом центре силы нового общества, будет возможно утвердить индивидуальную свободу не как преследование частных интересов, а как солидарное взаимодополнение, можно будет непротиворечиво осуществить нормативные требования Французской революции.
Если еще раз обратиться с этой точки зрения к данному Дюркгеймом определению основной идеи социализма, то в качестве первого промежуточного результата можно констатировать: хотя французский социолог и прав в своем утверждении, что в основе всех социалистических проектов лежит общее намерение вновь включить хозяйственную деятельность в горизонт распорядительных полномочий общественно формируемой воли, однако при этом он игнорирует нормативные основания, которые вообще впервые мотивировали такую интенцию. Для представителей раннего социализма дело идет не просто о том, чтобы подчинить экономическую сферу социальным директивам, чтобы предотвратить тем самым бедствие половинчатой, а именно останавливающейся у дверей хозяйства, морализации общества; кроме того, этих авторов в первую очередь заботит не то, чтобы просто обеспечить при помощи нового хозяйственного строя более справедливое распределение жизненно необходимых ресурсов — скорее, большее обобществление производства должно служить моральной цели — лишить провозглашенную революцией свободу присущего ей характера преследования сугубо частных интересов, чтобы сделать ее, в новой форме непринужденной кооперации, совместимой с другим обещанием революции — обещанием братства28. В таком понимании социализм с самого начала представляет собой движение имманентной критики современного, устроенного на капиталистических началах общественного строя; оно принимает нормативные основания его легитимации — свободу, равенство и братство, однако оно сомневается в том, что эти основания могут быть непротиворечиво осуществлены, если свободу не будут мыслить менее индивидуалистически, а значит — более определенно в смысле интерсубъективного акта.
Впрочем, работы названных мной до сих пор авторов дают весьма немного полезных подсказок для понимания этого нового понятия свободы, краеугольного камня всего движения. Безусловно, наиболее ранние группировки пользуются такими категориями, как «ассоциация», «кооперация» или «общность», чтобы с их помощью прояснить в своих весьма различных хозяйственных моделях, что в новых формах производства и распределения самораскрытие одного человека должно быть самым тесным образом связано с самораскрытием другого, только при этом отнюдь не предпринимают категориальных усилий для того, чтобы представить характеризуемые подобным образом формы интерсубъективного сопряжения личностей как альтернативы сугубо индивидуалистическому пониманию свободы в либеральной традиции. Дальнейший шаг делает Прудон, который в своей работе «Исповедь революционера», опубликованной в 1849 году, уже, во всяком случае, говорит о том, что «с социальной точки зрения свобода и солидарность — это тождественные понятия»29, и развивает эту мысль, явно намекающую на революционный лексикон, прибавляя, что в отличие от Декларации прав гражданина 1793 года социалист понимает «свободу каждого» не как «границу», но как «подспорье» для свободы всех остальных30. Правда, затем Прудон сразу же вновь размывает это новаторское терминологическое предложение, когда следующим шагом аргументации рекомендует для обеспечения этой интерсубъективной свободы учредить народные банки, предоставляющие мелким кооперативам рабочих беспроцентные кредиты, ибо теперь его кредо внезапно вновь начинает звучать так, будто бы индивидуальная свобода должна найти себе в другом своего рода поддержку и подспорье, но отнюдь не условие завершения ее собственной полноты31. Прудон еще колеблется между двумя различными набросками об индивидуалистическом понятии свободы, различия между которыми определяются тем, может ли свободное действие считаться уже совершенным до прибавления от другого, или же только в этом прибавлении оно должно получить себе необходимое восполнение и тем самым завершение. В зависимости от того, какая из двух концепций для нас предпочтительна, нам приходится иначе представлять себе также и структуру тех «ассоциаций» или «общностей», в которых общество впервые должно стать по-настоящему «социальным» благодаря тому, что свобода достигнет в нем согласия с братством. В первом случае общность состоит из уже заведомо свободных членов, получающих от кооперативного взаимодействия дополнительные стимулы и поддержку, но отнюдь не саму свою свободу, во втором же случае взаимодействие в общности должно мыслиться как социальное условие, при котором члены общности вообще впервые достигают полной свободы вследствие того, что могут взаимно восполнить еще не завершенные планы своих действий.
В сочинениях ранних социалистов, а также и у Прудона, подобные дифференциации в понимании «социальной свободы», как я хотел бы именовать их отныне, еще не получают адекватного выражения. Правда, здесь уже есть ясное сознание того, что еще не завершенный проект буржуазной революции может быть непротиворечивым образом продолжен только в случае, если удастся преодолеть индивидуализм свободы, получающий свое выражение прежде всего в капиталистическом рыночном хозяйстве, чтобы сделать эту свободу совместимой с выдвигаемым одновременно требованием братства, однако здесь еще отсутствуют какие бы то ни было концептуальные средства, которые могли бы конкретизировать, что означает непосредственная привязка обретения индивидуальной свободы к предпосылке солидарного общежития. Так, описанный категориальный шаг совершает в первом приближении только молодой Карл Маркс, когда он примерно одновременно с Прудоном ставит перед собой задачу прояснить со своей стороны теоретические основания социалистического движения32. Для находящегося в парижском изгнании теоретика, наилучшим образом знакомого с попытками обоснования, представленными его французскими соратниками, ввиду его немецкого происхождения не представляет сколько-нибудь серьезных затруднений разъяснение целей поначалу еще общего у него с этими соратниками проекта в нормативном горизонте революции, которую он мыслит как незавершенную; поэтому он может в значительной мере обойтись без таких понятий, как «братство», «свобода» или «солидарность», и вместо того взять за основу современные ему попытки продуктивного развития гегелевского наследия в его родной стране; эта опора на категории натуралистически перетолкованного Фейербахом идеализма даст ему преимущество большей категориальной строгости, однако и недостаток меньшей прозрачности направления главного удара в политико-моральном отношении. Тем не менее и в ранних работах Маркса еще отчетливо заметно намерение изобличить понятие свободы, используемое в политической экономии и реализуемое на капиталистическом рынке, в индивидуализме, который несовместим с притязаниями на «истинную» общность всех членов общества; постольку также и то, что этот молодой эмигрант доверяет бумаге в 1840-е годы, можно понимать как следующий шаг на пути имманентного раскрытия идеи социализма из взаимно противоречивых целеполаганий либерального общественного строя.
В одном из своих важнейших текстов 1840-х годов, которому в последнее время было уделено немало внимания, Маркс разъясняет в форме комментариев к книге Джеймса Милля о политической экономии, что он считает ложным в современном общественном устройстве и как он представляет себе вместо того здоровое человеческое общежитие33. Здесь с еще большей отчетливостью, чем в знаменитых «Парижских рукописях», обнаруживается вся его зависимость от Гегеля, отражающаяся в том, что две контрастно противоположные социальные модели он характеризует при помощи двух различных способов взаимного признания. В условиях капиталистического общества его члены, согласно Марксу, относятся друг к другу лишь крайне опосредованно, обмениваясь своими продуктами при помощи денег на анонимизированном рынке, насколько при подобных обстоятельствах другие участники рынка вообще попадают в сферу внимания отдельного субъекта, они делают это исключительно в абстрактных качествах своей пригодности для сделок и ориентации своих интересов, но отнюдь не в своей конкретной потребностности и индивидуальности — в подобном обществе каждый его член, говорит Маркс, иронически намекая на Адама Смита, есть для другого в каждом случае только лишь «коммерсант»34. Поэтому признание, которое члены общества должны оказывать друг другу, чтобы они вообще могли образовать интегрированное общество, принимает здесь вид взаимного подтверждения права каждого «надувать» другого; в «общественном отношении» люди не дополняют друг друга своими индивидуально совершаемыми действиями, а совершают эти действия, как резко сказано в тексте, только «в видах грабежа»35.
В этой первой части своих размышлений Маркс предпринимает не что иное, как воспроизведение в гегелевских категориях тех аргументов, при помощи которых уже его социалистические предшественники анализировали утрату возможности «братских» или «солидарных» социальных отношений в условиях рыночного хозяйства. Поскольку участники рынка встречают друг друга только как заинтересованные в своей частной выгоде субъекты, они не способны проявлять друг к другу то участие и взаимно оказывать друг другу ту поддержку, которые требуются, чтобы можно было говорить о социальных отношениях братства или солидарности. Как будто для того, чтобы еще резче акцентировать это препятствие для солидарных отношений, Маркс, используя одну идею из «Феноменологии духа», говорит в своем тексте о том, что «наше взаимное признание» имеет здесь, собственно говоря, форму «борьбы», в которой побеждает тот, кто обладает «большей энергией, силой, проницательностью или ловкостью»36.
В заключение своих изобретательных рассуждений Маркс переходит к тому, чтобы в нескольких фразах описать производственные отношения, которые господствовали бы там, где членов общества объединяло бы взаимное признание не их частного эгоизма, а их индивидуальной потребностной природы (Bedürftigkeit). Антропологический фон этого наброска составляет заимствованное у Фейербаха, а возможно, также у Руссо представление, согласно которому для удовлетворения человеческих потребностей почти всегда требуется дополняющее содействие других субъектов. Начиная с определенной степени разделения труда мой голод может быть утолен, только если другие произведут для меня желанные мне продукты питания, мое желание соответствующего жилища может быть удовлетворено только при условии, что известный круг ремесленников создаст соответствующее жилое помещение. Однако описанные выше капиталистические производственные отношения, как убежден Маркс, систематически скрывают от взгляда их участников эту их взаимную зависимость: Хотя субъекты трудятся здесь также и для того, чтобы удовлетворить создаваемыми продуктами экономический спрос, а тем самым и скрывающиеся за ним потребности, однако их побуждает при этом не учет пожеланий других участников, но только и исключительно эгоцентрический интерес к приращению своей собственной выгоды. Однако, согласно Марксу, дело обстояло бы совершенно иначе, если бы обмен произведенных благ происходил без примеси опосредованного деньгами товарооборота, а именно: тогда каждый субъект в процессе труда непосредственно видел бы потребность другого, так что находил бы подтверждение человеческого своеобразия взаимной зависимости как в своей собственной деятельности, так и в антиципируемой реакции своего визави37. Хотя Маркс говорит здесь только о «двояком утверждении» членами общества друг друга, но, совершенно очевидно, имеет здесь в виду производственные отношения, в которых люди взаимно признают друг друга в индивидуальной потребностности каждого из них. В «ассоциации свободных производителей», как будет сказано в его позднейших сочинениях, члены ассоциации относятся друг к другу уже не через сугубо анонимное сопряжение их частных интересов, но разделяют друг с другом заботу о самореализации всех других людей38.
Это заострение хода мысли Маркса необходимо, поскольку оно позволяет отделить от его конкретной, остающейся в целом нечеткой экономической модели те общие элементы, которые указывают в направлении понятия социальной свободы. Маркс, как и его социалистические предшественники, понимает под свободой прежде всего только возможно более беспрепятственное, не ограниченное внешним принуждением осуществление поставленных перед собой целей и намерений, и он согласен со своими товарищами по партии также и в том, что в условиях капиталистического производства такая свобода реализуется только при предпосылке, что мы видим в другом только лишь средство для преследования своих собственных интересов, а значит, нарушаем уже институционализированный принцип братства. Для разрешения этого внутреннего противоречия Маркс в самых общих чертах намечает модель общества, в котором свобода и братство должны быть тесно соединены друг с другом. Это кажется ему возможным в том случае, если социальный строй будет таков, что каждый индивид понимает преследуемые им самим цели в то же время как условие реализации целей каждого другого, и если, таким образом, индивидуальные намерения прозрачно связаны между собой так, что мы можем реализовать их только во взаимном акте, в сознании нашей зависимости друг от друга. Правда, указание на «любовь», находящееся в ключевом месте этого текста39, со всей отчетливостью дает также понять читателю, что другого здесь необходимо положительно принимать во внимание не только при осуществлении, но уже при полагании своих намерений, ибо как в любви, так и в описанной выше ассоциации моя активность должна быть с самого же начала ограничена только такими целями, которые служат одновременно как моей собственной самореализации, так и самореализации моего партнера по интеракции, поскольку в противном случае его свобода не будет сознательным предметом моей заботы.
Этот важный момент марксовской модели можно обозначить еще более отчетливо, если привлечь для этого дифференциацию, введенную Дэниелом Брудни в контексте его сопоставления Ролза и Маркса. Согласно его трактовке, социальные общности можно различать с той точки зрения, соотнесены ли их члены только взаимопересекающимися или же взаимосвязанными целями40. В первом случае субъекты хотя и преследуют разделяемые друг с другом цели, однако могут достигнуть их сообща, и им нет надобности делать эти цели одновременно предметом своих индивидуальных целеполаганий. Хороший пример подобной формы коллективной реализации целей представляет рынок в его классическом понимании, на котором каждый участник должен иметь возможность следовать своим собственным экономическим интересам, чтобы в конце концов служить все же (через механизм invisible hand (невидимой руки)) приоритетной цели приумножения [общественного] благосостояния. В отличие от этого взаимосвязанные цели требуют от членов общества совместно содействовать их достижению, так чтобы каждый индивид сделал их максимой для себя или целью своей собственной деятельности. Здесь субъекты, как говорит Брудни, действуют не просто «друг с другом», но «друг для друга», потому что своими действиями они хотят прямо и осознанно способствовать достижению целей, разделяемых всеми. В первом случае, при взаимопересекающихся целях, тот факт, что мои действия чем-то способствуют их реализации, представляет собой случайное следствие содержания моих намерений; напротив, во втором случае, при взаимосвязанных целях, этот же самый факт вытекает из моих осознанно преследуемых намерений как их необходимое последствие.
По моему убеждению, именно эту последнюю модель социальной общности Маркс совершенно отчетливо полагает в основу своей альтернативы капиталистическому общественному строю. На языке взаимного признания, которым Маркс почти постоянно пользуется в своих комментариях к политической экономии Джеймса Милля, вышеназванные различия можно сформулировать примерно в следующем виде: в то время как в обществе, устроенном на основе рыночного хозяйства, разделяемые людьми друг с другом цели реализуются только при условии, что члены этого общества взаимно признают друг друга только как приобретатели индивидуальной выгоды и потому систематически отрицают свою зависимость друг от друга, в ассоциации свободных производителей совместная реализация целей совершалась бы в такой форме, что члены ассоциации намеренно действуют друг для друга, потому что они взаимно признали друг друга в их индивидуальной потребностной природе и выполняют свои действия ради ее удовлетворения. Даже если сам Маркс и не говорит об этом, мне представляется все же совершенно очевидным, что он полагает, будто своей альтернативной моделью он достиг той цели, которая была недостижима для его социалистических предшественников, несмотря на все их усилия, такого имманентного расширения или переформулирования понятия индивидуальной свободы — легитимирующего принципа существующего общественного строя, — чтобы в конце концов это понятие убедительным образом совпало с требованиями солидарного общежития. Поэтому здесь, с моей точки зрения, необходимо теперь систематически проверить, действительно ли представленная модель социальной общности может удовлетворять требованию по-новому примирить между собой индивидуальную свободу и солидарность.
Впрочем, в ходе этого анализа не следует на первых порах упускать из виду того, что все без исключения ранние представители социализма хотели бы видеть свой принцип социальной свободы укорененным исключительно в сфере общественного труда, как будто бы, исходя из этой сферы, можно было организовать воспроизводство общества в целом, они не отводят политической демократии какой-либо самостоятельной роли, а потому и не чувствуют необходимости в более тщательном исследовании того, не институционализировались ли уже в этой области иные формы свободы. Но прежде чем я остановлюсь, как было сказано, на этом врожденном пороке социалистического проекта, я хотел бы исследовать здесь вначале вопрос о том, представляет ли намеченная здесь модель социальной свободы надежную и стоящую на собственных ногах альтернативу индивидуализму либеральных представлений о свободе. В самом ли деле то, что развивали социалисты первого часа, есть новое, самобытное представление о свободе или же только исправленное представление о том, что обычно называют «солидарностью» или старым именем «братство»?
Предпосылку либеральной модели общества составляет, на первый взгляд, почти неоспоримая идея, согласно которой о социальной свободе можно осмысленно говорить только там, где субъект может возможно более беспрепятственно и непринужденно следовать в своих действиях своим собственным намерениям; эта свобода действий должна находить себе границу только в том, чтобы она не приводила к таким последствиям в действительности, которые могли бы ограничивать свободу действий сосуществующих с ним субъектов. Поэтому либерализм уже весьма рано соединяет намерение дать всеобщую гарантию подобной свободы с мыслью о таком правопорядке, который должен гарантировать, что индивид вправе беспрепятственно действовать по своему усмотрению в той мере, в какой это допускается равновеликим притязанием на такую же свободу каждого другого. Правда, затем эта исходная либеральная модель получает первое усложнение у Руссо и вслед за ним у Канта, разделяющих друг с другом убеждение в том, что об индивидуальной свободе не может идти речи там, где мотивирующие человеческие действия, намерения обусловлены не собственным умыслом, а просто естественными побуждениями, а потому оба эти мыслителя связывают свободу, до тех пор остававшуюся неопределенной во внутреннем мире души, с дополнительным условием: чтобы находящееся в начале принятие решения могло составлять акт самоопределения, посредством которого субъект гарантирует, что исходит только из целей, полагаемых его собственным разумом41. С этим переходом от «негативного» понимания свободы к «позитивному», как назовет впоследствии Исайя Берлин шаг, совершенный Руссо и Кантом, чтобы предостеречь от такого шага в политическом смысле42, все ранние социалисты, очевидно, в значительной степени согласны, ибо даже если они не желают принимать к сведению отдельные аргументы в пользу этой новой модели, им однако же благодаря общественному договору или благодаря моральной философии Канта кажется почти самоочевидным представление о том, что индивидуальная свобода может существовать только при рационально постижимых, а стало быть, не сугубо естественным порядком диктуемых целеполаганиях. Впрочем, в определении того, что должно именоваться в данном случае «рациональным», они, конечно, не следуют предложениям Канта; ибо они не признают, что для того, чтобы результирующие действия можно было называть «свободными», необходима вначале индивидуальная процедура проверки наших собственных максим. Они следуют скорее Руссо или, как в случае Маркса, Гегелю, которые, хотя и по различным причинам, исходят из того, что индивидуальные намерения могут рассматриваться как в достаточной мере «свободные» там, где они направлены на удовлетворение либо неиспорченных, «естественных» потребностей, либо потребностей, соответствующих историческому состоянию разума43. Таким образом, индивидуальная свобода означает для социалистов до сих пор только возможность деятельной реализации собственных свободных, а именно более или менее разделяемых всеми намерений, не подлежащих никакому принуждению, кроме того, которое вытекает из равновеликих притязаний всех других членов общества на такую же свободу.
Однако то особое преломление, которое придают теперь, прежде всего Прудон и Маркс, этой модели позитивной свободы, проистекает из существенно более широкого представления о том, каково может быть то необоснованное принуждение, которое может воспрепятствовать субъектам в реализации их свободных намерений. Согласно представлению классического либерализма, это принуждение заключается преимущественно во внешних социальных препятствиях, образцовый случай которых представляет собой полномочие лица или корпорации навязывать субъекту свою волю44. В республиканской традиции, представленной сегодня такими авторами, как Квентин Скиннер или Филип Петтит, объем того, что должно считаться принуждением, расширяется в том смысле, что теперь к нему должно относиться также и оказание воздействия на волю другого человека — утвердившаяся в последнее время формула для обозначения республиканского понимания свободы гласит: freedom as non-domination (свобода как не-доминирование (англ.))45. Но социалисты идут еще намного дальше этого взгляда, а именно потому, что они допускают, что принуждение имеет место уже там, где требующие реализации рациональные намерения человека наталкиваются на социальное сопротивление в противоположных намерениях другого человека; в их представлении индивидуальная реализация некоторой разумной цели в пределах социального целого осуществлялась бы непринужденно только в том случае, если бы она встречала согласие всех других людей и вообще впервые достигала бы полноты осуществления благодаря их комплементарному содействию. Поэтому индивидуальная свобода в конечном счете существует только там, где она, говоря словами Гегеля, получила «объективную» форму благодаря тому, что другие члены общества могут рассматриваться уже не как возможные источники ограничения для намерений наших собственных действий, но как партнеры по кооперации, необходимые для реализации этих намерений46.
И вот в этом пункте аргументации у социалистов получает решающее значение особенное понятие общности, упоминаемое ими всегда вместе с понятием свободы. Как бы они ни отличались друг от друга в частностях своей терминологии, под «общностью» они всегда понимают больше того, что обычно обозначается этим понятием, а именно: «общность» должна заключать в себе не только совместно разделяемые ценностные представления и известную степень идентификации с групповыми представлениями, но также прежде всего взаимную ответственность членов группы друг за друга и участие каждого к другому, в идее, что цели здесь должны не просто пересекаться, но быть интерсубъективно взаимосвязаны, так что люди действуют не только «друг с другом», но также и «друг для друга», мы уже и раньше натолкнулись на подразумеваемую здесь черту социалистического понятия общности47. Поэтому теперь встает вопрос о том, какую связь устанавливают социалисты между этой моделью общности и своим понятием свободы.
Одна возможность установления этой связи могла бы состоять в том, чтобы понимать солидарную общность как необходимое условие осуществления описанной выше свободы. Подобный тезис в более слабой форме, а именно за вычетом входящих в понятие общности элементов взаимного участия, отстаивал Джозеф Рац в своей книге The Morality of Freedom («Моральность свободы» (англ.)): согласно ему, индивиды не могут пользоваться своей автономией до тех пор, пока не будут жить в социальной общности, предоставляющей им конкретные возможности реализации целей, к которым стремится каждый из них48. Но социалисты хотят большего, они, очевидно, понимают обрисованные ими общности не просто лишь как необходимую предпосылку такой свободы, которую все они вместе представляют себе — возникает такое впечатление, что, скорее, только сама кооперация в солидарной общности должна быть, по их мнению, актом свободы, так что все предшествующее этой кооперации еще вовсе не заслуживает этого имени. Тогда социальная свобода означает участие в социальной практике такой общности, члены которой проявляют друг к другу столько взаимного участия, что они ради каждого из них способствуют реализации своих обоснованных потребностей. С этим новым поворотом категория свободы стала элементом некоторого холистического индивидуализма: То, что понимается под свободой — максимально беспрепятственное осуществление собственных намерений и целей каждого человека — не может быть реализовано отдельным человеком, но только соответствующим образом устроенным коллективом, хотя этот коллектив и не нужно рассматривать по этой причине как сущность более высокого порядка, чем его части49. Хотя социальная группа как целое становится у социалистов средой свободы, понимаемой как свойство, способность или достижение, но существование этой группы возникает, в свою очередь, только из взаимодействия индивидуальных субъектов. Правда, коллектив становится носителем индивидуальной свободы только в том случае, если удается сделать устойчивыми и соответственно этому институционализировать определенные способы поведения его членов; сюда относится в первую очередь взаимное участие, имеющее следствием то, что каждый по неинструментальным соображениям проявляет заботу о самореализации каждого другого. В той мере, в какой в рамках социальной общности смогли утвердиться такие формы обихода, в ней, с точки зрения социалистов, исчезают все те негативные проявления, которые характеризуют капиталистическое общество. Дело в том, что, поскольку субъекты в таком случае проявляют взаимное участие друг к другу, они принципиально рассматривают друг друга как равные и отныне отказываются от какой бы то ни было эксплуатации или эксплуатации друг друга.
В представлении, согласно которому в будущем должно быть возможно устроить по образцу подобных солидарных общностей целые общества, имеет свой исток первоначальная идея социализма; в ней одним смелым росчерком пера были соединены три требования Французской революции, находящиеся между собою в отношении известной напряженности, а именно: индивидуальная свобода была истолкована как взаимное восполнение в другом, так что она совершенно совпадает с требованиями равенства и братства. Из этой холистической идеи, понимающей уже не отдельное лицо, а солидарную общность как носителя подлежащей осуществлению свободы, получило начало социалистическое движение; все те меры, как благие, так и дурные, которые приверженцы этого движения придумывали впоследствии для устранения существующих бедствий, должны были в конечном счете служить цели создания подобной общности взаимно дополняющих друг друга членов, трактующих друг друга как равные. Именно эта апелляция к списку требований Французской революции с самого же начала затрудняла буржуазной критике затею просто отвергнуть целеполагания этого движения как необоснованные; ибо социалисты, во всяком случае, ссылались здесь на те же самые нормативные требования, во имя которых некогда выступил на сцену буржуазный класс, чтобы вести борьбу за демократическое правовое государство. Поэтому и до наших дней такие упреки, как упрек в коллективизме или в чистой идиллии общности, заключают в себе нечто плоское, потому что они, по видимости, чуть ли не намеренно отрицают, что к легитимирующим принципам современных обществ наряду с идеей свободы всегда относятся также определенные, пусть даже и неясные, представления о солидарности и равенстве50.
Однако, с другой стороны, задача выступающей вскоре критики, в свою очередь, облегчается вследствие того, что ранние социалисты пренебрегли возможностью придать своей первоначальной новаторской идее достаточно убедительную формулировку. Проекты, представленные ими в первой половине XIX века, имели слишком много изъянов, так что против них уже вскоре были выдвинуты весомые возражения. Дело не только в том, что, как мы уже вкратце видели выше, идея солидарной общности была ограничена сферой хозяйственной активности, и не производили дальнейшей проверки, возможна ли вообще исходя из этой сферы организация и репродукция быстро усложняющегося общества в его целокупности. Вся сфера формирования политической воли по труднопостижимым причинам выпала из поля зрения теоретиков, так что не удавалось в достаточной мере прояснить ее отношение к только что завоеванным юридически определенным свободам. Но, кроме того, отцы-основатели — и здесь прежде всего Сен-Симон и Маркс — нагрузили социалистический проект метафизико-исторической претензией, сделавшей в будущем практически невозможным понимание своих собственных теоретических прорывов как экспериментальных опытов модифицируемости капиталистических обществ: поскольку необходимая революция должна была с известной неизбежностью произойти в близком будущем, всем попыткам постепенно изменить что-либо уже в настоящем приходилось отказывать в какой бы то ни было когнитивной и политической полезности. Среди этих недостатков первоначальной программы те недостатки, которые обусловлены только ранним индустриализмом как контекстом ее возникновения, можно отличать от тех, которые коренятся намного глубже и затрагивают структуру самой идеи. Во второй главе своей работы я намерен рассмотреть в общей сложности три врожденных порока социалистического проекта, чтобы при помощи только что проведенного различия оценить, какие из этих пороков могут быть устранены либо путем чисто исторической адаптации, либо же только посредством концептуального пересмотра. При этом я руководствуюсь целью дать общий обзор тех исправлений, внесение которых могло бы сегодня возвратить социализму некоторую долю присущей ему прежде мотивирующей силы.
Устаревшая идейная оболочка: привязка к духу и культуре индустриализма
Как я хотел показать в главе I, в основе практических устремлений ранних социалистов лежит нормативная интуиция, выходящая далеко за рамки традиционных представлений о дистрибутивной справедливости; скорее, они стремятся посредством реформы или революционного преодоления капиталистического рыночного хозяйства создать такие социальные отношения, в которых можно было бы реализовать целеполагания Французской революции благодаря тому, что свобода, равенство и братство были бы поставлены в такое соотношение, при котором они взаимно делают друг друга возможными. Разгадка тайны примирения трех принципов, находившихся до сих пор вследствие господствовавшего экономического строя в напряженном противоречии, заключается в словах «социальная свобода». Согласно ей, человеческие особи не могут всеобщим образом реализовать свою индивидуальную свободу в самых важных для них вопросах каждый для себя одного, но они зависят в этом от отношений друг с другом, которые, впрочем, могут быть названы «свободными», только если они удовлетворяют определенным нормативным требованиям. К числу таковых в первую очередь относится взаимное участие, существующее только в солидарных общностях, потому что в противном случае не будет гарантии того, что отдельный субъект может длительное время рассчитывать на непринужденное и добровольное удовлетворение своих потребностей благодаря комплементарному содействию другого субъекта: члены общества не могут действовать только «друг с другом», но должны действовать «друг для друга», потому что только в этом случае они могут непринужденным образом реализовать свои всеобщие потребности. Таким образом, в основе социализма с самого начала лежит представление о создаваемой заново коммунитарной форме жизни, а не только, скажем, некое представление об установлении измененной, более справедливой системы распределения51. Прежде чем заняться в настоящей главе работы попыткой проблематизации тех социально-теоретических рамок, в которые ранние социалисты встраивали свои нормативные интенции, я намерен сначала еще несколько отчетливее прояснить саму эту интенцию, чтобы защитить ее от напрашивающихся возражений.
Идею поставить индивидуальную свободу в зависимость от других субъектов и понять ее тем самым как «социальную» свободу я назвал, в конце главы I теоретическим элементом холистического индивидуализма; под таковым, следуя Филипу Петтиту, я понимаю социально-онтологическую позицию, которая хотя и утверждает, что для реализации определенных способностей человека требуются социальные общности, а тем самым — сущности, которые могут быть описаны только в холистических терминах, однако не делает отсюда выводов о неполноте или тем более несуществовании индивидуальных субъектов52. Такое социальное понимание свободы отличается от коллективизма тем, что для него важны в первую очередь условия реализации индивидуальной свободы, от традиционного же индивидуализма оно отделяется вследствие того, что эту свободу оно ставит в зависимость от причастности к определенному виду социальной общности. Промежуточную позицию, которую развили, таким образом, ранние социалисты, можно охарактеризовать также тем, что термин «свобода» играет в ней решающую роль одновременно на двух уровнях — на уровне индивидуума и на уровне социальной общности. Отдельные субъекты могут реализовать свою способность свободы только в качестве членов социальной общности, которая, однако, должна, в свою очередь, быть свободной в том смысле, что обоюдное осуществление разделяемых всеобщим образом намерений должно происходить в нем без принуждения, а потому в установке взаимного участия.
Эта концепция свободы не имеет своей необходимой предпосылкой — как то можно было бы предположить — ситуацию малых общностей, члены которых могли бы знать друг друга в лицо. Хотя может показаться, что требуемое от субъектов взаимное участие требует такой степени интимности, которая возможна только при личном знакомстве, однако уже наше обыденное словоупотребление, позволяющее говорить, скажем, о нации или о политическом движении как о подобного рода общности, ясно показывает, что такое подозрение необоснованно. Чтобы иметь возможность понимать себя как члена солидарной общности, в которой каждый член заботится о потребностях каждого другого, нужно гораздо меньше, чем интимное доверительное знакомство друг с другом: для этого, как показал Бенедикт Андерсон, достаточно уже и того, чтобы понимать друг друга как единомышленников в отношении некоторых совместно разделяемых целеполаганий — совершенно независимо от того, насколько велик соответствующий коллектив и имеется ли вообще между его членами личное знакомство53. Кроме того, то, что установки заботы о благополучии других членов группы возможны не только в малых группах типа семьи, но также и в более крупных, анонимных общностях, можно без труда наглядно продемонстрировать также в том, что обоснованные социальной теорией меры по перераспределению в пользу социально более слабых всегда требуют установок, для определения которых подходят такие категории, как «солидарность» или «братство». Так, даже Джон Ролз в некоторых местах своей «Теории справедливости» говорит о том, что применение его принципа различия требует предполагать между гражданами того или иного общества отношения хотя и не любви, но во всяком случае «братства»54.
Идея социальной свободы, с которой выступает на мировую политическую сцену социалистическое движение, не привязана, таким образом, к проблематичной предпосылке применения ее только к малым, обозримым общностям; скорее, ее без труда можно перенести на целые общества; при этом, правда, должно быть ясно, в каком отношении она должна находиться в них к другими возможным формам свободы и вообще к социальному воспроизводству в целом. И вот в этом пункте начинаются разногласия и концептуальные «узкие места» внутри социализма, которыми я намерен заниматься в этой главе. При этом я в значительной мере могу ссылаться на традицию западного марксизма, в которой уже начиная с 1920-х годов были безжалостно вскрыты, исходя из перспективы критической солидарности, врожденные пороки социалистического проекта55. Правда, чтобы найти подход к этой проблематической массе социалистического наследия, необходимо сначала сделать еще один шаг назад, потому что нужно вкратце прояснить, в каких рамках общественной теории и теории истории было развито социалистами новое, бунтарское понятие социальной свободы. Все главные деятели социалистического движения, от Роберта Оуэна до Прудона и затем до Карла Маркса, с самого начала разделяют как нечто само собой разумеющееся представление, согласно которому рычагом для создания солидарных социальных отношений должна быть реформа или революционное преодоление самого капиталистического рыночного хозяйства, ибо только в институтах этого хозяйства заключается, по их мнению, подлинная причина частно-эгоистического сужения господствующего понимания свободы, так что утверждение кооперативной формы жизни, исполняющей обещания революции, также может начаться только в этой области. Кроме того, представители [социалистического] движения согласны между собой в том, что в существующем положении дел уже имеются налицо необходимые для переворота мотивы и готовность, потому что рабочие, производители и менеджеры должны быть исконно заинтересованы в замене капиталистического рынка способом хозяйствования, организованным в той или иной форме на кооперативных началах; вследствие этой второй предпосылки новая доктрина становится органом выражения или же инстанцией для рефлексии некоторой уже существующей внутри общества оппозиционной силы, так что отношение теории к практике соответственно этому, должно мыслиться как отношение обучения, информирования или просвещения четко определенной социальной группы. И наконец, в-третьих, все сторонники социалистического движения склонны к предположению, что желательные изменения социальных отношений должны будут произойти с известной мерой исторической необходимости, потому что капиталистическое рыночное хозяйство или само погибнет от порождаемых им кризисов, высвобождая, в свою очередь, экономические силы обобществления (Vergemeinschaftung), или же породит вследствие каузально обусловленного обнищания все более и более мощное сопротивление себе. Каковы бы ни были в частностях объяснения предстоящего саморазложения капитализма, едва ли хотя бы кто-нибудь из числа интеллектуальных провозвестников социализма обходится без допущения исторически неизбежных событий в осязаемо близком будущем.
Если мы соединим вместе эти три фоновых допущения, то из них в общих очертаниях складывается то понимание общества и истории, в рамках которого социалисты первого часа воплощали в жизнь разделяемую ими всеми идею социальной свободы. Обращая свое внимание почти исключительно на хозяйственную сферу общества, они исходят из того, что только в капиталистическом строе хозяйственной сферы коренятся причины, принуждающие понимать вновь обретенные свободы только лишь в смысле частного преследования индивидуально полагаемых намерений, однако против возникающего отсюда выхолащивания социальности вследствие конкурентной борьбы и соперничества внутри хозяйственной сферы уже сформировалось пролетарское протестное движение экономического обобществления, на которое социалистическая доктрина может теперь опереться как его рефлексивный орган, чтобы посредством умелого просвещения и обучения двигать вперед исторический процесс, который приведет с известной необходимостью к кооперативному преобразованию всей совокупности производственных отношений, а исходя из него — к построению всеобъемлющей общности действующих друг для друга членов. Безусловно, не каждый представитель социализма в первой половине XIX века соглашался со всеми этими базовыми допущениями социальной теории — несмотря на значительное единство в нормативном принципе социальной свободы имел место ряд индивидуальных расхождений в отношении к таким социально-теоретическим вопросам: следует ли понимать уже начавшийся процесс экономического обобществления, скорее, как процесс поэтапной реформы или же как процесс приближения к совершающейся только впоследствии революции, и каковы должны быть в частностях те экономические отношения, которые будут некогда характеризовать конечное состояние ассоциации всех производителей — именно в этом последнем пункте представления сторонников социализма значительно различаются, смотря по тому, что рассматривается в их теории хозяйства в качестве причины подверженности капиталистического рынка периодическим кризисам и, соответственно, что они рекомендуют в качестве адекватной формы регулирования экономического воспроизводства на обобществленной основе56. Но все-таки три названных мной допущения — хозяйственная сфера как ключевое и даже как единственное место ведения борьбы за адекватную форму свободы, рефлексивная привязка к уже имеющейся в этой сфере оппозиционной силе и, наконец, философско-исторически нагруженное ожидание наступающего с необходимостью победоносного шествия этого уже существующего движения сопротивления — образуют конститутивные опоры, между которыми располагается горизонт социально-теоретической мысли, в пределах которого социалисты разворачивали общую для них идею социальной свободы. Теперь я намерен более пристально рассмотреть каждую из этих трех предпосылок, чтобы выяснить, какие последствия были связаны с ними для их главной цели — проекта альтернативной модели общества. На этом шаге рассуждения речь должна поэтому идти прежде всего об оценке масштабов того социально-теоретического наследства, которое ранние социалисты должны были оставить идущему за ними движению вследствие того, что свою исходную идею социальной свободы они развивали в рамках, определенных этими тремя допущениями.
Как мы видели, у ранних социалистов вплоть до Карла Маркса налицо тенденция понимать права на свободу, уже утвержденные революцией, исключительно в смысле санкционированного государством позволения преследовать в рамках экономической сферы на основе частной собственности собственные интересы каждого человека; затем этой системе капиталистического рынка, который, стало быть, с их точки зрения превратился в подлинный оплот новой, индивидуальной свободы, в критических целях противопоставляется картина общностного (gemeinschaftlich) способа производства, в котором субъекты действуют, как предполагается, уже не друг против друга, но друг для друга и тем самым реализуют то, что я назвал социальной свободой. Однако же, говоря как об утвержденных, якобы только частно-эгоистических свободах, так и о новых, социальных свободах только лишь применительно к сфере хозяйственной деятельности, эти теоретики вышли на определенный путь размышления; а на этом пути возникает одна проблема, оказавшаяся более существенной, чем то могло показаться на первый взгляд, ибо теперь совершенно иная сфера демократического народовластия, для которой по крайней мере Руссо и его революционные потомки предусматривали новое право индивидуального самоопределения, было неожиданно лишено всяких нормативных определений и оставлено как пренебрежимая величина в общественном воспроизводстве. Поскольку всякую свободу, как хорошую, так и дурную, социалисты односторонне локализовали только лишь в сфере экономической деятельности, они внезапно, и сами того по-настоящему не заметив, лишились возможности мыслить так же точно в категориях свободы и новый режим демократической дискуссии об общих целях; а вследствие того они по необходимости не только не располагали более достаточным понятием политики, но и вообще упускали из виду эмансипационный аспект равных прав на свободу. Те богатые следствиями для будущего «переводы стрелок», которые совершились на этих скрытых под землей путях, так важны для последующей судьбы социализма, что это требует более обстоятельного обсуждения.
Уже у Сен-Симона и его учеников, сенсимонистов, намечается склонность, в интересах продолжения предшествовавшей революции отвлекать все внимание от политической сферы и переводить его в сферу промышленного производства. По представлениям этой школы, с техническими прогрессами в промышленности и в торговле настало время окончательно преодолеть последние остатки старого, экономически неэффективного феодального господства и заменить его новым общественным строем, в котором, при гарантированной полной занятости, все люди, занятые в индустриальных отраслях хозяйства, рабочие так же точно, как и менеджеры, могли бы, следуя согласованному ими плану, сотрудничать во имя удовлетворения потребностей также и социально более слабых; предпосылки для такого измененного, кооперативного способа производства должны быть созданы центральным банком, в котором представительная корпорация, состоящая опять-таки из индустриальных сил общества, сделала бы в будущем излишним всякое политическое управление, определяя судьбы и благо страны посредством принятия решений о выдаче кредитов57. И так же точно, как Сен-Симон и сенсимонисты, которые ведь, как известно, наделили свое технократическое учение аурой некой новой гражданской религии, следующие поколения социалистов практически не проявляли интереса к политической функции новых гражданских прав; они разделяли с квазирелигиозными сектами сенсимонистов представление, согласно которому перемены в направлении солидарной реорганизации общества должны совершаться единственно и только в экономической сфере, где в будущем вместо частного эгоизма будет существовать взаимное дополнение в удовлетворении потребностей, тогда как политические институты утратят свою руководящую роль. Прудон, который уже до Маркса нашел самые ясные формулировки для нового понятия свободы, пошел и здесь дальше всех прочих, без обиняков требуя упразднения всех правительственных функций, которые якобы успешно и полностью способно заменить взаимодействие мелких производительных обществ; соответственно, он не видел также какой-либо нужды в сохранении декларированных революцией прав на свободу, которые ведь, с его точки зрения, должны были служить только интересам частных собственников на капиталистическом рынке, так что с утверждением кооперативного способа производства они должны утратить свою прежнюю роль58.
Если у Фурье, Луи Блана или Огюста Бланки мы находим похожие рассуждения, обнаруживающие нередко даже презрение авторов к только что завоеванным институтам равных прав на свободу, то только Маркс вновь выводит всю связанную с этим проблематику на новый уровень обсуждения. В своей статье «К еврейскому вопросу», опубликованной в 1844 году и с тех пор ставшей важной вехой в процессе политического самоопределения формирующегося движения, Маркс разбирает вопрос о том, какое значение должна иметь в будущем для целеполаганий социализма борьба евреев за политическое равноправие59. Ответ, который Маркс пытается дать на этот вопрос, имеет двухступенчатую форму, поскольку эта проблема решается вначале только для данных социальных условий и лишь затем — для освобожденного общества. Применительно к современности Маркс, пользуясь словарем гегелевской философии права, утверждает, что здесь «гражданское общество», то есть капиталистическое рыночное хозяйство, и «государство» существуют как две отдельные сферы, каждая из которых подчиняется своим собственным принципам. Маркс убежден, что до тех пор, пока сохраняется подобное институциональное разделение задач, также и усилия еврейского меньшинства в направлении политической интеграции имеют недвусмысленно освободительное значение, потому что предоставление государством равных прав на свободу представляет собой нормативный прогресс по сравнению со всем, что было в прошлом60. Впрочем, по его мнению, после этого политическое стремление евреев к интеграции сразу же утрачивает всякую позитивную функцию, если бывшая до сих пор изолированной деятельность государства будет в будущем вновь вплетена в сферу задач истинной человеческой общности, ибо в этих условиях будет не только окончательно упразднен злополучный раскол человека на citoyen (гражданин (фр.)) и bourgeois (буржуа (фр.)), на гражданина государства и частного хозяйственного субъекта, но вследствие этого ассоциация всех сотрудничающих членов общества сможет сообща решать задачи политического управления, так что для индивида исчезает надобность претендовать на права индивидуального самоопределения перед какой бы то ни было высшей инстанцией. Именно этот последний шаг мысли в ходе марксовской аргументации заслуживает особенно пристального рассмотрения в контексте нашей проблемы. Либеральные права на свободу, о которых сам Маркс говорит как о средстве для провозглашения «каждого члена народа равным участником суверенитета народа»61, в социалистическом обществе будущего утратят всякое нормативное значение, потому что тогда уже не будет надобности в особом, отдельном от хозяйственной деятельности дискурсивном установлении (Aushandlung) общей воли, для которого индивида следовало бы наделить правом на самоопределение62.
Эта релятивизация либеральных прав на свободу, которые Маркс считает нужным требовать лишь до тех пор, пока сохраняется институциональное разделение сфер политики и хозяйственного производства, оказалось для социалистического движения уже в момент его возникновения тяжелым бременем, почти не поддающимся устранению также и в последующее время. Поскольку все надежды на устойчивое примирение свободы и братства связывались только с перспективой коммунитарного преобразования хозяйственной сферы, считалось возможным без остатка растворить все индивидуальные права в общности действующих друг для друга субъектов, так что в конце концов не оставалось законного места ни для автономии индивида, ни для интерсубъективного выяснения общей воли. Какие бы учредительные документы социалистического движения мы ни привлекали для анализа, повсюду мы встречаем одну и ту же тенденцию: не признавать никакой роли в организационном устройстве будущего общества как за либеральными правами на свободу, так и за основанным на них формированием политической воли между свободными и равными гражданами государства; эта новая форма организации социального мира отличается здесь, напротив, тем характерным свойством, что в ней субъекты включаются в общество только и исключительно через соучастие в кооперативном производстве, благодаря чему они хотя и могут сообща реализовать свою социальную свободу, однако не имеют более надобности беспокоиться о своем индивидуальном самоопределении. Следствием обрисованного этой чертой проекта будущего была неспособность [социалистов] найти исходя из своей доктрины нормативный подход к политической сфере. Только по прошествии нескольких десятилетий в социалистическом движении начали устранять этот изначальный недостаток, предпосылая боевому понятию «социализм» прилагательное «демократический». Но также и формула «демократического социализма», официально включенная Социал-демократической партией в свою программу только после Второй мировой войны63, лишь худо-бедно решала проблему, унаследованную от отцов-основателей, ибо оставался принципиально без ответа вопрос о том, как можно понять руководящую идею социальной свободы таким образом, чтобы она, хотя и способна была вдохновлять критику частнокапиталистического эгоизма, при этом не ставила под радикальное сомнение ценность индивидуальных прав на свободу. Вместо того под этим двучленным понятием чаще всего подразумевалось не что иное, как значительно ограниченная идея, понимающая политическую демократию по традиционно-либеральному стандарту как ту институциональную сферу, исходя из которой через достижение парламентского большинства, должен быть решен посредством ограничения капиталистического рынка «социальный вопрос»; тем самым снималось с повестки дня существенно более радикальное требование — в меру возможности так организовать саму сферу экономической деятельности, чтобы члены общества могли действовать здесь не против друг друга, но друг для друга64.
Нечто совершенно иное произошло бы, если бы идея социализма, отвлекаясь от наследия отцов-основателей, получила развитие в этом чувствительном пункте, опираясь на теорию свободы Гегеля, ибо благодаря этому, в принципе, сохранилась бы возможность мыслить либеральные права на свободу не как препятствие, а как необходимую предпосылку для тех социальных свобод, которые, согласно первоначальному открытию социалистов, должны были в будущем получить реализацию в хозяйственной сфере65. На таком пути, может быть, обнаружилась бы даже возможность подчинить принципу социальной свободы не только сферу экономической деятельности, но также и процедуру демократического формирования воли66. Однако, прежде чем обратиться в главе IV к этой альтернативе, оставшейся в социалистической традиции неиспользованной, я хочу поговорить вначале о второй предпосылке социальной теории ранних социалистов.
Первые основания и для второй предпосылки в социально-теоретической мысли ранних социалистов, согласно которой их собственные идеалы представляют только фактическую констелляцию интересов некоторой оппозиционной силы, уже имеющейся в современном им обществе, мы также находим уже у Сен-Симона и его сторонников. Все члены этой широко разветвленной школы согласны друг с другом в том, что весь класс занятых в промышленности, от простого ремесленника до инженера и менеджера, ждет только той минуты, когда совместно осуществляемые способности и виды деятельности будут освобождены от ига феодально-буржуазного порядка собственности, чтобы иметь возможность работать в свободной и непринужденной ассоциации во имя прироста производительности, и тогда на фоне предполагаемого благодаря этому уже наличным процесса эмансипации, доктрина сенсимонистов должна была решать задачу — дать дополнительные знания и религиозно фундированные достоверности, нужные для того, чтобы создать в конце концов также и в действительности коллективно желанный строй общности всех производительных работ67. Та же самая предпосылка оппозиционного движения, которое уже работает в самом современном обществе совершенно в духе теории, встречается также у Роберта Оуэна, Луи Блана и Пьера-Жозефа Прудона, только здесь круг участников этого движения ограничивают только массой промышленных наемных рабочих, однако и эти рабочие, совершенно как у Сен-Симона и его учеников, еще прежде чем социалистическая идея сможет вообще получить какую-либо действенность, должны быть уже и сами по себе сообща заинтересованы в том, чтобы развитие общества двигалось вперед в направлении непринужденного обобществления всех производителей68.
Безусловно, сама по себе отсылка к движению сопротивления, в котором репрезентативно отстаиваются наши собственные идеалы, еще не представляет собой какой-либо проблемы для социалистического движения; скорее, одним из необходимых свойств теории, в подобной степени обращенной в будущее, является то, что она ищет в социальной действительности те силы и установки готовности, с помощью которых ее собственные утверждения могут однажды обрести практически-действенную силу и с помощью которых может быть создано предсказанное теорией состояние общества. Однако уже у названных авторов в социалистическую мысль врывается совершено иная методическая стратегия, которая затем сведется к тому, чтобы не просто эмпирически изучать такие движения сопротивления, но аподиктически предполагать их; здесь имеется склонность полагать, что до всякого практического воплощения теории в социальной реальности уже объективно наличествуют интересы и пожелания, на которые эта теория может впоследствии опираться в целях оправдания и осуществления своих намерений. Между тем единственная возможность говорить в некотором объективном смысле о подобного рода донаучных данностях заключается в том, чтобы просто социологически приписывать их тем или иным группам; в таком случае речь идет уже не о констелляциях эмпирических интересов, не о фактических пожеланиях, а о тех целях, которые должны были бы иметь соответствующие социальные группы, если бы только они последовали верному пониманию собственного положения. Конечно, как это установит впоследствии Макс Вебер, применение этого метода приписывания интересов открыло дорогу теоретическому произволу, ибо то, что должно было считаться верным в составе тех знаний, при условии получения которых соответствующие группы обрели бы приписываемые им интересы, определялось бы, в свою очередь, только теми определениями, с помощью которых ранее теория постигала общественную действительность. Уже у сенсимонистов и других представителей раннего социализма социалистическая теория рисковала впасть в своего рода самореференциальность, когда в социальную реальность проецировалось коллективное движение, оправдывающее собственные прогнозы теоретиков, которое, однако, было вообще впервые сконструировано путем приписывания констелляций интересов.
Правда, эта тенденция к самореференциальному замыканию теории еще более усиливается в трудах Карла Маркса. То, что Маркс рассчитывает на объективную констелляцию интересов со стороны деятелей, в качестве органа выражения которой он пытается понять свой собственный анализ общества, по-разному проявляется почти во всех его сочинениях; кажется, только в своих историко-политических трактатах он в достаточной мере отдавал себе отчет в конкретных пожеланиях социальных групп, чтобы избежать опасности просто предполагать некий общий интерес у всех членов класса наемных рабочих69. Впрочем, уже Маркс ранних антропологических сочинений поступает совершенно иначе, а именно — методом простого приписывания интересов, поскольку здесь он пытается понять пролетариат в его совокупности как единый субъект, который в качестве представителя всего человеческого рода громогласно выражает настоятельную потребность самореализации в труде. Глубинный интерес, который каждый человек по своей природе должен испытывать к тому, чтобы видеть себя опредмеченным и подтвержденным в продукте своего труда, при капитализме, по убеждению Маркса, представлен только коллективом наемных рабочих, потому что только этот коллектив вообще занят предметным трудом и познает в теперешнем отчуждении труда удаление от своих естественных устремлений70. С обращением к экономически обоснованному анализу капитализма, которое происходит у Маркса после 1850 года, хотя и меняется его обоснование допущения подобного общего интереса пролетариев, однако не меняется истолкование этого интереса как всегда и заведомо революционно направленного интереса; теперь члены рабочего класса должны желать отмены частнокапиталистической собственности уже не вследствие чувствуемой ими имманентной цели человеческого рода, но потому, что системно-обусловленный прирост эксплуатации вынуждает их к тому, чтобы сообща обеспечить себе простое выживание в экономическом смысле слова71. Поэтому Маркс, как в ранних, так и в поздних работах, оперирует допущением, что цели, отстаиваемые его собственной теорией, уже репрезентированы в социальной действительности коллективным субъектом, который при всех различиях между конкретными настроениями его отдельных членов должен все же испытывать общий интерес к революции. Однако для социалистического учения из этой методологически крайне сомнительной предпосылки следовало, что отныне это учение прямо-таки с трансцендентальной необходимостью оказывалось в зависимости от наличия некоторого социального движения, относительно которого, однако, было по необходимости эмпирически совершенно неясно, существует ли оно вообще в социальной реальности в том виде, в каком это предполагается учением.
Постольку все те социалистические представления, которые были порождены первой половиной XIX века, самое позднее с возникновением теории Маркса были объявлены духовным продуктом исключительно лишь революционного рабочего класса, фактический состав и действительная констелляция интересов которого не должны были более заботить теоретиков, ибо благодаря методу рационального вменения этот класс понимался как неотъемлемая составная часть всех капиталистических обществ, так что эмпирические сомнения и вопросы совершенно не могли восприниматься всерьез. Пока действительность общества предоставляла достаточно наглядного материала, настоятельно подтверждавшего приверженность этой воображаемой величине, на первых порах не возникало также повода сомневаться в самом характере социалистического учения как выражения или отображения этой действительности; даже первым представителям немецкой социал-демократии убеждение, что в их собственных идеях отражаются только интересы всех наемных рабочих, казалось слишком неопровержимым, чтобы они могли находить здесь какие-либо причины для беспокойства. Неоценимой заслугой раннего организованного Хоркхаймером теоретического кружка Франкфуртской школы останется то, что этот кружок впервые противопоставил социологической фикции революционного рабочего класса эмпирически обоснованные сомнения; во всяком случае, междисциплинарные исследования об «авторитаризме» рабочих положили начало процессу, в конце которого стояло понимание того, что при переводе классово-специфичных жизненных обстоятельств в определенные пожелания не существует никакого автоматизма72. Когда затем, после Второй мировой войны, в капиталистических странах Запада начали быстро изменяться пропорции занятости и на рынке труда все более и более заметно начал господствовать класс служащих (Angestelltenschaft), так что вскоре вошли в моду разговоры о постиндустриальном обществе73, классовая привязка социализма, в которую раньше так безусловно верили, исчезла уже окончательно; там, где не только не существовало никакого революционного пролетариата, но и сами промышленные рабочие превратились в меньшинство в общей массе людей наемного труда, там не могло быть и решительно никакой возможности по-прежнему понимать социалистические идеалы только как духовное выражение некоторого заведомо революционного субъекта74.
Впрочем, масштаб возникшей в результате проблемы довольно часто совершенно не осознается в полной мере, ведь социализм с самого начала был в глазах его ведущих представителей чем-то намного большим, чем только одной из политических теорий, сопоставимой, скажем, с либерализмом, — он представлял собой для них, скорее, обращенное в будущее учение с практическими интенциями, содействующее реализации некоторого уже существующего в обществе интереса, активизирующее и корректирующее осуществление этого интереса своими картинами социальной свободы. Однако, если уже совершенно нет более возможности предполагать в обществе подобный донаучный интерес, потому что на эмпирическом уровне утрачены даже самые слабые индикаторы его наличия, то социализм необходимо подвергается опасности потерять вместе с отношением к социальному движению и вообще само право на существование, ибо без привязки к такой общественной силе, в которой достоверно стремятся реализоваться его собственные целеполагания, он, подобно всякой другой нормативной теории, только выдвигал бы перед лицом непонятной реальности некий идеал. Таким образом, коррозия рабочего движения была для социализма чем-то большим, чем просто помеха; скорее, когда померкла всякая надежда найти в пролетариате хотя бы остатки некогда приписанной ему заинтересованности в революционном изменении общества, это задело глубочайшее ядро социализма, а именно, его претензию быть выражением некоторого живого движения75.
Ввиду этой исторической ситуации перед социализмом сегодня стоит альтернатива: или примириться со своей трансформацией в чисто нормативную теорию, или же искать замену утраченной связи с рабочим движением. В первом случае ему пришлось бы пойти по уже неоднократно пройденному ранее пути — придать своим идеалам форму абстрактных принципов справедливости, чтобы отстаивать их против конкурирующих теорий на равных основаниях с последними76, во втором же случае перед ним встала бы задача обнаружения в обществе интереса к его собственным целям на столь всеобщем уровне, чтобы суметь принципиально избавиться от влияния случайных приливов и отливов социальных движений. Прежде чем обсудить в следующей главе две эти альтернативы, я хочу обратиться к третьему комплексу социально-теоретических тем, в котором уже довольно рано наметилось проблематичное наследие социализма.
В социально-теоретической мысли ранних социалистов предпосылка революционного субъекта, который при капитализме всегда стремится к реализации правильных идеалов, почти всегда дополняется философско-историческим допущением, что данные производственные отношения должны вскоре с исторической необходимостью разложиться. В этой предпосылке — третьем наследственном пороке социализма — проблема заключалась не в том, что она стимулировала исследования о самодеструктивных силах внутри капитализма, а в том, что своим представлением о прямолинейном развитии она должна была сделать невозможным какой бы то ни было экспериментальный подход к историческим процессам и потенциалам. Формирование соответствующей идейной схемы начинается опять-таки у Сен-Симона и его школы; члены этого кружка следуют учителю в заимствованной у Тюрго и Кондорсе77 идее о том, что человеческая история движется по пути перманентного прогресса, мотивируемого на каждом новом этапе необходимым приспособлением общественных отношений к непрерывно возрастающим достижениям науки и техники78. Затем в контексте этой идеи прогресса сенсимонисты интерпретируют свой собственный исторический период как эпоху так называемого «критического» застоя, в которой избыточные возможности индустриального способа производства не могут быть использованы в социальном отношении потому, что унаследованный от прошлого, еще не упраздненный порядок собственности наделил бездеятельный класс общества всей полнотой социально-организующей власти; поэтому, с их точки зрения, следующий шаг в историческом процессе с неотвратимой необходимостью должен состоять в том, чтобы перевести незаслуженное имущество праздных общественных слоев — буржуазии, дворянства и церковного клира — во владение государственного центрального банка, создающего посредством принимаемых решений о выдаче кредитов экономические предпосылки для великой кооперативной общности всех занятых в промышленности людей79.
Не каждый из числа тех авторов, которые в то же время или несколько позднее занимаются разработкой проекта социалистических идей, оперирует философско-исторической моделью прогресса таким же образом, как это делают сенсимонисты; чем более активно они вмешиваются в политические события или непосредственно участвуют в создании альтернативных хозяйственных предприятий — вспомните здесь только Роберта Оуэна — тем меньше они увлекаются смелым полетом спекулятивной мысли о законах, направляющих ход истории. Но все-таки большинство ранних социалистов согласны со школой сенсимонистов в том, что их собственные интеллектуальные усилия нужно понимать как необходимые шаги в безостановочном процессе закономерного движения человеческого рода вперед; социализм для них представляет собой не что иное, как продукт познания необходимого процесса развития, следующий этап которого должен состоять в том, чтобы преодолеть конкурентные отношения в рыночном хозяйстве и поставить на их место кооперативный союз всех трудящихся. Элементы подобного философско-исторического мышления мы находим, скажем, у Луи Блана, бывшего скорее умеренным сторонником нового движения; под влиянием Кондорсе и не в последнюю очередь Сен-Симона, к которому он всю жизнь относился с большим восхищением, он исходит из того, что постоянный процесс научного просвещения рано или поздно вынуждает провести именно те реформы в направлении солидарной хозяйственной общности, которые рекомендовал провести он сам в своих программных сочинениях80. Если в этом в очередной раз выражается то, в сколь значительной мере самосознание ранних французских социалистов оставалось зависимым от прогрессистского оптимизма классического Просвещения, в котором научные познания рассматривались как двигатель прямолинейного поступательного развития человеческой цивилизации, то в мышлении Прудона, напротив, намечаются первые следы влияния философии истории Гегеля. Прудон тоже не меньше своих соратников хотел бы, чтобы пропагандируемый им социализм понимали как характерный признак будущего общественного строя, к которому историческое развитие ведет с необходимостью достоверно познаваемого закона, однако в противоположность другим представителям социалистического движения во Франции он пытается объяснить эту закономерность не как следствие неизменного прироста научности (einer wachsenden Verwissenschaftlichung), но как результат поэтапно движущегося вперед процесса вновь и вновь повторяющегося примирения между противоположными классами81. Подобными намеками на гарантирующую прогресс роль социальных классовых битв Прудон, этот мастер синтеза далеко отстоящих друг от друга элементов традиции, подготовил путь философско-исторической мысли Маркса; даже если Маркс впоследствии оспаривал какое-либо влияние французского анархиста на свои сочинения и даже посвятил ему резкую критику82, все же в его историческом материализме мы вновь и вновь находим отчетливые следы спекулятивных рассуждений Прудона.
Правда, в работах Карла Маркса характерная для раннего социализма идея закономерного прогресса обнаруживает себя в двух весьма различных вариантах83. В первом из этих двух конкурирующих подходов, находящихся под ощутимым влиянием Гегеля и Прудона, в качестве движущей силы общественного развития рассматривается борьба социальных классов, последовательность которой должна представлять линию направленных улучшений, потому что на каждом этапе становятся доминирующими интересы все более обширной, но до сих пор исключенной из процесса общественной группы, и вот в том опосредованном конфликтами процессе движения вперед, который предполагается этой идеей, социализм потому представляет собой для Маркса последнюю на сегодняшний день стадию, что с ним присваивает себе власть социальной организации то большинство населения в лице пролетариата пожелания которого прежде всегда были подавлены84. Напротив, вторая модель объяснения, предлагаемая Марксом для оправдания своей предпосылки о направленном прогрессе человеческой истории, всецело сообразована с линейным процессом прироста господства человека над окружающей средой, основанного на научном знании; поэтому будет не так уж неверно предполагать в этом альтернативном подходе продолжающееся влияние идей Сен-Симона и его школы, а именно: теперь в рамках своей второй модели предполагает в качестве двигателя общественного развития перманентный прирост способности человека господствовать над природой, неиспользованные потенциалы которого должны постепенно принудить людей к тому, чтобы приспособить к этому процессу способы организации общества. Таким образом, возникает совершенно иная форма закономерного прогресса, состоящая в конечном счете в том, что отстающие, косные производственные отношения вновь и вновь приходится приводить в согласие с технологическим состоянием производительных сил85 — поэтому наиболее убедительная интерпретация этого варианта исторического материализма в новейшее время, представленная Джеральдом Коэном86, была справедливо квалифицирована как разновидность технологического детерминизма.
Однако при всех различиях между двумя моделями объяснения — в одном случае развитие производительных сил, в другом же — классовая борьба — обе модели согласны между собой в том, что в качестве следующего, предстоящего в близком будущем этапа в закономерном процессе развития они предполагают способ производства, именуемый «социалистическим», в котором получат разрешение существовавшие до тех пор противоречия; при этом содействие или деятельность вовлеченных в процесс акторов играет лишь второстепенную роль, поскольку это содействие считается простым выражением исторической необходимости, которая поневоле проложит себе путь «за их спиной», а значит, без участия их сознания. Несомненно, в истории марксизма то и дело предпринимались попытки опровергнуть или релятивизировать эту роль понятия закона в историческом материализме, чтобы тем самым суметь дать ответ на напрашивающиеся здесь возражения. Так, например, представители критической теории предложили понимать Маркса в том смысле, что о закономерном ходе исторических процессов можно говорить лишь до тех пор, пока производственные отношения в обществе воспроизводятся еще «естественным образом» и таким образом недоступны для разумного управления посредством планирования их людьми87. Однако представление об исторической закономерности реализовалось в социализме XIX века не в этой рафинированной, исторически ограниченной форме; здесь с самого начала господствовала идея, исходящая из сен-симоновского научного оптимизма и подкрепленная быстро популяризированной концепцией истории Маркса, согласно которой собственные проекты теоретиков о кооперативной общности свободных производителей только выражали то, к чему историческое развитие с необходимостью стремилось уже и само по себе вследствие присущей ему динамики прогресса.
Однако в этой детерминистической концепции прогресса проблематично было не только то, что она содействовала политическому аттентизму, уже в скором времени оказавшемуся в центре внимания самых ожесточенных дискуссий в социалистическом движении88; многие дебаты между социал-демократами или коммунистами в начале XX века о том, как именно в точности следует понимать законы истории и не лучше ли будет заменить эти законы активирующей этикой деятельности, изменяющей мир, свидетельствуют о растерянности, которую породил в социалистическом движении философский детерминизм его отцов-основателей89. Однако еще более решающей чертой в представлении о закономерном прогрессе было то, что оно на немалое время помешало воспринимать историческое развитие как все новую и новую совокупность вызовов, пригодность которых для социальных улучшений предстоит в каждом случае устанавливать путем экспериментальных попыток. Как это впоследствии трезво констатировал Джон Дьюи90, для социализма вследствие предпосылки о закономерностях истории оказалось почти совершенно невозможно понять самого себя как движение, которое еще должно выяснить путем социальных экспериментов, как может быть скорее и лучше всего осуществлена руководящая идея социальной свободы; вместо того каждому его представителю всегда было заведомо ясно, как должна выглядеть новая общественная формация реализованной свободы, и при этом не было надобности испытывать на опыте, какие возможности социальных изменений предоставляют быстро меняющиеся обстоятельства.
Это исключение эксперимента в качестве историко-практического метода было не предметом решения о том, выступаем ли мы за реформу или, скорее, за революцию существующего положения дел; даже тот, кто исходил из того, что социалистические принципы организации могут быть утверждены в обществе лишь постепенно, не хотел предоставлять установление этих принципов неспешному процессу выяснения наличных возможностей и пространств свободы, но утверждал, что уже заведомо обладает ими с аподиктической достоверностью. Дистанция от экспериментального понимания исторической деятельности была в социализме категорической, а не градуальной. Вследствие своей веры в закономерный ход истории теоретику было с самого начала ясно, в чем должен состоять следующий шаг в социальных изменениях, так что для этого, казалось бы, совершенно не требовалось ситуативное тестирование имеющихся в обществе потенциалов.
Эта неспособность социалистического движения к историческому экспериментализму с самого начала проявилась с наибольшей отчетливостью в той области, для которой на первых порах были почти исключительно предназначены разработанные социализмом идеалы, ибо применительно к социальной организации хозяйственных отношений уже вскоре, самое позднее у Маркса, одержало верх представление, согласно которому за рынком может последовать только централизованное плановое хозяйство как превосходящая его альтернатива, а тем самым уже не оставалось идейного пространства для институциональных опосредований или перераспределения акцентов. Вследствие этой теоретической самоблокировки, обусловленной мышлением в категориях жестко фиксированной последовательности исторических стадий, социализм многие десятилетия вообще лишал себя шанса выяснить сначала экспериментально возможные пути реализации социальной свободы в сфере хозяйства; скорее, как и у его противника — господствующей до наших дней теории народного хозяйства, — было заранее ясно, как должна выглядеть в институциональном отношении адекватная форма создания экономического благосостояния. Если официальная, проповедуемая с учебных кафедр экономическая теория до нашего времени несет перед собою образ «свободного» от всех политических влияний рынка, как будто это некая неоспоримая догма, так и социализм по-прежнему, по крайней мере в общественном сознании, сводится к представлению, что капиталистическое рыночное хозяйство может быть успешно заменено только управляемым из центра плановым хозяйством.
Если мы рассмотрим еще раз одно за другим три базовых концептуальных допущения, которые я попытался ретроспективно проанализировать как теоретические наследственные пороки социализма, то при внимательном рассмотрении выяснится, что они обязаны своим возникновением исключительно привязанности к духовным и социальным данностям ранней фазы капиталистической модернизации. Уже на первой предпосылке социалистической концепции общества и истории можно без особого труда установить, как здесь незаметно из некоторого исторически уникального эмпирического положения делаются выводы о желательном устройстве всех будущих обществ; ибо к идее о том, что отныне больше нет надобности в демократической процедуре выяснения общих целеполаганий, а потому весь процесс социальной интеграции можно предоставить соединенной воле кооперирующихся друг с другом производителей, мог, вероятно, прийти только тот, кого грандиозная динамика начинающейся индустриализации побудила предполагать в ее организующей силе также и источник политического управления. Таким образом, ошибочное представление, будто в будущем можно будет отказаться от предоставления индивидуальных прав на свободу, было ценой, которую ранним социалистам пришлось заплатить за свою нерефлектируемую веру во всеобъемлющую интегрирующую силу общественного труда. Не иначе обстоит дело и со вторым проблематичным базовым допущением, с которым мы столкнулись, рассматривая точки согласия в социально-теоретической мысли от Сен-Симона до Маркса; ибо и убеждение в том, что капиталистическую общественную систему с самого начала сопровождает внутренний противник в лице готового к революции пролетариата, на который длительное время сможет опираться социалистическое движение, можно вообще понять только на фоне ранней, почти совершенно не заторможенной индустриализации. Дело в том, что тогда, до появления всякого социального законодательства и до завоевания избирательных прав, в самом деле, быть может, могло на краткое мгновение показаться, будто слой промышленных рабочих настолько спаян вместе форсированной эксплуатацией, снижением заработной платы и постоянной угрозой безработицы, что промышленные рабочие способны сформировать у себя единство интереса к преодолению капитализма — правда, впоследствии все огрубленно резюмируемое в понятии «обуржуазивания» изобличало во лжи этот ограниченный своим временем прогноз, а тем самым и метод вменения объективных интересов. Наконец, та же самая зависимость от процесса индустриальной революции свойственна и для третьей предпосылки социальной теории ранних социалистов — предположения закономерного прогресса в человеческой истории. Впрочем, здесь в мышлении наших авторов отразились не социально-экономические, а интеллектуальные данности той эпохи. Как картина истории у сенсимонистов, так и картина истории у Луи Блана или Карла Маркса живут в значительной мере прогрессистским духом периода раннего Просвещения, когда надежде на благотворное влияние науки и техники нередко придавали форму законосообразных утверждений о поэтапном улучшении условий человеческой жизни91. Затем, полвека спустя, этот философско-исторический оптимизм проявляется в раннесоциалистической мысли, вплоть до исторического материализма, в том, что общественная формация, к которой практически стремятся социалисты и которую именуют «социалистической», понимается как та ступень в историческом процессе, которая в обозримом будущем необходимо, почти что с каузальной неизбежностью последует за теперешним состоянием общества.
Вряд ли можно назвать неверным предположение — и сегодня оно само по себе едва ли еще нуждается в обосновании — что в этих привязках социалистических идей к духу и общественности эпохи индустриальной революции заключается причина их быстрого и незаметного устаревания вскоре после завершения Второй мировой войны. Как только технологические новшества, изменение социальной структуры и политические реформы радикально изменили состояние общества, а значит, в течение 1960-х и 1970-х годов, представления отцов-основателей социализма должны были утратить свою прежнюю притягательную силу уже потому, что социально-теоретическое содержание этих представлений было глубочайшим образом укоренено в начале XIX века. Поэтому сегодня каждая попытка вновь пробудить к новой жизни эти старые идеалы должна начинаться с обременительного труда по постепенному преодолению их сцепленности со ставшими ныне совершенно несостоятельными базовыми допущениями социальной теории, которое может освободить место для соответственной нашему времени артикуляции этих старых идеалов. Только если первоначальное видение социальной свободы можно будет раскрыть в такой теории общества и истории, которая соответствует современным общественным условиям, оно, может быть, сможет вновь обрести некоторую долю своей былой мотивирующей силы (Virulenz). Впрочем, при этом следует проявлять осмотрительность, потому что три вышеназванные теоретические предпосылки нельзя просто вычеркнуть, ничем их не заменяя; скорее, поскольку они образуют необходимые элементы практически мотивирующего учения, обращенного в будущее, каждому из них необходимо найти теоретическую замену на более абстрактном уровне, отделенном от индустриального духа. В двух следующих главах своего исследования я хотел бы перейти к разработке первых предложений в смысле такого необходимого переформулирования. Первым шагом я хотел бы описать, в контексте рассмотрения критики капиталистического рыночного хозяйства, как должно было бы сегодня выглядеть социалистическое понимание истории, если, несмотря на отказ от всякой веры в закономерность, как и от допущения автоматизма истории, оно должно по-прежнему порождать уверенность в осуществимости предполагаемых улучшений (глава III), а заключительный шаг имеет целью обрисовать, какие принципиальные изменения должны произойти в социалистическом понимании истории, но тем самым также и во всем горизонте социалистического проекта, если социализм после долгих колебаний наконец адекватным образом примет к сведению факт функциональной дифференциации современных обществ (глава IV).
Пути обновления (I): социализм как исторический экспериментализм
В начале этой главы мы прежде всего еще раз вкратце резюмируем результаты наших предшествующих размышлений, чтобы установить таким путем, в чем заключаются сегодня в целом вызовы для обновления социализма. Если бы мы захотели кратко выразить одной фразой конститутивные черты этого теоретического движения, то после всего сказанного ранее были бы вынуждены дать следующую парадоксальную формулировку: плодотворная и богатая последствиями идея разложения противоречивого наследства Французской революции вследствие институционализации социальных свобод получает в социализме развитие в рамках такой формы мысли, которая почти во всех своих аспектах обязана своим существованием эмпирическим содержаниям индустриальной революции. Чтобы обнаружить парадокс с еще большей отчетливостью, можно было бы сказать также, используя одну заимствованную у Маркса мысль, что в социализме теоретические рамки дискурсивной формации, происходящей из эпохи индустриальной революции, препятствуют нормативной производительной силе идеи социальной свободы действительно раскрыть внутренне присущий ей потенциал; избыточествующие, далеко опережающие свое время мотивы, заключенные в практико-политическом намерении устроить в будущем общество модерна как общность действующих друг для друга субъектов, не могли быть в полной мере воплощены теоретиками первоначального движения, потому что они слишком тесно связали себя с предпосылками трудового общества «манчестерского» капитализма.
Аналогичный диагноз основной проблематике социализма ставили, с позиции симпатизирующей критики самое раннее со времени окончания Второй мировой войны. В первую очередь здесь, несомненно, следует назвать работы кружка авторов, собравшихся в послевоенной Франции вокруг журнала Socialisme ou barbarie («Социализм или варварство» (фр.)), важнейшим представителем которого можно считать Корнелиуса Касториадиса92; однако также и предпринятую Юргеном Хабермасом сразу же после падения Берлинской стены попытку отпрепарировать достойное дальнейшего сохранения ядро социализма, несомненно, следует отнести к числу таких усилий в направлении соответствующего эпохе реанимирования первоначальной социалистической идеи93. В отличие от так называемого «аналитического марксизма», который пытается избавиться от вышеназванных проблем, просто представив социализм как чисто нормативную альтернативу либеральным теориям справедливости94, эта другая линия социалистической традиции, наиболее характерным образом представленная Корнелиусом Касториадисом и Юргеном Хабермасом, твердо придерживается мысли, что это учение должно представлять собой теорию, рефлексивно удостоверяющую условия своей собственной возможности и устремленную в практических видах к другой форме жизни. Таким образом, в социалистическом движении стремятся к чему-то значительно большему, нежели просто улучшенная концепция социальной справедливости, имеют в виду достичь чего-то намного большего, нежели только некоторого возможно более убедительного обоснования морального долженствования, потому что ведь, когда используют соотнесенное с будущим понятие движения, всегда ставят также целью сделать, наконец, общество модерна «социальным» в полном смысле этого слова посредством активизирующего высвобождения уже внутренне присущих этому обществу сил или потенциалов. Тот, кто понимает в столь всеобъемлющем смысле вызов, перед которым поставлена сегодня каждая попытка обновления социализма, ввиду его наследственных пороков, коренящихся в эпохе раннего индустриализма, оказывается поставлен перед целым рядом трудноразрешимых проблем, ибо в этом случае всем тем вводящим в заблуждение базовым допущениям в области теории истории или теории общества, при помощи которых ранние мыслители этого движения пытались оправдать выдвигаемые ими самими притязания, требуется некая предметная замена на более высоком уровне универсализуемости. Ни нормативную идею утверждения социальных свобод, ни мысль о некоторой движущей силе, уже представляющей в современном обществе эти свободы, ни также предпосылку поддерживающей собственные намерения социалистов тенденции истории невозможно перенять в той форме, в какой эти идеи были некогда первоначально сформулированы отцами-основателями; скорее, для каждого из трех базовых допущений, которые в своей совокупности вообще впервые конституируют социализм как теорию, практически ориентированную на общественные изменения, необходимо найти теоретическое дополнение, способное выдержать критику прогрессивного сознания нашего времени. Таким образом, если у социализма должно быть будущее, он может быть реанимирован сегодня только в некоторой постмарксистской форме.
Тем самым в общих чертах обрисована задача, которую я хотел бы, по меньшей мере в первом приближении, решить в следующих главах моей работы. Речь должна пойти о том, чтобы найти более абстрактные, более соответствующие нашему времени формулировки для отдельных элементов теории истории и социальной теории классического социализма, способные и в дальнейшем показать оправданность и историческую возможность стремления обращать наши объединенные усилия на расширение уже не наших индивидуальных, а наших социальных свобод. Правда, давая этот первый очерк, я не могу действовать так же, как во второй главе, где я шаг за шагом рассмотрел эти три краеугольных камня социалистической социальной теории; скорее, для того чтобы найти решения этих проблем на более абстрактном уровне, мне придется постоянно переходить от одного базового допущения к другому и обратно, потому что корректива в одной области нередко может быть произведена только при подключении корректив в другой области. А значит, в моей попытке вновь обрести полезную для социализма картину общества и истории, как и всегда, все связано со всем, ни одну предпосылку наследованного от традиции и устаревшего фонового воззрения не удастся в достаточной степени изменить без изменения двух других его предпосылок.
Тем не менее мне представляется целесообразным начать эту теоретическую актуализацию социализма с того пункта, в котором я уже ранее приступил к реконструкции его социально-теоретических предпосылок; ибо в конечном счете намерение указать тот локус в обществе модерна, где социальная свобода найдет для себя в будущем институциональное место, составляет ключевой момент во всех практических усилиях первоначального социалистического движения. Как мы видели, все без исключения мыслители этого движения разделяют убеждение в том, что социальная причина сугубо индивидуалистического понимания свободы, а тем самым и внутреннего раскола в системе легитимации нового, либерального строя заключается в поведенческом принуждении, оказываемом системой хозяйства, заставляющей всех своих участников следовать только собственным интересам и, соответственно, рассматривать каждого своего партнера по интеракции сугубо как своего конкурента. Хотя вначале еще остается значительная неясность относительно того, как следует понимать в частностях утверждающееся как раз теперь с большим динамизмом рыночное хозяйство — некоторую ясность внесет здесь впоследствии только Маркс своим анализом капитализма95 — однако социалисты все же едины между собой в том, что требуется радикальное преодоление индивидуализма, в первую очередь в хозяйственной сфере, если намерение примирить свободу и братство, а тем самым — сделать общество «социальным» должно вообще иметь виды на успех. В этом отождествлении подлежащей созданию солидарности с измененной системой хозяйства, социальной свободы — с кооперативной экономикой следует видеть причину того, что в социализме уже вскоре после его возникновения могли видеть (как извне, так и изнутри движения) только лишь программу экономической политики, поскольку в социалистическом движении господствовало убеждение, что силы нарастающей десоциализации и индивидуализации коренятся исключительно в новом, капиталистическом строе хозяйства, отсюда без обиняков заключали, что с заменой в одном лишь этом месте индивидуальной свободы свободой социальной уже были бы созданы также все необходимые предпосылки для установления солидарных отношений между членами общества. В обозначенном здесь умозаключении, имеющем определяющее значение для традиционного социализма в целом, следует, с моей точки зрения, сделать два независимых друг от друга пересмотра, если мы хотим вновь сделать его устремление плодотворным для нашего времени. Первый пересмотр касается характера развитых теоретиками уже в то время представлений о перестройке хозяйственной системы (1), второй — общего замысла мыслить свободы будущего солидарного общества вообще только лишь в категориях социальной свободы, имеющейся в экономической сфере (2). В этой главе я обращусь к анализу первой из этих двух необходимых поправок, с тем чтобы затем в следующей, четвертой главе рассмотреть вопрос о свободном строе будущего, именуемого «социалистическим» общества. Затем в ходе этих двух обсуждений выяснится, что коррективы в пределах этого хозяйственно-политического средоточия первоначального социализма делают одновременно необходимыми также изменения в двух других его теоретических предпосылках, а значит, как в его понятии истории, так и в его глубинной модели общества.
Может быть, о самых первых социалистах еще можно сказать с некоторым герменевтическим благоволением, что они понимали свои наброски как экспериментальные пробы пространства свободы, которое могла бы предоставить вновь возникшая среда рынка для расширения солидарных и кооперативных отношений между его участниками; во всяком случае, инициативы Оуэна по учреждению производственных товариществ и разрабатывавшиеся преимущественно во Франции планы обеспечения при помощи центрального банка честного распределения стартового предпринимательского капитала, идущего во благо прежде всего низшим слоям населения, направлены, в сущности, на то, чтобы превратить трудящиеся массы в форме самоуправляющихся кооперативов в сильных игроков на рынке, нормативно сдерживаемом мерами ценового регулирования и правовыми нормами. Если бы мы захотели использовать здесь понятие, вошедшее в оборот лишь намного позже, то сказали бы, что здесь речь шла преимущественно о стремлении при помощи «рыночно-социалистических» мер самого разного рода создать в экономической сфере предпосылки для социально понимаемой свободы96.
Хотя ретроспективно ввиду той резкости и брутальной динамики, с которой собственники капитала уже тогда начинали отстаивать свои интересы по сбыту товаров, это может показаться несколько наивным, однако это отличалось не только шармом смелого почина, но и имело преимущество установки learning by doing (учимся, делая (англ.)); участникам событий еще не было вполне ясно, с какой хозяйственной системой имеют дело их политико-интелллектуальные работы — скорее, несмотря на свою безграничную веру в закономерный прогресс, направленный к социализму, они вынуждены были испробовать сначала на практике, какую моральную нагрузку сможет выдержать рынок. Этот подход в пределах раннего социализма, еще заслуживающий, быть может, названия «экспериментального» подхода, принципиально изменяется только с появлением на арене Маркса, ибо молодой эмигрант уже вскоре начинает отстаивать, в споре со своими соратниками точку зрения, согласно которой рынок в той форме, которую он к тому времени получил, представляет собой целый ансамбль общественных отношений, из которого нельзя произвольно вычленять отдельные субъекты, руководствуясь при этом моральными представлениями. В качестве существенных элементов этой новой общественной формации Маркс — определенно самый одаренный экономист среди всех ранних социалистов — понимает наряду с отношением обмена, регулируемым законом спроса и предложения, частнокапиталистическое распоряжение средствами производства с одной стороны и принципиальное отсутствие собственности у создающего стоимости пролетариата с другой; по его мнению, все эти три элемента вместе взятые должны составлять неразрывное единство, «тотальность» в гегелевском смысле, которую он уже в своих ранних работах начинает обозначать термином «капитализм». Затем в работах Маркса лишь изредка встречаются намеки на возможность того, что капиталистический рынок все-таки в конечном счете представляет собой, быть может, не жестко сформировавшееся единство, а пребывающую в постоянных изменениях, допускающую изменения формацию институтов, возможность реформирования которой еще предстоит испытать при помощи повторных экспериментов97.
Однако в сущности Маркс вследствие своих категориальных маневров, обусловленных гегелевским мышлением о тотальности, так прочно связывал рынок в многообразии его исторических форм с капитализмом, что еще долгое время после его смерти в социалистическом движении оставалось невозможным мыслить альтернативную социалистическую форму хозяйства иначе, чем как совершенно нерыночную экономику; поскольку же, в свою очередь, казалось, что для определения этой альтернативной формы хозяйства в распоряжении теоретиков имеется только модельный образ управляемого из единого центра планового хозяйства, эти теоретики были даже вынуждены представлять себе внутренние отношения в таком хозяйственном строе по образцу вертикального отношения всех акторов к вышестоящей инстанции, хотя, согласно первоначальной интуиции, производители должны были бы поддерживать горизонтальные отношения друг с другом. А потому, сколько бы заслуг перед социалистическим движением ни имел марксовский анализ капитализма, давший этому движению систематически связную экономическую теорию, которая отныне должна была конкурировать с классической политической экономией, все же совокупность тотализирующих черт этого анализа оказала на это движение неблагоприятное влияние, ибо своим представлением, будто капитализм образует единую общественную систему, в которой рынок в силу внутренне присущих ему императивов сбыта имеет тенденцию к постоянной экспансии, Маркс лишил социалистов любой возможности рефлектировать о других институциональных путях обобществления хозяйства, кроме централизованной плановой экономики.
Безусловно, сегодня капиталистический рынок вновь являет нам картину, которая, казалось бы, в точности соответствует всем предсказанным Марксом тенденциям развития; не только старый промышленный пролетариат и новый пролетариат сферы услуг лишен любых перспектив долгосрочной занятости в рамках социально защищенных трудовых отношений, а финансовый доход от ренты с капитала оказывается столь высоким, каким он редко бывал прежде, так что различие в уровне дохода между немногими имущими и большой массой населения неизмеримо увеличилось; скорее, в наши дни также и публичные секторы экономики все в большей мере подчиняются принципу экономической рентабельности, так что, казалось бы, постепенно сбывается прогноз Маркса о «реальном подведении» всех сфер жизни под категорию капитала98. Однако в истории капиталистического рыночного общества это отнюдь не всегда было так; кроме того, это отнюдь не должно оставаться так с исторической неизбежностью. Поэтому важнейшая задача для тех, кто желает вдохнуть новую жизнь в социалистическую традицию, заключается в том, чтобы вновь оспорить предпринятое Марксом отождествление рыночного хозяйства и капитализма, чтобы таким образом получить свободное пространство для проекта альтернативных способов использования рынка. Если мы еще раз подумаем об исходной интуиции социализма, согласно которой обещания Французской революции необходимо исполнить посредством институционализации социальной свободы в экономической сфере, то для подобной горизонтальной деятельности, сотрудничества и взаимного восполнения хозяйственно занятых в нашем распоряжении имеется, в принципе, три экономические модели. Прежде всего, это рынок, как представлял его себе Адам Смит, когда интерпретировал закон спроса и предложения как механизм invisible hand (невидимой руки (англ.)), посредством которого должно быть возможно взаимно дополнять экономические интересы равноправных и благонамеренных граждан99; затем это достопочтенный образ «союза свободных производителей», который очевидным образом подразумевает, что трудоспособные члены общности при посредстве демократического самоконтроля самостоятельно организуют свои хозяйственные задачи и управляют их решением; и наконец, реализацию социальной свободы в сфере хозяйства мы можем представлять себе также так, что граждане в порядке демократического волеизъявления поручают государственному органу регулировать процесс хозяйственного воспроизводства и осуществлять надзор за ним в интересах общественного благосостояния100. Ни одна из трех очерченных таким образом моделей не заслуживает того, чтобы быть попросту отставленной в сторону подвергнутым радикальной ревизии социализмом — напротив: поскольку все они разделяют то элементарное представление, что аллокация пригодных средств для удовлетворения разделяемых всеми потребностей должна быть доверена самим акторам, которые при равных шансах на участие могут понимать сами себя как действующие друг для друга, эти модели следует рассматривать как равные по достоинству альтернативы капиталистическому рынку. В этой связи, конечно, не стоит забывать о том, что Смит первоначально намеревался характеризовать рынок как институт хозяйства, в котором заинтересованные в собственной выгоде субъекты встречают друг друга с благожелательным чувством в отношении обоснованных интересов других101. Однако если все эти три модели являются возможными кандидатами для институциональной реализации нормативного намерения осуществить в пределах хозяйственной сферы социальную свободу, то не может быть принято какого-либо аподиктического, недоступного для проверки предварительного решения о выборе между ними. Скорее, обновленный социализм должен в таком случае предоставить ответ на вопрос, какой из трех принципов управления — рынок, гражданское общество или демократическое правовое государство — мог бы оказаться наиболее пригодным для цели реализации социальной свободы в сфере хозяйства, только осуществляемым на практике экспериментам. Однако, прежде чем я смогу проследить далее эту экономическую нить моих рассуждений, я должен вначале подвергнуть принципиальной ревизии второй краеугольный камень классического социализма; ибо идея расширения простора для социальной свободы в сфере хозяйства благодаря экспериментальному изысканию адекватных форм ее институционального воплощения несовместима с разделяемым социалистами от Сен-Симона вплоть до Карла Маркса представлением, согласно которому человеческая история совершается в форме закономерного прогресса.
Как я уже вкратце упоминал в главе II, еще Джон Дьюи высказал против социализма в его традиционном виде возражение, что социализм неспособен дать экспериментальное понимание процессов исторических изменений. А именно, как говорит Дьюи, если предполагается, что форма следующей ступени в историческом развитии уже заранее предопределена, а значит, что за капиталистической общественной формацией с неизбежной необходимостью последует уже заранее определенная социалистическая формация, то не существует более совершенно никакой надобности в том, чтобы путем изучения уже наличествующих в настоящем потенциалов выяснять, какие меры были бы пригодны для достижения желаемых усовершенствований102. Это возражение имеет не просто корректирующую функцию, но принципиальный характер; оно должен обращать наше внимание на то, что с предпосылкой исторических закономерностей принципиально несовместим интеллектуальный метод экспериментального выявления пространства для целенаправленных изменений, ибо высказывания о мерах, которые должны быть приняты для достижения общественного прогресса, [можно] понимать или как результат объективного познания исторических законов, или же как результат направляемого практикой выявления ситуативно детерминированных возможностей для направленных изменений. Правда, подобное экспериментальное понимание истории, в соответствии с которым исторический процесс на каждой своей ступени готовит все новые и новые потенциалы для улучшений, которые всякий раз еще только подлежат выяснению, в свою очередь, также нуждается в критерии того, что в данной конкретной ситуации может считаться улучшением — ведь та или иная определенная данность может рассматриваться как «потенциал», только если прежде, по крайней мере в общем виде, будет определено, для чего именно она должна представлять собой пригодное орудие.
Джон Дьюи оперирует здесь весьма спекулятивным представлением, отдаленно напоминающим о Гегеле, которое, однако, удивительным образом обнаруживает столь значительное родство с исходной социалистической идеей о социальной свободе, что оно может послужить нам первым указанием на решение возникающей здесь проблемы, ибо в качестве нормативной путеводной нити при поиске того, что может представлять собой в том или ином случае наиболее всесторонний ответ на ситуацию, рассматриваемую как социально проблематичная ситуация, согласно Дьюи, нужно понимать идею устранения барьеров, стоящих на пути непринужденной коммуникации членов общества в целях разумного решения проблем103. К допущению нормативного преимущества подобного кооперативного, совершающегося на началах социальной свободы решения трудных ситуаций Дьюи приходит на основе рассуждений, далеко уклоняющихся в область натурфилософии, а потому говорящих кое-что о характере той эволюционной силы, на которую может опереться усовершенствованный социализм, если он желает понимать сам себя не только как выражение некоторого морального долженствования, но и как выражение некоторой исторической тенденции. Исходный пункт далекоидущих рассуждений Дьюи составляет тезис о том, что «ассоциативное» или «общностное» поведение составляет основную черту всего данного постольку, поскольку развитие вообще совершается только в форме высвобождения и реализации имеющихся потенциалов через вступление поначалу изолированных «отдельных вещей» во взаимный контакт. Те еще не раскрытые и, следовательно, будущие возможности, которые заключены в данных феноменах, находят осуществление, только если эти феномены начинают вступать в коммуникацию друг с другом. Обрисованная в этом виде тенденция всего действительного к высвобождению скрытых возможностей через «интеракцию» между теми или иными элементами и, таким образом, к созданию новых реальностей имеет место на всех ступенях данного и потому распространяется от физического через органическое вплоть до «ментального». Правда, затем высшую ступень в этом расслоении действительности занимает для Дьюи «социальное», потому что здесь благодаря «специфически человеческим формам группировки»104 в очередной раз увеличиваются богатство и рафинированность высвобождаемых потенциалов, ибо теперь, на эволюционной ступени социального, интерактивная основная черта всякой реальности приобретает особое качество опосредованной значениями коммуникации, так что теперь то, что уже прежде могло быть высвобождено как потенциал, может быть еще раз наделено дополнительными значениями, а тем самым и множество его может быть во много раз увеличено. Впрочем, согласно Дьюи, для этой высшей ступени действительности также должно иметь силу то, что проявилось уже на предыдущих ее ступенях, а именно, что потенциалы могут высвобождаться и реализоваться тем в большей мере, чем более беспрепятственно отдельные элементы могут вступать в интеракцию друг с другом; и наконец, Дьюи считает возможным заключить отсюда, что в человеческих общностях как особой сфере действительности заложенные в них возможности могут быть полностью реализованы только в том случае, если все члены этих общностей смогут по возможности наиболее беспрепятственно и непринужденно участвовать в характерной для них опосредованной значениями коммуникации.
Однако то, что эта основная черта «социального» — возможно более неограниченная коммуникация членов общества между собой — действительно составляет некую «силу» в общественной действительности и тем самым порождает в ней известную историческую тенденцию, это обусловлено, по убеждению Дьюи, другим, не зависящим от предыдущего обстоятельством. Каждая общественная группа, бывшая до сих пор исключенной из процесса интеракции, должна со временем, согласно его взгляду, сформировать у себя стихийную заинтересованность в своем включении в процессы общественной коммуникации, потому что изоляция и разобщенность всегда несут в себе угрозу утраты внутренней свободы, остановки непринужденного процветания и роста, поэтому, с точки зрения Дьюи, регулярно повторяющиеся возмущения социальных групп против их исключения из всеохватывающей интеракции есть именно то в человеческой истории, что заботится в ней о том, чтобы структура неограниченной коммуникации, лежащая в основе всего социального, шаг за шагом обретала действительность в общественной жизни105. Если отсюда мы вернемся к вопросу о том, что, может считаться критерием для улучшений в процессе экспериментального выявления пригодных решений для ситуаций, которые все общество воспринимает как проблематические, то ответ Дьюи на этот вопрос имеет, стало быть, методологический характер. После всего изложенного кажется, будто он хочет сказать: социально-исторические эксперименты приводят к тем более оптимальным, устойчивым решениям, чем более полно акторы, затронутые той или иной конкретной проблемой, вовлечены в ее изучение, ибо со снятием каждой следующей границы для коммуникации возрастает также и способность соответствующей общности воспринимать возможно большее число остающихся пока что не использованными потенциалов, пригодных для продуктивного решения возникшей трудности. Если из соображений наглядности кратко перевести это методологическое представление на язык гегелевской философии объективного духа, то оно гласит: прогрессивные изменения в социальной сфере мы можем вообще измерять только тем, освобождают ли те или иные происходящие изменения их носителей — соотнесенных друг с другом субъектов — от вменявшихся им ранее зависимостей и сугубо внешних определений, которых сами они не могут одобрить; если социальное изменение институционального строя некоторого общества удовлетворяет только что обозначенному условию, а значит, если оно создает эмансипацию от ограничений, препятствовавших прежде равноправному участию всех в самоконституировании общества, тогда, согласно Гегелю, оно может считаться ступенью в процессе всестороннего осуществления свободы106. Поэтому для Гегеля также, если можно так сказать, «улучшения» в общественной сфере возникают в результате шагов по преодолению барьеров, препятствующих непринужденной коммуникации членов общества друг с другом с целью возможно более разумного выяснения и установления правил их общежития. Между тем для нашей проблемы — намерения заменить в историческом самосознании движения социализма господствовавшую до сих пор веру в закон неким историческим экспериментализмом — эти, казалось бы, далекие от нее размышления дают больше, чем представляется на первый взгляд, ибо разделяемое Дьюи и Гегелем представление, согласно которому в качестве мерила социальных улучшений может выступать только освобождение от барьеров для коммуникации и сдерживающих интеракцию отношений зависимости как соображение более высокого порядка наделяет нас теоретическим инструментом, при помощи которого идея социальной свободы может быть понята одновременно и как исторический фундамент, и как критерий деятельности понимающего себя в экспериментальном духе социализма107.
Чтобы суметь представить в приемлемом виде эту звучащую поначалу несколько несуразной мысль, необходимо предварительно еще раз вкратце напомнить о понимании истории, которое было свойственно раннему социализму. В этом понимании, как мы видели, собственная соотнесенная с будущим теория социализма рассматривалась либо как осознание неизбежного прогресса человеческих производительных сил, либо как осознание современного состояния столь же закономерно стремящихся вперед классовых битв; и в обоих случаях в качестве социального представителя этого осознания ставшего теперь необходимым перехода к более высокой, исторически адекватной общественной формации теоретики понимали пролетариат, которому без обиняков приписывали объективный интерес к вышеназванным изменениям. Однако после того, как обе фоновые достоверности — предпосылка закономерного прогресса и предпосылка революционного пролетариата — разрушились в самих себе и даже с очевидностью обнаружили себя как научные фикции эпохи индустриальной революции, социализм неизбежно подвергся опасности остаться без какой-либо подстраховки в содействующей прогрессу тенденции истории, которая могла бы дать социальную опору его нормативным требованиям; но тем самым социализм грозил превратиться (и эта угроза сохраняется вплоть до наших дней) в сугубо нормативную теорию справедливости среди многих других подобных теорий, вынужденную понимать свои требования только как апелляцию к некоторому долженствованию (Appell an ein Gesolltes), но не как выражение так или иначе уже наличного воления (irgendwie bereits Gewolltes)108. Чтобы избежать этого неприятного положения, которое, по сути дела, означало бы закат социализма в качестве теории, понимающей саму себя как выражение известной исторической тенденции, необходим поиск альтернативной формы укоренения социализма в истории. Тот из соратников социализма, кто считает возможным обойтись без такого рода поиска и видит в нем только излишние спекуляции, тот, в сущности, уже признал тем самым, что в будущем мы сможем обойтись в нашем морально-политическом самосознании также и без какого бы то ни было образа социализма. Что же касается самой этой альтернативы, то в описанной мной выше мысли Джона Дьюи (и Гегеля) заключается, на мой взгляд, наилучшая возможность того, каким образом социализм мог бы на более высокой ступени абстракции еще раз удостовериться в наличии той силы в историческом процессе, которая поддерживает его собственные требования. К такому выводу меня побуждает предположение, что развитая Дьюи идея пронизывающего всю человеческую историю движения преодоления границ для коммуникации и социальной интеракции значительно похожа на то представление, которое ранние социалисты полагали возможным перенести на сферу экономики, ибо преследуемая ими цель — устранить блокировку в равномерной реализации всех трех принципов Французской революции благодаря созданию в сфере хозяйственной деятельности условий социальной свободы, не означает в конце концов ничего более, кроме поиска решения для задачи преодоления возникшей (и воспринимаемой как нормативное препятствие) противоположности между индивидуальной свободой и солидарностью в дальнейшем устранении границ для социальной коммуникации. Ни у какого другого мыслителя раннего социализма сознание того, что социалистическое движение представляет собой попытку продолжения принципа устранения барьеров для социальной коммуникации, определяющего собой всю историю в целом, не было выражено более отчетливо, чем у Прудона, испытавшего влияние Гегеля. В одном месте его сочинений говорится, уже совершенно в духе Дьюи, что в качестве движущей силы всего общественного развития и даже всякого живого роста вообще, следует понимать тенденцию выражения пар противоположностей (Reziprozitäten) в постоянно более и более всеобъемлющей, а тем самым — все более и более освобожденной от внутренних границ форме109.
Если в основу социализма полагается подобное историческое самопонимание, то он уже не может отныне рассматриваться как артикулированное сознание социальных изменений, которые должны быть проведены как закономерное следствие ушедшего сегодня в своем развитии далеко вперед и не поддающегося социальной реализации потенциала развития производительных сил; его нельзя также отныне понимать — как иногда понимал его Маркс — в качестве рефлексивного органа самого передового в каждую эпоху состояния классовой борьбы, если под классовой борьбой понимается последовательность закономерно сменяющих друг друга конфликтов между коллективами с устойчивыми, на первый взгляд, интересами. Вместо этого социализм нужно рассматривать как специфичную для эпохи модерна артикуляцию того факта, что в историческом процессе всякий раз новые, варьирующие в зависимости от социальных условий группы предпринимают усилия для того, чтобы публично заявить свои игнорируемые прежде притязания, пытаясь уничтожить коммуникативные барьеры и, соответственно, расширить пространство социальной свободы. «Борьба» такого рода, безусловно, проходит через всю историю человечества и продолжается до наших дней, ведь в ходе расширения социального общения и нарастания политических контактов различным по своему составу коллективам то и дело приходилось на собственном опыте узнать, что их нужды еще не получили никакого отражения в форме социальной организации, «производственных отношениях», и тогда всякий раз единственная возможность, которой располагали эти группы, чтобы завоевать общественное признание своих претензий, заключалась в том, чтобы, ссылаясь на уже имплицитно признанные нормы, принуждением добиться для себя права на соучастие в установлении социальных правил, а тем самым достичь устранения еще одного ограничения для социальной коммуникации. Если социализм ретроспективно видит себя помещенным в так понимаемый процесс борьбы за признание, то свое собственное возникновение он должен понимать как тот момент, когда в пределах общественного строя модерна, нормативно удостоверенного Французской революцией, было осознано то, что законные нужды трудящегося населения могут быть удовлетворены только при условии сноса коммуникативных барьеров в экономической сфере. В минуту рождения социалистического движения выяснилось, что частнокапиталистическая организация рынка есть именно то социальное учреждение, которое стоит на пути у стремления сделать так, чтобы все слои населения могли получать одинаковую выгоду от достигнутого прежде устранения существовавших прежде отношений зависимости и непрозрачных гетерономий. Но социализм, конечно, не мог бы остановиться на апелляциях к одному этому мгновению, если он действительно хотел видеть в самом себе ту рефлексивную инстанцию, которая в рамках вновь возникшего общественного строя модерна заставляет осознать силу социальной коммуникации, пронизывающую всю человеческую историю, потому что в условиях модерна для групп каждый раз различного социального состава должны были то и дело обнаруживаться новые и новые барьеры, мешавшие им пользоваться институционализированными обещаниями свободы, равенства и братства. Скорее, социализму приходилось бы словно странствовать вместе с результирующими из этих барьеров социальными конфликтами, чтобы каждый раз заново предлагать свои услуги участникам этих споров в качестве адвоката справедливого требования включения их в социальную коммуникацию. Претензия на «социальное», за которую социализм выступает уже по самому своему названию, представляет в обществах модерна общее стремление устранить все социальные преграды, могущие стоять на пути у практического воплощения свободы в солидарной деятельности друг для друга (im solidarischen Füreinander); а до тех пор, пока не достигнута эта нормативная цель, которая представляет собой нечто большее, чем только требование «долженствования», поскольку в ней находит выражение определяющий структурный принцип всего социального110, так понимаемый социализм не утратит своего права на существование. Он — местоблюститель требований социального в таком обществе, в котором односторонняя интерпретация базовых принципов легитимации то и дело позволяет преследовать под прикрытием индивидуальной свободы сугубо частные интересы и тем самым нарушать нормативное обещание братства.
Прежде чем приступить в следующей главе к тому, чтобы сделать выводы из этого расширенного понимания социализма а также исходной для него идеи социальной свободы, я хотел бы, однако, продолжить логическую нить своей аргументации начиная с того места, где я оставил ее ранее, перед отступлением об историческом значении «социального». Мы видели, что для социализма после исчезновения его исконной веры в закон вовсе не может считаться заранее установленным, каким именно способом социальные свободы могут быть скорее всего и лучше всего реализованы в пределах экономической сферы; скорее, поиск этих способов нужно предоставить экспериментальному процессу постоянного изыскания совершенно различных идей, которые все вместе взятые должны отличаться поначалу лишь тем свойством, что они очерчивают возможности, как создание экономических стоимостей может быть организовано не в форме частнокапиталистического по характеру рынка, но при помощи институциональных механизмов кооперативной деятельности друг для друга. Кроме того, ничто в этом процессе экспериментального поиска категорически не исключает того, что вследствие полученных в каждое следующее время знаний может оказаться целесообразным, смотря по характеру достигаемого экономическим путем удовлетворения потребностей иметь в виду различные модели макроэкономической деятельности, а значит, исходить в процедуре тестирования из возможности создания смешанных систем хозяйства; только в подобном экспериментальном моделировании различных комбинаций ведущей должна оставаться мысль о том, чтобы сделать максимально возможным в рамках хозяйственной сферы «социальное» в том смысле, что здесь все участники общности могут в процессе взаимно дополняющей активности удовлетворять потребности друг друга без барьеров влияния или принуждения.
Впрочем, такому социализму должно быть ясно, что он может надеяться на поддержку в экспериментах такого рода только в той мере, в которой удастся убедительно показать, что капиталистическая система хозяйства в своих принципиальных чертах вообще еще может быть изменена и даже, может быть, устранена; поэтому естественным врагом социализма — точно так же, как во времена Маркса — по-прежнему остается официальная, распространенная на академических кафедрах теория хозяйства, вот уже двести лет пытающаяся оправдать капиталистический рынок в качестве единственного эффективного средства координации экономической деятельности в условиях роста населения и соответствующего прироста потребностей. Сегодня одна из самых насущных задач социализма состоит в том, чтобы снова очистить понятие рынка ото всех добавленных к нему задним числом примесей специфичных для капитализма свойств, чтобы таким образом получить возможность проверить его устойчивость к моральным нагрузкам111. Такая затея, к воплощению которой уже приступили такие авторы, как Карл Поланьи, Амитай Этциони и Альберт Хиршман, должно начать с того112, чтобы отличить друг от друга различные рынки с точки зрения обмениваемых на них товаров и для каждого из них проверить, в одинаковой ли степени все они подходят для анонимного ценообразования при посредстве спроса и предложения, если эти товары удовлетворяют потребности чрезвычайно различной житейской необходимости. Однако деконструкция господствующей рыночной идеологии не может останавливаться на этом первом шаге, потому что аналогичным же образом не может считаться выясненным и то, почему вообще одна лишь собственность на средства производства должна служить оправданием претензии на доходы от капитала, получаемые при помощи этих средств, ведь экспоненциальный рост таких доходов совершенно не может иметь своим достаточным основанием соответствующую работу (Leistung); здесь мы можем опираться на работы Фридриха Камбартеля, который уже много лет назад предпринял категориальные усилия для того, чтобы показать несовместимость легитимационных оснований рынка с существованием ренты с капитала и обусловленных спекуляцией прибылей113. Вообще, наблюдая такие философские рефлексии о категориальном арсенале официальной теории хозяйства, как нестрого используется в них постоянно привлекаемая для решающего оправдания капиталистических рынков категория экономической эффективности, а именно при этом нелегально отождествляют чисто количественные рассуждения о возможно более высокодоходной реализации капитала с качественным пониманием производительности, в котором рисуется перспектива прироста совокупно-общественного благосостояния114. У всех этих деконструкций господствующих теорий хозяйства есть та общая черта, что они пытаются разрушить глубоко укоренившееся представление, будто функционирование рынков изначально ориентировано на наследуемую собственность на средства производства, и будто рынки поэтому могут существовать с некоторыми видами на успех только в своей частнокапиталистической форме; по-видимому, если проводить такое «расколдование» с достаточной последовательностью, то и некоторые другие свойства рынка окажутся сугубо искусственными прибавками, произведенными заинтересованной стороной в целях легитимации рынка в его теперешнем виде: почему, например, мы должны считать чем-то само собою разумеющимся понимание рынка как системы побуждений, если с психологической точки зрения совершенно неясно, действительно ли перспектива роста доходов мотивирует человека к повышению результативности115, или почему на финансовом рынке должны допускаться спекулятивные прибыли от валютных операций, которые очевидным образом не приносят какой-либо пользы для реального сектора хозяйства, а тем самым и для совокупного общественного блага?
Ставить подобные вопросы, безусловно, должен социализм, который вследствие изменения своего самосознания уже не может быть уверен в том, как именно может быть наилучшим образом реализована его нормативная задача — создание социальной свободы в экономической сфере. Институт рынка следует разложить на его отдельные элементы, отнюдь не так уж неразрывно связанные между собой, чтобы можно было заново радикально проверить, в какой степени рынок пригоден для воплощения кооперативных форм координации хозяйственной деятельности в условиях чрезвычайно сложных констелляций потребностей. В ходе этой проверки ничто не должно рассматриваться как якобы очевидным образом запрещенная мысль, так что теоретически очень даже следует рассматривать, как игровую возможность, проблематизацию права наследования, равно как и поручительское товарищество производителей116. Впрочем, подобные мысленные эксперименты могут оказаться полезными для обновленного социализма лишь в той мере, в какой их можно действительно понимать как целенаправленно проводимые тесты для выяснения возможностей распространения социальной свободы в экономической сфере. Даже если приходится по принципиальным соображениям отказаться от намерения достичь какой бы то ни было достоверности относительно социалистической формы хозяйства как конечного состояния, этот отказ не должен доходить до того, чтобы в результате вообще стирались очертания той цели, которую мы перед собой поставили, той end in view (цели в поле зрения), как сказал бы Джон Дьюи117, поэтому необходимо рассматривать как ценные и полезные в процессе экспериментального моделирования институциональных моделей все предложения, сознающие так или иначе свою связь с нормативной целью — эмансипировать занятых в хозяйстве людей от принуждения, опеки и зависимости настолько, чтобы они оказались способны понимать собственную роль как добровольный взнос в (достижимое только на началах взаимности) решение задачи равномерного удовлетворения потребностей всех членов общества. Как то уже было сто лет назад, когда уже велись однажды оживленные дискуссии о желательности и реализуемости «огосударствления» или «социализации» частной собственности на средства производства118, решающим при преследовании этой ближайшей цели по-прежнему является вопрос о том, достижима ли постепенная эмансипация находившихся до сих пор в зависимости занятых только в связи с юридической экспроприацией частной собственности на капитал, или же также и при сохранении существующих форм собственности, а значит, путем целенаправленной маргинализации частного распорядительного правомочия (gezielte Marginalisierung privater Verfügungsmacht). В настоящее время для обеих альтернатив — представлений рыночного социализма, с одной стороны, и идей «социализации» рынка снизу путем введения гарантированного основного дохода и демократических контрольных инстанций, с другой, — имеется ряд проверенных в ходе мысленных экспериментов моделей119. Однако, как было сказано, различение между этими альтернативами не может оставаться делом сугубо теоретических соображений; скорее, здесь постоянно вновь и вновь нужно вести трудную работу по завоеванию пространств свободы и социальных ниш, в которых можно с учетом принципа сохранения уже доказавших свою пригодность практик, принципа minimum mutilation120, проводить тесты в реальных условиях на предмет выяснения того, какие из альтернативных моделей могут скорее всего привести нас к той цели, которую мы перед собой поставили.
Дело в том, что из логики исторического экспериментализма следует, что являющиеся поначалу только мысленными рекомбинации и проекты имеют тем большую значимость для практико-политической ориентировки, чем чаще их возможно подвергать проверке в условиях реального хозяйства. Поэтому обновленный социализм должен, во-первых, иметь внутренний архив всех уже ранее предпринятых в прошлом попыток дальнейшего обобществления хозяйственной сферы, чтобы получить таким образом своего рода «заметку на память» о том опыте, который уже был накоплен ранее относительно преимуществ и недостатков тех или иных практических мер121. Спектр исторических свидетельств, которые необходимо хранить в этом архиве, должен был бы простираться от документов о рано начавшихся экспериментах с производственными и потребительскими кооперативами, включая возможно более полную фиксацию разветвленной «дискуссии о социализации» после Первой мировой войны и предпринятых тогда в Вене и в других городах опытах социалистического жилищного строительства, и вплоть до сообщений о стараниях профсоюзов в направлении «гуманизации труда» — чем больше исторических документов будет собрано в таком архиве, тем обширнее будет фонд знания о том, какие мероприятия уже оказались тупиковыми ранее, а какие могли бы раскрыться перед нами в будущем как перспективные пути социального преобразования рынка122. Однако это еще не все; подобный обновленный, понимающий себя в экспериментальном смысле социализм, конечно, постоянно вынужден также производить обзор предпринимаемых в настоящее время практических испытаний альтернативных форм хозяйства и даже, может быть, будет более точно сказать, что он должен был бы становиться моральным адвокатом подобных политико-практических предприятий всюду, где в самом деле есть обоснованная надежда, что с их помощью удастся протестировать возможность расширения социальной свободы в рамках экономического сектора. Уже сегодня тем условиям, которым непременно должны удовлетворять подобные эксперименты в реальных условиях, в социальной действительности соответствует большее число хозяйственных практик, чем может показаться на первый взгляд. Как убедительно показал Эрик Олин Райт в своей книге Envisioning Real Utopias («Предвидя реальные утопии» (англ.))123 сегодня можно обнаружить множество хозяйственно-политических инициатив, от кооперативов в баскском городе Мондрагон до канадского фонда солидарности рабочих, которые происходят из духа понимающего себя в экспериментальном смысле социализма.
Кроме того, как ясно показывают все эти рассуждения, уже давно было бы ошибкой видеть в социализме только интеллектуальное выражение нужд промышленных рабочих или тем более рупор всегда уже стремящегося к революции пролетариата. Эта идея жесткой привязки теории к одной-единственной социальной группе с самого начала социалистического движения была результатом голословного вменения объективных интересов, и с тех пор она была осязаемо опровергнута как структурными переменами в статистике занятости, так и разложением рабочего движения; ностальгически оплакивать ее и предпринимать отчаянные усилия по ее искусственной реанимации неверно уже и потому, что на неизбежно возникающий вопрос о социальном носителе обновленного социализма следует отвечать принципиально иначе, а именно — на другом уровне абстракции. Если этот социализм видит себя включенным в исторический процесс освобождения от сдерживающих коммуникацию барьеров и отношений зависимости, который он пытается продолжать в изменившихся условиях обществ модерна, то он не вправе представлять себе в качестве воплощения своей основной идеи на каждом этапе только то движение, которое в данный исторический момент наиболее сильно и отчетливо артикулирует жажду такой эмансипации. Фиксация на такого рода движениях, а значит, на рассчитанных на известный отрезок времени организациях специфичного для данных социальных групп протеста, сопровождается не только тем недостатком, что в этом случае движение всегда может представлять только некий небольшой сегмент широкого потока обоснованного опыта гетерономии и социальной эксклюзии; идея «представительства» уже артикулированных интересов, с которой связывает себя социализм, если он понимает себя как орган одного социального движения, противоречит намерению, которое точно так же заявляет социализм: желанию стать рупором еще вовсе не артикулированных интересов бесчисленного множества других людей124. Двойственность всего этого представления, будто мы каждый раз бываем вынуждены искать некоего коллективного носителя нашей собственной теории, становится еще более очевидной, если мы проясним себе кроме того, что социальные движения обязаны своим существованием почти непрозрачным для анализа обусловленным случайными обстоятельствами конъюнктурам, такие движения появляются и исчезают c переменами исторических эпох, а в последнее время также вследствие смены акцентов во внимании СМИ, хотя это вовсе ничего не говорит нам о фактических масштабах гетерономии и унизительных отношений зависимости, существующих в хозяйственной сфере. Скажем, новый пролетариат в сфере услуг в силу изолированности трудовой ситуации его членов и в силу исключенности их из всех форм образования общественного мнения едва ли способен сообща артикулировать свои собственные нужды, а вследствие этого больше не находит себе политического адвоката ни в каком социальном движении, и все же социализм должен рассматривать его как важного адресата своих нормативных целеполаганий125.
Ввиду всего этого нам представляется целесообразным уже в современных условиях раскрывать неизбежно возникающий вопрос о социальном носителе социалистических идеалов, об их общественном воплощении совершенно иначе, чем в прошлом. После того как для Гегеля всемирно-исторические личности, а для марксистской разновидности социализма пролетариат были представителями нового в мире старого, современный социализм уже совершенно не может больше искать таких представителей на конкретном уровне индивидуальных или коллективных субъективностей, потому что это придавало бы чересчур большое значение мимолетному и случайному среди происходящих все быстрее и быстрее изменений. Вместо этого намного рациональнее было бы локализовать реальное явление признаков будущего там, где следовые объемы ожидаемого прогресса в расширении социальных свобод уже нашли свое отражение в институциональных достижениях, в изменении законодательных установлений и ставших уже практически необратимыми сдвигах менталитета. Такие заслуживающие публичного одобрения, прорывы в деле эмансипации от признававшихся до сих пор как данность зависимостей, а значит, все те исторические события, которые Кант хотел интерпретировать как «знаки истории»126, сегодняшний социализм с гораздо большим правом может воспринимать как гарантии осуществимости своих надежд, чем сколь угодно многочисленные выступления социальных движений [на сцену истории]. Стало быть, социальными носителями тех нормативных притязаний, которые пытается заявлять в обществах модерна социализм, следовало бы считать не протестующие субъективности, а ставшие объективными улучшения, не коллективные движения, а институциональные достижения; социализм должен уметь обнаруживать в тех прорывах, которые обретают социальную действительность в подобных достижениях, очертания прогрессивного процесса, свидетельствующего о том, что и в будущем его мечты по-прежнему останутся осуществимыми.
Для сферы экономики, на которой до сих пор я концентрировал внимание в своих рассуждениях, эта смена перспективы означает, к примеру, что в социальном законодательстве начала XX века, в западногерманских правовых нормах, касающихся участия работников в управлении, и в нормативах различных стран о минимальном уровне заработной платы нужно видеть не просто некие случайные события, но первые шаги завоевываемого с немалым трудом прогресса в обобществлении рынка труда, и если мы продолжим эти институциональные прорывы вдоль воображаемой линии в будущее, то для социалиста станет понятно, какие дальнейшие меры потребуются в непосредственно нам предстоящем будущем, чтобы приблизиться к цели реализации социальной свободы в хозяйственной сфере. Впрочем, ни о таком конечном состоянии, ни о промежуточных шагах, ведущих к этому состоянию, никогда не следует думать, будто, смотря в будущее из сегодняшнего дня, их можно уже сегодня раз навсегда зафиксировать, словно на чертежной доске; скорее, в постоянной зависимости от исхода конкретных экспериментов, которые придется проводить каждый раз заново, цели и средства будут непрерывно взаимно корректировать друг друга, так что о желанном конечном состоянии невозможно заранее получить никакого достоверного знания — но именно поэтому нельзя также заранее категорически исключить и того, что та форма хозяйства, которую социализм предвосхищает в понятии социальной свободы, сведется в конце концов к таким отношениям, которые можно осмысленно определить только как «рыночно-социалистические».
Во всяком случае, если в качестве воплощений социалистических требований в действительности понимают уже не социальные коллективы, а институциональные достижения, то для социализма меняется едва ли не все. Отныне как адресаты его полученных в экспериментальной установке знаний рассматриваются уже не члены определенной социальной группы, но все граждане, поскольку их возможно убедить в том, что свою социальную свободу в существенных областях жизни они могут реализовать только в солидарном взаимодействии со всеми другими. Отныне гарантом возможности реализации социализма уже не может быть существование некоторого социального движения, ставящего соответствующие цели, но им должна считаться его нормативная способность и сила добиться уже в теперешних условиях институциональных реформ, указывающих в том направлении, куда устремлен социализм. В таком случае чем большее число правовых реформ и изменений ментальности, в которых уже сегодня обнаруживаются частицы его собственных намерений, может найти в пройденном обществом пути подобный социализм, тем с большей достоверностью он в будущем сможет быть убежден в практической действенности рисуемых им проектов.
Впрочем, тот образ коренным образом видоизмененного социализма, который я начинаю рисовать такими замечаниями, заключает в себе также некую трещину, в которой становится заметно еще одно расхождение между его новыми намерениями и первоначальной концепцией. Это по-прежнему сохраняющееся раздвоение легко обнаруживается, если становится ясно, что старый социализм рассматривал только рабочий класс как адресата его проектов только потому, что в его представлении в будущем уже вовсе не должно быть граждан, ибо в новой общественной системе всякая свобода должна будет реализоваться только в форме хозяйственной кооперации, так что здесь больше не понадобится также никакая другая сфера, в которой бы члены общества действовали не как производители, а именно как citoyens (граждане (фр.))». Если поэтому я только что сказал, что социализм должен обращаться ко всем гражданам, то это не так-то просто согласовать с его первоначальными предпосылками, ибо при этом я в позитивном ключе ссылаюсь на демократическое волеизъявление, которое как таковое, согласно представлениям классического социализма, в будущем уже совершенно не должно более существовать. Это неприятное противоречие можно преодолеть, только если постфактум освободить идею социальной свободы от исключительной ассоциации с экономической сферой — тем самым я перехожу ко второму шагу моей попытки освободить социализм от старой идейной скорлупы, чтобы придать ему новую действенную силу.
Пути обновления (II): идея демократической формы жизни
По-прежнему остается теоретической загадкой, почему ранние социалисты не предпринимали никаких усилий для того, чтобы перенести свое новообретенное понятие социальной свободы также на другие сферы общества. Во второй главе я возложил ответственность за это странное упущение на то обстоятельство, что все авторы только что возникшего тогда социалистического движения видели причину того, что они называли «частным эгоизмом», только лишь в поведенческих императивах капиталистического рыночного общества и поэтому считали необходимым направлять все свои политические устремления исключительно на преодоление этого рыночного общества; не будучи способными угадать хотя бы приблизительно освободительное значение прав человека и гражданина, вызванных к жизни Французской революцией, они видели в них всего лишь дозволение накапливать частный капитал и потому думали, что в будущем социалистическом обществе можно будет совершенно обойтись без этих прав. С тех пор социализм болен неспособностью самостоятельно, при помощи своих собственных концептуальных средств найти подходы к идее политической демократии. Хотя всегда существовали планы некоторой хозяйственной демократии, рабочих советов и аналогичных институтов коллективного самоуправления, однако эти планы соотносились только с экономической сферой уже потому, что принималось допущение, согласно которому в будущем уже совершенно не будет надобности в этико-политическом волеизъявлении народа, а значит, и в демократическом самозаконодательстве. Даже позднейшая, произведенная с некоторой поспешностью прибавка прилагательного «демократический» уже не могла действительно изменить что-либо в этом наследственном пороке первоначального социализма — своего рода экономическом фундаментализме, потому что эта прибавка отнюдь не проясняла, в каком отношении должны находиться друг с другом хозяйственная кооперация в социальной свободе и демократическое волеизъявление; скорее, принимали от либералов в готовом виде понятие демократии, а в остальном на первых порах оставляли все по-старому, так что в результате должна была возникнуть половинчатая формация (Zwittergebilde), в которой совершенно не было никакого идейного единства127. Когда социалисты начали в свое время замечать дефицит демократии в своем движении, намного лучше было бы еще раз поискать в сочинениях поколения основоположников те места, где могло возникнуть это фатальное недоразумение; тогда сразу же пришлось бы столкнуться с тем фактом, что это было связано в конечном счете с их неспособностью приспособить новую, новаторскую идею социальной свободы к осязаемо проявившейся уже к тому времени реальности функционально дифференцирующегося общества и применить ее, произведя соответствующую «развертку», к постепенно автономизирующимся друг от друга социальным сферам.
Итак, вернемся еще раз в минуту теоретического рождения идеи социальной свободы, чтобы задним числом исправить эту ошибку. По существу, понятие социальной свободы было создано ранними социалистами и молодым Марксом с целью устранения острого противоречия, задатки для которого они видели в процессе реализации принципов легитимации нового либерально-капиталистического общественного строя, а именно, того, что в рамках опосредованного рынком хозяйственного обмена утвердился безудержный индивидуализм свободы, обрекавший неимущие слои общества на обнищание, между тем как в то же время между всеми членами общества должна была господствовать не только «свобода», но также «равенство» и «братство». Идея социальной свободы должна была суметь вывести из этой противоречивой ситуации постольку, поскольку в ней, казалось бы, был найден механизм или схема действий, в соответствии с которой реализация свободы одного человека должна быть непосредственно привязана к реализации свободы другого как своей предпосылке. Дело в том, что в соответствующих институциональных мероприятиях индивидуальные цели деятельности отдельных членов общества были тесно связаны друг с другом, так что их непринужденная реализация возможна была только при взаимном согласии и взаимном участии, так что братство стало бы формой актуализации свободы (Vollzugsform von Freiheit), а тем самым то и другое совпало бы в общности равных людей. Отсюда все ранние социалисты, от Луи Блана до Прудона и затем до Маркса, делают вывод, что обнаруженное ими проитворечие, а значит, и существующее неравенство, может быть устранено, только если общество может быть организовано по образцу такой общности, непринужденно дополняющими друг друга в образе своих действий индивидами — вместе с противоположностью между свободой и равенством исчезнет также одновременно и противоположность между бедными и богатыми, потому что каждый член общества должен будет видеть в другом партнера по интеракции, к которому он, уже по соображениям своей собственной свободы, обязан проявлять известную меру солидарного участия.
Однако именно здесь и начинается то, что прежде я назвал загадкой в формировании теории у ранних социалистов. Плодотворная модель социальной свободы, оказавшаяся ключом к возможности мыслить индивидуальную свободу и солидарность как взаимозависимые и уже не как противоречащие друг другу принципы, развивается здесь исключительно в применении к сфере хозяйственной деятельности, и теоретики даже не пытаются принять во внимание то, что она могла бы, возможно, найти применение также и в других сферах деятельности в пределах только что возникающего общества. Если отвлечься от того, что одна существенная причина этого упущения состояла, конечно же, в убеждении, что все беды безграничного индивидуализма проистекают единственно лишь из юридической изолированности индивида в новой рыночной хозяйственной форме, то бросается в глаза его вторая, не менее важная причина — их общая привязка к духу индустриализма. Все отцы-основатели социализма взятые вместе были не в состоянии и даже совершенно не желали отдавать себе отчет в происходящем у них на глазах процессе функциональной дифференциации отдельных сфер общества, потому что все они были убеждены, что интеграция всех сфер общества будет также и в будущем определяться только лишь потребностями индустриального производства. При этом их либеральные предшественники и их интеллектуальные противники давно уже начали заниматься выяснением тех социально-политических последствий, которые — самое позднее начиная с XVIII века — проистекали из различения в мысли и действии отдельных социальных сфер, которые все в большей степени трактовались как подчиняющиеся только своим собственным функциональным законам128. В либеральной мысли уже Гоббс, но еще более заметно Локк и Юм начали обращать внимание на то, что одновременно с дифференциацией «моральности» и «легальности» нужно было отличить друг от друга также и подсистемы «общества» и «государства», каждая из которых, как представлялось, подчинялась собственным закономерностям: в одном случае — более частно-личным, в другом же — скорее, публично-нейтральным. Вразрез с этим и в известном противоречии с первым различением теоретики приступили также к тому, чтобы отделить сугубо частную сферу от сферы публично-всеобщего, чтобы тем самым соответствовать постепенно выкристаллизовывающейся тенденции к формированию брачных и дружеских отношений, основывающихся только на взаимной эмоциональной склонности; и наконец, пребывающая еще в детском возрасте научная дисциплина политической экономии делала энергичные шаги в направлении отделения экономики от государственной деятельности, которое должно было служить не в последнюю очередь той цели, чтобы в будущем опосредованные рынком транзакции оставить свободными от политического вмешательства129. Откликаясь на все эти либеральные дифференциации и систематически перерабатывая их, Гегель выдвинул к тому же в своей философии права предложение о том, как можно было бы различить отдельные сферы деятельности с точки зрения их специфических задач. Согласно этому предложению, право как всеохватывающая среда должно было взять на себя функцию обеспечения частной автономии всех членов общества, семья должна была заботиться о социализации и об удовлетворении естественных потребностей, рыночное общество должно было гарантировать достаточное снабжение средствами к жизни, и наконец, государство должно было осуществлять этико-политическую интеграцию целого130. Даже если среди ранних социалистов, по-видимому, преобладало мнение, что делая эти деления и разграничения, либералы явно переусердствовали, поскольку этим ставился под сомнение голый примат капиталистического хозяйства, им все же нужно было по крайней мере дать какой-то ответ на теоретический вызов, который представляло собою допущение функциональной дифференциации; вместо этого, однако, они проявляли только сугубое непонимание этих либеральных и постлиберальных соображений или же в немногих словах отбрасывали их прочь, как это сделал Маркс в своей знаменитой критике гегелевского государственного права131.
При ближайшем рассмотрении упущение ранних социалистов заключалось в том, что в уже имеющихся диагнозах роста функциональной дифференциации общества они в недостаточной степени отличали их эмпирический уровень от нормативного; затем, относительно современных условий хотя и можно было бы с полным правом возразить, что системная автономизация, скажем, государственной деятельности или сферы частных отношений зашла еще недостаточно далеко, поскольку происходящее в обеих этих сферах все еще в решающей степени определяется экономическими императивами, однако в то же время можно было бы подчеркивать желательность подобной функциональной самозаконности (Eigensinnigkeit) на будущее время132. Однако, поскольку два эти уровня как раз и не были разграничены друг от друга, от эмпирических описаний теоретики незаметно для себя переходили к нормативным констатациям; и подобно тому, как это было в теориях общества до наступления модерна, функционирование обществ (это отчетливо заметно уже у Сен-Симона и не менее очевидно у Маркса) по-прежнему мыслили вертикально исходя из некоторого управляющего центра, только место этого центра теперь должно было занимать не государство, а экономика. Насколько благоразумнее, проницательнее с точки зрения социальной теории, было бы критиковать капиталистические отношения того времени за то, что они не оставляют стремящимся прочь друг от друга сферам деятельности того простора для социальной автономии, который признавали за ними представители либерализма; из перспективы такого рода хотя и можно было бы одобрить тенденцию к функциональной дифференциации, а тем самым отстаивать тезис о том, что, например, любовь и демократическая политика заслуживают того, чтобы для них сделали исключение из системных императивов хозяйства, однако мы по-прежнему чрезвычайно скептически относились бы к возможности действительного осуществления подобного разделения сфер при существующих экономических условиях. Однако вследствие своей неспособности пойти по только что намеченному здесь пути — функциональная дифференциация как задача, но не как социальный факт — социализм с самого же начала оказался в ложном положении в отношении к либеральной традиции: Хотя эта последняя, собственно говоря, никогда не обладала собственной социальной теорией — если не считать разве что таких мыслителей, как Адам Смит и Макс Вебер, — длительное время могло казаться, что она превосходит своего социалистического оппонента даже силой социологического объяснения, только потому, что последний не уделял никакого внимания факту функциональной дифференциации.
Именно эта локализованная в глубинах неспособность ранних социалистов помогает нам также объяснить и то, как могло возникнуть то, что можно было бы назвать их совершенной «юридической слепотой» (Rechtsblindheit). Поскольку вследствие отрицания какого бы то ни было разделения социальных сфер, только что явившиеся на свет универсальные права человека вообще можно было принимать к сведению лишь в той мере, в какой они имели функциональное значение для экономического управляющего центра, социалисты по необходимости совершенно упускали из вида то, какую огромную освободительную роль они могли бы играть вследствие присущего им значения в совершенно иной сфере — сфере политического волеизъявления133. Но в таком случае от ранних социалистов с самого же начала остаются совершенно скрытыми все те потенциалы освобождения от коммуникативных барьеров, которые порождает институционализация основополагающих либеральных прав. При этом едва ли какая другая мысль напрашивалась сама собой более естественно, чем идея использовать свое самодельное понятие социальной свободы также для того, чтобы прояснить себе вместе с Руссо укорененность этих новых прав в процессе коллективного волеизъявления. А именно: если дело обстояло так, как было сказано в восходящих к Contrat social (общественный договор (фр.)) учредительных документах революции, то есть что отныне на легитимность, а тем самым и на готовность индивидов следовать им могли претендовать лишь те всеобщие права, с которыми в принципе мог согласиться каждый, кого они затрагивали, то это [обстоятельство] явным образом отсылало к некоторому процессу консультаций и обсуждения, который должен был бы выполнять не каждый индивид сам по себе, но только все они вместе во взаимном дополнении убеждений друг друга134. Распознать же только что декларированные базовые права в качестве предпосылки такого процесса публичного самозаконодательства ранним социалистам было бы нетрудно, если бы только они сумели сделать свое понятие социальной свободы плодотворным также и для этой новой формы политической деятельности, ибо тогда можно было бы понимать те индивидуальные свободы, которые уже получили утверждение в обществе, как первый шаг к созданию условий, дающих в принципе каждому возможность участвовать без принуждения в той коллективной деятельности обсуждения и согласования, которая явно обнаруживает в себе тот же самый паттерн взаимного дополнения в другом, что и совместное удовлетворение потребностей в кооперативной хозяйственной деятельности. При таком распространении идеи социальной свободы демократическое волеизъявление стало бы возможно постичь как коммуникативный акт, непринужденное осуществление которого требует, чтобы все его участники обладали как минимум теми свободами выражения мнения и убеждения, которые утверждены за ними в основных правах. Однако мышление социалистов никак не могло бы включить в свой состав либеральные основные права, потому что в этом мышлении за политической деятельностью в смысле демократического волеизъявления вовсе не признавали самостоятельной роли — напротив, в будущем, по убеждению большинства социалистов, все то публичное законодательство, которое тогда вообще потребуется, производители смогут осуществлять между прочим, одновременно с кооперативной регуляцией своих трудовых функций.
Поразительная слепота к демократическому значению основных либеральных прав объясняет, наконец, также и то, почему для социалистов долгое время было практически невозможно заключить систематически обоснованный союз с радикальным крылом либеральных республиканцев135. Ведь это движение также возникло из попытки все-таки реализовать не выполненные поначалу обещания Французской революции, перетолковав ее руководящие принципы, только здесь за исходный пункт такой новой интерпретации были взяты не недостатки в сфере хозяйства, а недочеты политического строя новых государственных образований; решающим пороком такового радикальный республиканизм считал недостаточный учет воли народа в политическом законодательстве, так что высшей целью усилий реформаторов в послереволюционную эпоху должно было стать стремление добиться во имя эгалитаризма равноправного участия всех граждан государства в законодательном процессе коллективного волеизъявления. По этому перечню требований нетрудно заметить, что здесь в другом месте и с другой акцентировкой точно так же обретает голос призыв понимать уже институционализированную свободу, скорее, все-таки в смысле эгалитарной взаимности и непринужденного сотрудничества, чтобы, таким образом, все же придать принципу суверенитета народа необходимый характер демократической консультативной процедуры, — и даже если такой немецкий республиканец, как Юлиус Фрёбель, или лишь ненамного позже такой французский радикальный демократ, как Леон Гамбетта, не использовали сам этот термин, в их сочинениях, однако, отчетливо видно стремление сделать идею социальной свободы плодотворной для сферы демократического волеизъявления136.
Неспособность ранних социалистов принять функциональную дифференциацию обществ модерна как нормативный факт оказывает не менее вредное воздействие также и в совершенно иной области, а именно социальная сфера, социальный домен брака и семьи так же точно, как и сфера политической деятельности, могла бы представлять собой сферу применения для идеи социальной свободы, даже если первоначально эта идея и была сформулирована только с целью организационного переустройства экономической деятельности. В противоположность гражданским правам, которые как таковые социалисты первых времен не только не хотели реформировать или расширять, но были намерены целиком и полностью от них отказаться, применительно к традиционным семейным отношениям они видели значительную потребность в эмансипации, потому что в этих отношениях женщина считалась подчиненной мужчине и зависящей от него стороной — бесславное исключение составляет здесь Прудон, всю свою жизнь высоко ценивший патриархальную семью, а потому не желавший признавать за женщинами какой-либо иной роли, кроме работы по дому и воспитания детей137. Однако уже сенсимонисты ищут институциональные решения, позволяющие преодолеть традиционное господство мужчины в области брака и семьи138. Полвека спустя Фридрих Энгельс представил свое знаменитое исследование «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в котором в качестве источника власти мужчины в личных отношениях указал право распоряжения частной собственностью139. Но ни один из тех социалистических авторов, которые в XIX веке выступали в поддержку женского движения, даже близко не подходит к мысли определять критерии непринужденности и равноправности в сфере личных отношений при помощи той же модели, которой они пользовались для своего проекта революционизированных производственных отношений. Хотя все понятие социальной свободы было очевидным образом получено вначале на наглядном прообразе любви, и затем перенесено на социально-трудовые отношения, однако там, где в поле зрения социалистов оказываются нужды только что возникающего женского движения, они не прилагают никаких усилий для того, чтобы теперь, наоборот, сделать это же понятие плодотворным для проекта эмансипации брака и семьи. Однако именно это было бы верным путем для них также и здесь, потому что все отношения, основанные на любви и доверии, с начала эпохи модерна могут быть поняты как отношения, основанные на той нормативной идее, что их участники взаимно дополняют друг друга ради обеспечения возможности самореализации каждого из них, а потому каждый должен представлять собой для другого условие его свободы140, а значит, свою собственную идею социальной свободы, адаптированную теперь к частному случаю аффективных социальных отношений, без особого труда можно было бы принять за нормативный стандарт также и для тех условий, которые должны господствовать в сфере брака и семьи, чтобы их члены могли непринужденно дополнять друг друга в жизненных планах каждого из них. То, что ранние социалисты не пошли по этому пути, а тем самым оставили неиспользованной возможность получить из своей первоначальной картины социальной свободы что-то большее, чем просто указывающие в будущее прозрения, следует опять-таки объяснить их неспособностью принять к сведению, хотя бы в первом приближении, функциональную дифференциацию обществ модерна. Дело в том, что, где бы они ни пытались сказать что-либо о будущей форме семейных отношений, они говорят это опять-таки только исходя из производственных отношений, а значит, имея в виду единственно лишь роль семьи в трудовых отношениях, вместо того чтобы видеть в ней задатки самостоятельной сферы, в которой должны получить реализацию особые формы социальной свободы141.
Таким образом, здесь очевидным образом налицо была та же самая ошибка, которая ранее обусловливала неспособность к продуктивной опоре на либеральные права и свободы. Поскольку за частными отношениями не признавали нормативной автономии и вместо этого видели в них только функциональное дополнение экономического процесса, а значит, в целом считали возможным пользоваться неким экономическим монизмом, не видели также оснований и для того, чтобы разрабатывать особую семантику свободы для улучшений в сфере деятельности, включающей отношения любви, семьи и брака, вместо того все, что могли заявить социалисты, чтобы оказать поддержку возникающему женскому движению, было опять-таки сформулировано только в категориях экономической политики и, соответственно, сводилось к тому, чтобы освободить женщин от власти патриархата, включив их в те ассоциативные производственные отношения, которые предстояло создать в будущем142. Поэтому между социалистическим рабочим движением и зарождающимся феминизмом, несмотря на все попытки взаимного сближения, десятилетиями сохранялись скорее напряженные, несчастные отношения. Если здесь нарастало осознание того, что эмансипация женщин требовала не только мер по обеспечению равенства в избирательных правах и на рынке труда, но и основополагающих культурных перемен, которые должны были начаться с исторически сложившихся условий социализации, чтобы благодаря освобождению от навязанных гендерных стереотипов женщины вообще смогли впервые обрести собственный голос, то там, в рядах рабочего движения, не удалось выработать никакого органа чувств, способного воспринимать выводы подобного рода, потому что теоретики слепо настаивали на определяющем примате экономической сферы143. Насколько иначе выглядело бы отношение к феминизму, насколько иначе можно было бы все-таки с самого начала организовать взаимные отношения между двумя движениями, если бы социалисты были готовы отдать должное функциональной дифференциации обществ модерна, предприняв попытку истолковать сферу личных отношений как самобытное место социальной свободы. Дело в том, что в таком случае этот нормативный масштаб — непринужденное, свободное совместное бытие друг для друга, в том числе и в области социальных связей, основанных на взаимной любви, — быстро открыл бы им глаза на то обстоятельство, что угнетение женщин началось именно здесь, в эмоционально заряженных семейных отношениях, когда с открытой или утонченной угрозой насилием им были навязаны образы женщины и ролевые стереотипы, не оставляющие никаких шансов для выяснения их собственных настроений, желаний и интересов. Таким образом, проблема состояла бы не столько в том, чтобы дать женщинам возможность равноправного участия в экономическом производстве, сколько в том, чтобы вообще впервые помочь им достигнуть авторства их собственных представлений о себе за пределами образов, вменяемых им мужчинами, а потому борьба за условия социальной свободы в сфере любви, брака и семьи должна была бы означать в первую очередь освобождение женщин в этих форпостах мужской власти от экономической зависимости, подкрепленной насилием опеки и односторонне вменяемых видов деятельности в достаточной мере, чтобы они вообще могли впервые стать равноправными партнерами в отношениях, ориентированных на взаимность; и только в подобных условиях непринужденного и обоюдного доверия обе стороны были бы тогда способны артикулировать при эмоциональной поддержке своего партнера те потребности и желания, которые они могут понимать как действительное выражение своего самобытия.
Однако социализм как раз не пошел по пути раскрытия личных отношений при помощи понятия социальной свободы, с тем чтобы получить отсюда самостоятельный критерий для планирования мер по улучшению условий жизни женщин, и так же, как он проявлял совершенную слепоту к рациональному содержанию республиканских целеполаганий, он оказался слеп и к зазвучавшему уже тогда возражению со стороны женского движения, что равноправие женщин должно означать прежде всего создание необходимых предпосылок для непринужденной артикуляции специфически женского опыта, — тому требованию, которое, как известно, сто лет спустя будет сформулировано в полемическом понятии «различия»144. Неспособность дать правильную оценку нормативного значения этих двух движений еще раз со всей отчетливостью показывает, сколь узок в самом деле был с самого начала социально-теоретический горизонт социализма. Будучи неспособен постигнуть смысл борьбы за реализацию социальных свобод также и в других сферах, вне сферы хозяйственной деятельности, социалисты могли относиться как к «левому» республиканизму, так и к постепенно радикализирующемуся феминизму только так, что всякий раз, как только требования этих движений не удавалось встроить в контекст их собственных сугубо экономико-политических целеполаганий, они либо совершенно их игнорировали, либо же обвиняли их в «буржуазном» классовом предательстве. И когда впоследствии в течение всего XX века эти движения стали слишком сильны, чтобы их можно было и дальше наказывать полным к ним пренебрежением, они попытались совладать со все более и более туманным положением тем, что стали использовать несчастное выражение «основное и побочное противоречие», чем только в очередной раз выдали, как сильно было в них желание и дальше держаться за индустриалистское наследие экономического детерминизма145. Впрочем, попытка обновить социализм также и в том отношении, чтобы задним числом возместить отсутствие у него органа чувств для восприятия функциональных дифференциаций, есть намного более трудное предприятие, чем может показаться на первый взгляд, ибо простая замена экономического «центризма» представлением о самобытных сферах деятельности, подчиняющихся каждая своим особым нормам, еще отнюдь не решает дела — скорее, в духе политически мотивирующего, указывающего вперед проекта требуется некая идея того, каково должно быть в будущем взаимное отношение между нормативно дифференцировавшимися сферами.
Прежде чем мы сможем непосредственно приступить к решению этого вопроса, будет, вероятно, целесообразно еще раз зафиксировать, к какому итогу мы пришли до сих пор относительно преобладающей в классическом социализме неспособности проводить дифференциацию социальных сфер. Нашим исходным пунктом было то наблюдение, что ни один из ранних представителей социалистического движения не прилагал усилий для того, чтобы сделать идею социальной свободы плодотворной также и для других сфер общественного воспроизводства за рамками сферы хозяйственной деятельности, все останавливается на том, чтобы исследовать только капиталистическую по своему характеру экономику с той нормативной точки зрения, с помощью каких мер может быть произведена ее перестройка в направлении более выраженной ассоциированности членов общества (Gesellschaftsgenossen) — даже не задумываясь о том, не следует ли рассматривать также и другие сферы репродукции с подобной точки зрения реализации социальной свободы. Как мы увидели в дальнейшем, причина этого упущения выяснилась из того, что ни один из ранних социалистов не был готов принять к сведению постепенно совершающийся процесс функциональной дифференциации обществ модерна; целиком находясь в плену у духа индустриализма и будучи поэтому убеждены, что все социальные события также и в будущем будут определяться процессами в области промышленного производства, социалисты не видели никакого повода к тому, чтобы заниматься вопросом либо об эмпирически данной, либо о принципиально желательной автономии отдельных сфер социальной деятельности. Именно этот отказ вообще принимать во внимание процесс функциональной дифференциации объясняет затем также и то, почему социалисты не прилагали никаких усилий к тому, чтобы сделать свою идею социальной свободы плодотворной для нормативного раскрытия других сфер деятельности. Если такие подсистемы принципиально совершенно не могут иметь собственной, самобытной логики функционирования, потому что происходящее в них всегда определяется якобы экономическими принципами и ориентирами, то не было также и надобности в том, чтобы искать в них обособленные формы реализации социальной свободы146.
Если же этот неверный шаг в формировании социалистической теории должен быть аннулирован, то необходимо не только убедительно показать, почему должно быть осмысленным намерение предполагать также и для других конститутивных сфер общества зависимость каждой от особых форм социальной свободы. Скорее, если только социализм должен и в дальнейшем заключать в себе образ более совершенной формы жизни, необходимо дополнительно указать, как именно должно быть возможно в будущем адекватное взаимодействие между этими самостоятельными сферами социальной свободы. Что касается первой из этих двух задач, то ее решение наметилось уже в контексте критики нежелания традиционного социализма вообще принимать во внимание нормативное своеобразие демократической деятельности с одной стороны и личных социальных отношений с другой, а именно: если те конститутивные правила, которых в каждом из этих случаев должны придерживаться участники отношений, понимаются так, что они должны иметь возможность понимать совершаемые каждым действия из некоторой перспективы «мы» как взаимно дополняющие друг друга, то вполне естественно будет предполагать также и в них сферы общества, основанные на социальной свободе. В таком случае не только система экономической деятельности, но также и две другие сферы деятельности — сфера личных отношений и сфера демократического волеизъявления — могут быть поняты в духе подобного расширенного подхода как подсистемы общества, в которых желательные результаты могут быть достигнуты только при условии, что участники этих подсистем способны интерпретировать действия каждого из них как непринужденно взаимосвязанные и дополняющие друг друга: Для сферы любви, семьи и брака это означает, что мы признаем в них такие формы отношений, в которых обещанное бытие друг для друга бывает возможным только в случае, если все члены отношений могут непринужденно артикулировать свои потребности и интересы и реализовывать их с помощью других; для сферы демократического волеизъявления отсюда вытекает, что для его участников должно быть возможно понимать выражаемые каждым из них индивидуальные мнения как взаимно дополняющие друг друга вклады в общий проект установления всеобщей воли147. В обоих этих случаях — как, впрочем, уже и в отношении системы хозяйства, — было бы ошибкой, порождающей дальнейшие заблуждения, следовать либеральному представлению, согласно которому мы имеем здесь перед собой две подсистемы общества, в которых субъектам предоставляются возможности реализации частных, индивидуально определенных намерений каждого из них, так что социальные связи и взаимные обязательства следует описывать как заключающие в себе латентную угрозу148; обновленный социализм, совершенно напротив, исходит из того, что все эти три области представляют собой сферы деятельности, в которых должны наличествовать условия для непринужденного бытия друг для друга, а значит, отношения социальной свободы149. Поэтому такой социализм не может удовлетвориться перспективой преодоления гетерономии и отчуждения труда в экономической сфере, он знает, что общество модерна не станет подлинно социальным до тех пор, пока и внутри двух других сфер — сферы личных отношений и сферы демократического волеизъявления — не будут успешно преодолены принуждение, давление и понуждение.
Если эти замечания очерчивают в общем виде, почему обновленному социализму следовало бы дифференцировать свое ключевое нормативное понятие и перенести его на социальные сферы, которые до сих пор он чаще всего игнорировал, то этого, разумеется, еще недостаточно, чтобы суметь уже теперь заменить старое, ограниченное в конечном счете перестройкой хозяйства представление о лучшей форме жизни новым, более внутренне сложным представлением, ибо для этого требуется намного больше, нежели только способность мыслить дифференцированные теперь подсистемы в более предпочтительном состоянии, допускающем возможность прироста социальной свободы. Для этого требуется, кроме того, наметить также некий образ правильного, адекватного взаимодействия этих подсистем друг с другом. Если, стало быть, социализм не желает отказаться от своей традиционной претензии на то, чтобы рисовать в сознании поддерживающих его исторических сил достаточно осязаемо наглядные очертания будущей формы жизни, чтобы пробуждать готовность к ее экспериментальному осуществлению, то при принимаемой им отныне предпосылке функциональной дифференциации, он должен суметь сказать что-то о той форме, в которой различные сферы социальной свободы должны будут гармонировать друг с другом в будущем.
Двигаться дальше в этом трудном месте нам могут помочь те интуиции, которые мы находим в отчетливом виде уже у Гегеля и слабое отражение которых мы обнаружили также в мышлении Маркса. Если мы будем искать в социальной философии Гегеля ответ на вопрос, как он представлял себе соединение сфер общества, различие которых он уже устанавливал с функциональной точки зрения, то неизбежно найдем намеки на такой ответ в используемом им образе живого организма, ибо каждый раз, когда он принимается за резюмирующее описание основанной на разделении труда структуры обществ модерна, то опирается, по-видимому, на представление о целенаправленном взаимодействии всех подсистем с целью сохранения органического целого. Социальные сферы должны относиться друг к другу так же, как органы живого тела, выполняя, согласно специфичным для каждой из них нормам, те операции, которые затем, взятые вместе, служат приоритетной цели воспроизводства общества. То, что может поначалу казаться загадочным во внутренней целесообразности такого процесса на основе разделения труда, а именно потаенная нацеленность оперирующих самостоятельно частей на функционирование целого более высокого порядка, станет сразу же понятным, если мы предположим в ней результат переноса свойств живых организмов на социальные сущности150. Если оставить в стороне вопрос о том, может ли подобная органицистская модель найти эмпирическое применение к прошлому и настоящему общества, что опровергается, по-видимому, целым рядом возражений151, то, несмотря на это, ее все же возможно принимать как стимул для нормативной оценки. Согласно этой модели, если должно иметь место здоровое, благоустроенное состояние общества, то различные общественные подсистемы должны относиться к приоритетной цели социального воспроизводства таким образом, чтобы суметь гарантировать ее беспрепятственную реализацию в основанной на разделении труда взаимозависимости, подобно органам в организме. Такое впечатление, что подобного рода идея предносилась взгляду Маркса всякий раз, когда он критиковал как недостаток всей предшествующей истории «неслаженное» отношение в ней между производительными силами и производственными отношениями152, ибо подобный диагноз кризиса — констатация постоянно воспроизводящейся диспропорции между двумя подсистемами — предполагает, что будущее бескризисное состояние общества описывается в категориях «органического» взаимодействия различных функциональных областей153.
Если аналогию с организмом мы будем понимать в этом нормативном смысле, то отныне это может послужить нам путеводной нитью для поиска ответа на обрисованный выше вопрос об определении адекватного соотношения между тремя сферами свободы. Как выяснилось ранее, обновленный социализм не только должен уметь обнаружить в каждой из трех различенных уже в классической социальной теории подсистемах — сфере личных отношений, сфере экономической деятельности и сфере демократического волеизъявления — потенциал социальной свободы, который в будущем еще только предстоит реализовать в этой сфере экспериментальным путем; скорее, ему нужно также общее, сугубо примерное представление о том, какого рода взаимозависимость должна существовать между этими различными сферами в будущем. Если при решении так поставленной проблемы мы воспользуемся аналогией с организмом, которая была введена в идейный оборот уже Гегелем и Марксом, то сам собой напрашивается вывод, что желательным взаимным отношением между сферами следует считать внутреннюю целесообразность структурированного целого. В будущем три сферы свободы следует по возможности соотнести друг с другом таким образом, чтобы при этом каждая из них следовала, насколько это возможно, только своим собственным нормам, но все они вместе в непринужденном взаимодействии порождали постоянное воспроизводство общества в целом как единства более высокого порядка. Образ, зафиксированный в таком целесообразном взаимодействии независимых друг от друга сфер свободы можно назвать совокупным представлением о демократической форме жизни. В этом представлении предвосхищены формальные, еще подлежащие экспериментальной конкретизации структуры социального общежития, в котором субъекты в практической взаимной соотнесенности их личных, экономических и политических отношений, всякий раз кооперативно содействуют решению задач, совокупность которых требуется для поддержания их общежития. «Демократия» означает здесь не только возможность равноправного и непринужденного участия в процедурах политического волеизъявления — скорее, под демократией как целостной формой жизни понимается возможность получать в каждой из ключевых точек опосредования индивида и обществ реальный опыт эгалитарного соучастия (egalitäre Parrtizipation), в котором всякий раз в функциональной особенности одной-единственной сферы находит отражение всеобщая структура демократического участия (Teilhabe)154.
Эта идея демократической формы жизни, которая сегодня должна носиться перед внутренним взглядом социализма в качестве образа освобожденного общества, имеет перед более ранними социалистическими представлениями о будущем то преимущество, что отдает должное нормативной самозаконности различных функциональных сфер общества, не оставляя, однако, по этой причине надежды на достижение внутренне согласного целого. Ибо, когда мы ведем речь о форме жизни в подобном функционально дифференцированном обществе, это должно ведь означать, что мы подразумеваем осмысленно внутренне связный, гармонически структурированный порядок, который есть нечто большее, нежели только сумма частей; скорее, мы стремимся столь искусно провести в будущем границы между этими тремя сферами социальной свободы, чтобы они, подобно органам живого тела, поддерживали друг друга в непринужденной взаимности воспроизводства общества как единства более высокого порядка155. В подобной формулировке нетрудно заметить также, что этот новый образ лучшего будущего обязан своим появлением единственно лишь стремлению еще раз перенести старую, намеченную еще ранними социалистами, идею социальной свободы на более высокий уровень совокупно-общественных процессов: вступить друг с другом в отношение взаимодополнения для реализации некоторой общей цели должно быть возможно не только для самих производителей, как того хотели праотцы социалистического движения, и не только в дополнение к тому, для граждан политического государства, а также для их партнеров по отношениям, как я предлагал это до сих пор с целью коррекции теории, но также и для самих этих трех функциональных сфер. Ни в каком другом своем элементе обновленный социализм не обязан так сильно рассуждениям Гегеля или Маркса, как в этом переносе социальной свободы на исходное значение социальных единиц. Общество будущего не следует более представлять себе как порядок, центрически управляемый снизу, исходя из производственных отношений, но как органическое целое независимых, однако целенаправленно взаимодействующих функциональных сфер, члены которых, в свою очередь, могут действовать друг для друга в условиях социальной свободы. Правда, предвосхищение, совершаемое в такой форме обновленным социализмом, а значит, идею непринужденного взаимодействия интерсубъективных сфер свободы для достижения общественного воспроизводства как цели более высокого порядка, было бы ошибкой понимать, в свою очередь, как неподвижную, чуждую всяких изменений картину будущего. И это «верховное» руководящее представление, так же, как и все антиципирующие, относящиеся к созиданию будущего элементы нового учения, нужно понимать как простую схему для ориентировки, задающую только то направление, в котором ведется экспериментальный поиск институциональных возможностей реализации. Те социальные условия, которые, согласно опытно подкрепленным познаниям, должны быть созданы в различных сферах, чтобы сделать в каждой из них возможным равноправное существование их членов друг для друга, должны поэтому ориентироваться, в свою очередь, на искусство верных разделений как на приоритетный аспект; иначе говоря, каждое намечаемое изменение следовало бы всякий раз подвергать дополнительной проверке на предмет выяснения того, оставляет ли оно той или иной сфере деятельности пространство автономной свободы, позволяющее ей в долгосрочной перспективе стать органом демократической формы жизни, оперирующим согласно своим собственным нормативным закономерностям.
Правда, и в этой ориентирующей схеме еще остаются непроясненными по меньшей мере два обстоятельства, без разъяснения которых обновленный социализм не обладал бы необходимыми силами, чтобы мотивировать действия, направленные на общественные перемены. Во-первых, нарисованный до сих пор очерк демократической формы жизни производит, по-видимому, роковое впечатление, будто ни в настоящем, ни в будущем не потребуется какой-либо управляющей инстанции, которая была бы способна приводить в действие желательные, подлежащие установлению экспериментальным путем изменения и закреплять их в форме не знающего завершения исследовательского процесса, ибо сознательно выбранная здесь аналогия с организмом подталкивает к тому, чтобы рисовать себе эти процессы изменения, как это происходит в господствующем системном функционализме, в виде результата анонимной, холистически совершающейся целенаправленной деятельности, не требующей активного, испытующего вмешательства человека156. Таким образом, очерченная выше ориентирующая схема нуждается в корректировке, которая смогла бы выявить в обозначенном взаимодействии функциональных сфер социальной свободы то место, исходя из которого могут осуществляться руководящей рукой необходимые процессы изменения, разграничения и адаптации; и только если будет названа по имени такая инстанция рефлексивного управления, обновленный социализм обретет также ясность в вопросе о том, на что именно он в первую очередь должен воздействовать, чтобы привести в действие рекомендуемые им эксперименты в общественном организме. Это, однако, еще не все: в намеченной до сих пор картине будущего неясно также и то, к какой социальной исходной величине должна, собственно говоря, относиться идея демократической формы жизни. При ответе на этот вопрос обычно без специальной проверки предполагается, что требуемые процессы изменений должно быть возможно осуществлять именно в границах общества, сдерживаемого рамками национального государства, однако ввиду нарастающей взаимозависимости между отдельными государствами и одновременно происходящих процессов транснационализации в наше время эта предпосылка стала чрезвычайно несостоятельной, так что и социализм должен совершенно по-новому рассмотреть старый вопрос о своем отношении к национальному государству157.
Первая из этих двух все еще сохраняющихся теоретических лакун ставит перед нами трудную проблему: мыслимое по образцу организма взаимодействие сфер свободы, в каждой из которых процессы происходят независимо от других сфер, мы вынуждены представлять себе в то же время так, чтобы в них стал заметен некий активный центр, способный принять на себя в долгосрочной перспективе необходимые управленческие функции взаимного согласования и разграничения. Кроме того, ответ на этот вопрос затрагивает значимую тему: каких же адресатов должен, собственно говоря, иметь в виду обновленный социализм, если отныне он намерен понимать общество как функционально дифференцированную структуру, а тем самым с необходимостью должен видеть акторов в нем помещенными во множество социальных ролей, ведь теперь не существует более только простая противоположность «рабочих» и «капиталистов», но наряду с ней и с той же самой значительностью и с тем же динамизмом конфликтов существуют также партнеры в любовном отношении, члены семьи, политические субъекты. Только затем, чтобы представить со всей наглядностью те трудные проблемы, которые возникают вследствие подобного необходимого расширения спектра референтных групп, напомним здесь еще раз, каким простым и легко обозримым представлялся весь этот комплекс тем классическому социализму: В нем при отрицании любых функциональных дифференциаций общество еще можно было мыслить в нем как целое, определяемое исключительно своей экономической сферой, так что пролетариат уже потому только мог считаться единственным адресатом социалистической теории, что, как считалось, в будущем так же точно, как это было в прошлом и в настоящем, благодаря выполняемому им производительному труду ключевые рычаги общественной организации по-прежнему останутся в его руках. Если теперь по убедительным основаниям мы отбрасываем прочь экономический детерминизм и с подобающей осторожностью заменяем его допущением нормативной самозаконности существенных функциональных сфер общества, то, по-видимому, отныне уже не может быть одного актора, который вследствие осуществляемой им деятельности в секторе общества, который считается определяющим, сам надзирает также и за будущим оформлением сферы частной жизни и системы политической деятельности; здесь намечается, похоже, некое множество (Pluralität) функционально специфичных групп акторов, отвечающих за конфигурацию того или иного домена, так что наш просвещенный по части социальной теории социализм рискует потерять прежнего единственного ключевого адресата. Ясно, что выход из этой неловкой ситуации, когда мы вынуждены говорить с совершенно различными адресатами, найдется только при условии, что удастся найти положительный ответ на упомянутый уже выше вопрос о возможном центре управления для всех предполагаемых нами теперь самостоятельных областей, в таком случае все действующие в этом центре субъекты вместе взятые могли бы выступать в роли того коллектива, на который обновленный социализм попытался бы воздействовать своим проективным образом демократической формы жизни, чтобы мотивировать его на экспериментальные изыскательские деяния.
Здесь также нам могли бы оказаться полезными предложения Джона Дьюи, который, видимо, первым систематически ставил перед собой вопрос о том, какой социальный орган в сложном по своему составу обществе способен был бы принять на себя рефлексивное управление осознаваемым как нечто желательное процессом роста158. Впрочем, еще и до Дьюи аналогичные рассуждения вместе с другими духовными предпосылками мы находим у Эмиля Дюркгейма159. После него Юрген Хабермас, опираясь на разработанные ранее предложения, энергично развивал ту же идею160. Решение, предлагаемое Дьюи для обрисованной нами проблемы, стало в наши дни общим местом прагматизма; его можно понимать как продолжение его уже упомянутой мной мысли о том, что остающиеся неиспользованными потенциалы общественных новаций на уровне социального могут быть обнаружены только в ходе максимально безграничной коммуникации между всеми членами общества161. Если мы разовьем эту идею дальше, чтобы задать вопрос, какая инстанция в функционально структурированном обществе должна взять на себя выполнение задачи интегративного управления, то сама собой напрашивается мысль предусмотреть для этой цели институциональный орган «общественности» (Öffentlichkeit), в которой все задействованные лица могут принимать участие в максимально непринужденной и беспрепятственной форме, ибо благодаря множеству выслушанных голосов и воспринятых одновременно точек зрения их взаимодействие сделало бы возможным быстро сосредотачивать внимание на проблемах как в отдельных сферах, так и при согласовании между сферами и, соответственно, представлять для проверки значительное количество предложений по их решению. В обратном переводе на органицистский язык, которым я пользовался до сих пор, из рассуждения Дьюи следует, таким образом, что из систем социальной деятельности функцию рефлексивного управления целенаправленным совокупным процессом может выполнять та, которая должна создавать институциональную рамку для демократического волеизъявления; сфера демократической деятельности выделяется, как prima inter pares (первая среди равных (лат.)), в намечаемом взаимодействии функционально дополняющих друг друга сфер свободы, потому что она есть то единственное место, где неполадки во всех закоулках социального общежития могут быть артикулированы так, чтобы это могли слышать все, а тем самым рассмотрены как задача, подлежащая совместному решению. Если к этой эпистемически авангардной роли (epistemische Vorreiterrolle) политической общественности162 прибавить еще, что только она в силу ее легитимизирующего влияния на законодателя обладает властью преобразовать кажущиеся приемлемыми решения в обязательное право, то не может оставаться никаких сомнений в присущей ей управляющей функции. Именно демократическая общественность советующихся друг с другом граждан получает в рамках основанного на разделении труда взаимодействия независимых сфер свободы функцию контроля за целесообразностью всей совокупной органической структуры, а в случае необходимости — функцию коррекции ее внутреннего устройства. Тем самым, однако, «как» функциональной дифференциации, которое до сих пор совершалось, по видимости, само собой, само становится вновь задачей демократического волеизъявления163: то, что в живом организме происходит самодеятельно благодаря его внутренней архитектонике, в демократическом процессе жизни берут в свои руки сами его носители, оказывая при помощи созданного ими инструмента публичных консультаций корректирующее воздействие на осадочные результаты совокупности своих же собственных действий.
Этот краткий обзор того, что составляет идею демократической формы жизни в полноте ее объема, дает, конечно, также и ответ на вопрос, кого обновленный социализм должен рассматривать в качестве адресата своего призыва — решительно продолжать идти по уже избранному в прошлом пути расширения наших социальных свобод при помощи экспериментальных изысканий. Только самих собравшихся в демократической общественности граждан можно, воодушевляя их к изменяющим мир действиям, расположить к тому, чтобы приняться за осторожный снос еще сохраняющихся границ и блокад в осуществлении непринужденного бытия друг для друга в ключевых сферах общества. Сегодня ни какой-то определенный социальный класс, будь то промышленный пролетариат или развращенное чиновничество, ни какое-либо социальное движение не могут рассматриваться как первоочередная референтная группа социализма. Скорее, социализм должен попытаться воздействовать на всю совокупность тех людей, кто в догосударственной сфере демократического взаимодействия не остается глух к жалобам на непорядки, ущемление интересов и [нелегитимное] проявление власти, сигнализирующим о симптоматических ограничениях социальной свободы в различных сферах жизни общества. Социальные классы или движения и без того уже не могут, как мы видели это выше164, служить обновленному социализму гарантами его будущих успехов, с тех пор как развалилась как карточный домик предпосылка каких-либо жестких связанных с состоянием общества установок социальной готовности; скорее — и это мы точно так же уже сказали ранее — всякая вера во всемирно-историческую задачу таких коллективных субъективностей должна бы смениться в рядах социализма уверенностью в том, что документально фиксирующаяся в последовательности институциональных достижений линия прогресса не допускает произвольных перерывов, а потому найдет себе продолжение также и в будущем. Однако то обстоятельство, что сегодня социализм имеет перед собой в лице демократической общественности такого адресата, который как раз и не образует какой-либо коллективной субъективности, потому что его социальный состав постоянно изменяется, его персональные границы не обладают четкостью, и в целом он представляет собой сильно осциллирующее, хрупкое образование, — это не недостаток, это, напротив, даже полезно; ибо именно и только эта открытость, эти пульсации внимания к самым различным темам и перспективам рассмотрения вообще только и дают гарантию того, что жалобы на усечение свободы из всех уголков общественного здания в самом деле могут быть услышаны, чтобы затем их можно было поместить на испытательный полигон исторического нарратива подлежащей практическому продолжению истории прогресса. Поэтому видеть отныне в собранных в публичном пространстве гражданах адресатов и собеседников означает не только окончательно расстаться с иллюзией некоторого четко определенного, уже загодя существующего носителя социализма — это означает, кроме того и в первую очередь, желание быть отныне, со своей нормативной идеей «социальной свободы», политическим представителем эмансипаторских движений во всех частных подсистемах современного общества. Если социализм сегодня стремится уже не только к устранению гетерономии в экономической сфере, но также к преодолению принуждения, господства и понуждения в личных отношениях и в демократическом волеизъявлении, соратников для своих нормативных задач он может найти только на аренах демократической общественности, ибо только здесь члены общества предстают перед ним в тех ролях, которые дают им возможность выступать за усовершенствования также и там, где их личные интересы никак непосредственно не затронуты. Таким образом, социализм сегодня есть преимущественно уже дело политических граждан, а не наемных работников, хотя и верно, что в будущем предстоит вновь и вновь бороться также и за интересы этих последних.
Остается трудный, уходящий далеко в историю рабочего движения вопрос: следует ли понимать социализм как национально-общественный проект или же как проект в самой своей основе интернационалистический. Дать ответ на этот вопрос намного труднее, чем может показаться в современной ситуации усиливающегося размывания границ национальных государств. С одной стороны, сегодня почти все, во всяком случае, больше фактов, чем в XIX веке, когда социалистическое движение только начиналось, говорит в пользу того, чтобы с самого начала понимать образ социализма как такой социально-политический проект, который может найти применение только поверх национально-государственных границ, ибо нормативное регулирование различных сфер социальной деятельности в наше время оказалось, похоже, в столь значительной мере неподвластным «суверенному» контролю отдельных государств, что едва ли теперь может считаться перспективным стремление по-прежнему считать все намечаемые социализмом в этих сферах улучшения осуществимыми только в пределах одной-единственной страны — вспомните только о капиталистической системе хозяйства, которая давно уже стала слишком тесно внутренне связанной и оперативно сплетенной в международном масштабе, чтобы национально-государственные акторы еще могли обладать в отношении к ней достаточной контролирующей властью. Таким образом, социалистическое учение должно было бы, так сказать, перемещаться вместе с тенденцией к нарастанию взаимозависимости государств, располагая инициируемые им эксперименты для выяснения возможностей расширения социальных свобод на таком уровне, который уже более не принимает во внимание государственные границы, а поскольку инициативы для такого экспериментального выяснения, как мы только что видели, всякий раз должны так или иначе исходить от демократической общественности, эта последняя также нуждалась бы в короткие сроки в максимально далеко идущей транснационализации, чтобы суметь дать должный отпор оперирующим в международном масштабе силам своих противников. Но все это не только легче сказать в теории, чем осуществить затем также на практике в действительности165 — это, кроме того, не вполне соответствует социальной реальности, в которой содержится больше неодновременностей, чем это может выразить понятие «всемирного общества»166.
Трудности начинаются там, где нам приходится выяснить для себя, что дифференцированные нами ранее сферы деятельности в весьма неодинаковой степени охвачены тенденцией к глобальному регулированию, уже не привязанному более к уровню национального государства. Так, хотя система хозяйства представляет собою сегодня такую сферу, контроль и регулирование в которой осуществляются в значительной степени на уровне «мирового общества», однако это совсем не относится к сфере семьи, дружбы и интимных отношений, внутреннее строение которой еще определяется в значительной степени нормативными и политико-юридическими данностями той или иной страны или включающего несколько стран культурного круга. В то время как в Европе брак между гомосексуалами начинает становиться легитимным и законодательно дозволенным, в других регионах мира в силу по-прежнему господствующих там традиций это совершенно немыслимо. Вторая трудность заключается в том, что функционально дифференцированные структуры общества, которые обновленный социализм в отличие от своих предшественников сознательно принимает во внимание, в немалой степени требуют себе гарантии в форме конституций и основных прав, чтобы они смогли предоставить своим членам возможность непринужденной смены различных ролей, однако, до тех пор пока такие установления конституционного права создаются и гарантируются отдельными, по-прежнему суверенными в этом отношении правовыми государствами, будет, конечно, нецелесообразно совершенно отказаться от вменения процессов социальной дифференциации национальным государствам167, поэтому выдвинутое Ульрихом Беком требование «методологически» мыслить отныне в социальной теории только в космополитических категориях168 было чересчур поспешно, ведь при этом оставляли без внимания то, в сколь значительной мере обширные зоны нашей социальной реальности все еще определяются сводами правил, действующими только на национальном уровне. Наконец, третья трудность, с которой сталкивается здесь попытка обновления социализма, вытекает из того обстоятельства, что между фактом нарастающей интернационализации и общественным сознанием этого факта есть некий временной зазор; даже если нормативные правила отдельных сфер деятельности определяются сегодня все в большей мере на транснациональном уровне, значительная часть населения все же по-прежнему приписывает «своим» собственным национально-государственным органам способность издавать и изменять такого рода правила согласно демократическим стандартам. Конечно, мы неверно истолковали бы это отставание общественного мнения, если бы пожелали трактовать его только лишь как следствие недостаточного чувства реальности или, тем более, многократно упоминавшейся в литературе идолатрии повседневного сознания; скорее, в нем следует предполагать некое выражение практико-политической потребности приписывать влиятельные процессы в своем окружении наглядно зримым для всех инстанциям, которые можно затем привлечь к ответственности или же призвать к деятельному вмешательству. Каково бы, однако, ни было адекватное истолкование этой неодновременности, то есть зазора между фактическим процессом развития и тем, как этот процесс принимается к сведению в общественности, для задач обновленного социализма эта неодновременность, во всяком случае, представляет собою некий труднопреодолимый барьер, ведь, с одной стороны, нельзя просто перескакивать через «отстающее» сознание граждан, потому что нам нужно привлечь их сердца и интересы на сторону нашего нормативного проекта, с другой же стороны, нельзя без церемоний подвергать сомнению фактический объем утраты государственного суверенитета только для того, чтобы возможно быстрее добиться согласия общественности. В первом случае нам грозит опасность авангардизма или элитизма, во втором — опасность популизма.
Все эти неодновременности поясняют, поначалу, только то, как необдуманно и поспешно было бы сегодня понимать социализм заведомо и без дальнейших дифференциаций как «интернационалистский» проект. Безусловно, он стремится только лишь к тому, чтобы содействовать во всем мире экспериментальным изысканиям, руководствующимся целью создания демократической формы жизни; под его духовной опекой во всех странах должны по мере возможности предприниматься попытки сформировать в различных сферах — сфере личных отношений, сфере хозяйственной деятельности и сфере политического волеизъявления, — условия для непринужденного и равноправного бытия друг для друга, которые затем взаимно дополнят друг друга, создавая органическое целое формы жизни. В этом нормативном смысле слова социализм — да и как же могло бы быть иначе — есть «космополитическое» или «интернационалистское» предприятие; не только к гражданам государств Европы или экономически развитых регионов, но к жителям всех стран должен быть обращен призыв развернуть утвержденные Французской революцией принципы свободы, равенства и братства далее либеральной формы их реализации, чтобы действительно сделать общество «социальным». Но если этот образ должен составлять ту общую связь, которая духовно объединяет предпринимаемые в самых различных местах эксперименты по расширению наших социальных свобод, то социализм должен быть одновременно и чем-то большим, нежели такой нормативно понимаемый интернационализм; он должен также иметь возможность понять сам себя, в организационном отношении, как всемирное движение, в котором локально осуществляемые проекты взаимно дополняют друг друга в том смысле, что как здесь, так и там они оказывают фактическую поддержку прилагаемым в других местах усилиям социальной политики. Правило для социалистического интернационализма подобного рода, если отчеканить его в одной-единственной формуле, могло бы гласить, что экспериментальные вмешательства в одном регионе всегда должны одновременно иметь в виду возможность повышения шансов на успех для экспериментов, проводимых в других регионах; и в случае, если бы эти взаимозависимости оказались настолько сильными, что социальные вмешательства будет вообще возможно успешно тестировать только при условии их проведения во всемирном масштабе, как, например, в случае рекомендуемого Томасом Пикетти налога на капитал в целях устойчивого перераспределения169, для социалистов должно в самом деле иметь силу сравнительно притязательное требование: при помощи скоординированных акций оказывать воздействие на субъектов принятия политических решений одновременно во всех государствах. Правда, то и другое — как взаимодополнение, так и всемирная связь между происходящими поначалу сугубо локально экспериментами, зависит от предпосылки наличия действующего в глобальном масштабе организационного центра, который, подобно Amnesty International или Greenpeace, через свои представительства в возможно большем числе стран может взять на себя необходимую координирующую работу. Таким образом, социализм сегодня, если он хочет соответствовать, как социальное движение, изменившимся условиям в порядке государств, должен последовать примеру имеющих всемирный успех неправительственных организаций и организоваться в виде интернационально структурированного органа представительства морального требования реализации социальных свобод.
Правда, ниже этого уровня организационной структурной сети, выходящей за рамки всех национальных границ, социализм должен оставаться укорененным в географических пространствах, обладающих достаточной мерой культурной и юридической общности, чтобы в них вообще могли возникать единицы политической общественности; он должен здесь пытаться воздействовать в первую очередь и прежде всего на круг граждан, публично выступающих за устранение социальных недостатков (Missstände); далее, он может делать это только в такой социальной среде, в которой показатели нормативной чувствительности и внимания согласуются настолько, чтобы индивиды благодаря конвергенции их восприятий проблемы могли осознать себя готовыми к совместным действиям. При этом далеко не столь важно то, имеют ли сегодня эти единицы политической общественности все еще национально-государственный характер, или же им уже присущи первые признаки транснациональной формации; решающую роль играет в каждом случае только то, чтобы уровень нормативной восприимчивости у возможных адресатов был достаточно близким, так чтобы они смогли воспринять нерешенные проблемы в реализации социальных свобод как общие вызовы для них. При всей насущности задачи — придать социализму сегодня ввиду глобальных взаимозависимостей всемирную форму артикуляции и организации, все же в целях практико-политической мобилизации он всегда должен действовать, в первую очередь на местах, в разумно обозримых референтных полях коллективной деятельности; именно отсюда ему предстоит начинать попытку воодушевить членов этого общества на воплощение этического проекта — раскрытия в существующем общественном строе потенциалов более активного бытия друг для друга, а тем самым — потенциалов будущей реализации социальной свободы.
Впрочем, из напряженного отношения между неизбежностью интернациональных связей и потребностью укоренения в местной традиции, в котором оказывается в результате социализм, вытекает, что сегодня он должен иметь возможность выступать в двух различных формах. Быть может, мы могли бы сказать, перефразируя знаменитое различение, сделанное Джоном Ролзом170, что функцию всемирного местоблюстителя социальной свободы он может взять на себя только в форме политической доктрины, тогда как способностью мобилизовать конкретные, локально расположенные единицы общественности он обладает только в форме этически плотного учения, привязанного к культурным данностям известного региона. Если в своей первой роли — интеллектуального связующего звена между рассеянными по всему глобусу битвами — он вынужден абстрагироваться от всех частных форм нравственности в жизненном мире, чтобы суметь наглядно показать совместимость каждой из этих форм с утонченными принципами социальной свободы, то в своей второй роли — источника идей для социальных экспериментов на местах — он вновь должен превратиться в культурно насыщенную, всеобъемлющую «глобальную теорию» (Ролз), чтобы суметь расположить к себе сердца, а не только рассудок своих адресатов. Можно было бы сказать и так: вовне, в отношении к тому, что с недавних пор охотно именуют «мировой общественностью», социализм может выступать сегодня только в качестве «политического», этически нейтрализованного учения, тогда как вовнутрь, в отношении каждого из своих конкретных адресатов, он может действовать только в форме полностью разобранной по складам в контексте жизненного мира, порождающей смыслы теории171.
Между тем выполнить этот шпагат между двумя различными формами одной и той же идеи у социализма получится с тем большей легкостью, чем более решительно он в своей устремленной вовнутрь мобилизующей миссии будет настаивать на том, чтобы раскрыть вовне отдельные единицы нравственности в жизненном мире и сделать их морально чувствительными к сторонним нуждам. В наше время ни одна из регионально укорененных единиц общественности, на которые социализм сегодня пытается воздействовать в духе укрепления социальной свободы, не изолирована от своей внешней среды и от других регионов мира настолько, чтобы она не смогла воспринять в своих собственных границах их нужды и потребности, а потому ни одна из них при обсуждении общих проблем уже не вправе отвлекаться от того, как эти внешние требования можно было бы учесть в процессе внутреннего решения подобных проблем. Сегодня все коллективные адресаты социализма настолько втянуты в водоворот транснационализации, что уже не могут более замыкаться от обращенных к ним требований других адресатов. Такова современная тенденция развития, на которую социализм должен опереться, чтобы непрерывно уменьшать дистанцию между двумя отраслями своей теории: изнутри, при попытке расположить те или иные единицы общественности к задаче экспериментального расширения социальных свобод, он должен решительно и отчетливо слышно проявлять голоса всех исключенных до сих пор социальных групп, чтобы отныне принимать во внимание их нужды в ходе поиска адекватных решений. Чем более определенно удастся такое вовлечение других в наше собственное, предпринимаемое здесь и сейчас изыскание будущих возможностей расширения свободы, тем меньше будет и дистанция, отделявшая до сих пор друг от друга две формы социалистической теории; ибо с каждым новым голосом «извне», вовлекаемым в локальные процессы исследования, расширяется круг тех, кого можно считать членами исследующей общественности (forschende Öffentlichkeit), а потому и адресатами этически нагруженной, всеобъемлющей доктрины. Удастся ли когда-нибудь на этом пути взрыва локально произрастающих единиц общественности изнутри засыпать пропасть между двумя разновидностями социализма настолько, чтобы эти разновидности действительно совпали, потому что обе они имеют перед собою только лишь одного-единственного адресата, — это один из тех вопросов, которые еще совершенно не поддаются решению с точки зрения сегодняшнего дня; ответы здесь могут давать опять-таки только проводимые под руководством идеи социальной свободы эксперименты, при помощи которых мы пытаемся шаг за шагом ограничить некое неопределенное будущее, чтобы таким образом ощупью постепенно присваивать его себе.
С этими предвосхищающими размышлениями я подошел к концу своей попытки очистить социализм от шлаков его укорененной в XIX веке идейной оболочки, чтобы придать ему соответствующую нашей современности форму. Понадобилось немало окольных путей, немало заимствований у других традиций мысли, прежде чем были созданы теоретические основы для того, чтобы придать убедительный еще и в наши дни вид основной нормативной задаче гармонизации свободы, равенства и братства, преодолевающей либерализм изнутри. Пришлось не только распрощаться с идеей пролетариата как революционного субъекта, заменить представление отцов-основателей об истории неким историческим экспериментализмом и адаптировать руководящую идею социальной свободы к данностям социальной дифференциации, но в ходе этих перестроек нужно было прежде всего обновить старый образ управляемого экономикой общества картиной демократической формы жизни. Наконец, в сумме произведенных таким образом ревизий социализм получил такую форму, в которой большинство его прежних приверженцев, конечно, едва ли смогут узнать то, что они некогда воспринимали как его собственную историческую задачу и его теоретический стимул. Осталась, кажется, в прошлом вера во внутренне присущую капитализму тенденцию к саморазрушению, равно как и надежда на порождаемый самим капитализмом класс, всегда уже несущий в себе зачатки нового. Впрочем, тем, кто в силу этих разочарований с сомнением относится к предлагаемой мной ревизии социализма, позволительно задать вопрос: не упускают ли они, судорожно вцепившись в любезные им иллюзии, быть может, последний шанс придать своему социальному проекту обоснованную надежду на возможность его будущей реализации. Насколько реалистичнее было бы сегодня утверждать свою надежду на возможность будущего изменения существующего строя не на деятельной силе какого-либо класса, а на указывающей вперед линии социального прогресса, в осуществлении которого социализм уже двести лет подряд принимал участие на самом переднем крае, и насколько точнее соответствовало бы изменившемуся в современности сознанию конфликтов, если бы мы назначили себя моральным адвокатом актов расширения свободы не только в производственных отношениях, но также и в личных отношениях и в сфере возможностей участия в политическом управлении (politischen Mitbestimmungsmöglichkeiten).
Если идея социальной свободы переносится на три конститутивные сферы обществ модерна так, как я обрисовал это в предшествующих рассуждениях, а значит, если ее делают плодотворной не только для сферы хозяйственной деятельности, но и для сферы политического волеизъявления и сферы личных отношений, то только тогда вообще впервые обнаружится во всей широте то, за что должен выступать сегодня социализм со своими исконными представлениями. В обществе устроенного на либерально-демократических началах капитализма он представляет историческую тенденцию постепенного преодоления социальных зависимостей и эксклюзии, всегда и повсюду настаивая, что при данных условиях реализация обещанной гармонии свободы, равенства и солидарности еще совершенно невозможна. Согласно социалистическому взгляду, для этого требовалось бы прежде преобразование всех ключевых сфер деятельности, создающее институциональные предпосылки для того, чтобы члены общества могли непринужденно действовать в этих сферах. Перспективой устранения гетерономии и отчужденного труда подобный социализм не сможет удовольствоваться уже и потому, что знает, что современное общество до тех пор не станет подлинно социальным, пока в двух других сферах — в личных отношениях и в демократическом волеизъявлении — еще продолжают существовать принуждение, силовое влияние и понуждение. Поэтому, по сравнению с теоретическим самосознанием своих отцов-основателей, радикально видоизмененный социализм хочет большего, и одновременно все же меньшего. С одной стороны, в своем видении лучшего будущего он не может ограничиваться только представлением (из области экономической политики) об обобществлении при помощи адекватных для этого мер сферы экономической деятельности, потому что за прошедшее время он узнал, что и в любовно-семейных отношениях, как и в процедурах публичного волеизъявления, вообще впервые должны быть созданы условия для социальной свободы; при этом, однако, с другой стороны, он, в отличие от своих родоначальников, уже не может больше опираться на знание о каких-либо исторических закономерностях, и поэтому вынужден всякий раз заново выяснять то, что именно должно быть создано в различных социальных сферах, при помощи экспериментальных изысканий и соответствующей модификации своих знаний.
Однако то, на что, несмотря на все постоянные корректировки соотношения цели и средств, всегда должен обращать свои взоры такой обновленный социализм и куда по-прежнему должен указывать ему ретроспективный взгляд на исторические знаки уже проведенных реформ, — это такая форма социальной жизни, в которой индивидуальная свобода процветает не в ущерб солидарности, но с ее помощью. Для этой цели я, в конце концов, не могу подобрать другого названия, кроме непринужденного взаимодействия всех социальных свобод в различии функций каждой из них. Только если каждый член общества может удовлетворять свою разделяемую им с каждым другим членом общества потребность в физической и эмоциональной интимности, в экономической независимости и в политическом самоопределении таким образом, чтобы при этом он имел возможность положиться на участие и помощь своих партнеров по интеракции, наше общество стало бы в полном смысле этого слова социальным.