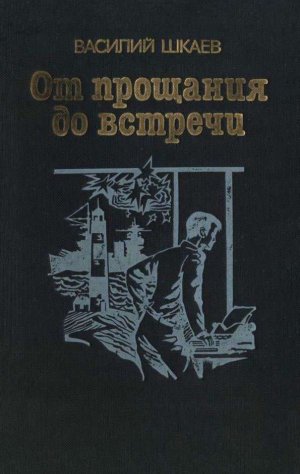
ЛЕДОВАЯ БАЛЛАДА
Рассказ
О морях и о дальних странах Федор Жичин начал мечтать задолго до училища. В юношеских мечтах он избороздил всю Балтику, из конца в конец — от Босфора до Гибралтара — прошел Мраморное, Эгейское и Средиземное моря, боролся с коварным Бискайским заливом, поглотившим тысячи флотских душ. Не однажды заходил он в порты Индии и Японии, Норвегии и Англии.
О чем он никогда не гадал и не думал — это о пехоте. Понимал, что роль ее на войне серьезная, но у него было другое призвание. И вдруг ни с того ни с сего — пехота. Не совсем обычная, морская, но все-таки пехота. И самое удивительное — Жичин нисколько не жалел, даже рад был этому обстоятельству. Да и некогда было жалеть: началась война.
…На дворе стоял март, а мороз завернул тридцатиградусный. Выпустит жгучее жало — дюжина бойцов выходит из строя. Никто еще в глаза не видел противника, а тридцати штыков недосчитывались. Кто-то ноги обморозил, кто-то руки. Так пойдет дело — можно без единого выстрела растерять весь отряд. Эти мысли следовали за Жичиным неотступно и с каждым шагом, с каждым взмахом палок становились навязчивее и тяжелее.
Он шел в третью роту. В походе отряд растягивался на добрый десяток километров, и, чтобы попасть из одной роты в другую, надо было шагать да шагать. Вот он и шагал. Лыжи скользили легко, со свистом, а на душе все равно скребли кошки. Навстречу поднималось солнце, бесконечно белый залив был так ослепителен, что временами темнело в глазах.
Солнце теперь будет мешать целый день. К вечеру глаза покраснеют и наслезятся, как от едкого дыма, а в голове до самого утра будет стоять колокольный звон. Жичин знал это по вчерашнему дню и по ушедшей ночи.
Весь день вчера слепило глаза, щекотало в носу, и весь день хотелось пить, как в знойной пустыне. Солдатский заплечный груз, нелегкий сам по себе, тяжелел час от часу; то и дело прошибал пот. А к вечеру ударил мороз. Белые маскировочные халаты вздулись колоколом, и казалось, чуть стукни — зазвенят на всю Балтику. Идти в таком колоколе было очень неудобно.
Истинное же мучение началось, когда стемнело. По ночам люди обыкновенно спят, даже на войне, а отряду до рассвета надо было во что бы то ни стало дойти до острова и с ходу атаковать его. Вот тут-то и столкнулись с противником, которого явно недооценили. Это были торосы. Обыкновенные ледяные торосы. Из-за войны корабли бороздили Балтику до самой зимы, и весь лед в Финском заливе был исколот и переколот, ледяные глыбы самых невероятных очертаний возвышались на каждом шагу. Днем их легко обойти, а ночью… Нежданно негаданно лыжи натыкаются вдруг на скалу, и летит на нее человек прямо носом. Поломанных лыж и разбитых носов было едва ли не столько, сколько встречалось на пути этих ледяных чудовищ.
На рассвете, подстелив лыжи, вздремнули. Час-полтора, не больше. Продрогли насквозь. Лучше б не ложиться. А когда подсчитали потери от мороза и от торосов, поистине прослезились. Надо было тотчас же что-то придумывать. Жичин, конечно, догадывался, что мысли такие тревожат не одного его, но легче от этого не становилось.
На подходе к третьей роте ему встретились политрук Прокофьев и капитан Матюшенко. Он знал их раньше, оба были из одного с ним училища, а с Прокофьевым они вместе получали назначение в отряд. Бригадный комиссар из Пубалта[1] долго расспрашивал их про училище и раза два, как бы невзначай, поинтересовался, умеют ли они ходить на лыжах. По правде сказать, лыжники они были не ахти какие, но уже смекнули что к чему и, не сговариваясь, выдали себя чуть ли не за чемпионов. Неизвестно, поверил ли комиссар или не поверил, только к концу беседы объявил, что оба назначены в Особый лыжный отряд балтийских моряков: Прокофьев — секретарем партийного бюро, а Жичин — комсомольским секретарем.
Жичин был в восторге. Прокофьев тоже. Какая-то сила мгновенно подняла их и бросила друг к другу. Они вели себя непозволительно, комиссар вправе был наказать их, но в ту же минуту вышел из-за стола и обнял их. Он сказал, что ничего иного от таких молодцов и не ожидал.
Что ж, там, в Кронштадте, они и впрямь были молодцами, особенно Прокофьев. Он держался свободно и просто, хотя всегда был собран, подтянут. Редко кому давалось это сочетание, считавшееся флотским шиком, — собранность и непринужденность. И статен он был на редкость, и китель на нем сидел отменно. Самые отпетые флотские форсуны заглядывались на Прокофьева и в душе завидовали ему.
Он и сейчас ладен, политрук Прокофьев, хотя на нем, как на всех, неуклюжие ватные штаны, такая же телогрейка и грязный, измятый маскировочный халат.
А вот молодцами их сейчас не назовешь. У молодцов все комсомольцы были бы в целости и сохранности.
Эти мысли, должно быть, написаны были у Жичина на лице, потому что капитан Матюшенко, едва с ним поравнявшись, обернулся к Прокофьеву и заворчал потихоньку, но так, чтобы слышно было и ему:
— Что-то наша комсомолия нос повесила. Ни дать ни взять — старички. Завтра утром бой предстоит, а с таким запалом и назад немудрено повернуть. Прямым ходом в Кронштадт. А что? Возьмут да и обгонят беспартийных.
Он скосил на Жичина глаза и едва заметно улыбнулся.
— Вполне возможно, товарищ капитан, — ответил Жичин. В трудную минуту он решил призвать на выручку свой юмор. Так же, по всей видимости, как и Матюшенко. — При таком вожаке все возможно, — добавил он.
Собеседники по достоинству оценили его ответ и прекрасно поняли его первопричину — удрученное состояние.
— На двенадцать часов назначено партийное бюро, — мягко сказал Прокофьев. — Приходите-ка, мил человек, там и поговорим обо всем. Можно бы и сейчас, да нам с начальником штаба, — он кивнул на капитана Матюшенко, — срочное задание дано, и мы до двенадцати — кровь из носу — должны его выполнить.
— Большой привал разве в двенадцать? — спросил Жичин.
— Большого привала нынче не будет, — спокойно ответил Прокофьев. — На ходу, мил человек. Сейчас все будет делаться на ходу. Разве не видишь: иного пути нет.
Жичину об этом как-то не подумалось, и он должен был признаться себе в этом. Он, конечно, признался бы и Прокофьеву, но тот, лихо оттолкнувшись палками, уже догонял капитана Матюшенко.
Заседание бюро началось в двенадцать. Минута в минуту. Только вряд ли его можно было назвать заседанием. Никто не сидел, даже не стоял никто — все двигались. Члены бюро и парторги рот шли рядом с Прокофьевым, приглашенные — чуть сзади.
Впереди двигались штаб и вторая рота, по флангам — первая и четвертая роты. Замыкали походный строй взвод связи и третья рота.
— Если бы у нас было время, — начал Прокофьев, — можно было б порассуждать о необычайности нашего заседания. Но времени нет. Завтра утром прямо с ходу в бой. Предлагаю приступить к делу. Нет возражений? Товарищ Савельев! — крикнул он, обернувшись назад.
От группы приглашенных отделился худой длинный боец и в два рывка поравнялся с Прокофьевым.
— Партийному бюро рекомендовали вашу память. Говорят, что вы всю «Полтаву» наизусть знаете, всего «Онегина».
— Да уж подзабыл кое-что, товарищ политрук.
Прокофьев улыбнулся и сказал, что партийное бюро разрешает коммунисту Савельеву на время забыть и «Онегина» и «Полтаву». А вот то, что будет на бюро, забывать нельзя. Надо внимательно все слушать, запоминать и на первом же большом привале весь разговор обратить в толковый, деловой протокол. Ясно?
— В повестку дня рекомендуются два вопроса, — продолжал Прокофьев. — Первый — прием в партию. Второй — борьба с обмораживанием. Есть другие предложения? Нет. Товарищ Ишутин!
Не повезло Ишутину. Рванулся он, чтоб побыстрее предстать перед партийным бюро, но, как на грех, слетело вдруг крепление, соскочила лыжа, и набиравшему темп заседанию пришлось пережить неприятную паузу. Жичин полагал, что Прокофьев немедленно учинит парню разнос — так, во всяком случае, сделал бы он, Жичин, — но политрук поступил по-другому. Он участливо осведомился, в порядке ли теперь крепление, сам убедился, что для беспокойства нет причин, и лишь после этого продолжил заседание.
— В партийную организацию поступило заявление, — сказал он и полез было в сумку за этим заявлением, потом улыбнулся, махнул рукой. — Сам заявит. Кто рекомендующие?
— Командир отряда, краснофлотец Федюшин и я, — ответил парторг второй роты Резвов.
— Ясно. Пожалуйста, товарищ Ишутин.
— Нам сказали, что завтра бой, — начал Ишутин. — Вообще, может, страшно будет, как знать? А если примут в партию, у меня не будет права… И вообще… У меня отец коммунист, старший брат тоже…
— Все?
— Все, товарищ политрук.
— Вопросы?
Самым въедливым дознавателем оказался парторг второй роты Резвов. Для начала он спокойно поинтересовался, в порядке ли у Ишутина ноги. Он прекрасно знал, что ноги у Ишутина обморожены, и этот вопрос рассердившийся Ишутин не мог расценить иначе, как ехидство. Будь он с Резвовым один на один, он бы по-дружески сказал ему пару крепких слов. Знал это парторг, потому и приберег вопрос для бюро. Пришлось ответить, что ноги не совсем в порядке. Последовал еще вопрос, по каверзности не уступавший первому. Резвов спросил, как это бывалый, опытный краснофлотец умудрился обморозиться, словно был захудалым салажонком. Ничто не могло так задеть Ишутина за живое, как уподобление салажонку. И опять он не мог толком отбрить Резвова, потому что разговор шел официальный. Мрачно, нехотя ответил Ишутин, что проявил халатность. И на этом Резвов не успокоился. Ничего Ишутину не оставалось, как сознаться: ноги обморозил по той причине, что были малы ботинки. Больше ничего добавлять не хотел. За него сказал Резвов. Ботинки Ишутину и вправду стали малы, но лишь… со вчерашнего вечера. Что за чудо с ними вышло? Не мороз ли ужал их? Ишутин может и на мороз взвалить вину, его только слушай. А вины-то, по правде говоря, и не было. Есть во второй роте такой краснофлотец по фамилии Рьян. Форсить мастер, а службу за него другие неси. Вечером вчера как ударил мороз, так Рьян и заплясал. Этот форсун, оказывается, выбрал себе ботинки, которые с одним простым носком едва наденешь. Это чтоб нога выглядела изящно. Остальное ясно без слов: сердобольный Ишутин снял свои ботинки, отдал Рьяну, а его недомерки взял себе. Вот и поплатился. За сердобольность. А кто для отряда нужнее: разгильдяй Рьян или классный пулеметчик Ишутин? Вроде бы и нет вины у комсомольца Ишутина — за собственное добро пострадал, а делу вред.
— Вред мне, а не делу, — возразил Ишутин. — Я был в строю и буду в строю. Вопрос не стоит выеденного яйца, нечего его мусолить.
Пока Ишутин говорил, на него неотрывно смотрели улыбчиво-дотошные глаза Прокофьева. Было видно, что пострадавший пулеметчик по душе пришелся партийному секретарю. Может быть, поэтому и нахмурился Прокофьев при его последних словах: от хорошего человека не хотелось слышать опрометчивых высказываний. Вздохнул Прокофьев и сказал, что очень просто и легко принадлежать только себе. Сам себе голова, сам хозяин, что хочу, то и делаю… Легко, но бесплодно. Пустоцвет. Низшая организация сознания… А коммунист на то и коммунист, чтоб быть в ответе за все дела на земле. И не по долгу — по совести, по сердцу. С такой психологией человек всегда будет держать себя на «товсь». Он не дрогнет перед врагом, хотя, возможно, и будет испытывать страх. Он пересилит страх. Он не обморозит ноги перед важным боем, хотя на дворе может быть трескучий мороз, а на ногах тесная обувь. Не обморозит, потому что будет готов к любой неожиданности. Потому что знает: без него отряд не может воевать в полную силу… Ишутин не такой еще человек, но уже на подступах. Пожалуй, даже на ближних. Принадлежность к партии во многом поможет ему и ко многому обяжет.
Неизвестно как на кого, на Жичина же слова Прокофьева произвели впечатление. Может быть, потому, что он знал наверное: доведись Прокофьеву оказаться на месте Ишутина, он без оглядки сделал бы то же самое, с той лишь разницей, что не обморозил бы ноги. Как ему удалось бы это, Жичину неведомо, знал только, что удалось бы.
Поймав его взгляд, Жичин спросил:
— Не лучше ли мне в роты податься? Надо готовить комсомольское бюро.
Прокофьев скосил на Жичина прищуренные глаза, улыбнулся. Добро так улыбнулся, бесхитростно, до самого донышка.
Жичин замедлил шаг. Милях в полутора позади шел взвод связи. Начинать, конечно, надо с него, потому что совсем неожиданно на Жичина кроме комсомольских дел возложили хлопотные обязанности политрука этого взвода, и он в первую голову был теперь в ответе за связистов. Хотел было остановиться, в ожидании их отдохнуть малость, но передумал: расслабишься, раскиснешь, а до вечера надо во всех ротах побывать и бюро провести. Ой-ой какая нагрузочка, если учесть, что у зимнего вечера ноги побыстрее оленьих: подкатит — не заметишь. Выдержать бы, а передых можно сделать потом, завтра, после боя. Сейчас бы время поразумнее поделить.
Он повернул лыжи, оттолкнулся во всю силу и покатил навстречу связистам. Почувствовал сразу: назад идти труднее. Если бы прямым ходом в Кронштадт, наверное, сподручнее было бы. А тут назад, потом вместе с ними этой же дорогой вперед, в роты…
Лучше не думать об этом. Идти и идти. Мерный шаг так и настраивает на трезвые мысли. Первым делом всех до единого надо опросить: кто как приспособился к морозу, какая нужна помощь. Не забыть, конечно, о душевном настрое. Особо с весельчаками потолковать; они, как никто, могут подходящую погоду среди ребят установить, если постараются.
Все самое хорошее сравнивают с красным солнышком. И верно, что может быть лучше солнца? А балтийцы-лыжники в эти дни только и ждали, чтоб оно скрылось. Поначалу белая бесконечность залива, безмолвная и величественная, пооткрывала им рты. Чудо. Другой мир. В Жичине ликовало все и пело от необозримой красоты, от сознания своей силы. Еще бы: перед глазами запросто расступался океан льда, а Жичину едва стукнуло двадцать. Того и гляди, к облакам взмоет. Не успел он, однако, свыкнуться как следует с гордой ролью хозяина белого безмолвия, как во все его мышцы незаметно вползла усталость. Страшная это штука, когда уходят силы. Они уходят и тащат за собой человека всего без остатка. Вслед за усталостью в каком-то закоулке души он услышал вдруг новую песню. Она только рождалась, но в ней уже угадывался противненький мотив: человек в такой ледовой пустыне-громадине не более маленькой снежинки… Не очень ладная песня. Он тотчас же прогнал ее прочь.
Сейчас ни восторга не было, ни уныния. Было неотложное дело — уберечь бойцов от мороза, настроить их души к бою, — и все его существо сосредоточилось на этом деле. За вчерашний день он постиг важную истину: в боевом походе труден каждый шаг, и каждый шаг, в конце концов, преодолевается. Это и есть, как он уяснил себе, боевое рабочее состояние. Каждый человек приспосабливается к нему по-своему. Жичин приноровился каждое препятствие преодолевать по частям. То есть все свое внимание, все силы сосредоточивал на том шаге, который необходим был в данную минуту. Помогало. Вот и сейчас… К вечеру ударит мороз — будет воевать с морозом, а сейчас, сию минуту, больше всего мешало солнце, и все проклятия — тысяча проклятий — посылались и про себя и вслух светилу. А оно сверкало всеми своими лучами и заставляло блестеть, искриться каждую снежинку в этом необъятном белом океане. Весь поток света тысячью игл неудержимо лез в глаза, и не было от него спасения. Он смежил веки, но острые лучи проникали и сквозь них, вызывая резь и ломоту. Очки, простые темные очки — вот что защитило бы их.
«Козырек», — мелькнуло вдруг в голове. Ну конечно же, козырек. Очков и в помине не было, а козырек великолепно спасал человека от солнца. Как же это он недомозговал вчера до такой простоты? И никто ведь не додумался — вот беда. Тотчас же хотел смастерить козырек, достал уже плотную бумагу из сумки и передумал. «Провозишься самое малое полчаса, — прикидывал он, — а люди зря будут страдать все это время». Сейчас же к людям, без оглядки к людям! Силы как будто прибавились, и до взвода он докатил в один миг.
Каково же было его удивление, когда и у командира, и у старшины, и у многих-многих бойцов он увидел белые козырьки, щеголевато притороченные к шапкам-ушанкам! Вдобавок командир взвода, ревновавший его персону к отрядной комсомолии — «У всех политруки как политруки, а у нас — совместитель», — смерил Жичина насмешливо-сочувствующим взглядом и приказал старшине немедленно прикрепить к его шапке козырек, приличествующий должности. Старшина незамедлительно исполнил приказ. Легче стало глазам с этим нехитрым устройством. Резь, во всяком случае, прошла сразу.
Доброта их растрогала Жичина, и он рассказал старшине и командиру о том, как спешил к ним со своим открытием, а они, куркули и жадюги, успели не только перехватить мудрую идею, но и массовое производство наладить.
— Снять с него козырек! — воскликнул командир. — Пусть налаживает свое производство.
Старшина сделал вид, что со всех ног бросился исполнять приказ, а Жичину тоже, конечно, для виду пришлось увертываться от него. Они молодцы, братья связисты. На шутки откликаются, сами шутят — это ли не признак бодрого духа? Оказывается, они еще с утра и опросили и проверили каждого бойца. Два ротозея все-таки пообморозили себе ноги. Хорошо, что не сильно. Одно оставалось старшине: раскошелить свой потайной запас обуви. Он сделал это с превеликим сожалением. Оглядев же скромные остатки, он твердо-натвердо наказал звать его немедленно, едва у кого начнут зябнуть ноги. Спустя час его позвали. Нога зазябла у его земляка-воронежца. Старшина остановил взвод, поставил незадачливого бойца перед строем, приказал снять ботинок, носок и сунуть замерзшую ногу в снег. Земляк опешил, но старшина настоял на своем. Минутой позже, опустившись на колени, старшина яростно растирал ногу пушистым снегом. До тех пор орудовал руками, пока воронежец не взмолился:
— Хватит, вся нога горит!
Тогда старшина вытащил из сумки сухую мягкую тряпку, вытер ногу и сказал, чтобы быстрее надевал ботинок.
— Ясно теперь, как греть ноги? — спросил он у бойцов.
— Ясно! — громово ответил взвод.
В прищуренных глазах командира притаились довольные, веселые зайчики, готовые по первому же сигналу хозяина заплясать-запрыгать. Хозяин удерживал их, потому что в эту минуту его сигнала ждали четыре десятка глаз. Наконец он махнул рукой, прозвучала команда старшины, и взвод связистов споро зашагал по мартовскому заливу.
— У тебя, поди, дел уйма по твоей пионерской линии, — сказал он, повернув к Жичину голову. — Так ты иди, мы тут со старшиной одни управимся.
Вот это Мурзин, вот это командир! То, что Жичину больше всего сейчас надо. Он крепко пожал Мурзину руку. В третьей роте он уже побывал, теперь в первую.
Стоило немного поднажать, как вновь явилась непрошеная гостья — усталость. Первым делом она вселилась в ноги, потом вероломно атаковала поясницу и сделала попытку захватить остальную территорию его тела.
Коварный противник — усталость.
Жичин знал по вчерашнему опыту, что самое лучшее — это не обращать на нее внимания. Идти и думать о чем-либо интересном, думать и идти. Так и поступил. Сами собой пришли мысли о Мурзине, о связистах. Им хоть бы что: идут веселые, бодрые, друг перед другом стараются. Они из одной части — из школы связи. И командир оттуда, и старшина. Знают один другого, верят друг другу. Великое это дело — взаимное доверие. Без него ни в походе, ни в бою. А все роты — их было четыре — собраны, как говорят, с бору по сосенке: со всего Балтийского флота по одному, по два бойца из подразделения. Не только боевых задатков и привычек — имен и фамилий друг друга не знали. Командирам в этих ротах приходилось особенно туго. Кому что лучше поручить, когда ни фамилия бойца, ни его лицо ничего еще не говорят командиру? Жичин знал это по себе. Отряд был сформирован двое суток назад, и Жичину удалось пока познакомиться лишь с комсоргами да с членами бюро. Не распознать, не в душу их проникнуть, а лишь познакомиться.
«Теперь все надо делать на ходу», — вспомнились ему слова Прокофьева.
Он прав, конечно, как всегда прав, этот въедливый политрук Прокофьев. Иного пути просто нет. Только надо быть отличным лыжником, чтоб поспевать из одной роты в другую. Ведь надо же хотя б по одному разу в день побывать в каждой роте. Обязательно надо. А тут поясница не разгибается… Э-э, худо, братец. Разогну-улась, куда денется?
А как, интересно, Прокофьев себя чувствует? Он с утра побывал уже во всех ротах, успел вместе с начальником штаба выполнить какие-то задания, партийное бюро провести… Устает он или же поясница у него резиновая?
Первую роту Жичин догнал, но если б надо было догонять кого-то еще, он, разумеется, не смог бы: выбился из сил.
По обмороженным ногам эта рота вышла в «рекордсмены». Хочешь не хочешь, а задержаться здесь придется. Он дал командиру роты совет: сходить во взвод связи и попросить у старшины две-три пары больших ботинок или валенок. Тот хотел сию же минуту послать своего старшину, Жичин отговорил его: не такой у связистов старшина, чтоб сделать услугу своему коллеге. Уж если и уступит он небольшую толику, то только в случае, если попросит его об этом командир или политрук. Ротный повернул голову к политруку, засмеялся.
— Есть такие люди, — ответил политрук. — Сейчас же, пожалуй, и махну к нему. Валенки-то нужны позарез.
Он сразу и махнул, а Жичин рассказал ротному, как этот старшина взвода перед строем яростно растирал снегом замерзшую ногу одного бойца-разгильдяя.
— Да он просто молодец, этот ваш старшина, — сказал ротный. — Мне бы такого… — Он вздохнул, повернулся к Жичину и вперил в него серые, чуть улыбнувшиеся глаза. — А растирание мы сейчас тоже продемонстрируем. Перед всей ротой. У меня у самого нога подмерзла.
Продемонстрировал. Не спеша, с толком.
— Как в печке побывала, — громко сказал он, показывая на красную босую ногу.
Для вящей убедительности он решительно опустил ногу в сугроб и не вынимал ее оттуда с минуту. Всю эту минуту Жичин смотрел на строй, на бойцов. Пожалуй, все знали: при обморожении надо растираться снегом. Этому в северных краях учат раньше азбуки. Знать — знали, а вот решиться не могли. И не оттого, что смелости не хватило, — хлопот много: надо ведь остановиться, снять ботинки, растереть ноги, вытереть их, потом надеть носки, ботинки да еще догнать товарищей. Во-о обуза какая. Легче перетерпеть. Ведь, ощутив боль, человек не думает обморозиться всерьез. А сейчас начал сам ротный, все стоят на месте, догонять никого не надо, поснимали ботинки и давай с визгом и смехом растирать друг другу ноги. Ве-се-ло. Как-то само собой вышло все на славу.
— А ты, оказывается, дельный парень, — сказал ротный. — С виду не подумаешь.
Жичину стало неловко.
— Попробуй после такой похвалы задержаться в роте, — ответил он.
Ротный пристально поглядел Жичину в глаза, хотел, видимо, убедиться, не всерьез ли он. А ему после снежных ванн, развеселивших всю роту, и правда нечего было делать здесь. С комсоргом обо всем договорились…
Жичину теперь надо в четвертую. Это недалеко — четверка идет параллельно, — после похвалы ротного как-нибудь дошагает. А как будет вторую догонять — ума не мог приложить. Она теперь, поди, километров на пять вперед ушла. Ладно, надо еще до четверки добраться.
Четвертая рота полюбилась ему из-за комсорга. Диво комсорг был у них — Саша Орленков. «Если б в Пубалте его хоть немного знали, он, а не я был бы сейчас комсомольским секретарем в отряде. И это было бы только справедливо, — думал Жичин. — В самом деле: что я в сравнении с ним? Ну честный, даже принципиальный, ну, может быть, не совсем уж глуп. Дисциплинирован. Все эти свойства должны быть у руководителя. Но должно быть и нечто иное — талант. Особый дар вести за собой своих же товарищей. А где он у меня, этот дар? Меня самого вести надо. Саша Орленков — другое дело. Он сыграл на гармошке — и всех покорил. Сказал два слова, засмеялся — все хохочут. Вокруг него всегда толпа. Где спрятан у него этот чудо-магнит, притягивающий души? Вот бы узнать…
Часто говорят: командир — это голова, политрук — душа подразделения. Это верно. Так, во всяком случае, должно быть. А бывает не всегда. Где уж как сложится. Во взводе связи, к примеру, и душа и голова один человек — лейтенант Мурзин. В отряде — день ото дня больше и больше — головой становится начальник штаба, а душой — политрук Прокофьев. В четвертой — бесспорно, Саша Орленков».
Все устали… Жичин судил по себе, по орленковцам. Спины как палки, не гнутся. Но у Саши Орленкова — два груза за плечами, а он в ус не дует. Играючи идет. Кто-то, должно быть, из сил выбился — выручает. Увидел Жичина, заулыбался.
— Привет верховной власти!
Улыбка невольно передается и Жичину. А вокруг лица сумрачные. Чем-то развеселить бы хлопцев, на уме же, кроме усталости, ничего. Хоть тресни. Саша Орленков и тут не подкачал. Оглядел скучные физиономии, хмыкнул себе под нос, спросил:
— Про Марусю нашу рассказ не слыхали?
Никто ему не ответил. Другой бы после такой молчанки сник либо в бутылку полез, он же только больше раззадорился.
— Это вам не просто Маруся, а командир линкора. Великолепный, скажу я вам, командир. Дело свое знал как бог. Может, даже лучше. Бывало, весь Кронштадт выходил смотреть, как он к стенке швартуется. Представьте себе картину: несется полным задним ходом махина длиной с полверсты, летит, как туча-смерть, — вот-вот в стенку врежется, — и вдруг в секунду, одному ему открывшуюся, командует: «Полный вперед!» Послушные машины в один миг устремляют корабль вперед, а он все еще идет назад, движимый той, первой силой, и у самой стенки, вершок в вершок, легко, плавно замирает. Вздох облегчения вырывается у кронштадтцев, а матросы на линкоре исходят гордостью.
Саша смолк, чтоб перевести дух, и в минутную эту паузу врезался добродушный бас:
— И мастак же травить ты, Сашок. Где ж это видано, чтоб линкор швартовался к стенке?
Орленков раскатисто захохотал. Он смеялся долго и заразительно. Все знали, что линкор к стенке не швартуется: слишком мелко ему у стенки, — и все сделали вид, что не заметили этого изъяна в рассказе. И бас не должен был уличать Орленкова, а он уличил, и это было самое смешное. Жичин оглянулся и увидел, как на усталых лицах ребят медленно стали всплывать улыбки.
— А Марусей прозвали командира по той причине, — продолжал Орленков, вдоволь насмеявшись, — что был у него тонюсенький голосок. Как у девочки. Нельзя сказать, чтоб это было прилично с нашей стороны, но вот Маруся и Маруся. Много разных историй приключилось с ним. Будь у него обыкновенный голос, никто бы этих историй и не заметил. А тут что ни история, то смех. Идет он, к примеру, по верхней палубе к концу аврала. В белоснежных перчатках, на голове такой же белоснежный чепчик. За ним, понятно, вестовой на полусогнутых. Снимает Маруся чепчик да ка-а-ак пустит его по палубе вниз чехлом, как ребятишки бросают по земле отполированные битки. Вестовой стремглав мчит за чепчиком. Приносит, подает, как небывалую драгоценность. И так покрутит фуражку Маруся, и этак. Хорошо, коль чисто выдраили палубу, а если узреет на чехле хоть крошечное пятнышко… «Позовите ко мне старшего помощника!» — крикнет он в гневе, а голос от гнева еще тоньше. Вестовой, конечно, пулей искать помощника, а на палубе то тут, то там вспыхивают смешки. Беззлобные. Вспыхнут и тут же гасятся. Это чтоб — боже упаси — до него не долетело. Не хотели обижать. Прибегает старший помощник.
«У вас на корабле сущий беспорядок, — говорит он старпому, будто сам к этому кораблю вовсе не причастен. — У хозяйки на кухне чище, чем у вас на корабле». Пока старпом объясняет ему, что палубу обязательно будут драить еще раз — новыми щетками, с мылом, — всевидящий взгляд командира замечает матроса в растрепанной, замасленной робе. «А это что? — вопрошает он. — Встретишь в трюме, за разбойника примешь с большой дороги. Отругайте его по всем морским уложениям». И торопливо уходит, затыкая на ходу уши. Знал, что иного матроса проймут только крепкие слова…
Или такой случай. Возвращается эскадра в Кронштадт, все только и думают о береге, как бы лишнее увольнение заполучить. Сигнальщик просемафорил на эсминец какой-то приказ флагмана, оглянулся по сторонам и вновь заработал флажками. Рвали воздух его флажки — так немыслимо быстро передавал он букву за буквой. Казалось, лишь опытный его коллега на эсминце мог прочесть эти слова: «Увольнение пойти не могу — Маруся влепила наряд вне очереди». Но едва успел отмахать последнее слово, как на плечо ему опустилась рука. «Передайте своему дружку на эсминец, — услышал он тонкий голос, — что Маруся влепила вам еще два наряда».
Все, кто только это слышал, грохнули от смеха.
«Молодец Саша! — подумал Жичин. — И задышалось вроде легче, и поясница ныть перестала. Выходит, и меня на лопатки положил, и все мои недуги. Да разве мои только — все ребята взбодрились. Это ж надо — какие силы скрывались в улыбке!»
В голову Жичину пришла еще одна добрая мысль: пока есть запал, нужно немедля во вторую роту. Саша вызвался проводить его. Жичин подумал, что у Орленкова есть к нему разговор, и согласился. Они прибавили шаг и вскоре оторвались от четвертой роты; шагалось хорошо, свободно. Удержать бы этот шаг, и вторую роту можно было бы догнать засветло.
Саша рассказывал о ребятах, и Жичин все время удивлялся его острому глазу и умению по самым вроде бы мелким штрихам составить исчерпывающее представление о человеке. Один за другим, как наяву, вставали перед Жичиным ребята-комсомольцы: смельчаки и балагуры, скептики и остряки… Чего только не откопал в них Саша Орленков! Жичин представил себе на минуту походный строй роты, всех чем-либо запомнившихся хлопцев и старался отыскать среди них того, о ком Саша сейчас рассказывал. Ошибся дважды, а угадал много раз. Это так захватило Жичина, что он совсем забыл о времени, об усталости.
Когда ж впереди из-за ледяных торосов явственно показалась вторая рота — шевелящееся серое пятно на розовом от закатного солнца снегу, — Саша сказал со смущенной улыбкой:
— Вот, пожалуй, и все мои характеристики. К остальным приглядываюсь.
Жичину стало яснее ясного: характеристики были чистейшим предлогом. Просто Саша хотел помочь ему догнать вторую роту. Сомневался в его силах. А сейчас, когда догнали, и догнали довольно легко, Саше было неловко за свои сомнения. Жичина до краев наполнила нежность к этому большому редкому парню. Как бы только не выказать ее и не смутить его еще больше.
— Послушай, — сказал Жичин небрежно, как бы между прочим, — а тот сигнальщик с линкора был, случайно, не ты?
Саша вскинул на Жичина изумленные глаза.
— Как ты узнал?
— Думаешь, один ты хитрый?
— А все-таки?
Невдомек было бесхитростному Саше, что рассказать о сигнальщике так проникновенно и так точно мог только сам сигнальщик. Когда Жичин сказал ему об этом, он искренне огорчился.
— Этак я и скрыть ничего не смогу.
— А что тебе скрывать?
— Может быть, и нечего, но уметь-то надо.
— Не надо. Это же прекрасно, когда нечего скрывать.
На прощание он сказал Жичину, что Маруся влепила ему не только наряды, но и благодарность. В приказе. За отличное владение флотской специальностью. Признался: при давешнем рассказе благодарность эту он замолчал сознательно. Подумал, что, если упомянет ее, кто-нибудь обязательно догадается, что речь ведет не о ком-нибудь, а о себе. Просчитался — догадались и без этого.
Когда до хвоста второй роты оставалось рукой подать — метров триста, не больше, — Жичин почувствовал вдруг, что силы уходят. Странно как-то обмякли руки, ноги, тяжестью налилась голова. По всему телу обильно выступил пот. Политрук Прокофьев назвал его святой солдатской росой. Хорошо назвал, но ручейки этой росы, бежавшие по лицу, по спине, раздражали, злили, окончательно выбивали из колеи.
Жичин заметил: дистанция между ним и второй ротой не сокращалась, как было до сих пор, а с каждой минутой увеличивалась. Хуже не придумаешь. Из беды мог бы выручить оркестр. Бывало, до смерти устанет человек на учениях, а услышит добрый марш — ноги сами несут вперед. Где сейчас возьмешь оркестр? Сейчас бы Сашу вернуть Орленкова — любой оркестр заменил бы. И Сашу не вернешь.
«Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц…» Жичин, наверное, не смог бы сказать, где сейчас родилась эта мелодия. Может быть, в нем самом, а могло статься, из второй роты донеслась. Дело не в этом. Главное — он запел. Вернее, все в нем запело. Ручейки пота все еще катились по желобку спины, этому отменному руслу солдатской росы, но они уже не страшили. Было не до них. Чтоб преодолеть пространство и сделать сказку былью, нужны были силы, ой-ой какие силы, и они откуда-то пришли вместе с песней, расправили Жичину плечи, весело подтолкнули вперед. Оркестр был бы, конечно, лучше, но жить можно и без него. Жить можно с песней, если слились с ней каждый нерв, каждый мускул. Еще как можно жить — припеваючи.
В хвосте второй роты Жичин увидел парторга Резвова. Он был хмур, а в Жичине еще не умолкла песня.
— Отчего не впереди, не на лихом коне?
— Замыкающим поставили, — ответил он нехотя.
— Тоже надо.
— Надо.
Жичин поспешил вперед, в голову колонны. Песня в нем затихала, теперь взгляды ребят подгоняли его. Под этими взглядами пасовать было невозможно: легче умереть, чем опозориться. Слава богу, обошлось; не умер и не опозорился.
Старший лейтенант Струков, лихой командир второй роты, встретил Жичина насмешкой:
— До операции еще далеко, а начальства — хоть пруд пруди.
Жичин не сказал бы, что такая встреча обрадовала его, но едва успел так подумать, как услышал знакомый звонкий смех. Смеялся человек, шедший рядом со Струковым.
— Не узнаешь, мил человек?
Это был Прокофьев. В вечернем сумраке Жичин не сразу узнал его. Утром они условились: со второй ротой пойдет Жичин, а он должен был заняться другими делами, и Жичин никак не ожидал встретить его здесь. Оказалось же, что и он выпросился у комиссара. Что ж, лишняя голова и лишний штык не помеха.
Когда Жичин спешил в роту, тешил себя надеждой: «Лишь бы догнать, а там веселей будет. Там и шаг другой — человеческий». Да, колонна шла нормальным, умеренным шагом. Ему же теперь и этот шаг был не под силу. Вновь стал одолевать пот. Откуда он берется? С самого утра маковой росинки не было во рту. Как назло, в голову лезли мысли о бане, о постели. Чуял, словно наяву, как, обданный крутым кипятком, пахнет березовый веник. Этого еще не хватало…
Струков и Прокофьев заговорили об операции. Рота шла в разведку, чтоб выявить огневые точки противника на небольшом острове, приткнувшемся почти к самому берегу. Жичину известно было одно: к утру во что бы то ни стало отряд должен взять этот остров, так как он мешал нашим войскам продвигаться вперед. Обходить же его было рискованно — можно оказаться между двух огней.
Какой бы вариант ни обсуждался — большая надежда возлагалась на осветительные ракеты. Здравый смысл подсказывал и другое: сосредоточить бойцов-ракетчиков следовало на юго-востоке острова, поскольку огневые точки противника скорее всего были именно там.
— А что, если силы на острове незначительны?
Этот каверзный вопрос вроде бы нечаянно уронил Прокофьев, стреляный же воробей Струков его только и ждал.
— Этот вариант в приказе не предусмотрен, — ответил он поспешно и тут же выжидательно умолк. Прокофьев не говорил больше ни слова. Кто же кого перемолчит? Жичин видел: и тот и другой думали об одном и том же, оба настроены были атаковать остров, не дожидаясь отряда, окажись это по плечу. И молчанку их Жичин, кажется, начинал понимать. Струкову не хотелось одному принимать рискованное решение, а Прокофьев хотел, чтоб он все-таки принял это решение, — на то он и командир.
Жичина их игра захватила. Теперь он знал почти наверное, что роте придется и разведывать огневые точки, и штурмовать их. Во всяком случае, надо быть к этому готовым. Нет слов: заманчиво, так сказать, перевыполнить приказ. Но ребята идут на пределе, и как бы этот штурм боком не вышел.
Струков не выдержал.
— Если мы вместо атаки преподнесем отряду отдых, взбучки нам, наверное, не будет, — сказал он почти твердо.
— Победителей не судят, — подтвердил Прокофьев.
Это — уже решение. Жичину было интересно: подумали они о ребятах иль глядели только на себя, на собственные силы? И сами ведь не железные. Он слышит тяжелое, прерывистое дыхание Струкова, и сомнения гложут его все сильнее. Может быть, на порыв ставку делают, на всесокрушающее «ура» или честолюбие взвилось выше их самих? Не должно бы: Прокофьев был не такой. И командир тоже.
— Командиров взводов ко мне! — властно распорядился Струков, и шедший позади связной тотчас же скрылся в темноте.
Повеселел Струков после своего приказа и задышал вроде бы легче. Лица Прокофьева Жичин не видел, но чувствовал, что Струков одним махом и у него снял с плеч тяжесть. Один Жичин не мог отогнать сомнения, хотя и в него холодным ужом вползал воинственный пыл, перемешанный со страхом. По рукам, по спине целым войском забегали мурашки, щекоча и будоража тело и душу. Эта бегающая, всеобъемлющая до спазм щекотка не покидала его до самой атаки.
Операция началась в полночь. Первому взводу выпало самое опасное и самое красочное дело. Ему было приказано растянуться в линию вдоль юго-восточного берега острова. Каждый боец получил ракетницу и комплект разноцветных ракет. Прокофьев не упустил возможности пойти с этим взводом. Жичина направили во второй взвод. Им было отдано на разведку и на штурм восточное побережье. Остальным взводам достались запад и север. Командир роты Струков, оставив при себе отделение, расположился на стыке первого и второго взводов. Это было самое выгодное место для обзора и для управления.
Жичин лежал на снегу и пытался представить себе маяк — главный объект атаки двух отделений второго взвода. Перед глазами вставали десятки маяков, виденных раньше, а этот никак не давался, ускользал из поля зрения. «Шут с ним, — подумал он. — Только бы взять его».
В полуночном небе хлопнула и рассыпалась мелкими брызгами красная ракета. Жичин вздрогнул. Ждал ее каждый миг, а она все равно взвилась неожиданно. Вслед за ней взлетели в небо десятки ракет. Целый каскад огней — белых, желтых, зеленых — опоясал юго-восточный берег. Не успел он потухнуть, как новый эшелон разноцветных звезд вспыхнул на том же месте. Остров был как на ладони. С берега послышался лай собак, крик петухов, потом забегали люди. Раздалась пулеметная очередь, за ней вторая, третья. Почти одновременно грохнули три орудия. «Не густо, — подумал он. — Может, и правы Струков с Прокофьевым. Если пойдет дело, как задумано, и в отряде будет меньше потерь, и разрушений на острове будет меньше».
А пулеметы и пушки гвоздили по первому взводу. Снаряды со звоном врезались в лед, и в тот же миг в воздух взлетели фонтаны воды и осколков льда. Освещенные цветными огнями, они являли собой эффектное зрелище.
Жичина до озноба охватила радость, когда в ту же минуту слева от себя он увидел две красные ракеты, выпущенные одна за другой. Это был сигнал к атаке. Он поднялся во весь рост, крикнул «ура» и понесся к берегу. Слева, справа, сзади неслось это «ура», и он бежал, не оглядываясь, кажется, даже не дыша.
К нему подбежали два бойца. Ползком они добрались до калитки прибрежного дома. Там никого не было. У крыльца — собака на цепи. Невинную лайку хозяева бросили на произвол судьбы.
— Цыц, лохматая! — прикрикнул на лайку боец, в котором он узнал Ишутина.
— Как нога? — спросил Жичин.
— Порядок.
— К маяку двинемся иль передохнем?
— По мне, так лучше двигаться. Отдохнем на маяке.
Они поползли. Где-то совсем рядом, захлебываясь, чужим голосом строчил пулемет. Пришлось залечь. Как Жичин ни старался определить, откуда он бьет, не мог. То впереди послышится, то справа.
— Он же на маяке, гад! — шепотом прокричал Ишутин. — Мы его, миленького, сейчас же и схватим.
Ишутин рванулся было вперед. Жичин остановил его. Объяснил, что надо зайти с севера, а то, пожалуй, и схватит очередью.
— Другие подоспеют, и мы останемся с носом, — выложил он последний свой козырь, но и этот довод не поколебал решения Жичина.
— За мной! — скомандовал он и пополз вправо. На минуту представил, какие слова посылал ему вдогонку Ишутин, и стало весело. Должно быть, поэтому полз он легко и сноровисто. Многоопытный Ишутин едва поспевал за ним.
Доползли, толкнулись в дверь — не тут-то было. Решили чуть-чуть отдышаться. К Жичину подоспели еще три бойца, потом еще двое. Сверху полоснула длинная, отчаянная очередь. До них ему теперь не достать, хотя они были у самых его ног, а ребятам из первого взвода, наверное, туго приходится. Пора заткнуть ему пасть. Заходили ходуном приклады, топоры, а дверь, как была, так и осталась на месте. «На совесть сработано», — подумалось Жичину. Он приказал всем отойти и начал готовить связку гранат.
— Разрешите мне, — попросил Ишутин. — Я на подрывном деле собаку съел.
Жичин молча уступил ему гранаты. Он, должно быть, впрямь знал толк в подрывном деле. В считанные минуты он каким-то чудом ухитрился сделать углубление в толстенной кирпичной стене у самого засова, подкреплявшего дверной замок, и тотчас же рванул взрыв. Дверь была взломана. Жичин подтолкнул ее и вошел в помещение. Вдоль круглой стены винтом уходила вверх железная лестница. Он поднял винтовку, трижды наугад выстрелил. Стало тихо и жутко, как в погребе.
— Разрешите мне, — услышал он голос Ишутина. — Я с такими субчиками управлялся за милую душу.
Не-ет, Ишутин. Жичин должен первым посмотреть на своего противника, глаза в глаза. С этой мыслью он бросился вверх по узким крутым ступенькам. Стук промерзших ботинок гулко отдавался по всему маяку. Рывок — и он на верхней площадке.
Противник его поднял руку. Другая рука беспомощно повисла на пулемете, на тыльной стороне ладони текла кровь. Рядом на деревянной тумбочке стоял телефон, радиопередатчик. Он был молод, первый его противник, и голубоглаз. В сжатых губах ни кровинки. Он смотрел прямо, спокойно. Жичин не заметил в его синем взгляде ни страха, ни раскаяния. Кроме спокойствия было, пожалуй, лишь любопытство.
Вдруг он громко чихнул.
— Прошу прощения, — сказал он по-русски и улыбнулся. Вбежал Ишутин, обыскал его, забрал оружие, документы.
— Перевяжите ему руку, — сказал Жичин.
— Это можно, это мы мигом, — ответил Ишутин.
Он достал из сумки бинт, пузырек с йодом и, как заправский медик, наложил безупречную повязку.
— Спасибо, — сказал синеглазый парень. — Может быть, табачком угостите?
Жичин пожал плечами, поскольку был некурящий, а Ишутин вновь тут как тут: свернул богатырскую цигарку, зажег спичку.
— Спасибо, — еще раз поблагодарил финн. — А нам говорили: большевики загоняют пленным под ногти раскаленные иголки.
— Дурачили вас, да и только, — сказал Ишутин.
— Это уж точно, — согласился финн, затягиваясь махорочным дымом и, видимо, испытывая истинное наслаждение. — А вас не дурачили? — спросил он неожиданно.
— Ты говори, да не заговаривайся, — предупредил его Ишутин.
— Что вы имеете в виду? — спросил финна Жичин.
— Ну, может быть… — Он смутился. — Может быть, и вам говорили про раскаленные иголки, только про финские.
— Про финские иголки никто нам ничего не говорил, а вот про мины в самой неожиданной утвари говорили не раз. Может, вы что-то другое хотели спросить?
— Нет, нет. — Он замотал головой. — Мне просто подумалось, что солдата, наверное, везде могут одурачивать. Не обращайте внимания, теперь я вижу, что это не так.
Он тотчас же перевел разговор в другое русло: сказал, что ракеты переполошили весь остров. Это балтийцы знали без него. А вот что белофиннам удалось взорвать лишь одно орудие, два других наши моряки успели захватить целехонькими, что только человек двадцать финнов прорвались к берегу, а остальные либо убиты, либо сдались в плен, — это было новостью.
— Телефон работает? — спросил Жичин.
— Десять минут назад работал.
— С батареей можно связаться?
— Попытаюсь, — ответил финн, взявшись за телефон. Жичин кивнул Ишутину, тот понял все, взвел пистолет. А вдруг на батарее финны? Пленный крутанул ручку. Сейчас все выяснится.
— Алло, алло! Это русский командир? Один момент… — Он протянул Жичину трубку.
— Старший лейтенант Струков? — спросил Жичин. — Прокофьев?! Еще лучше. Поздравляю с первой победой.
— Постой, постой, а не рано?
— Вроде бы нет. — Жичин доложил ему все, что узнал от своего пленного.
— Откуда ты знаешь?
— Комсорги донесли.
— Ну, брат, ты всех нас перещеголял. — Он, кажется, и в самом деле поверил шутке. — Где ты?
— Почти на небе.
— На маяке, что ль? Ну-у, молодец! Подойдет старший лейтенант — встретимся, поговорим. А пока давай в том же духе, только осторожнее: у нас один… на гармошке подорвался.
Жичин положил трубку и невольно вздохнул. Тотчас почувствовал на себе укоризненный взгляд пленного.
— Нам все время твердили, что на нас напали большевики, — тихо сказал пленный. — А вам, наверное, наоборот?
Во-от, оказывается, что он недоговаривал. Убедил, что он не лгун, и решился. Верит, стало быть, что русские на них напали. И засело, видать, крепко, надо отвечать.
— Нам действительно говорили, что военные действия начали финны, — сказал Жичин.
Пленный был слегка озадачен. Он поднял на Ишутина пытливые глаза и долго не отводил их, словно чего-то ожидая.
— Мне тоже от войны никакой пользы, — сказал он. — Я человек рабочий. И мой отец был всю жизнь простым рабочим… Но я не могу понять: как маленькая страна может напасть на большую? На что расчет?
— На помощь, — твердо ответил Жичин. — Телефон у вас, как я вижу, немецкий, а пулемет — английский. Вот и весь расчет. С вами нам нетрудно общий язык найти, если будете сами по себе. Важно, чтоб вы куклами не были у пушечных торговцев.
— Так я и предполагал, — произнес он медленно, останавливаясь на каждом слове.
Он рассказал о своей семье, о том, что он на три четверти финн и на целую четверть русский, а невеста у него даже наполовину русская.
Жичин с Ишутиным переглянулись: у них и невест не было. До службы как-то не обзавелись, не успели, а на службе какие невесты?
На тумбочке что-то загудело. Жичин не сразу догадался, что это телефон.
— Теперь это вам, — сказал пленный.
Жичин взял трубку и услышал голос Прокофьева:
— Поблагодари своих комсоргов — информация оказалась точной. Что интересного видно с маяка?
Жичин обещал доложить через пару минут, признался, что заговорились с пленным. Трубка была еще у него в руках, когда Ишутин прошептал, что на юго-востоке появились темные точки. Жичин повторил его слова. Прокофьеву и услышал приказание наблюдать и докладывать.
В рассветной синеве у самого горизонта что-то темнело и копошилось. Живое существо разрасталось вширь и вглубь. Это могли быть только люди, потому что в лютый мороз никому больше нет дела до скованного льдом залива. Сердце так и заколотилось от радости: это ж отряд балтийцев. Рота сделала свое дело, и они могли встретить друзей с чистой совестью.
А вдруг это белофинны? Невероятно, конечно. Финны шли бы с севера либо с северо-запада. И по времени это может быть только кронштадтский отряд. Но на войне, как говорят, и опасно самое невероятное: возьмут да ударят с юго-востока. Жичин собрался было звонить Струкову и Прокофьеву, но пленный протянул ему бинокль.
Стоило поднести к глазам бинокль, как все опасения рассеялись. По одним лишь халатам-панцирям можно было безошибочно определить: войско это было не финское. Жичин связался с батареей и доложил Струкову, что с юго-востока к острову приближается родной отряд.
Едва главные силы отряда ступили на остров, с берега открыли шквальный огонь. Ишутин вызвался засечь огневые точки, а Жичин с двумя бойцами и пленным пулеметчиком двинулись к штабу. Струков и Прокофьев, оказывается, предвидели артиллерийскую атаку и облюбовали для отдыха отряда безопасное место под гранитной скалой. Там Жичин и нашел в полном сборе штаб отряда.
Все утро береговые батареи противника — а их было около десятка — держали отряд под непрерывным огнем. Поскольку чуть ли не весь отряд был вовремя и надежно укрыт, пострадали единицы, хотя нервное напряжение от многочасового налета сказывалось едва ли не на всех.
А когда ближе к полудню стрельба стихла и ребята воспряли духом, начальника штаба позвали к радиотелеграфу. Он вернулся обратно утомленный и крайне озабоченный.
— Что там? — нетерпеливо спросил командир.
— Продолжать выполнение приказа, — ответил капитан. — Действия начать немедленно.
— На то и посланы, — заметил командир и приказал позвать к нему ротных. — Надо подумать, как разумнее рассредоточить отряд.
Улучив минуту, Жичин подошел к начальнику штаба и тихо спросил, что означает «продолжать выполнение приказа».
— Наступать на берег, — ответил капитан. — Немедленно.
— Но они, вероятно, и огонь откроют немедленно, — сказал Жичин.
— Во-о, во-во, — подхватил капитан. — Этого и хочет от нас командование. Именно этого. — Он хитровато прищурился, добавил с улыбкой: — Дога-адливая комсомолия нынче пошла.
— Так то же верная гибель, — произнес Жичин шепотом.
Капитан взял его под руку, отвел в сторону.
— Наши части в эти минуты штурмуют Выборг, — сказал он доверительно. — Войск там, должно быть, видимо-невидимо. Куда ни угодит снаряд, все равно попадет в людей. А тридцать стволов, — он кивнул на финский берег, откуда вновь доносилась канонада, — это не шутка. Все они бьют сейчас туда, могут и штурм сорвать.
Все Жичину стало ясно. Самое лучшее, что можно было в такой ситуации придумать, — это прикусить язык. Он поблагодарил капитана, посоветовался с Прокофьевым и отправился в роты.
«Огонь на себя» — это не самая легкая операция, и Жичину хотелось поговорить с ребятами, взглянуть им в глаза. Он чувствовал, что глаза перед атакой могут сказать о человеке если не все, то очень многое. Начать бы, конечно, лучше с самого себя. Очень жаль, что не видишь собственных глаз. Видишь руки, ноги, а самого главного в себе не видишь. Впрочем, и так он мог сейчас сказать, что выдюжит. Зло появилось, а со злом сам черт не страшен.
До выхода на лед ему удалось перемолвиться лишь с Сашей Орленковым. Вот у кого глаза лучистые, спокойные, готовые к любой неожиданности. Жичин кое-что рассказал ему о ночном бое, он слушал в оба уха, просил рассказать подробнее, но его позвали к командиру взвода. На прощание он сказал потихоньку, что комсомольского вожака собираются представить к награде.
Эта весть вогнала Жичина в краску. Кто-кто, а сам-то он знал, что не сделал ничего такого, за что можно было бы его выделить. Если за ночной бой надо кого-то отличить, то больше всех этого отличия заслужил политрук Прокофьев. Если б не он, Струков едва ли решился бы на атаку. Кое-кого из бойцов можно было бы отметить: Ишутина, к примеру.
«А может быть, оттого пал на меня выбор, что я комсомольский секретарь? — подумалось Жичину. — Не мне лично захотели честь воздать, а вожаку комсомола. И так могло случиться. Но так случиться не должно. Я ведь, помнится, в мыслях даже осуждал Прокофьева и Струкова за их чрезмерное, как мне казалось, рвение. По недомыслию, конечно, по незнанию, но осуждал. С какими же глазами я буду награду получать? Нет, это надо исправить, а то со стыда сгоришь». Он нашел Прокофьева, все чистосердечно выложил ему и, кажется, встретил в его глазах понимание.
— Все будет по справедливости, Федор, — сказал он. — Нам бы лишь от Выборга огонь отвлечь. Там судьба войны решается, что всем помнить надо.
Они вышли на лед, по-родному поглядели друг другу в глаза, обнялись и двинулись в разные стороны.
Едва на льду появились первые построения, с берега вновь ударили батареи. Снаряды рвались то тут, то там. Жичину подумалось, что он больше всего мог быть нужен в первой роте, туда и подался. Ротный улыбнулся ему как старому знакомому. Было и что-то новое в его приветствии: этакое подчеркнутое, но неподдельное внимание. Когда он заговорил о маяке, Жичин понял: о ночном бое уже растрезвонили. Сказал ему, что с маяком обошлось на редкость легко. Он самодовольно прищурился.
— Ты парень дельный, я это сразу определил.
Только он произнес эти слова, как вблизи от них — метрах в пятнадцати, не больше — в лед со звоном врезался крупный снаряд, и в тот же миг перед ними вырос столб воды. Вода на глазах стала оседать, обдавая их брызгами. Ротный рассмеялся.
— Я даже испугаться не успел, — сказал он. — Такая дура — и вся «за молоком».
Он озабоченно оглядел свое воинство, крикнул старшине:
— Передайте по цепи — дистанция между бойцами двадцать метров!
Команда птицей полетела по рядам бойцов.
— Нам тоже надо расходиться, — сказал ротный. — В такой бане купаться лучше по одному.
Это тоже было верно. Жичин облюбовал себе место на стыке со взводом связи и остался наедине с вражескими снарядами и со своими мыслями.
Залив сейчас напоминал огромное шахматное поле, заставленное белыми фигурами. Оно росло, это поле, ширилось и медленно продвигалось к берегу. Чем медленнее, тем, казалось, неотвратимее. Батареи на берегу неистовствовали. Снаряды рвались каждую минуту, и уже не брызги, а сплошная морось повисла над заливом. А фигуры как двигались, так и продолжали двигаться. Сколько видел глаз, все они оставались на своих местах, четко определенных приказом.
Это же чудо как хорошо получилось! Жичин клял себя последними словами за свой разговор с начальником штаба. «Огонь откроют…», «Верная гибель» — ужасно! Какая гибель, когда все идет как нельзя лучше. Да и не в этом дело. Ужасно то, что подверг сомнению приказ, начал даже обсуждать его с начальником штаба. Будущему флотскому командиру непростительно. Приказ есть приказ. Это он знал. В училище объясняли не однажды: без приказа, без святого к нему отношения не может быть ни флота, ни армии. Здесь, в ледовом походе, он понял это. Понял и устыдился своей военной неграмотности и распущенности. Командир ставит задачу, отдает приказ. Он не обязан объяснять причин, вызвавших приказ к жизни. Больше того: зачастую он обязан держать их в тайне. И это Жичин вроде бы знал. Здесь же, под разноголосый свист снарядов, он не только понял, но всем своим существом впитал в себя железную необходимость такого установления. Знай финны истинную цель советского командования, они бы и сейчас гвоздили из орудий по Выборгу, а на отряд выставили бы пулеметы и то на случай, если б балтийцы рискнули подойти ближе к берегу.
Чуть впереди справа вместе с султаном воды высоко вверх поднялась человеческая фигура. На мгновение застыв в верхней точке, она стала опускаться вниз. Он бросился на выручку и обнаружил в полынье живого старшину взвода связи. От удивления раскрыл рот.
— Говори громче! — крикнул старшина. — Уши заложило.
Жичин протянул ему палку, он ухватился за нее и через минуту стоял рядом, стряхивая воду. Жичин помог ему снять маскировочный халат. Деловито осмотрев и ощупав себя, он сказал, что сменить придется носки, ботинки и ватные брюки. Телогрейка была почти сухая.
Снаряды рвались по-прежнему. У него было ощущение, что со страхом он распрощался насовсем. Случай же со старшиной щедро одарил его бодростью. И ребята шли как ни в чем не бывало. Словом, операция развивалась на редкость удачно.
По цепям пронеслась команда: замедлить шаг. Это означало, что берег был уже недалеко и что командование не намерено пускать отряд в зону досягаемости финских пулеметов. Жичин замедлил шаг и впервые за весь день почувствовал усталость. Он заметил: в бою устаешь меньше, чем на марше.
На горизонте из-за облаков выкатилось солнце, большое, красное. Оно на глазах оседало и вскоре скрылось где-то в Швеции, чтоб завтра утром засиять над Ленинградом. Утром оно взошло и принесло известие о мире.
Через несколько дней балтийцы-лыжники возвратились в родной Кронштадт. От весенних лучей солнца залив раскис, под лыжами хлюпала вода, устали все до изнеможения, но в самую трудную минуту, когда, казалось, не было уже никаких сил, на берегу заиграл оркестр, окруженный сотнями кронштадтцев, мягкий западный ветер донес звуки залихватского марша, и ноги сами понесли бойцов к дому. А дома, в балтийской столице, уже оттого дышалось вольготно, что это был дом. Не постоянный, не на всю жизнь, но близкий, до слез близкий.
ОТ ПРОЩАНИЯ ДО ВСТРЕЧИ
Рассказ
Девин вышел на верхнюю палубу, и взгляд его невольно привлекла панорама города.
Таллин… Этот город он увидел впервые год назад. Такая же тяжкая стояла жара, а на душе, помнилось, было легко и радостно. Город тогда только что избавился от буржуйских порядков, и древние улицы пестрели нарядными платьями, светились юными улыбками. Из множества девичьих улыбок в память ему вошла и навечно там закрепилась одна. Больше ему и не надо было. Стоило только шевельнуть краешком памяти, как эта улыбка оживала, и поглупевшее сердце, на миг замерев, вприпрыжку бежало ей навстречу.
Интересный город: древний, строгий, а в памяти держался девичьей улыбкой.
Это было год назад, а теперь к городу с трех сторон подступали немцы. Девин не стратег, он рядовой радист-краснофлотец, но на третьем месяце войны и ему стало ясно, что судьба Таллина предрешена. Как это ни горько, а придется его оставить, как уже оставили немало других городов. На помощь армейским батальонам посланы были морские бригады, они-то, по флотским слухам, и сдерживали натиск противника. Видимо, им стало невмоготу, коль потребовалась новая бригада.
На утренней поверке лейтенант Жичин спросил, кто хотел бы добровольно пойти в эту бригаду. Девин подумал, что ему сам бог велел отозваться первым, и спокойно шагнул вперед. К нему присоединились еще двое. Лейтенант пытливо оглядел храбрую троицу и остановился на нем, на Девине. Командир не объяснил свой выбор, но Девин был хорошим стрелком, и причину все усмотрели в этом. Что ж, пусть будет так, решил Девин.
Через час подойдет катер, и он отправится на берег, а пока…
Получив разрешение, он поднялся на сигнальный мостик. Отсюда и город хорошо виден, и, конечно, весь корабль. С кораблем он вскоре распрощается, и никто, наверное, не сможет ему сказать, встретятся ли они вновь. Никто, разве только сам он, сам. Сейчас надо полагаться на себя. На свою силу, на смекалку, на уменье без промаха стрелять.
Город раскинулся по берегам двух заливов, разделенных длинным полуостровом, мрачноватый средневековый город. Хорошая голова была у человека, облюбовавшего это место. Думала, надо полагать, о надежной жизни. Башни и крепостные стены появились потом, их вершители не раз, наверное, добрым словом вспоминали ту голову. Над старым городом недвижно висела легкая дымка, почти касаясь верхушки Длинного Германа. Этим смешливым именем эстонцы нарекли высоченную башню, венчавшую замок Тоомаса, самое, пожалуй, примечательное сооружение Вышгорода. Дымка простиралась и на Нижний город, доводившийся Вышгороду близким родственником и соседом. Вглядевшись повнимательнее, Девин различил главную площадь (название ее, как ни старался, вспомнить не мог), нашел приметную башню со шпилем, на котором возвышался Старый Тоомас, и даже, как ему показалось, угадал узкие улочки вокруг площади.
Когда бы не та памятная улыбка, остановившая его быстрый шаг по узкой улице рядом с площадью, Девин сейчас не разглядел бы в городе ничего волнующего, и Таллин был бы для него обыкновенным городом, как сотни других. Все пошло с этой улыбки. Шел он по улице, шел, по обыкновению, быстро, хотя спешки особой и не было, командирское задание он исправно выполнил и часа два-три мог погулять по городу. Мог, но что за гулянье в одиночку? Словом не с кем перекинуться. Он уже направил стопы на свой учебный корабль и вдруг заметил эту загадочную улыбку. Такая в ней была сила, что Девин помимо своей воли замедлил шаг и остановился. Перед ним стояла девушка и с откровенным любопытством разглядывала его. Синие глаза светились веселой девичьей тайной. Девину подумалось, что девушка, наверное, где-нибудь его видела и теперь хотела, чтоб он ее вспомнил.
— Здравствуйте, — сказал он, напрягая память и все больше убеждаясь, что видит ее впервые.
— Стравствуйте, — ответила девушка, усилив свое приветствие легким кивком и изящным книксеном. Книксен был Девину в диковинку, и он слегка смутился.
— Мы с вами где-нибудь встречались? — спросил он.
— Я не снаю. Тумаю, что нет. — Ее мягкий акцент был так мил и так шел к ее мягкому взгляду, к нежному привлекательному лицу, тронутому легким загаром, что Девин не представлял себе, как он теперь с ней расстанется.
— Вы прошлым летом в Ленинграде не были? В Эрмитаже?
— Не-ет… — Она покачала головой. — А вы мошете коворить чуть медленно?
— Конечно, могу! Мне почудилось, что я вас в Эрмитаже видел. И вообще, кажется мне, я знаю вас давно-давно.
— О-о, это хорошо. Это не так, но это все равно хорошо.
Они глядели друг на друга и улыбались. И тот, и другая высокие, ладные, она в белом летнем платье, он в белой форменке с голубым воротником.
— Я уже три лета учусь русскому языку. Как увитела русского моряка, с ратостью потумала: вот случай поковорить по-русски. Только не снала как… Мы веть не снакомы.
— О-о, за этим дело не станет. Меня зовут Андрей. Андрей Девин. — Он весело протянул ей руку.
— А я — Ютта. Ютта Паас.
Он так сжал ей руку, что Ютта невольно ойкнула.
— Больно? Я вроде чуть-чуть и дотронулся.
— Ну и чуть-чуть… — вымолвила она, сжимая и разжимая онемевшие пальцы. — У вас не рука, а ру-чи-ща.
— Я же не девушка.
— Это, мешту прочим, витно с первого всклята.
Девин заулыбался, расцвел. Всем, всем по душе ему была эта девушка. И стать у нее завидная, и улыбка душевная, и акцент милее не придумаешь. Так бы и стоял около нее, так бы и слушал да любовался.
— Мы стоим стесь, наверное, целый час, как клупые сумасшедшие люти. Не хотите ли посмотреть коротские улицы, площати?
— Конечно, хочу! — воскликнул Девин. — Я же всего второй раз в городе!
— Каким временем вы располагаете?
— Часа два еще есть.
И они пошли. Узкая улочка вывела их на площадь. Ютта заставила его несколько раз повторить название площади, он охотно повторял, а через год никак не мог вспомнить. Зато башню со Старым Тоомасом запомнил хорошо. На площади стояло старинное двухэтажное здание ратуши, широкое, приземистое, сработанное на века. Красоты в нем никакой не было, а вот башня над ним привела Девина в изумление. Она была стройна и изящна, вверх возносилась легко, свободно; казалось, она парила над площадью и вместе со своим шпилем и прикованной к нему фигурой старого воина готова была в любой миг оторваться от земли и взлететь в небо.
— Это Старый Тоомас, — сказала Ютта, кивая на вознесенного вверх металлического воина с флагом в руке и с мечом за поясом. — Наш страж и защитник.
Этой башней и Старым Тоомасом Девин потом любовался не однажды. Вернувшись на корабль, он рассказал своему командиру о встрече с синеглазой Юттой, о ее ласковой улыбке, о бархатном акценте, и командир, приняв близко к сердцу душевное состояние моряка-радиста, старался при первой же возможности отпускать его в город.
В одну из последних встреч, должно быть предчувствуя скорую разлуку, Ютта с тревогой заговорила о войне. По ее словам, она бы не повела об этом речь, когда б разговоры о фашистской угрозе не слышались в городе на каждом шагу. Ей захотелось узнать, что по этому поводу думает русский воин. Девин не собирался расстраивать юную эстонку, успевшую за какую-то неделю прочно поселиться в его сердце, но и лукавить он не мог. Он сказал ей, нахмурившись, что от фашистов можно ожидать самого худшего и что надо себя к этому готовить. В эту минуту они проходили мимо городской ратуши, и Ютта остановила его. Запрокинув голову и подняв глаза на Старого Тоомаса, она тихо промолвила, что одним старым мечом с фашистами, наверное, долго не навоюешь. Девин принялся успокаивать ее. Она долго его слушала, внимая каждому слову, потом улыбнулась и сказала не то в шутку, не то всерьез, что ей теперь не страшно: у нее есть Молодой Андрей и не с мечом старым, а с пушками и танками, с кораблями и самолетами. Она до того ладно это сказала, что Девин и сейчас, год спустя, помнил каждое слово и каждый его оттенок.
Он попросил у дружка-сигнальщика бинокль и еще раз прошелся не спеша по знакомым местам города. Цейсовские стекла так высветлили их и высвежили в его памяти, что на минуту он ощутил себя там, в городе, и ему вроде бы прояснился утренний его шаг вперед, в неведомую морскую бригаду.
Левее Старого Тоомаса из высокого дома валил густой черный дым. Не иначе, как фашистская бомба сработала. Горькие дымы тянулись вверх и в других местах города.
Подошла пора окинуть взором родной корабль. Бинокль был не нужен, и Девин вернул его сигнальщику. С мостика крейсер смотрелся, пожалуй, лучше, чем из любой другой точки, отсюда хорошо были видны все его достоинства и прежде всего сочетание строгого изящества линий с внушительной боевой мощью. Корпус корабля и палубные надстройки, поднятые вверх на прочной металлической треноге, орудийные башни главного калибра и торпедные аппараты, зенитные батареи и крупнокалиберные пулеметы — все было выдержано в самых ладных пропорциях, необходимых для успешного боя. Будь Девин инженером-оружейником или кораблестроителем, он, возможно, придумал бы что-либо получше, но рядовому краснофлотцу-радисту крейсер казался верхом совершенства.
Поднявшись в полукруглый и довольно просторный по корабельным понятиям пост наблюдения за подлодками, он обвел взглядом большой таллинский рейд, вместивший десятки разнокалиберных транспортов и боевых кораблей. С грустью подумал, что все они скоро возьмут курс на восток.
— Посиди, Андрюха, — пригласил его бойкий сормович Костя Кривопалов, кивнув на высокий круглый табурет, — в ногах правды немного да и табуреты такие встречаются лишь в роскошных барах. Понял? Или, скажешь, бывал в этих барах и знаешь их наперечет?
— Нет, не знаю. Зашел к тебе поучиться, — съязвил Девин.
— Вот это ты сделал правильно, — сказал Костя, не моргнув глазом. — Года два назад в Сингапуре сидели мы с Колей Матушкиным на таких же вот круглых подзадниках в одном барственном заведении, потягивали холодное пивцо с подсоленными орешками…
— Во-первых, не с орешками, — перебил его Коля Матушкин, — а с воблой, во-вторых, не в Сингапуре, а в Петергофе, в-третьих, не в баре, а в буфете городского парка, в-четвертых, не сидели мы, а стояли, оглядываясь по сторонам, боялись, как бы не нарваться на патруль, а в-пятых…
— Некогда мне, братцы! — взмолился Девин. — Хорошо с вами, но некогда. Через полчаса отправляюсь на берег, в морскую бригаду.
Разбитной сормович не удивился словам Девина — за несколько недель войны он отучился чему-либо удивляться, — но взгляд на радисте задержал дольше обычного.
— Тем паче присядь, — сказал он тихо.
Девин на минуту присел и спешно с ними распрощался. Обошел палубу, потрогал башенную броню, спустился в радиорубку. Верные друзья-товарищи проводили его молча, а чувства свои вложили в крепкие рукопожатия. Лишь лейтенант Жичин, его командир, дойдя вместе с ним до трапа, обнял его и сказал на прощанье:
— Мы тебя ждем, Андрей. До скорого возвращения.
На катере его дожидались десятка три таких же, как он, краснофлотцев и мичман-зенитчик Лобода. Приглядевшись к ним, Девин обрадовался: почти всех ребят он знал по именам, а кое-кого и по ухватке флотской, по характеру. С борта спустился старшина второй статьи Медведев, командир пулеметного расчета, и катер, отвалив от корабля, взял курс к берегу. Первые минуты все хлопцы, как завороженные, не отрывали глаз от красавца крейсера, ставшего для них родным домом. Скоро ли они теперь вернутся в этот дом и вернутся ли? Не на прогулку послали их и не в культпоход, мало ли что может случиться.
— Хватит, хлопцы, пора смотреть на берег, — сказал мичман Лобода, хотя и ему нелегко было отвести взгляд от корабля. Может быть, даже труднее: он пришел на крейсер раньше всех, еще до спуска на воду. — Кто знает город?
— Я немножко знаю, — ответил Девин. — Год назад приходилось бывать. Но знаю только старую часть: Вышгород, Нижний город.
— Это уже что-то. Будешь пока при мне.
— Хорошо бы не разъединять нас, товарищ мичман, — сказал старшина Медведев, переводя взгляд с одного хлопца на другого. — Наша команда — готовый взвод. Знаем друг друга, умеем кое-что. В прошлогодней финской кампании довелось мне хватить лиха в отряде, собранном с бора по сосенке. Первый раз видели друг друга, ни имен не знали, ни кто на что горазд. Мо-ро-ка!
— Будем вместе, — ответил мичман.
Корабль остался далеко за кормой, взгляды моряков теперь были обращены на город. Почти всем он был незнаком, старый нерусский город. Что их там ждет? Они пока знали мало: подступы к городу захватил враг, и врага оттуда следовало выбить. Это их задача. Ничего иного они не ведали.
На берегу разобрались, построились, и мичман повел их к штабу, где намечался сбор, бригады. Девин шел рядом с мичманом и указывал кратчайший путь. С юга и с запада доносился цепкий запах гари. Год назад на улицах кипела жизнь, сейчас они были пустынны, и это внушало тревогу. Не доходя крепостной стены, Девин кивнул на широченную невысокую башню и сказал мичману, что эстонцы назвали ее Толстой Маргаритой. Необычное название вызвало у мичмана улыбку.
— Хлопцы, знаете ли вы, как зовут эту башню, что присела перед вашими глазами? Ее зовут Толстой Маргаритой.
Мичман своего добился: его улыбка передалась хлопцам.
— Похо-ожа, — сказал из строя старшина Медведев.
— На кого похожа?
— На одну Маргариту, с которой я раза три пировал. Только моя была помоложе и помягче.
Улыбки уступили место смеху, волной пробежавшему по строю. На улице из-за башни появился незнакомый капитан.
— Разгово-орчики! — крикнул мичман.
Смех утих, но, когда капитан остался позади, возобновился еще дружнее.
В штабе оставались недолго. Мичман предполагал, что на исходные позиции бригада двинется единым строем, но командование рассудило по-иному. Опасаясь вражеских лазутчиков, оно стремилось занять позиции незаметно, небольшими подразделениями. Пока взвод получал оружие и боеприпасы, мичман представился командиру роты, и они детально проработали приказ на ближайшие сутки.
И вновь Девину пришлось стать поводырем. По городу шли двумя группами, впереди Девин и мичман, замыкал взвод старшина Медведев. На поворотах останавливались, чтоб мичман мог окинуть взглядом свое воинство и предупредить о другом направлении. Не нравилось мичману это нестроевое шествие, и он клял на чем свет стоит предполагаемых лазутчиков, а чтоб хоть немножко успокоить себя, приговаривал:
— Это тебе не Ленинград, не Москва, здесь, поди, и без лазутчиков враг на враге сидит: советской-то власти без году неделя.
Девину тоже был не по душе беспорядочный шаг корабельного воинства, не вязался он с флотской формой. Будто стадо брело по городу, а не взвод военморов. Лишний повод позлорадствовать врагам.
Старый город они прошли довольно благополучно, если не считать привязчивого запаха гари, а потом изрядно поплутали, хотя в штабе мичману вручили толковую схему городских предместий. На позицию добрались лишь к вечеру, когда уже стемнело. Наскоро перекусив, прилегли отдохнуть.
Рядом с Девиным оказались старшина Медведев и комендор-зенитчик Петя Петухов, известный на весь корабль шутник и балагур.
— Ноги-то гудуть? — спросил старшина.
— Гудуть, будь они неладны, — ответил Петухов. — Как тяжелые провода.
— Скажешь тоже — про-во-да! Ты шутником-то родился, что ль?
— Нет, по нужде стал. Смеялись надо мной: Петя-Петушок да Петя-Петушок, я разозлился и сам стал смеяться.
— Ты молодец.
— Нет, не молодец. С девками у меня что-то не ладится.
— Ха-а, да я тебя запросто научу. Выгоним вот немцев…
— Не научишь. На них, на девок, надо разозлиться, а я не могу. Шибко их люблю.
— Да-а, — вздохнул старшина Медведев. — Тогда, конечно, другое дело.
— То-то и оно.
— Хватит вам! — прикрикнул из угла мичман. — Завтра чуть свет в бой, дайте людям поспать.
Сквозь дрему Девин услышал, как мичмана Лободу позвали к командиру батальона. Не думал он и не гадал, что через час к комбату потребуют и его. Нарушителем сладкого сна оказался старшина Медведев.
— Андрей, проснись, — полушепотом говорил старшина, тормоша его. — Нас вызывают к командиру батальона. Тебя, Петю-Петушка и меня. Вставай, вставай.
Комбат был краток: требовалось разведать огневые точки противника и к шести часам утра доложить координаты. По предложению мичмана в группу включены старшина Медведев и краснофлотцы Девин и Петухов. На сборы отводилось двадцать минут.
До немцев добирались целую вечность: сперва вкрадчивым шагом, потом ползком, по-пластунски. Крепким орешком стала вторая половина пути: на корабле, конечно, никто из них не ползал, пришлось вспоминать кронштадтский учебный отряд, а на одном воспоминании, без практики, далеко не уползешь. Мысленно чертыхаясь и кляня себя последними словами за плевое отношение к строевым и тактическим занятиям в школе — полагали, что на корабле все это ни к чему, — они с грехом пополам доползли до редкого кустарника, единственного более или менее надежного ориентира. Отсюда было рукой подать до немецких позиций. Отдышавшись, шепотом обсудили план дальнейших действий.
От кустарника поползли порознь. Стояла такая тишина, будто войны и в помине не было. Воздух наполнялся дрожащей синевой. К фашистским окопам подползли почти одновременно. Замерли. В предрассветной тишине послышались вдруг приглушенные немецкие голоса.
«Неужели заметили? — подумал Девин и невольно скосил глаза вправо, в сторону старшины Медведева. — Он-то, интересно, слышит?»
Медведев слышал и едва сдерживал волнение. Может быть, даже хорошо, что не спят, думал он, скорее откроют огонь. Что ж — к делу. Он не спеша приладил автомат и одну за другой выпустил три очереди. Тотчас же отполз в сторону.
В окопах зашумели, закричали, раздались команды.
Девин услышал три отрывистые очереди слева — это стрелял Петухов. Следом за ним две длинные очереди послал в окоп старшина Медведев, а через минуту их повторил Петухов. Все шло, как было задумано.
Подходила его минута. Девин должен был засечь огневые точки и отметить их на карте. Где они, эти точки? Медлят что-то немцы, уже не разгадали ли их план?
Нет, не разгадали. Чуть справа от Девина, почти рядом с Медведевым застрочил крупнокалиберный пулемет. Едва Девин нанес отметку на карте, раздались два взрыва, и пулемет смолк. Он поднял глаза и увидел Медведева, ползущего к пулемету. Но в тот же миг увидел он и немца, длинного, неуклюжего немца, перебегавшего к пулемету из соседнего окопа. Руки Девина сами вскинули винтовку. Через оптический прицел немец был хорошо виден, хотя летний рассвет только еще занимался. Девин ожидал, когда длинный фриц поднимется к очередной перебежке. Теперь только бы не подвел прицел. Винтовка новая, не пристрелянная. Уловив момент, он выстрелил. Немец упал, едва успев подняться. По примеру Медведева Девин поспешил отползти в сторону. Рядом оказался бугорок с низким трухлявым пнем, за ним он и укрылся. Невдалеке слева, там, где по предположению Девина был Петухов, громыхнул орудийный залп. В прицел винтовки, теперь уже проверенной, он разглядел дымившийся ствол небольшой пушки. Сделав отметку на карте, продолжал наблюдать. Из пушки пальнули еще раз, и почти в то же мгновенье Девин услышал мощный спаренный взрыв. Не иначе, как Петухов, подумал он. Связку гранат пустил в ход. Но где же сам Петухов? Не видно Петушка, как Девин ни всматривался.
— Ко мне-е! — раздался голос старшины Медведева. — Живо ко мне!
Девин пополз, но тотчас же был остановлен автоматной очередью. За одной последовала другая, третья… Прислушавшись, он сообразил: стрельба шла около замолчавшей пушки. Что там? Не сумев ничего разглядеть, пополз к Медведеву. От росы брюки и фланелевая форменка вымокли и липли к телу. Это еще куда ни шло, не испортить бы винтовку, гранаты.
— Что с пушкой? — спросил старшина, едва Девин подполз.
— Засек, отметил на карте.
— Это я и сам знаю. Гранаты бросал Петухов?
— Думаю, что да. После взрыва там была перестрелка.
— Слыхал. Помоги развернуть пулемет.
Вдвоем они довольно быстро приладили пулемет в обратную сторону, и потный старшина шумно вздохнул. В сторонке на дне окопа лежали лицом к лицу два немца. Перехватив взгляд Девина, старшина сказал:
— Этих я уложил рядышком, как братьев, а вот три живых фрица как в воду канули. То ли прячутся где-то поблизости либо драпанули. А того долговязого кто ухлопал? Ты, что ли? Тебе не стрелять велено, а следить за огневыми точками.
— Точек-то всего две, и, кажется, обе теперь наши.
— Чтоб тебе не казалось, дуй сейчас к пушке и помогай Петуху. Хорошо бы ее против немцев повернуть. Погляди, как там и что, — он взглянул на часы, — и прямым ходом к комбату.
— Немцы! — сказал Девин, указывая на серые фигурки впереди. Они были еще далеко, а об осторожности не забывали, приближались короткими перебежками. Старшина спокойно достал гранаты, положил их рядом с пулеметом. Так же спокойно приготовил автомат.
— С богом, Андрей, я здесь один управлюсь. Посмотри, сколько у меня смерти на фрицев приготовлено. Пошел!
Девин кинулся к пушке и подоспел в самую пору. Петухов и коренастый рыжий немец вцепились один в другого мертвой хваткой и лежали недвижно.
— Петя! — крикнул Девин. — Ты жив?
Ни Петя, ни немец не отозвались. Девин попытался разжать цепкие пальцы фашиста — не получилось. Хотел ударить его прикладом, уже замахнулся, но в последний миг передумал, опасаясь сбить прицел. Собрав все силы, Девин все-таки оторвал немца от Петухова и вдруг услышал сердитый окрик:
— Не тронь, я должен доконать его сам!
— Перестань, он уже готов, — сказал Девин.
— Да? — Петухов приподнялся на локоть и долго, пытливо всматривался в немца. — И вправду готов. — Глаза его расширились, заблестели. Он вскочил и обнял Девина.
— Андрей, я ведь троих уложил. Слышишь, за одно утро — троих! Двух гранатами, а этого… Собственными руками.
— Хватит, Петух, — оборвал его Девин. — Немцы в контратаку пошли, старшина один у пулемета. Пушку нельзя повернуть?
— Пушку заклинило, но это не важно. Я сейчас без пушки перебью их целый взвод.
— Успокойся, Петух. — Девин оглядел его и заметил на виске сгусток крови. — Ты ранен?
— Нет, это царапина, фриц железкой задел.
— Слушай, Петух, надо помочь старшине. Он один, а на него немцы идут, десятка два, не меньше.
— У него сегодня день рождения.
— Тем более. Надо либо к нему пробраться, либо здесь найти укромное место, чтоб поддержать его огоньком добрым. Мне приказано вернуться и доложить обо всем комбату. Мы втроем шестерых уложили, а если пойдет вся бригада…
— О чем разговор? — Петухов уже проверял автомат. — Пулей к комбату и назад. А фрицев мы встретим, мы их, гадов, встретим по-нашему, по-флотски. Мне теперь сам черт не страшен.
У Девина такой лихой уверенности в себе не было, и он откровенно позавидовал Петухову. Мелькнула в голове заманчивая мысль, но сейчас было не до нее. Сейчас — в путь, в обратный путь к командиру батальона. Он уже не полз, а форсировал свои версты стремительными перебежками. Добрый бросок, камнем наземь, рывок в сторону, минутный передых, и все заново. Довольно скоро пришло дыхание, высветился ритм, и дело двигалось. Иногда он сбивался с ритма — мешала стрельба позади. То слышались короткие гулкие очереди пулемета, то отрывисто и сухо строчил автомат. Гранаты еще в ход не пошли, стало быть, немцы не приблизились.
Стрельбу слышал не только Девин. Командир батальона, как только развиднелось, послал на помощь разведчикам взвод мичмана Лободы, приказав вести тщательное наблюдение. В случае необходимости взвод должен обеспечить отход разведчиков огневым прикрытием.
Девина встретили на полпути. Выслушав его доклад, мичман послал связного с донесением комбату, а взводу приказал короткими перебежками двигаться вперед. Добавил, что перебежки Девина были образцовыми и что всем надобно брать с него пример.
Девин был смущен, когда узнал, что весь взвод наблюдал за его передвижением.
— Если б я знал, я постарался бы, — сказал он.
— Если б старался, так ладно, пожалуй, и не получилось бы. — Мичман оглядел его, положил на плечо руку. — По всем правилам, тебе бы передых сделать… Только где сейчас отдохнешь?
— После войны, товарищ мичман.
— Да-а… — Мичман задумался. — Теперь только после войны.
— У старшины Медведева сегодня день рождения, — обронил Девин.
— Да-а? — удивился мичман. — Тогда надо поспешить. Давай и мы с тобой двинемся.
Мичман окинул взглядом зеленую луговину с мелькавшими по ней фигурками бойцов-краснофлотцев и побежал. Девин кинулся за ним следом.
Немецкий окоп встретил их печальной вестью — был тяжело ранен Петухов. Его уже начали перевязывать, когда подошел Девин. Первая живая кровь оказалась особенно тягостной. С йодом и бинтами суетились двое, а четыре пары глаз смотрели на Петухова молча и растерянно. Война шла уже третий месяц, корабли стреляли по фашистам едва ли не каждый день, но никто из ребят еще не видел ни живого немца, ни своей крови.
— Что ж вы пригорюнились? — спросил Петухов, переводя взгляд с одного на другого. — Неужели шестерка фрицев не стоит одного моего плеча? Что молчите?
— Плечо твое дороже, — ответил Девин и вновь позавидовал Петухову. Ему же, дьяволу, больно, а он хоть бы что, опять за свои шутки. Откуда у него прыть такая? Что ни говори, а голыми руками, один на один…
— Не-ет, Андрей, — возразил Петухов. — Шестеро-то лежат и не встанут. А плечо заживет и какой-нибудь Маргарите опорой будет. А до Маргариты мы с тобой еще не одну дюжину уложим.
Петухова отправили в тыл, и взвод взялся за лопаты: на случай фашистской контратаки надо было как следует закрепиться. Не флотское это дело — копать лопатой землю, — но иного пути у них не было.
Героем утра был старшина Медведев. В его мудрых руках немецкий крупнокалиберный пулемет сотворил чудо: сорвал контратаку своих бывших хозяев. Увидев Девина, заулыбался, кинулся обнимать.
— Как ты здесь? — спросил Девин.
— Поря-адок! Главное не дрейфить. Они как собаки: бросаются, когда их боятся.
— Сколько уложил?
— Не считал, некогда было. С десяток, должно быть, наберется. Может, побольше. Петух молодец, он так здорово поддержал. Они уже стали обходить как раз с его стороны, а он им одну очередь, другую. Да так спокойно, так ловко, в самую точку. Ну, я ему конечно тоже помог, когда они на него навалились.
— Отправили его, — сказал Девин.
— Куда?
— В тыл. Ты разве не знаешь, что он ранен?
— Кто? Петух? Ранен?
— В плечо. Он пушку вывел из строя и шестерых фрицев уложил.
Ранение Петухова расстроило старшину.
— В плечо, говоришь? Сильно?
— Навылет. В крови весь, а смеялся, шутил.
— Он и умирать будет с шуткой, такой человек. Не-ет, фрицы, Петуха мы вам не простим!
И не простили. Как только батальон подошел, ринулись в атаку. Не сломя голову, не оравой, как иной раз бывало в других бригадах, а по всем правилам матушки-пехоты. Вторую линию окопов прошли легко и почти без потерь. Немцев здесь было немного, поначалу они открыли беспорядочный огонь, а когда пригляделись и увидели превосходящие силы, предпочли отступить.
Главный бой разгорелся к вечеру. Немцам удалось подтянуть минометы, и во избежание неоправданных потерь комбат приостановил атаку. Самую верную помощь батальону могли бы оказать сейчас самолеты, но их не было. Весьма кстати пришелся бы и артиллерийский огонь. Дюжина точных залпов — и от минометов осталось бы мокрое место. Связаться со штабом, сообщить координаты, и корабельные гостинцы не замедлят пожаловать. Теоретически это не сложно, а вот на деле… Рискованно. Малейшая неточность — и снаряды могут посыпаться на свои позиции. Отвести батальон назад, в окопы? Риск, конечно, уменьшится, но и пыл наступательный у бойцов поубавится.
Комбат решился на отвлекающий маневр. Роте, находившейся во втором эшелоне, было приказано немедленно начать обход вражеских позиций. Тем временем в других ротах готовились специальные группы бойцов по уничтожению или захвату минометов. На группу по миномету. Одну из групп возглавил старшина Медведев, первым своим помощником он выбрал Девина.
— Мы с тобой за Петуха должны с ними рассчитаться.
Ждать пришлось целый час, и весь он ушел на скрупулезный отбор и взвешивание самых разнообразных вариантов операции. Старшина оказался смелым и неистощимым выдумщиком, и Девин уверовал в успех.
Немцы тоже выжидали. Роту, пытавшуюся обойти их с фланга, они, конечно, заметили, но виду не подали. Огонь по ней открыли лишь в ту минуту, когда передовой взвод вклинился на стыке в их оборону. Огонь мощный, стреляло, должно быть, все, что могло стрелять: минометы, автоматы, пулеметы. Но в эту же минуту по немцам открыли огонь с фронта — огонь прикрытия, и стремительно ринулись к своим целям охотники за минометами. Первое время им никто не мешал, и двигались они очень быстро, но вскоре кто-то из немцев, видимо, спохватился.
В шквале огня Девин отчетливо различил две спокойные автоматные очереди и почувствовал: это по ним. Прижавшись к земле, он осторожно вглядывался из-под каски в немецкой окоп, пытаясь высмотреть автоматчика. Знал: старшина Медведев, залегший чуть впереди справа, делает то же самое. Ничего не увидев, подтянул винтовку, исподволь навел на окоп оптический прицел. Раздалась новая очередь, и Девин выстрелил.
— Вперед, по-пластунски! — скомандовал старшина и пополз. Девин за ним. Старшина полз ловко и быстро, держа курс на бугорок, разделявший два окопа.
Стрельба позади утихла, стало быть, роты во главе с командиром батальона двинулись вперед. Старшину Медведева это подстегнуло, и он пополз еще стремительнее. Совсем уже рядом заветный бугорок, на котором блестела пустая консервная банка, вот и банка полетела в сторону — ее отшвырнул автоматом Медведев.
— Гранаты! — скомандовал старшина, и две его лимонки полетели в правый окоп. Подползший Девин бросил гранаты в левый.
Взрывы гранат насторожили минометчиков. Один из них продолжал опускать в минометный ствол черную смерть, предназначенную атакующим балтийцам — Девину были видны лишь его руки, — другой же за бруствером окопчика изготовил автомат.
— Ты оставайся со своей оптикой здесь, а я буду обходить их справа, — сказал старшина. — Когда он повернет автомат на меня, ты в этот миг… — Он пополз, не договорив, зная, что Девину все ясно.
Старшина полз, а автоматчик не шевелился. Жив ли он? Из-за бруствера мелькнули руки, посылающие мину. Вторая мина полетела к друзьям-балтийцам. Сколько можно ждать? Не ударить ли ему по рукам, чтоб…
Нет, автоматчик был жив и здоров. Не торопясь, с дьявольской ухмылкой он разворачивал автомат на старшину Медведева. Открылся на мгновение его висок, и Девин выстрелил. Автомат свалился за бруствер, а тот, у кого он только что был в руках, сполз в окоп.
Оставались еще одни руки, Девин ждал их, не мигая и не дыша. Они должны появиться, эти наглые фашистские руки. Хотя бы затем, чтоб последний раз подержать мину. Девин не увидел, а почувствовал их за какую-то долю мгновения до того, как они взметнулись над бруствером, и полоснул по ним. Ему показалось, что руки задержались в воздухе чуть дольше обычного, и он выстрелил еще раз.
К минометному окопчику Девин и Медведев подползли почти одновременно. Один фриц, откинув голову, лежал без дыхания, другой тотчас же поднял руки. Девин пытливо оглядел их и увидел в правой кисти две сквозные раны. Двумя ручьями текла кровь.
— Забинтовать, что ль, ему? — спросил Девин.
— Некогда, — ответил старшина. — Пусть сам бинтует. — Достал из противогазной сумки бинт, протянул немцу. — На, бинтуй.
Немец что-то залопотал, кивая на свою сумку, лежавшую в углу окопчика. Ничего не поняв, Девин уставился на старшину.
— Ишь ты, — с усмешкой сказал старшина. — В сумке у него, видимо, свой бинт, нашего не хочет. — Он нагнулся и подал немцу его сумку. Тот поблагодарил, достал бинт, фляжку со шнапсом и приступил к делу. — Так и есть. — Старшина вновь усмехнулся. — Бинт не хочет, а землю чужую подавай.
У Девина была задумка схватиться с немцем один на один, без оружия, чтоб обрести полную веру в себя. Не будь немец ранен, он, наверное, схватился бы с ним. Придется отложить до следующей встречи. Он поведал свой план старшине и получил изрядный нагоняй.
— Выкинь из головы! — поучал старшина. — Много чести. Их, гадов, огнем надо косить, а руки поберечь на крайний случай, когда, кроме них, ничего не останется.
Под натиском балтийских рот немцы начали отходить. Сперва покидали окопы поодиночке, потом расхрабрились и повалили группами. Не до разговоров стало Девину и Медведеву. В отличие от друзей-балтийцев, наступавших с фронта и еще не достигших окопа, у них была отменная позиция: драпавшие немцы хорошо просматривались невооруженным глазом. Старшина Медведев первым делом связал руки раненому фашисту — на всякий случай, чтоб то и дело на него не оглядываться. Осмотревшись вокруг, развернул миномет, проверил автомат.
— На твоей совести одиночки, — сказал он Девину, — а я попытаюсь по группам, по группам… Из автомата не достану — миномет призову на помощь.
Началась охота, молчаливая, сосредоточенная охота на фашистов. Захудалый немецкий окопчик, наспех отрытый для стрельбы по морякам-балтийцам, обернулся против самих же немцев и стоил им по меньшей мере дюжины отборных солдат.
Девин и Медведев увлеклись стрельбой по отступавшим фрицам и не сразу заметили позади себя своего командира батальона. Тот лежал за бруствером окопчика и внимательно наблюдал за их действиями. Старшина Медведев, оглянувшись и на мгновение встретившись с ним взглядом, тотчас же развернул на него автомат, но в последний миг спохватился.
— Хоть бы окликнули, товарищ майор, — укоризненно сказал Медведев. — Мог бы ведь и пальнуть.
— Виноват, старшина, залюбовался, — ответил майор. — До чего же у вас четко все, деловито. Мне уже о вас докладывали, вот я и решил поглядеть. К награде вас представлю. Если б все наши бойцы действовали так, как вы двое, война уже кончилась бы. Молодцы. А это что? — Он кивнул на раненого немца. — Пленный? Пленного надо допросить. Шувалов, ко мне! Шувалов!
Старшина Медведев, полагая, что занятый ими окопчик вполне подходящ для допроса немца, попросил у майора разрешения двигаться вместе с Девиным вперед. Майор разрешил, но не сразу, а после того, как рядом с ним появился мичман Шувалов.
— Сфотографируйте этих балтийцев, — сказал он мичману, — и обоих в газету, как лучших тружеников ратного дела.
И минуты мичману не потребовалось, чтоб выполнить задание командира батальона. Он, видно, тоже был мастак в своем деле.
Выбравшись из окопа, Медведев оглянулся на немецкий миномет и жалостливо вздохнул. Комбат понял его без слов.
— Немца пленного допросим и подумаем, что делать с пленным оружием.
Старшина улыбнулся и заспешил вслед за Девиным. Перед ними усталыми перебежками двигались вперед друзья-балтийцы. На пути попадались убитые немецкие солдаты, на них не обращали внимания.
— Они хоть и убитые, а присматривать за ними надо, — сказал старшина. — Ненароком воскреснуть могут да пальнуть в затылок… Как ты думаешь, от фрица твоего раненого будет толк?
— Будет, — ответил Девин. — Он сообразительный. Другой бы на его месте зубами вцепился, а этот сразу руки вверх.
— Пожалуй, — согласился старшина. — Дай бог, чтоб он знал побольше.
Раненый фриц знал не так много, но кое-что из его сведений пригодилось. Флотский батальон довольно успешно, без больших потерь занял новый рубеж и закрепился, чтоб рано утром начать новую атаку. За день балтийцы продвинулись верст на семь, каждая верста и каждый час ценились в эти дни чрезвычайно дорого, и комбат был доволен. Старый воин видел: кроме тяжких верст бойцы обрели немалый опыт и, главное, уверенность в себе. К вечеру едва ли не каждый балтиец уяснил себе непреложно, что фрицев можно колотить не только на море.
На второй и на третий день дела шли еще лучше. Продвижение слегка замедлилось, зато потери у противника возросли. Были захвачены в целости и невредимости десятки пулеметов, орудий и минометов, сотни автоматов. Майор ломал голову, не зная, что с ними делать. На исходе четвертого дня в разгар боя, когда наступательный порыв достиг высшего накала, комбат получил приказ об отходе.
Зная обстановку, он ждал этого приказа с часу на час и все же не был готов к нему: ума не мог приложить, как остановить боевой пыл своих балтийцев, как повернуть его на столь же деловитый и осмотрительный отход, вызванный стратегической необходимостью. Он догадывался, что корабли Балтийского флота, вместе с ними десятки транспортов, груженных боевой техникой и другими ценностями, снялись либо вот-вот снимутся с якорей и возьмут курс на восток — в Кронштадт, в Ленинград. Бригада, как он понимал, дело свое сделала, выиграв время на сравнительно спокойную погрузку. Теперь перед командованием бригады и перед ним лично стояла другая задача: вывести из боя всех своих бойцов, скрытно отойти и посадить их на катера, которые должны ожидать их у таллинских причалов.
Остановить бой он не мог, его команду никто не услышал бы. Лучший выход из положения он видел в ожидании темноты, когда битва прекратится сама собой, тем паче что ждать оставалось совсем недолго. Через каких-нибудь полчаса он соберет командиров и все им скажет. Он скажет им, что трофейное оружие… Что же с ним делать, с этим оружием? С собой брать нельзя — неизвестно еще, что их ожидает у причалов. Вывести из строя… Да, вывести из строя, но так, чтобы немцы не сразу догадались об отходе. Какую-то часть оставить здесь, другую же взять с собой и разбросать по пути. Это ясно. Теперь надо решить, кто будет прикрывать отход, кого обречь… Самым надежным был, конечно, взвод моряков с крейсера. Все знают друг друга, одна семья. И уменья им не занимать, и стойкости. Как на подбор. Особо хороша эта пара: Медведев и Девин. Но они и сделали уже больше, чем кто-либо, грех обрекать их…
Под покровом темноты батальон начал отход. Тяжкое это дело — оставлять свою землю. Только отбили, только кровью своей завоевали и — оставлять. Без боя, без выстрела. Каким бы ни было оправдание, тяжесть оставалась тяжестью. Она давила, прижимала к земле и опустошала.
— Тебе не страшно? — спросил Девина старшина Медведев.
— Как-то все равно. Апатия.
— Мне тоже все равно, но это как раз и страшно.
— Давай лучше помолчим, Медведь. Не обижайся.
— Кака-ая обида…
Прикрывать отход батальона пришлось все-таки их взводу. Решение принял не комбат, а они сами. Майор предложил сформировать прикрытие из добровольцев. На вопрос мичмана Лободы о добровольцах ответил старшина Медведев.
— На мое разумение, — сказал он, — лучшего добровольца, чем наш взвод, в батальоне не найти. А может, и во всей бригаде.
— На мое тоже, — поддержал его мичман.
Согласились все. Не раздумывая, не обсуждая — слишком тяжек был приказ об отходе.
Взвод оставался на месте целые сутки. Те сутки, которые требовались батальону для более или менее благополучного возвращения в город. Рано утром мичман Лобода и старшина Медведев выбрали подходящие позиции для четырех минометов. Пригодились и два пулемета. Когда вражеское оружие было изготовлено к бою, мичман облегченно вздохнул.
— Теперь пусть идут, — сказал он. — Встречу им обеспечим достойную.
Но немцы не шли. Видимо, не знали и не догадывались об отходе батальона. В середине дня из-за кустарника в полуверсте от позиций появились три серые фигуры, по ним тотчас же пальнули из минометов. Фашисты скрылись и больше их не видели.
Готовясь к отходу, мичман разбил взвод на вахты: одна вахта несет дежурство, другая — бодрствует и отдыхает, третья — спит. К ночи успели отдохнуть все. Перед отходом выпустили по вражеским позициям остатки мин и вывели из строя все немецкое оружие.
За ночь прошли полпути. Кое-где — то слева, то справа — слышалась иногда стрельба, но она лишь подстегивала балтийцев. Несколько хлопцев обрели синяки и ссадины от паденья, у остальных все было в порядке.
С восходом солнца пришлось идти осмотрительнее, и движение замедлилось. Вечером на подходе к городу нежданно-негаданно столкнулись с немецкими автоматчиками. Фашистов было немного, не больше десятка, но они укрылись за садовой изгородью и первыми открыли огонь… Три балтийца рухнули навзничь, не поняв даже, откуда стреляют.
— Ложись! — скомандовал мичман.
Залегли, осмотрелись. Раньше всех суть дела схватил старшина Медведев.
— Обходить! — крикнул он мичману. — С двух сторон.
Приказав Девину наблюдать и в случае надобности прикрыть оптическим огоньком, старшина отполз немного назад и по меже за картофельной ботвой ринулся вправо. За изгородью, в правом углу сада виднелось из-за деревьев кирпичное строение с двускатной крышей, к нему старшина и устремился. Мичман послал ему вдогонку четырех бойцов, а сам во главе другой группы пополз влево. Кто-то из немцев заметил мичмана и дал две короткие очереди. Девин ждал третью, чтоб выстрелить наверняка, и она последовала, эта третья и последняя очередь излишне зоркого фашистского автоматчика.
Немцев смяли и уничтожили всех до единого.
Взвод возвратился в город с потерями: двое было ранено, шестеро убито.
До гавани мичман приказал добираться небольшими группами, соблюдая предельную осторожность. Девин и старшина Медведев шли вдвоем. Долго шли молча, думая свои думы. То тут, то там рвались снаряды. В старом городе взметнулось пламя и высветило красный флаг на Длинном Германе. Прошли мимо городской ратуши, свернули на узкую улицу, перегороженную бревнами с колючей проволокой. Три дня назад баррикад еще не было, а сейчас… Как из-под земли выросли два бойца, проверили документы.
— Я смотрю во все глаза, а за дорогой не слежу, — тихо сказал старшина. — Полагаюсь на тебя.
— Да, да, — ответил Девин. — Теперь уж недалеко. — Он вдруг остановился и взял старшину за руку. — Слушай, Медведь, мне надо на минутку зайти в один дом. На одну минуту. Это совсем рядом. Девушка там живет. Ютта. Золото, а не девушка. Понимаешь? Красивая, добрая. Год назад познакомились, письма друг другу писали. На одну минуту. Когда теперь увидимся?
— Пойдем, — спокойно сказал старшина. — Или ты хочешь один?
— Нет, нет, вдвоем лучше.
Они подошли к дому, и Девин оробел.
— Здесь? — спросил старшина.
— Здесь, на втором этаже.
— Ты дома-то у нее бывал?
— Нет, не бывал, но знаю.
— Пойдем, побываешь.
— Боюсь.
— Что боишься-то? Не съедят же.
Из подъезда вышла девушка, увидела их, испуганно отшатнулась. И не мудрено: в сумеречном безмолвии перед ней стояли два рослых флотских парня — один с винтовкой, другой с автоматом. Вглядевшись в них попристальнее, девушка вскинула руки.
— Андре-ей? — спросила она оторопевшим голосом.
— Да, да, я Андрей, — поспешно ответил Девин, — Где Ютта?
Девушка опустила руки, шагнула назад.
— Ютта здесь… дома… Идемте.
Они вошли за ней в подъезд, перед лестницей девушка остановилась.
— Я должна сказать… Ютту вы сейчас увидите… Она ранена… Шла по улице, кто-то выстрелил…
— Ну идемте же! — заторопил ее Девин.
— Сейчас пойдем… Скажу всю правду: она уже… не живая.
— Как это не живая?
— Отец пошел к похоронщику.
Девин слушал ее и никак не мог взять в толк… Юная Ютта и вдруг… Здесь же город — не фронт. И немцев пока нет. А вдруг эта девушка шутит? Вроде Петухова или Медведева? Не-ет, не должна. Так не шутят.
— Когда это случилось?
— Вчера случилось. Идемте.
Шаги по лестнице, медленные, тягучие, отдавались в ушах Девина гулкой болью.
Ютта лежала на тахте, освещенная голубой настольной лампой. Раскинутые на подушке длинные светлые волосы обрамляли прекрасное девичье лицо. Девин передал старшине каску, винтовку, подошел к тахте. Ноги помимо его воли подогнулись, и он встал на колени, склонив голову. В ощущениях его перемешались боль, пустота, усталость. Давно ли строили они с Юттой планы — один лучше другого, — и вот… За что, за что им такое наказание? Должны же быть какие-то силы… Надо же кому-то ведать справедливостью…
Он в упор, не мигая, смотрел на Ютту, и ему казалось порой, что она вот-вот откроет глаза. Откроет, улыбнется, протянет руку…
На плечо ему опустилась рука и он услышал тихий, но настойчивый голос девушки.
— Вам надо спешить, можете опоздать.
Девин очнулся, но понять как следует ее слова не мог.
— Надо торопиться, — повторила девушка. — Могут уйти последние корабли. Я знаю.
Девин наклонился, поцеловал Ютту, встал. Последний взгляд, чтоб навеки запечатлеть в памяти прекрасное юное лицо, низкий поклон матери, стоявшей в слезах возле кушетки, и вновь шаги по лестнице.
— Я провожу вас, — сказала девушка. — Я знаю близкую дорогу.
Девин и Медведев едва за ней поспевали.
— Этот путь самый близкий и самый безопасный, — продолжала девушка. — Об опасности теперь тоже надо думать всерьез. Ютту убили не немцы. Пятая колонна. Мы с ней вместе изучали русский язык, вместе в комсомол вступили. Вот нам и мстят. Грозили не раз и ей и мне. Надо было в милицию сообщить, а мы, глупые, только посмеивались. Вот и досмеялись. Я-то извлеку урок, а она уже не извлечет. Она каждый вечер в порт ходила, надеялась вас встретить. Я тоже с ней ходила, когда была свободна. И письма ваши читала. Война всему виной, немцы проклятые. Вы когда думаете вернуться в Таллин?
— Не так, может быть, скоро, как хотелось бы, — ответил старшина Медведев, — но вернемся. И фашисты ответят нам за все.
— Здесь надо чуть-чуть подождать, — перебила его девушка. — Вы зайдите в подъезд, а я пройду немного вперед, посмотрю. Наблюдайте за мной. Когда махну рукой, быстрее ко мне.
— У нас командира не хватает, — сказал старшина. — Может быть, пойдете?
— Пошутим немножко позднее. — Она легонько подтолкнула их к подъезду и заспешила вперед. Минуты через три по ее сигналу вперед устремились и они. Девин почувствовал резкий запах дыма и гари.
— Здесь живут нехорошие люди, — сказала она, — вот я и решила сперва посмотреть. Опять что-то подожгли… Командиром к вам я пошла бы, только ведь и здесь надо кому-то воевать. Сидеть сложа руки мы не собираемся.
Собранная, ладная, умеющая схватывать и оценивать на лету, она с первых же минут производила впечатление человека, у которого слова с делом не расходятся. Сидеть сложа руки она, конечно, не будет, не сможет. Какие же испытания в этой большой и беспощадной войне лягут на ее юные плечи?
— Как вас зовут? — спросил старшина.
— Линда, — ответила она тихо.
На повороте темной громадой мелькнуло море. Линда ускорила шаг, и оно исчезло, чтоб через минуту-другую открыться вновь, теперь уже надолго. Чем ближе они к нему подходили, тем явственнее слышалось его тяжелое дыхание.
— Кажется, успели, — сказала Линда, прибавив и без того быстрый шаг. Рослым морякам, привыкшим к ходьбе в ногу, непросто было приспособиться к ее мелкому шагу, старшина Медведев то и дело чертыхался, Линда же шла к цели, не обращая на него ни малейшего внимания. — Видите два темных силуэта?
Они увидели у стенки два небольших корабля и, пожалуй, только теперь смогли оценить по достоинству ее спешку.
— Мы теперь доберемся, спасибо, — сказал старшина. — Идите домой. Ночь. Мало ли что…
— Нет уж, пока не посажу, — не уйду.
Старшина открыл рот, чтоб возразить, но Линда опередила его.
— Командир сейчас я, а не вы. Идемте, а то скомандую: бегом, марш… Это я умею, слышала.
На катере их ждали. Командир батальона дважды о них спрашивал, и мичман Лобода стоял на берегу собственной персоной, вглядываясь в таинственную городскую темноту.
— Наконец-то, дьяволы! — выругался он, когда они подошли. — Где вас носит. Девин же лучше всех знает город… Мы здесь что только ни передумали…
— Скажи спасибо нашему командору. — Старшина кивнул на Линду. — Она провела нас рысью и самым коротким путем.
— Спасибо, девушка, — сказал мичман, и в темноте было непонятно, всерьез это сказано или в насмешку.
— Ее зовут Линда.
— Спасибо, Линда. Мы перебрали десятки вариантов, хотели идти на поиски, а вот мысль о девушках никому не пришла в голову.
— Ну и зря, — перебил его старшина. — О таких девушках мечтать надо… Бегите, Линда… Еще раз вам большое спасибо.
— Вам тоже, — сказала она тихо. — За добрые слова и за добрые чувства.
Неожиданно к ней подошел Девин, опустился на колени, поцеловал руки.
— Мы вас разыщем, Линда, — сказал ей вдогонку старшина Медведев.
Девушка оглянулась, помахала рукой и исчезла в темноте.
— Ну-у, сердцееды, держитесь…
— Не надо, мичман, — остановил его Медведев. — Сейчас ничего не надо. Пожалуйста.
Мичман оглядел их, почесал затылок.
— Тогда шагайте в кубрик. Там вам оставлены два местечка впритык. Спешите, а то и сесть негде будет.
Двух местечек они не нашли, едва осталось одно, и ему они обрадовались двойной радостью. Тотчас же оба повалились ничком, это заставило потесниться тех, кто пришел сюда раньше.
Девин как лег, так сразу же забылся. Вокруг него ворочались, о чем-то судили-рядили, кляли немцев; он как будто и слышал все, и вроде бы ничего не слышал. Было непонятно: то ли дизель запустили на «морском охотнике», то ли где-то над самой головой противно загудел ленивый шмель. Не успело стихнуть нудное шмелиное гуденье, как усталое тело поползло вверх, а минутой позже с замиранием сердца опустилось вниз… Что это: катер разрезает крутую волну или, может быть, сердобольная мать укачивает его в деревенской люльке?
Непонятно, да и понимать не было охоты. Как идет, так пусть и идет.
Откуда-то глянуло солнце, нестерпимо яркое, не открыть глаза.
Кружились шмели вокруг, пахло медом и порохом. На голову ему опустились нежные руки, он приоткрыл глаза, оглянулся. Перед ним стояла Ютта в белом платье. На голове красовался венок из ромашек. Взявшись за руки, они побежали по зеленому лугу к реке. Ноги заплетались в высокой траве, было жарко и смешно. Долго, пока не скрылось солнце, плавали наперегонки. Они не сказали друг другу ни слова, и от этого было еще веселее.
Возле изголовья Медведева раздался стук.
— Что там? — сердито спросил старшина, поворачивая голову.
— Винтовка упала.
Девин очнулся и застонал от боли.
— Терпи, — услышал он тихий голос Медведева и почувствовал на плече дружескую руку. — Осталось единственное лекарство — терпенье.
Последние слова старшины потонули в грохоте, от которого содрогнулся весь корабль. С палубы послышался резкий длинный свисток боцманской дудки и отрывистая команда:
— Всем наверх! Разбирать спасательные пояса!
Не все и не сразу поняли, в какую опасность ввергла их изменчивая военная судьба. Старшина Медведев мгновенно вскочил на ноги и поднял за руку Девина. Кто-то недовольно спрашивал, что случилось, а кто-то, не успев очнуться, сладко и громко позевывал.
— Встать! — скомандовал старшина. — Всем наверх! По трапу быстрей, не толпиться!
Только теперь замолчал и зашевелился темный кубрик. Ведя за руку Девина, старшина подошел к трапу.
— Сюда! — крикнул он и подтолкнул Девина на ступеньку. — Живей, живей!
На палубе по обоим бортам стояли люди со спасательными поясами.
— Прыгать! — послышалась решительная команда. — Немедленно за борт! Отплывать дальше от катера!
Девин видел бедственное состояние корабля и все же стоял у борта без движения: какая-то сила связала его по рукам и ногам. К нему подбежал Медведев с двумя поясами, один накинул на Девина, другой — на себя.
— Ну, Андрюха, пошли. Будем держаться вместе. — Старшина оттолкнулся и прыгнул за борт, следом за ним, вздохнув, прыгнул Девин.
Балтийская вода была холодной, но не обжигающей, как ожидал Девин. Через минуту он уже освоился и довольно спокойно плыл за старшиной. Пока корабль держался на плаву, у них была цель: подальше отплыть, чтоб не затянуло в воронку. Отплыли, повернулись к нему лицом. Палуба уже скрылась, волны перекатывались по мостику. Недолго они пробыли на этом корабле, всего одну ночь, и корабль небольшой, в ширину, пожалуй, и перепрыгнуть можно, — а смотреть на его гибель неимоверно тяжело. Вот мостик ушел под воду. Одна мачта, изрядно накренившись, торчала еще посреди моря никому на нужной жердью. Наперекор судьбе мачта держалась долго, служа добрым пристанищем одинокой чайке. Отдохнув, белокрылая птица взяла курс на берег. Девин проводил ее тоскливым взглядом, а когда обернулся, мачты уже не было видно.
Море показалось ему шире и холоднее.
Полчаса назад старшина призывал его к терпению. Совет мудрый. Ничто им сейчас так не нужно, как терпенье. Устал — терпи, проголодался — терпи, продрог — тоже терпи. Ну а тонуть будешь — тем более терпи. Что-что, а умирать моряку надо по-человечески. Терпенья у него, пожалуй, хватит, на все хватит. А вот ума, смекалки, чтоб выход найти из положения…
— Ты видел, куда чайка полетела? — спросил его старшина Медведев.
— Должно быть, на юг, — ответил Девин.
— Правильно, на юг. А почему?
— Берег, наверное, там.
— Правильно. Вот и мы должны за ней. К берегу, к берегу…
— Крыльев бог не дал.
— Зато ножки да ручки дал. Ножками да ручками, потихоньку да полегоньку. Что нам еще остается?
Предложение старшины не улыбалось Девину, но это было реальное предложение. Его можно принять или отвергнуть, от него можно оттолкнуться и искать что-то другое. Он же, Девин, ничего не придумал, ровным счетом ни-че-го.
— Но берег-то весь немцы захватили, — возразил он. — К немцам в лапы плыть? По мне, лучше уж на дно балтийское нырнуть, позора хоть не будет.
— Так обязательно и в лапы? Не каждый же они метр стерегут.
— Может, и не каждый. Только что мы сделаем без оружия, без патронов?
— Кто-то хотел сразиться с немцем один на один, без оружия…
Пристыженный Девин молчал, а старшина, хотя и без прежней настойчивости, доказывал ему, что оба они не лыком шиты и что оружие на берегу можно добыть.
— Я думаю, лучше всего держаться поближе к фарватеру, — сказал Девин.
— Плавать в море и ждать немецкого корабля?
— Зачем же немецкого? Своего.
— Свои корабли все в Кронштадте.
— Не все. Оглядись вокруг — никто к берегу не плывет.
Порешили какое-то время покрутиться вблизи фарватера, и если кораблей не будет — плыть к берегу.
В споре не заметили, как взошло солнце. Когда увидели, друг другу улыбнулись.
— Если хочешь, могу одолжить тебе терпенья, — сказал Девин, ощущая, как вместе с солнцем в него входит бодрость.
— Обойдусь, — ответил старшина. — Теперь первейшая наша задача — беречь силы. Минимум движений, в том числе языком.
Оба они надолго замолкли. Даже фашистский самолет, обнаруживший их и трижды заходивший с востока, чтоб огреть балтийцев пулеметной очередью, не вывел их из молчанья, хотя и того и другого не раз заставлял сжиматься в комок и притаивать дыхание. Не столь пули немецкие были страшны — война есть война, на то шли, — сколь абсолютная невозможность дать наглому фашисту сдачи. Он, гад, стреляет, а ты даже кулак на него поднять не можешь. Только злость и была опорой. Погоди, тварь, дай только выплыть…
Вражеский самолет с фашистскими знаками прибавил Девину силы. Легче стало дышать, покрепчали мускулы, и вода вроде бы не такая уж соленая. Может быть, не в самолете дело, а в широкой улыбке друга? Он, конечно, из всех молодцов молодец, старшина Медведев. Балтийская волна подбрасывает ему соли в открытый рот, а он отфыркивается, как морж, и улыбается. Он и вчера был молодец, и все эти дни. Другой бы на его месте из себя вышел, когда Девин попросил зайти к Ютте. Задержка, ненужный риск…
Боль подступила к сердцу, ноющая, тягучая. Теперь она, наверное, до конца дней будет мучить его, эта боль. Что же, пусть мучает. Ему уже, он чувствовал, и не обойтись без нее, как не обойтись без Ютты, без раздумий о ней. Боль-мечта, не так уж и плохо. Ютта писала ему о своей мечте поступить в университет. Ее влекло в Ленинград, где что ни здание, то история. По его прикидкам, они могли учиться в Ленинграде вместе: она в университете, он — в военно-морском училище. И была бы у них не жизнь, а песня. Нежная, задушевная песня. Ютта охотно соглашалась с его задумкой. А еще они мечтали поехать на Волгу. Летом волжская вода теплая, мягкая. Не то что на Балтике…
Сколько, интересно, они уже плавают? Солнце давно затянуло свинцовыми облаками, а часов у него нет, не нажил. Да хоть бы и были — толку от них в воде никакого… Часа три или четыре, наверное, прошло. Может быть, даже больше: и промерз он до косточек, и голод подкрался волчий. Чайку бы горячего вместо этой тошнотворной соленой воды, которая так и лезет в рот. Хуже голода эта горькая водица.
— Ты о чем сейчас думаешь? — спросил он, не выдержав, старшину.
— Не скажу, — ответил Медведев. — Перетерплю свои думы один, одному легче.
— Не легче, — возразил Девин. — Мне без тебя давно бы крышка. Тебе, видно, даже вода соленая по душе.
— Вполне. Думаю, что она сладкая, и обхожусь. Еще лучше представить ее крепким чаем. А у тебя ноги не сводит?
— Своди-ило. Представил себе, что догоняю гада-немца, ножки сами заработали, как бешеные. Прошло.
— Ну-ну, молодец! Ничего не скажешь! И где ты только смекалки берешь? А немца-то догнал?
Девин замер, вглядываясь в мутную линию горизонта.
— Смотри, Медведь! Не туда, правее. Лучше смотри. Видишь что-нибудь? Еще правее!
— Что-то вижу, а что — не пойму.
— Ничего ты не видишь. Смотри хорошенько. Корабль идет, правым бортом к нам… Пояса! Снимаем пояса и машем. Изо всех сил. Заметит — повернет, не заметит — пройдет мимо.
Поясами они махали яростно и долго, пока не кончились силы и пока не стало ясно, что корабль, удаляясь на восток, уже не повернет к ним.
Сил едва хватило, чтоб надеть и приспособить пояса. Как на грех, разыгралась волна, белые гребни упорно облизывали их лица. Девин вдруг потерял ощущение воды и слегка оторопел: хорошо это или плохо? Закоченел совсем или подошло второе дыхание?
— У тебя хоть красавица Ютта была, — вымолвил Медведев, — а у меня — никого. Двадцать два года и один, как перст.
— А толстая Маргарита?
— Не было никакой Маргариты. Придумал, чтоб ребят повеселить.
Слушая старшину, Девин довольно успешно убеждал себя в том, что без этой проклятой воды ему становится лучше и лучше. В теле заметно обозначилась мягкость, появилась вроде бы и упругость. А вот друг, видно, приуныл.
— Тебе лучше, — твердо сказал Девин. — У меня было и нет, а у тебя не было, но есть. Линда — прекрасная девушка.
— Правда, хорошая?
— Ты вчера верно сказал: о таких девушках мечтать надо. Она из-за тебя пошла провожать нас.
— Ну-у, это уж ты зря, — возразил старшина, хотя это или что-то подобное и хотел услышать от друга.
— Ничего не зря, я же чувствовал. Ты лучше скажи, какие у тебя отношения с этой водицей?
— Надоела, будь она неладна. По правде сказать, хуже горькой редьки.
— Может быть, все-таки к берегу двинемся? По моим понятиям, и волна туда же курс держит. Там в крайнем случае хоть кулаки можно в ход пустить.
— Я думаю, надо подождать. «Охотник» прошел мимо, но оставил надежду. Немного подождать. Надо подгребать к фарватеру, нас, видно, отнесло. Хоть бы солнышко выглянуло…
Оно вскоре выглянуло и хоть чуть-чуть помогло им определиться. Они узнали время — полдень, узнали стороны света. В их положении это было немало. Да и само по себе солнце что-то значило. Они подставили ему лица, и души их просветлели. Пожалуй, даже погрелись.
Волна и впрямь катилась на юг, к берегу, и они вынуждены были, отвернувшись от солнца, плыть против волны, к фарватеру. Старшина вдруг побледнел, и его стошнило.
— Голова кружится? — спросил Девин.
— Кружилась, а теперь хорошо стало. Теперь я и до Финляндии доплыву. Там, пожалуй, сподручнее будет, как-никак воевал с ними.
До Финляндии им плыть не пришлось. Через час-полтора их подобрал большой транспортный корабль: Девина, Медведева и кое-кого из друзей, выдержавших девятичасовую балтийскую купель. Среди них был и мичман Лобода.
Поднимая их на борт, помощник капитана сказал, что им дьявольски повезло. В пути корабль подвергся атаке двух фашистских «юнкерсов», было сброшено восемь бомб, одна из них угодила в цель. Полдня как звери вкалывали, чтобы восстановить ход.
— Не знаю, надолго ли, — добавил он. — До Кронштадта еще топать да топать.
Подобранных балтийцев наскоро переодели во что пришлось, напоили горячим чаем. Чай был ароматен и сладок до умопомрачения. Ничего лучше Девин не пивал, он мог поручиться за это своей жизнью.
Но больше всего Девина изумил мичман Лобода. В последней схватке с фашистскими автоматчиками ему прострелили руку, и он никому об этом не сказал. Обнаружили это лишь здесь, при смене одежды, когда увидели забинтованную руку. Когда успел он перевязать рану, а главное — как он с одной рукой стоял девять часов один на один с морем?..
— Война, хлопцы, война… — отвечал мичман. — Она еще не то от нас потребует.
Утром пришли в Кронштадт. На рейде стояло множество кораблей, больших и малых, израненных и невредимых, а среди них особой статьей выделялся красавец крейсер. Девин глянул на него и едва сдержал сердце в груди. Дом есть дом, ничего не скажешь. Теперь одна задача — домой, скорее домой.
Подошел друг-старшина, оглядел рейд.
— Линкор, конечно, тоже хорош, — сказал он. — И грозный, и видный, но уже старик, с нашим красавцем не сравнишь.
— Сколько до него будет? — спросил Девин. — Полмили?
— Ты уж не вплавь ли надумал? — Старшина рассмеялся.
— А что? Опыт у нас теперь богатый.
— Потерпи, немного осталось. Ты знаешь, что вчера вечером наш транспорт-спаситель едва увильнул от немецких бомб?
— Спал как убитый, — ответил Девин.
— Я тоже. Сейчас только и услышал. Одна бомба разорвалась поблизости и вывела из строя рулевое управление. Матросикам опять пришлось попыхтеть, чтоб доставить нас в морскую столицу. Так что не спеши, не обижай их, они ребята боевые.
Их кораблю-спасителю довольно долго определяли место на рейде, а как только был брошен якорь, всех подобранных балтийцев отправили на берег и привели в казарму, где флотским братом можно было прудить не пруд, но целое море. В одежде с чужого плеча выглядели они неказисто, и многие от этого страдали. С чьей-то тяжелой руки их окрестили пловцами, они не обижались.
Желание у них было одно — скорее попасть на свой корабль, надеть свою форму. Но у многих своих кораблей уже не было, им Девин сочувствовал всей душой.
Прибежал, помахивая какой-то бумагой, мичман Лобода и, хмельной от радости, объявил, что после концерта в Доме флота за ними с родного их крейсера припожалует катер. Кинулись к нему, чтоб качнуть, но вспомнили о простреленной руке и решили отложить до выздоровления.
И веселый концерт, и элегантный Дом флота пришлись пловцам весьма кстати. Отступили от слуха пулеметные очереди и взрывы бомб, откачнулись от глаз видения горящих и тонущих кораблей, отогрелись флотские души, озарились улыбками юные лица в зале.
После концерта мичман Лобода построил свою поредевшую команду. Предупредил, что про убогое одеяние надо забыть, строй держать молодецкий. Он мог и не предупреждать, все и сами давно знали, что комендант в Кронштадте строг и лют, не то что в Риге или в Таллине.
От Дома флота до гавани ходу было полмили без гака, и дошли они до нее быстро, не успев как следует войти в шаг. Катер ждал их, покачиваясь на малой домашней волне. Тот самый катер, который неделю назад доставлял их с борта корабля в Таллин. Это доброе флотское постоянство в столь изменчивом мире радовало и обнадеживало.
На крейсере их встретили с почестями. Командир корабля сказал, что они заслужили торжественный салют и что он непременно будет в их честь, этот салют, и не холостыми выстрелами вверх, а точными боевыми залпами по врагу. Немцы громогласно объявили, что крейсер потоплен. Пусть знают: он жив и здоров. Командир добавил, что салют будет совсем скоро, как только вернувшиеся герои наденут свою собственную флотскую форму.
— Сколько вам надо времени? — Командир вынул из кармана часы.
— Двадцать минут, — ответил мичман Лобода.
Чтоб как следует помыться и побриться, погладиться и одеться, нужен был час, а то и два, но мичман по глазам командира видел, что боевые залпы нужны быстрее.
— Добро. — Командир улыбнулся. — Быть по-вашему.
В назначенное время по числу посланных в морскую бригаду бойцов прогромыхало тридцать боевых залпов. Чуть больше, чем требовало командование.
ТРОЕ СУТОК
Рассказ
Незадачи преследовали Жичина с самого утра. Не успел он открыть глаза и как следует проснуться, в уши тупым буравом вошли горькие вести: наши войска оставили еще два города и несколько населенных пунктов. Ни в одном из них Жичин не бывал, не догадывался даже об их существовании, но это были города свои, родные, с издревле русскими именами, и их потери отзывались в сердце ноющей болью.
Он встал, проветрил каюту, сделал добрую разминку мускулам. В минуту бритья потерял взгляд и порезал подбородок. Не сильно, почти не больно, но потекла кровь, он испачкал руки, рубашку и изрядно себя выругал. Капли собственной бледноватой крови напомнили ему вдруг ту большую кровь, которая без жалости лилась на бесчисленных полях сражений, и ему стало неловко за свою слабость и горячность.
После утренней поверки старшина радистов мичман Кузин доложил о недостаче спирта, предназначенного для протирки механизмов. Мичман был его ровесником и честнейшим человеком. Радиоаппаратуру и корабельное дело он знал лучше Жичина, однако никогда этого не показывал, не желая обидеть начальника. Жичин не сразу догадался об этом, а когда догадался, тотчас же при всех радистах признал превосходство мичмана, добавив, что через месяц-другой он Кузина догонит. Жичин и Кузин симпатизировали друг другу, тем неприятнее была весть о злополучном спирте.
— И куда же он мог деться? — спросил Жичин. — На смазку живого организма?
— Не думаю, товарищ лейтенант. При нашем блокадном харче было бы заметно. Полагаю, что не рассчитали: подвергли механизмы слишком щедрой протирке.
— Что же будем делать? У меня нет ни грамма.
— Отку-уда у вас, вы на корабле человек новый. Взаймы взял. Получим — отдадим, придется поэкономить.
— А где заняли-то? — спросил Жичин. Спросил и раскаялся: зря, наверное, поставил мичмана в неловкое положение. Но мичман ответил не задумываясь, он доверял лейтенанту как себе.
— В бэчэ-один ссудили, у них всегда есть запас, берегут на всякий случай…
Через час старшина радистов задал Жичину еще одну задачу.
Немцы уже три месяца стояли у самых стен города и в бессильной ярости каждый день подвергали нещадным бомбежкам и орудийному обстрелу жилые дома, заводы и корабли, стоявшие на якоре в Неве. Это были тяжелые месяцы, может быть, самые тяжкие за всю историю города. Люди гибли десятками, сотнями и не только от бомб и снарядов. Голод и холод объединились в наступлении на ленинградцев. Чтоб уберечь людей для жизни, Военный совет принял решение об эвакуации из города всех, кто не был причастен к его обороне.
У радиста Агуреева в этот день отправлялись на Урал к родственникам мать и младшая сестренка. Мичман Кузин просил разрешить увольнение краснофлотца Агуреева в город, чтоб он смог по-человечески проводить своих близких. Просьба была резонная — в мире бушевала война, с людьми в любой час могло случиться всякое.
Но тот же самый приказ Военного совета об эвакуации вводил в связи с осадным положением ряд строгостей на кораблях и в частях флота. Теперь увольнение на берег могли разрешить лишь командир или комиссар корабля. Он, Жичин, этого права на время осады лишался. Надо было идти к командиру, и он пошел. Поход окончился неудачно — командира вызвали в штаб флота, не оказалось на борту и комиссара. Почесав затылок, Жичин разрешил увольнение на свой страх и риск.
А что ему оставалось делать? Ждать, когда придет командир или комиссар? А если они до вечера не придут? Не увидит Агуреев ни мать, ни сестренку. Может и так случиться, что никогда не увидит. Это какой же грех будет у Жичина на совести?
Как он себя ни оправдывал, беспокойство так и не проходило. Что ни говори, а приказ Военного совета нарушен. И не когда-нибудь, а в тяжкое военное время да еще в осаде.
Через час предстояло занятие по новой аппаратуре, и Жичин решил еще раз взглянуть на схемы, чтоб не ударить в грязь лицом перед подчиненными. За этими схемами и застал его лейтенант Митяшов. Штурман зашел за книгой — давно собирался перечитать Джека Лондона — и разоткровенничался. Из головы у него не выходила жена. Когда он с ней повстречался, это была милая, скромная, интеллигентная девушка. Не прошло и двух лет, как это создание стало вздорной бабенкой. И так он вокруг нее, и этак, а она твердит одно и то же: и одиночество ей надоело и война опостылела. Как будто одной ей единственной выпало страдать. Но это куда бы еще ни шло, можно понять, даже посочувствовать: женой моряка надо родиться. А вот как понять ее отказ эвакуироваться? Он посоветовал ей поехать к его родителям, на Ветлугу — уж туда-то война, конечно, не докатится. В ответ услышал истерику: и не любит он ее, и никогда не любил, одно у него желание — избавиться от нее, загнать в лесную глухомань, а самому… Это как понять?
— Любит она тебя, — сказал Жичин.
— Может быть, и любит, — тихо согласился штурман. — Только ведь житья нет от такой любви.
— Глупец ты, штурман, хоть и старше меня на целых два года. Душу свою почем зря терзаешь, и все по глупости. Да если бы меня любила хорошая девушка, мне и война была бы не война.
— Ну да-а? — Штурман недоверчиво оглядел Жичина, полагая, что тот шутит либо, еще хуже, насмешничает. Увидев же его серьезные с грустинкой глаза, слегка потупился. — А я, стыдно сказать, «юнкерсов» боюсь.
— Я тоже боюсь, — сказал Жичин. — Ну и что?
— Не-ет. — Штурман покачал головой. — Я видел тебя на мостике, ты стоял спокойно. А я ведь до жути боюсь. Снаряды артиллерийские хоть бы что, а вот «юнкерсы»… Думал уж рапорт подать, на катера попроситься. За катерами «юнкерсы», поди, не будут охотиться — мала цель. А?
— И за катерами охотятся, война есть война. Я лично забываю о страхе, когда делом занят. Дел по горло — и самолета не замечаешь, некогда.
— Может быть, и мне так попробовать? Только ведь какие у штурмана дела, когда корабль на якоре?
— Захочешь — найдешь, — успокоил его Жичин и рассказал о своей тревоге из-за увольнения Агуреева. Штурман уверил, что это чисто формальное дело и что Жичина еще похвалят за внимание к матросу. А чтоб совсем уж рассеять его сомнения, штурман поведал о своих нарушениях, о чем никто даже не догадывался.
Вопреки предположению штурмана это признание повергло Жичина в уныние. «Что же получается? — думал Жичин. — Нынче я, вчера штурман, завтра другие наши военморы… Флот и армия держатся на строгом порядке. Нет порядка — нет армии, это элементарно… Нас же наказывать надо, сурово наказывать».
— Не страдай, — сказал штурман, глядя на хмурого Жичина. — Мелочи жизни.
— Всыпать нам надо как следует, — ответил Жичин. — Чтоб подольше не забывалось.
— Неужели докладывать пойдешь?
— О тебе нет, а о себе доложу.
— Ну и дурак, — тихо вымолвил штурман.
— В осаде дисциплинированный дурак ценнее умного нарушителя.
— Тоже, пожалуй, верно, — согласился штурман. — Только ведь нарушитель нарушителю рознь. Не к чему страдать из-за мелкого проступка, дороже обойдется.
— Не дороже, — возразил Жичин. — От мелкого проступка до большого один шаг, а может быть, и того меньше.
— Тогда страдай, — насмешливо посоветовал штурман.
— Вот и страдаю.
В эту минуту Жичин и впрямь страдал: разговор с Митяшовым расстроил его вконец. Уж если командир не понимает непреложность воинских установлений, то что тогда требовать от рядовых?
В смятенных чувствах пришел он и на занятия. Однако первая же команда мичмана взбодрила его, хотя относилась к матросам, а не к нему. Это обрадовало Жичина: что ни говори, а флотский стержень в нем живуч.
Новая аппаратура пришлась радистам по душе, и занятия шли как нельзя лучше. Уткнув носы в схемы, матросы изредка перешептывались, вскидывали брови, улыбались. Вопросы были дельные, остроумные, и в радиорубке нередко звучал смех. К концу занятий повеселел и Жичин.
За скудным худосочным обедом лейтенант Голубев рассказывал байки. Когда б обед был получше, он, возможно, и молчал бы, а тут разговорился. Одна история следовала за другой.
В давние времена к борту большого корабля нежданно-негаданно пришвартовался адмиральский катер. На корабле, конечно, забегали, засуетились. Для начала предложили адмиралу отдохнуть с дороги, а какая уж там дорога, когда катер и двух миль не прошел. От отдыха адмирал отказался и, не задерживаясь, начал инспекцию. Спустился в кубрик, спрашивает матросов, как их кормят. Один храбрый комендор не растерялся, налил в чашку коричневой жидкости из медного бачка, молча подал адмиралу. Один глоток отпил адмирал, другой.
— Нормальный чай, — спокойно сказал адмирал.
— Вот именно! — воскликнул комендор. — А нам говорят — это хороший суп.
Военморы, слушавшие Голубева, заулыбались, кое-кто рассмеялся, и вроде бы легче стало на душе, а тощий обед показался чуть-чуть пожирнее. Знал Голубев, когда и о чем рассказывать, хорошо знал, а ведь на год на целый моложе Жичина. Где же успел он премудрости этой набраться? Дар особый, не иначе.
Лейтенанта Голубева природа и другими дарами наделила щедро. Он хорошо пел, а играл едва ли не на всех инструментах, какие Жичин видел. Стоило ему хоть однажды услышать мелодию, даже самую сложную, он тотчас же мог ее воспроизвести и удержать в памяти на долгие времена. А ведь нигде не учился и нот совсем не знал. Какие в его деревушке могли быть ноты, когда там даже школы начальной не было — ходили в соседнее село. В училище морском позанимался года полтора в музыкальном кружке — вот и все образование.
После ужина, как обычно, свободные от вахты офицеры собрались в салоне кают-компании. Одни играли в шахматы, другие читали свежие журналы, газеты, третьи утоляли голод папиросами и дружескими разговорами. Лейтенант Голубев сидел за пианино, восстанавливал в памяти строгую, судя по лицу, мелодию и то и дело поглядывал на дверь. Поглядывал неспроста: вскоре в салоне появился командир корабля.
У командира на корабле особый статут: он верховная власть, он бог. У него свой кок, свой камбуз, свой салон. Негоже богу сидеть за одним столом даже с флотскими офицерами. У кого-то почтенья к нему может поубавиться, кому-то, не приведи бог, сам начнет симпатизировать и — ставь крест и на авторитете командирском, и на объективности. Власти лучше не быть на одной бытовой ноге с подчиненными, лучше для обеих сторон.
В кают-компании хозяином по древней традиции пребывает старший помощник командира, а командир хоть и высокий, но гость. И встретили его как высокого гостя: все встали, склонив головы в полупоклоне.
— Садитесь, садитесь, я на минуту, — сказал он скороговоркой и сел в кресло около двери. Теперь каждому стало ясно, что командир зашел послушать музыку.
Чем, интересно, угостит его сегодня лейтенант Голубев? Бородиным, Шопеном? Знали все и о том, что командир заходит лишь в случаях, когда ему тяжело, когда надо набраться сил, чтобы легче преодолеть невзгоды и препятствия. Командир тоже человек — с сердцем, с нервами.
Сели офицеры и — ни шелеста газет, ни слова. Замерли как перед боем. Фигуры на шахматных досках тоже застыли в ожидании. Отчего же медлит лейтенант Голубев? Командир сидит, ждет, и все приготовились слушать.
А лейтенанту было тягостнее всех. Он не артист, не привык играть на публику, а тут и командир, и друзья-товарищи. Что им сейчас по душе? Сейчас, в эту минуту? Попробуй-ка отгадай. У него тоже нервы и тоже сердце. Для себя он сыграл бы одно, а командир, может быть, хочет другое. Не спросить ли? Можно бы и спросить, да вдруг назовут то, что он не знает? К дьяволу полетит весь настрой. Э-э, была не была! Он взмахнул руками и заиграл.
С первых же звуков Жичин невольно закрыл глаза и сразу же ощутил: слушать так лучше, звуки обрели чистоту и прозрачность. Временами ему казалось, что он не только слышит, но и видит эти звуки — изящно порхающие мотыльки нежных расцветок.
Неожиданно звуки слились в четкую мелодию, и Жичин без труда узнал ее — «Аве Мария». Он просиял. Молодец Голубев, это хорошо, это прекрасно. Как он только догадался, что это самое лучшее, что сейчас можно услышать?
А звуки летели ввысь, выше корабельных мачт, выше облаков, выше «юнкерсов», и, казалось, следом за ними летит и он, Жичин, и его друзья-товарищи со славного крейсера.
Волшебные звуки стихли, Жичин открыл глаза. Молча, недвижно сидел у пианино уставший Голубев, в кресле у двери пребывал в полузабытьи командир корабля, рядом с ним безмолвно, боясь обеспокоить, стоял подтянутый капитан-лейтенант Вакуленко с сине-белой повязкой на рукаве — дежурный офицер. Не верилось… Не верилось, что минуту назад здесь, в салоне большой кают-компании, витала высокая песня-молитва, завораживая флотские души. Не верилось, что она кончилась: чудесные звуки до сих пор стояли в ушах, не отпуская ни ум, ни сердце.
— Благодарю вас, лейтенант, — тихо сказал командир. — Это то, что надо. Выше, пожалуй, и не залетишь. — Он нехотя встал, повернулся и оказался лицом к лицу с дежурным офицером. Капитан-лейтенант Вакуленко шагнул назад, вскинул руку к козырьку.
— Разрешите доложить, товарищ капитан первого ранга? Только что звонили из комендатуры. По причине просроченного увольнения задержан в нетрезвом виде наш краснофлотец Агуреев. Требуют прислать патрульного, чтоб доставить на корабль.
У Жичина заныло сердце. Нет, не от боязни. Взыскания он не боялся, он даже желал его. Не хотелось так быстро расставаться со звуками «Аве Марии». Не вовремя доложил Вакуленко, он и командиру, без сомнения, испортил весь настрой. Послал бы патрульного, а через час-полтора и доложить мог.
— Кто разрешил увольнение? — спросил, повернувшись к офицерам, командир.
— Я разрешил, товарищ капитан первого ранга. — Жичин встал, подтянулся.
— С приказом Военного совета знакомы?
— Так точно, товарищ капитан первого ранга. Утром на борту не было ни вас, ни комиссара, решил на свой страх и риск.
— Что ж, лейтенант, — трое суток домашнего ареста. Приказы надо выполнять, и выполнять точно.
— Есть трое суток ареста, — ответил Жичин.
— Скажите спасибо Голубеву. Когда б не он, плавать бы вам по губе гарнизонной.
— Так точно, товарищ капитан первого ранга! — В излишне отчеканенных словах, равно как и в веселом взгляде Жичина не было в эту минуту ни горечи, ни раскаяния.
— Что вы улыбаетесь? — спросил командир.
— Все правильно, товарищ капитан первого ранга!
— Лихо, — недовольно заметил командир. — Теперь отправляйтесь в каюту… — На языке у него было что-то еще, что-то колючее, но он сдержался и не сказал больше ни слова.
Не сводя с него глаз, Жичин чуть-чуть выждал, вскинул голову.
— Есть отправляться в каюту. — Молодцевато повернулся и вышел.
Придя в каюту, он снял китель и дал волю своим чувствам. Как бы там ни было, а дневным сомненьям и терзаньям теперь конец. Он подошел к зеркалу и в упор глянул себе в глаза. Что ж, глаза ясные, ни облачка в них, задорные искорки резвятся друг перед другом. Он поднялся на носки, смачно потянулся. Хорошо.
Выключив свет, Жичин прилег на диван, и тотчас же в гости к нему пожаловала «Аве Мария». Светлая, чистая, высокая. Хрустальные звуки, воспроизводимые молодой памятью, вольно плавали по каюте, а вдоволь наплававшись, медленно оседали в его сердце. Он боялся шевельнуться, чтоб не спугнуть это редкое чудодействие. Да-а, в звуках, конечно, больше души, чем в мыслях. Они чисты и непорочны. Помимо его воли к горлу подкатился теплый комочек, по телу поползли мурашки.
Мысли его перенеслись в Австрию, родившую Шуберта, но, кроме фашистских сапог и фашистской формы мышиного цвета, он ничего там не увидел.
А что ему, интересно, еще хотел сказать командир? Что он недоговорил?
После вечерней поверки, оглядевшись по сторонам, в каюту вошел мичман Кузин.
— Я на минутку, товарищ лейтенант, — заговорил он шепотом. — Знаю, что навещать вас нельзя, но у меня категорический наказ всех радистов. Велено передать, что Агурееву всыпали по первое число. Он, бедняга, даже расплакался, это уж совсем не по-флотски. А еще просили передать, чтоб вы шибко-то не маялись. Хлопцы все до единого переживают за вас.
— Спасибо, мичман, а теперь марш в кубрик. Корабельные установления должны выполняться, и выполняться точно.
Мичман козырнул и бесшумно исчез, оставив Жичину трогательное мужское сочувствие радистов. Ему было приятно, хотя он понимал, что радисты, отчитывая Агуреева, думали не только о нем, о Жичине, но и о себе. Он живо представил их гневные лица, запальчивые слова. «Пойми ты, Агур несчастный, ты не только лейтенанта наказал, ты нас всех наказал. Разве он пойдет теперь в случае нужда хлопотать за кого-либо? Теперь у начальства и ему прежней веры нет». Такую или похожую тираду, наверное уж, выпалил неуемный саратовец Максим Зубов.
«Пойду, Зубов, в случае нужды обязательно пойду и похлопочу, — мысленно отвечал ему Жичин. — А вот что веры прежней может не быть, это, пожалуй, резонно».
Долгонько еще Жичин не мог откачнуться от своих радистов, ему было хорошо с ними, а когда волнение слегка улеглось, он вновь вспомнил командира, и ясно ему стало, совершенно ясно, что именно командир недоговорил. Это не обрадовало Жичина, но он должен был членораздельно сказать себе словами командира: «Топай, голубчик, в свою каюту. Весь экипаж будет дело делать, а ты…»
Обидные слова. Хорошо, что командир не произнес их во всеуслышанье. Жичин вздохнул и устыдился своих мыслей: как будто не все равно, вслух высказаны эти слова или про себя, командир вымолвил их или же сам Жичин. Командир пощадил его, но разве это лучше? Он не мальчишка, чтоб жалеть его, он давно уже взрослый человек, ему доверено людьми командовать.
Жичин знал наверное, что корабельные офицеры не осудят его строго, может быть, совсем не осудят, а кое-кто и посочувствовать может, как это сделал штурман Митяшов. На флоте испокон веков гуляет поговорка: «Кто на губе не бывал, тот службы не видал». Жичину ни разу еще не доводилось сидеть на гауптвахте, и он совсем не возражал бы против нее, не говоря уже о домашнем аресте, если б это было в мирное время, а не сейчас, когда и город, и флот Балтийский находятся в жестокой осаде. Стыдно в такое время сидеть сложа руки в каюте. И перед командиром стыдно, и перед товарищами, и — главное — перед собственной совестью. Страна из последних сил тужится, чтоб остановить и обескровить врага, Ленинград держится на пределе человеческих возможностей, а ты должен лежать в каюте и поплевывать в потолок. Знает командир, хорошо знает, как наказать флотского офицера.
За дверью послышались осторожные торопливые шаги. «Наверняка ко мне», — подумал Жичин и не ошибся. В следующий миг дверь приоткрылась, и он услышал шепот лейтенанта Митяшова: «Темно. Ты спишь, Федор?»
Жичин не ответил и не открыл глаз. Будет сейчас сочувствовать, утешать, только этого ему не хватало. Лучше уж кто-нибудь пришел бы да выругал как следует.
Штурман с минуту подождал и затворил дверь. Слава богу, подумал Жичин. А кто, интересно, мог бы его сейчас выругать? Не пожурить, а выругать. Убежденно, чистосердечно. Митя Голубев? Не-ет. Успокаивать начнет, байки рассказывать. В одной из баек будет мораль. Чудный парень, душа человек, но в эти минуты Жичину требовалось совсем иное.
Неверов мог его выругать. Смачно выругать, от души. Начать с того, что Неверов, окажись он на месте Жичина, ни в коем случае не пустил бы Агуреева в город, не испросив разрешения командира или комиссара корабля. Кто-кто, а лейтенант Неверов приказа не нарушит, он родился офицером. В дополнение ко всему, на Жичина у него давний закоренелый зуб за постоянные насмешки. Их, наверное, и не было бы, этих шуток и насмешек — ни в военно-морском училище, где они вместе грызли флотские науки, ни здесь, на боевом корабле, — когда б Неверов спокойно к ним относился. Но он так худо, с такой яростью встречал любую, даже самую безобидную подначку, что Жичин подсмеивался над ним нарочно. И не только Жичин. Хотели приучить к шуткам, на флоте без них не жизнь. Так и не приучили.
Неверов, конечно, отругал бы его. Может быть, даже съязвить удосужился бы. И насмешка могла пойти в ход. Только где ты его возьмешь сейчас? Самому из каюты выходить нельзя, и он, Неверов, разумеется, не придет, коль скоро это запрещено флотскими уложениями.
Однако Неверов нашел возможность прийти к нему: он объявился Жичину во сне. Случилось это так. От долгого лежания в темноте с закрытыми глазами Жичина стало клонить в сон. Он тотчас же поднялся, разделся, застелил постель и улегся основательно, по всем правилам. Едва успел смежить веки, как куда-то провалился. Оказалось, не провалился, а взлетел на мостик. Подходила к концу его вахта, он уже поглядывал на часы, ожидая сменщика. По расписанию на смену ему должен прийти лейтенант Голубев, а пришел лейтенант Неверов. Пришел минута в минуту, ладный, самоуверенный, полный офицерского достоинства.
«Почему ты, а не Голубев?» — спросил его Жичин.
«А это не наше с тобой дело, — ответил Неверов. — Есть командир, есть старший помощник, они решают. По праву и по обязанности».
«А все-таки? — Жичин не унимался. — Что с Голубевым?»
«Не могу знать, не интересовался. Мне приказали, я выполняю. Не имею обыкновения спрашивать у командира больше того, что он счел возможным сказать мне сам. Никогда также не позволю себе решать вопросы, которые находятся в компетенции вышестоящего командира. И не потому, что не могу. Может быть, и смог бы, да не буду. Не положено».
Жичин помимо своей воли усмехнулся: образцовый офицер, ничего не скажешь. Эта усмешка мгновенно сняла с Неверова маску британской невозмутимости.
«Да, да, не буду, потому что не положено! — воскликнул он в сердцах. — Не по-ло-же-но! И это вовсе не пустяк, не формальность, а основа воинской организации. Если офицер этого не знает или не принимает близко к сердцу, он не офицер, ему надо подавать в отставку, немедленно подавать, потому что рано или поздно он может нанести серьезный, а возможно, и непоправимый вред государству. Слышал я твой лепет… На свой страх и риск… — Последние слова он произнес жичинским голосом, выделяя и чуть растягивая каждое из них, и это прозвучало так смешно, что Жичин не выдержал и расхохотался. Неверов же не повел ухом, он и не думал смеяться. — Мальчишество. Эдак ты и кораблем начнешь командовать, и флотом… на свой страх и риск. Допустим, случай с твоим радистом не так уж и серьезный. Но ведь лиха беда начало. Сегодня нарушение незначительное, а завтра бедой может обернуться».
«А голова для чего?»
«Голова для того, — перебил Неверов, — чтоб думать. Думать, как лучше выполнить приказ. Не нарушить, не обойти, а как можно лучше выполнить. Только так офицер может оправдать свое высокое предназначение».
Жичин хотел что-то ему возразить, но не успел — проснулся. И хорошо, что проснулся. Примерив свой сон и так и этак, он пришел к твердой мысли: возражать нечем.
Утром, не дожидаясь завтрака, он сел за стол и с остервенением взялся за дело. Впереди у него три дня и две ночи — время немалое. Надо заново проштудировать все уставы и все инструкции, капитально просмотреть все схемы аппаратуры, восстановить в памяти теоретические основы, почитать Толстого, Станюковича. Не мешало бы пройтись с карандашом в руках по Балтийской лоции — не век же новехонькому крейсеру торчать в Неве. Он составил подробный план, и дело пошло. Работалось хорошо, азартно. Все или почти все было читано и раньше, все вроде бы казалось знакомым, а воспринималось сейчас по-другому, и не сразу понял Жичин секрет этой механики. А секрет был простой: раньше он читал для преподавателя, чтоб сдать экзамен, а сейчас для себя, для дела.
Вестовой принес завтрак и в растерянности глядел на стол, заваленный бумагами, — некуда было ставить поднос. Жичин сдвинул схемы, и краем стола завладели большая тарелка с крошечной горкой перловой каши, тонюсенький ломтик эрзац-хлеба и стакан чая в серебряном подстаканнике.
— В кают-компании, товарищ лейтенант, все говорят, что вам повезло — трое суток загорать можно, — а вы ни свет ни заря уже за бумаги, — с укором выпалил вестовой, тверской колхозник Антон Савватеев, но в этом укоре Жичин услышал и простодушное одобрение. Кто, как не земледелец, может достойно оценить усердную работу, да еще ранним утречком.
— А что еще говорят в кают-компании?
— Говорят, что если бы капитан-лейтенант Вакуленко доложил командиру с глазу на глаз, вы бы, товарищ лейтенант, могли отделаться простым замечанием.
— А вот это было бы плохо.
— Почему же, товарищ лейтенант?
— Потому что я нарушил приказ Военного совета. Если человека за это не наказать, он нарушит приказ и в другой и в третий раз. И не только он — другие разохотятся, дай только волю. Не флот боевой будет, а сход крестьянский. Так что не утешайте меня, Савватеев, все правильно.
— Не буду больше, товарищ лейтенант. — Он улыбнулся. — На обед котлеты принесу.
Жичин позавтракал, и есть захотелось еще больше. При голоде это обычное явление, он уже привык к нему и потянулся за папиросой-спасительницей. Теперь рассвирепевший аппетит могли унять только папиросы. Хорошо хоть, что это добро на корабле пока без ограничения. Правда, если выкурить десяток подряд, начинала кружиться голова и к горлу подступала тошнота. Но совсем не обязательно было курить сразу целый десяток. Шесть-семь — и голод уже отступал — прямым ходом в немецкие окопы, как говаривал лейтенант Голубев.
За схемами и уставами день прошел быстрее, чем Жичин предполагал. Не все ему удалось постигнуть, что намечалось. Не успел. Зато все прочитанное отстоялось и осело в памяти крепко.
Поздно вечером зашел мичман Кузин. Зашел свободно, не таясь, как всегда заходил до вчерашнего дня. Жичин встретил его строгим недоуменным взглядом.
— Не сам, не сам, товарищ лейтенант. По приказу. Доложил старшему помощнику план завтрашних тренировок, он внес кое-какие коррективы и приказал согласовать с вами.
Жичин просмотрел план, остановив особое внимание на поправках старпома. Они, конечно, были не случайны, эти поправки.
— Старпом не объяснил свои коррективы? — спросил Жичин.
— Никак нет, товарищ лейтенант. Но приказал обязательно согласовать с вами.
— Похоже, стрельбы ожидаются, — тихо обронил Жичин, переводя взгляд с одной поправки на другую.
— Я тоже так подумал, товарищ лейтенант.
— Что ж, мичман, все дельно. Приказ есть приказ. — Жичин вернул ему листок с планом. — Как прошел день?
— Все в порядке, товарищ лейтенант. Никаких происшествий.
— Лучше, чем с командиром. — Жичин усмехнулся.
— Не лучше, — возразил мичман. — Все переживают за вас. Все до единого.
— Хватит об этом, мичман. Сколько можно воду в ступе толочь?
— На мое разумение, товарищ лейтенант, до тех пор, пока не расплескается.
— Идите-ка спать, философ.
Мичман ушел, а Жичин долгонько еще размышлял над его словами. Он, конечно, и сам знал, что радисты обеспокоены его наказанием, жалеют своего командира. Пострадавших всегда жалеют. Напоминание об этом вроде бы и приятно было, и лестно для лейтенантского самолюбия, но он тотчас же ощутил в себе заметную расслабленность. На память пришел случай из далекого детства. После изрядной отцовской взбучки он прибежал к матери за сочувствием. Мать, как водится, приласкала его — обняла, поворошила волосы, — и таким он показался себе несчастным, так стало себя жалко, что он, не желая того, разревелся. Казалось, конца не будет горьким соленым слезам, тяжким всхлипываниям и содроганьям. Он уже не помнил, как успокоился, помнил только, что после этого, обессиленный, измучившийся, проспал среди бела дня несколько часов подряд.
Не-ет, расслабляться ему нельзя. Ни в коем случае. Завтра и задуманное надо сделать, и упущенное наверстать.
Пока каюта проветривалась от застоявшегося табачного дыма, Жичин думал о том, что бы ему на сон грядущий почитать. Джек Лондон подошел бы, пожалуй, по всем статьям, но его похитил штурман. Неизвестно еще, кто сейчас больше нуждается в мужестве — Жичин или Митяшов. На глаза попался Станюкович, но Жичин, подумав, решил, что его лучше читать не на якоре в Неве, а в море, в дальнем походе либо перед самым походом. Остановился на Толстом. У Льва Николаевича и мужества предостаточно, и философии. А главное, о чем бы ни шла речь, перед глазами во всей тягости и во всем величии встает сама жизнь. Где найти лучшего учителя, чем жизнь?
Задраив иллюминатор, Жичин не спеша улегся и так же не спеша взял книгу. Полистал «Севастопольские рассказы» — интересно, но очень уж все знакомо, хотелось необычного, — дошел до «Отца Сергия». Вот что ему сейчас надо! Он читал эту повесть давно, в школе на уроках — выпросил на день у дружка — товарища Петьки Зимовникова. Это было чтение урывками, с оглядкой. Многое осталось тогда непонятным, загадочным. Однако мучения отца Сергия, его непреклонная воля и решительность вошли в память капитально.
Жичин читал неторопливо и, в сущности, постигал все заново. В жизни до сих пор пока ничто еще так не захватывало, как взяла в клещи и повела своей извилистой дорогой эта драматическая история. Пока дорога не кончилась, он не оторвался от книги ни на минуту. На нервный и голодный желудок с интересом читались редкие книги. Жичин мог сосчитать их по пальцам, и ни одна из них не могла идти в сравненье с историей отца Сергия.
Когда у Жичина бывала радость, он спешил поделиться ею с друзьями. Этой радостью не хотелось делиться ни с кем.
Второй и третий день наказанья пролетели пулей. Вечером третьего дня за столом в кают-компании его ожидала любопытная встреча. Офицерские места за столами раз и навсегда распределены по должностному принципу. Во главе кают-компании — старший помощник командира корабля. За одним столом с ним сидели командиры боевых частей, потом следовали столы начальников служб, командиров башен, батарей, групп. Вместе с Жичиным трапезу делили лейтенанты Голубев, Митяшов и Неверов.
Корабельная служба расписана по минутам, офицеры встречались лишь в кают-компании, и каждодневное общение за столом довольно часто бывало истоком доброй дружбы. Жичину было небезразлично, как встретят его друзья-товарищи после трехдневной отлучки. Ему хотелось первым делом повидаться с ними, с соседями по столу, самыми близкими людьми на корабле, и он вошел в салон в ту минуту, когда вестовой докладывал старпому о том, что стол накрыт. Он обдуманно выбрал эту минуту, чтоб у офицеров не было времени обратить на него внимание. Сперва друзья, потом все остальные.
— Товарищи командиры, прошу к столу, — торжественно произнес старший помощник и распахнул дверь в столовую. Без сутолоки, но и не задерживаясь, офицеры двинулись за старпомом.
Жичина, к его радости, вроде бы и не заметили. Он вошел в столовую последним, все уже уселись, и только его друзья по столу, приветствуя его появление, стояли навытяжку. Он сел, сели и они. Шутливый парад достиг цели — Жичину стало весело.
— Тебя в одиночестве-то не лучше кормили? — спросил лейтенант Митяшов.
— Лучше, — с усмешкой ответил Жичин. — Того и вам желаю.
— Мы бы с нашим удовольствием. — Штурман даже облизнулся. — Правда, Митя? — Он перевел взгляд на Голубева.
А Голубев то ли не слышал, то ли не захотел ввязываться в этот разговор. Он повел философскую речь о добре и зле, о том, что зло безродно, а у добра всегда есть дом, есть родина. Не особо надеясь, что эти слова произведут на друзей-соседей должное впечатление, он заметил для пущей важности, что высказанные им мысли принадлежат Льву Николаевичу Толстому и что он, Голубев, лишь полностью их разделяет.
Упоминание о Толстом всколыхнуло в Жичине собственные раздумья, навеянные ночным чтением, но воли этим раздумьям он не дал. Ему не очень ясно было, с какой целью затевал Голубев этот разговор о добре и зле. Подкрепить душевной щедростью его, Жичина? Вроде бы ни к чему, он не нуждался в подкреплении, и Голубев должен был бы если уж не знать, то догадаться об этом. Защищать Жичина от Митяшова не было никакого смысла. Может быть, все дело в Неверове?
Едва Жичин глянул в его сторону, как Неверов, махнув рукой, напустился на Голубева.
— Хватит тебе философию разводить. Неужели не надоело? Главное в том, что Федор теперь полноценный моряк, испытавший всю флотскую службу. Теперь и весь стол наш полноценный. А ты опять в заумь ударился…
В другой раз Голубев мог и не пропустить эту тираду мимо ушей, теперь же он лишь расцвел в улыбке.
— Неужели и ты на губе бывал? — спросил Митяшов. — Сдается мне, чужие заслуги себе приписываешь.
— Представь себе — не приписываю, — весело ответил Неверов. — Губу испытал дважды.
Да-а, удивил Жичина Неверов. И Голубева удивил, и Митяшова.
В этот вечер Жичину предстояло еще одно лицезрение. Нельзя сказать, что он терзался опасениями за эту встречу, но мысли его возвращались к ней то и дело. Он думал о ней в каютном уединении, не давала она ему покоя и сейчас, после скудного, но веселого ужина с друзьями. Шаги свои он вроде бы обмозговал заблаговременно, теперь не потерять бы свой лад.
Прошел час, и он спокойно направил свои стопы в кубрик. Молодцевато спустился по крутому трапу, выслушал доклад мичмана Кузина, повернулся к строю.
— Здравствуйте, товарищи.
— Здравия желаем, товарищ лейтенант!
На него уставились десятки глаз, одна пара пытливее другой. Он знал, чувствовал: на уме у них самое доброе, не виноваты же они в том, что их гложет любопытство. Конечно же, они хотят знать, какое будет наказание Агурееву. Жичин держался спокойно, а глаза его сами, без ведома хозяина, потеплели, заискрились, и он тотчас же увидел их отблеск в глазах радистов, смотревших на него с искренним сочувствием. Было одно любопытство, а теперь и сочувствие. Разве от них скроешь что-либо?
На Агуреева он не смотрел, не хотел видеть его смятения, но ощущал его всем сердцем, каждой своей клеткой.
— Знаю, — сказал Жичин, — что эти дни были плодотворными. — Он отступил шаг назад, чтоб лучше видеть весь строй. — Отработаны все поставленные задачи, хорошо отработаны. Я лично в этом не сомневался. Молодцы. Завтра предстоят более серьезные дела. Обращаю особое внимание на связь с корректировщиками. Все. Желаю удачи.
Он козырнул и пошагал к трапу. После вечерней поверки он обычно задерживался в кубрике и вел со своими военморами душевные беседы. Сегодня он изменил этому правилу, пусть беседы по душам будут без него. А они будут, будут, эти беседы. Как им не быть, когда командир получил строгое взыскание, а главный виновник отделался испугом? Он, Жичин, тоже, конечно, виноват, но, не попади Агуреев в комендатуру, Жичина могли даже похвалить за добрую инициативу. Хлопцы прекрасно это знают.
У самой каюты Жичина догнал мичман Кузин.
— Товарищ лейтенант, разрешите напомнить? Вы не забыли про взыскание Агурееву?
Нет, мичман, он не забыл, такие вещи не забываются, но напоминания об этом он ждал, оно весьма кстати.
— Проходите, мичман. — Он открыл каюту, пропустил гостя. — Садитесь. — Мичман медлил, ждал, когда сядет Жичин. — Садитесь, садитесь, я трое суток сидел, надоело. — Он прошелся по каюте и тоже сел.
— Видите ли, мичман… Если говорить по существу, Агуреев уже наказан, изрядно наказан своими же товарищами. Не так ли?
— Так точно, товарищ лейтенант, но он совершил серьезный проступок и по уставу… Вы же лучше меня знаете, товарищ лейтенант.
— Объявите ему выговор либо замечание. Как сочтете нужным.
Мичман сразу повеселел, заулыбался.
— Спасибо, товарищ лейтенант. Не смею больше утруждать вас. — Он встал.
— Одну минуту, мичман. На связь с корректировщиками первым номером поставьте завтра Агуреева. Задача ответственная, а радист он первоклассный.
— Так точно, товарищ лейтенант, но после серьезного проступка…
— Вы, кажется, собирались больше не утруждать меня?..
— Есть поставить Агуреева первым номером!
— Доброй ночи, мичман.
Утром следующего дня по кораблю вихрем пронесся сигнал боевой тревоги. Через две минуты — секунда в секунду — старший помощник доложил командиру: корабль к бою изготовлен. Экипаж замер в ожидании. Тишина после боевой тревоги бывает обычно недолгой, но она всегда тягостна. Скорее, скорее бы. И, будто подстегнутая этой всеобщей мольбой, раздалась команда. На этот раз она предназначалась орудийным башням и радиорубке.
Жичин стоял на сигнальном мостике и во все глаза смотрел, как разворачиваются, нащупывая нужный вертикальный угол, все три башни. Вот они остановились, нацелив грозные стволы на юго-запад, застыли на мгновенье в неподвижности и — ба-бах, ба-бах, ба-бах! В морозном воздухе строенные залпы прозвучали сухо, совсем не страшно. Корабль зашатался, заходил из стороны в сторону.
И вновь тишина. Из стволов тянулись струйки белых дымков, густо пахло порохом. Наступил черед корректировщиков и радистов. Если они сработают хорошо, пристрелка на этом может закончиться, открыв дорогу точным залпам. Жичин, конечно, в первую голову думал о своих радистах, об Агурееве. Ожидание было мучительным, и он, чтоб отвлечься, остановил взгляд на набережной, на жилых домах, глядевших своими окнами прямо в жерла корабельных орудий. Снаряды, должно быть, пролетели над самыми крышами, не хотел бы он быть на месте жильцов в те минуты.
Дрогнула кормовая башня, выбросив языки пламени, прогрохотал залп, и на лице Жичина появилась робкая улыбка. Он ждал залпов носовых башен, но их не было, вероятно, потребовалась новая корректировка. Минуты через три кормовая башня громыхнула новым залпом, а следом за ней, опережая одна другую, бабахнули обе носовые. И — пошло-о! Залпы слились в сплошной гул, корабль раскачивался и дрожал, беспрестанно дрожал, как в лихорадке. На минуту у Жичина появилось ощущение, что красавец крейсер не выдержит и где-то даст трещину, но оно безвозвратно растаяло в грохоте канонады. Жичин не стрелял, не держал связь с корректировщиками, а душа его радовалась, пела. Даже тяжелый запах пороха, окутавший весь корабль, был приятен.
По окончании стрельб, сорвавших, как стало известно, крупную атаку противника, башенным комендорам и радистам была объявлена благодарность Военного совета.
Докладывая Жичину о действиях радистов, мичман Кузин не смог удержаться от доброго слова в адрес своего командира.
— Нет, товарищ лейтенант, что ни говорите, а мне за вами не угнаться. Мне и в голову не пришло, что после провинности Агуреев будет работать как зверь. Рекорд скорости, и ни единой ошибочки.
Это была лучшая похвала, какую Жичин когда-либо слышал.
ПЕРИСТЫЕ ОБЛАКА
Повесть
Мы вышли на крыльцо встречать раненых. Было утро, не раннее и не позднее августовское утро с теплым солнышком. Будь сейчас полночь, лей проливной дождь, мы все равно вышли бы посмотреть на своих собратьев по несчастью.
Из новых раненых внимание мое привлек долговязый парень, совсем еще мальчишка с большими синими глазами. Он недвижно лежал на носилках и тихо постанывал. В глазах у него не было ни боли, ни страха, все это, видимо, уже прошло, уступив место недоумению.
«Как же это так? — спрашивали его глаза. — Человек еще не видел жизни, только готовился к ней — и вдруг… Что же это такое?» Они останавливались то на одном лице, то на другом, дошла очередь и до меня. А что я мог сказать? Улыбнулся жалостливо: терпи, мол, брат, не горюй, до свадьбы все заживет. Он не поверил мне и перевел взгляд на капитана Крутоверова, стоявшего рядом.
Вслед за парнем глянул на капитана и я. Я видел, как он поймал и долго не отпускал растерянный взгляд паренька, втолковывая ему самое простое: «Тяжко тебе, кто ж этого не видит? Только на то ты и парень, чтобы не раскисать, чтоб в руки себя взять и держать, как положено мужчине. Нынче и девчонки чудеса творят…»
— Как тебя зовут? — тихо спросил капитан, но голос его услышали все.
— Егором, — ответил парень.
— Ну, вот, видишь — Георгий, значит. А Георгий знаешь кто? Победоносец.
Я был удивлен, когда увидел в синих глазах легкое замешательство, а потом и неловкость и даже стыдливость. Не гипноз ли таится во взгляде молчуна Крутоверова? Паренек успокоился и закрыл глаза.
На него же, на синеглазого паренька, смотрела неотрывно и Валентина Александровна Мажорцева, наш доктор, наша любимица и надежда. В отличие от нас, ей надо было делать свое дело, и она, повернувшись к санитарам, попросила бережно, осторожно нести раненого в операционную. Встретив взгляд капитана и как бы споткнувшись о него, Валентина Александровна решительно шагнула на крыльцо и скрылась за дверью госпиталя. Два пожилых санитара, подняв носилки, медленно двинулись за ней. Мы тоже не стали задерживаться и вернулись к себе в палату.
В этой палате я обитал уже третий месяц, а капитан Крутоверов — две недели. Сколь одинакова наша теперешняя жизнь, столь же несхожей она была до госпиталя. Капитан служил в пехоте и всю жизнь ходил по земле, хотя около года по земле ему приходилось больше ползать. По-пластунски или любым иным способом по собственному выбору. Моим же местом службы был боевой корабль, и на твердую землю я ступал лишь по праздникам. Землю мне заменяла шаткая корабельная палуба, по ней не разбегаешься. Капитан весь был обвешан оружием — автомат, гранаты, запасные диски на поясе, — а у меня, кроме бинокля и пистолета, ничего не было. Он ходил врукопашную на немцев, двух фрицев задушил собственными руками, а я ни разу не видел ни одного живого фашиста. Капитан был мрачен и молчалив, а я, как почти любой моряк, любил посмеяться, пошутить. Впрочем, может быть, мы и подружились по той причине, что были разные. А подружились мы довольно крепко. Первые дни приглядывались друг к другу, а сейчас не можем порознь ни обедать, ни ужинать. Если одного из нас нет в палате, другой немедля идет его искать. Обойдет все палаты, всю госпитальную территорию и пока не разыщет, не приведет на место, к еде не притронется.
Вернувшись в палату, мы не сговариваясь улеглись на койки. Я головой к окну, он — ногами, чтоб можно было смотреть на верхушки деревьев. Он всегда так ложился, когда ему бывало не по себе. Я знал: уставится сейчас на одну из сосновых вершинок и будет молча глядеть на нее, пока не появится в палате Валентина Александровна или не принесут обед. Заговаривать с ним сейчас бесполезно, он не только слова не скажет — бровью не шевельнет. В сотый, а может быть, и в тысячный раз будет переживать свое ранение.
Ранило его, конечно, нелепо. Он приказал погуще заминировать поле перед высотой, которую оборонял его батальон. Опытные исполнительные бойцы сделали свое дело на совесть. А высоту эту немцы обошли и ударили с тыла. Ударили во всю мощь: танками, пушками. Пришлось отходить, и не на восток, а на запад, на поле, которое сами заминировали. В суете, в азарте боя он не заметил, как ступил на мину. Даже в первый миг после взрыва не знал о беде. Его отбросило в овражек, поросший кустарником, и боль он почувствовал сперва не в ноге, а в боку — ударился о корягу. Услышав неверную команду своего заместителя, он рванулся, чтоб исправить ошибку, но подняться уже не мог. Острая, нестерпимая боль пронзила ногу и отдалась в голове, в сердце, во всем теле. Он потерял сознание, а когда очнулся, увидел возле себя санитара и свою обнаженную ногу. Стопа была раздроблена, и малейшее прикосновение к ней вызывало такую боль, что приходилось крепко сжимать зубы и собирать в кулак всю волю и все силы, чтобы не крикнуть, не выдать себя немцам, которые, по словам санитара, были слева и справа, впереди и позади.
«Вам надо немедленно в медсанбат, — сказал санитар, — а вот где он сейчас, не знает, наверное, и сам бог».
«Медсанбат подождет, — через силу сказал капитан, — а вы сейчас же разыщите командира первой роты и передайте ему мой строжайший приказ взять на себя командование и вывести батальон к северной балке, а по балке добраться до леса и укрыться там».
Санитар попытался возразить, сославшись на то, что не может бросить командира на произвол судьбы, но под строгим взглядом капитана сразу же осекся. Дальше все пошло как в дурном сне. Пожалуй, даже и во сне такое не привидится. Мне становилось плохо от одного его рассказа, хотя я был не из робкого десятка. Диву давался, как он вытерпел, как перенес эти адские муки.
…Перед обедом зашла Валентина Александровна. На ней, как всегда, был белоснежный, ладно скроенный халат, как всегда, она была спокойна, приветлива, лицо светилось доброй, мягкой улыбкой. Она была красива, наша Валентина Александровна. Красил ее мягкий овал лица, большие серые глаза и вьющиеся волосы.
— Как Егорушка? — спросил я. Капитан хоть и не спрашивал, но знать это хотел не меньше меня. Когда вошла Валентина Александровна, он тотчас же поднялся, придвинул ей стул, а сам сел на койку. Она могла остановить его — двигать стул было ему нелегко и непросто, — но не остановила, это было бы для него еще больнее.
— Худо, — ответила она, присаживаясь. — Глубокие раны, воспаление дикое… Плохо, что рентгена у нас нет.
— Что ж теперь будет? — спросил, не выдержав, капитан.
— Будем думать, — ответила Валентина Александровна. — Мы будем думать. А вы, пожалуйста, лежите спокойно. Ваш высший долг сейчас — лежать спокойно.
— О высшем долге нам раньше надо было думать, — мрачно сказал капитан.
— А вы и думали и исполняли его. Не вам это говорить.
— В моем положении все можно говорить, — возразил капитан. — А еще лучше — молчать да помалкивать.
Не мог он, даже при Валентине Александровне не мог сдержать свою боль. А может быть, и не захотел.
— А ну-ка на перевязку, молодые люди, — сказала она. — Может, перевязки вам и не хватает, чтоб дух бодрый хранить, соответственно чинам вашим и званиям. — Она встала и шагнула к двери. Обернувшись, добавила:.— Приходите сейчас же.
В перевязочной, куда мы с капитаном вскоре заявились, нас ждала не только Валентина Александровна. Вместе с ней на нас во все глаза, живо и пристально смотрели юные девчонки в белых халатах. Хотя мы знали, что все они из школы медсестер, недавно открытой в этом тихом уральском поселке, обнажать и демонстрировать перед ними свои искалеченные ноги нам, конечно, не хотелось. Хватит с нас и того, что мы каждый день испытываем муку, демонстрируя их Валентине Александровне. Эти мысли были написаны на наших лицах с предельной четкостью, и Валентина Александровна поспешила успокоить нас.
— Я не стала бы испытывать ваше терпение, — сказала она, — если б ваши раны не были характерными. И у того и у другого. Поверьте мне и не переживайте. С кого начнем? С вас, пожалуй, товарищ лейтенант.
Она уложила меня на стол животом вниз, так, чтоб моя рана под самой коленной чашечкой была хорошо видна этим глазастым девчонкам. Выждав, пока они выбрали себе удобные места для наблюдения, Валентина Александровна продолжала:
— Лейтенант Жичин служил на пароходе и рану получил…
— На корабле, Валентина Александровна, — взмолился я, оскорбленный за свой крейсер. — На боевом корабле.
— Какая разница? — спросила она с недоумением.
— Большая, Валентина Александровна. Такая же, как между инфарктом и аппендицитом. Может, даже больше.
— Допустим, — смирилась она. — Ранило лейтенанта осколком бомбы. Осколок, надо полагать, большой и острый — смотрите, какая рваная рана. Судя по тому, что не видно выходного отверстия, осколок прячется где-то здесь, и его, должно быть, придется извлекать, хотя это опасно — можно повредить нервный узел и оставить стопу недвижной. Плохо, конечно, что нет рентгена… Вот уж поистине как без глаз.
Обработав мою рану, она поручила перевязку сестре, а сама занялась капитаном. Его водрузили на соседний стол, и девчонки, к большой моей радости, потянулись одна за другой к нему. Теперь я мог вздохнуть во все легкие. Пока мне бинтовали ногу, я слушал объяснение Валентины Александровны.
— Здесь случай совсем иной, — говорила она притихшим девчонкам. — Капитан Крутоверов подорвался на мине. Ему раздробило стопу, и ее пришлось ампутировать. В медсанбате, куда попал капитан, был, видимо, не очень опытный хирург и инструменты оставляли желать лучшего.
Не зная того и не ведая, Валентина Александровна была близка к истине, хотя медсанбата капитан миновал. Хирург у него на самом деле был без всякого опыта, и орудовал этот хирург тупым ножом. Если бы Валентина Александровна знала об этом, она, наверное, не рискнула бы сказать то, что сказала.
— Придется вновь пилить, — продолжала она, — на такую культю протез не поставишь. Видите, девочки? Предстоит вторая ампутация. И сделать ее должен опытный хирург… Это ведь серьезно, на всю жизнь…
— Конечно, на всю жизнь, — ответил капитан. — Оттого я и вверяю вам свою судьбу. Правда, без ведома, без спросу…
— Я не о том… — Валентина Александровна слегка побледнела.
— А я и о том… Заодно уж, пан или пропал.
— Так уж и пропал? — спросила она тихо.
— Пропа-ал. Это я говорю сущую правду. Как на духу.
Она забинтовала ему ногу, с облегчением вздохнула.
— Стрептоцида положила побольше, теперь будет покойнее.
— Это уж точно, теперь я буду спокоен. В два счета все заживет, вот увидите.
— Дай бог. — Она склонила голову и медленно, устало пошла к двери.
Нехотя, впервые, может быть, жалея о скором окончании урока, потянулись за ней девчонки.
Пока они шли, ладная острогрудая девчушка, замыкавшая стайку, раза два или три оглянулась на нас, а дойдя до двери, быстро повернула обратно.
— Вам было очень больно? — спросила она капитана. У нее был необычный гортанный голос, низкий, глубокий, придававший ее словам душевность и степенность, не свойственную ее возрасту.
— Что вы сказали? — Капитан с трудом оторвался от своих мыслей.
— Вам было больно? — повторила она свой вопрос, и голос ее слегка дрогнул.
Капитан поднялся, потрогал забинтованную ногу и долго молча смотрел на девушку.
— Когда? — проговорил он наконец. — Сейчас или там? — Он кивнул на окно.
— И там и здесь, — ответила девушка.
Капитан мягко усмехнулся и взялся за костыли.
— Там было больно, здесь — нет.
— Совсем уже не больно?
— Теперь совсем не больно. — Он широко, наивно, совсем по-детски улыбнулся, оперся на костыли, вытянул руки по швам. — Разрешите идти?
— Что вы? — Девушка поперхнулась, опустила глаза. — Я ж не командир.
— По этикету женщина выше любого командира, — весело ответил капитан и направился к двери. Я взял свою расписную кленовую палку и пошел за ним следом. Девушка вышла со мной вместе.
— Приходите к нам, — сказал я ей на прощанье. — У нас двенадцатая палата.
— Я приду. Завтра же и приду, — сказала она твердо.
Она пришла, юная, румяная, и тотчас же завладела разговором.
— Меня зовут Ольга. Ольга Костина. А вас?
Капитан приветливо ей улыбнулся, а отвечать не стал, предоставил эту честь мне. Он делал это не первый раз, и я уже свыкся с его манерой.
— Капитан Крутоверов, — я показал на соседа, — а я — лейтенант Жичин.
— Ой, а как же мне вас звать? — Она всплеснула руками. — Неужели «товарищ капитан» да «товарищ лейтенант»? — Она по очереди с открытой лукавинкой оглядела нас.
На этот вопрос капитан тоже отвечать не собирался, хотя он и развеселил его.
— Капитан — Борис Трофимович, а я — Федор… Федор Васильевич, — ответил я, слегка замешкавшись. Я еще никогда и никому так не представлялся.
— Вот и хорошо, теперь и поговорить можно, — сказала она обрадованно и уже на правах доброй знакомой добавила: — У нас все девочки твердят, что ваша палата самая интересная. И врачи говорят то же самое.
— Чем же она интересная? — спросил я. На меня, как и в первый раз, впечатление произвел ее голос, а не слова.
— Да уж не окном, наверное, и не дверью, — ответила Ольга, рассмеявшись.
— Значит, на-ами? Капитаном и мной?
— Будто не знаете, — сказала она с укором.
Мы, может быть, и знали, а если не знали, то догадывались о внимании к нашей палате — как-никак единственные офицеры на весь госпиталь, — и мое удивление было не совсем искренним. Надо было сразу же промах свой исправить, обратить его в шутку, а я вовремя не нашелся. Капитан же, вместо того чтобы помочь незадачливому соседу, подлил масла в огонь.
— Нашли кем интересоваться, — сказал он добродушно. — Один хромой, а другой и вовсе без ноги…
Два дня назад он этих слов не сказал бы. Он и слушать бы не стал Ольгу, а если б, паче чаяния, и услыхал хоть слово о чьем-то интересе к нам, то, кроме боли, оно ничего бы ему не принесло.
Ольга была в недоумении. Плечи ее приподнялись и тотчас же опустились. Она собралась что-то сказать, что-то возразить, даже рукой повела, чтоб подтвердить слова свои жестом, но не успела.
В наушниках, подаренных мне корабельными радистами, пропищал сигнал времени, и мы услышали тревожный голос московского диктора. Ожесточенные бои шли на подступах к Сталинграду. Не лучше были наши дела и в предгорьях Кавказа. Вчера наши войска оставили Майкоп, а сегодня — Краснодар.
В палате стало тихо. И Ольга, и капитан, и я потупили глаза. К скорбным известиям, как к боли, привыкнуть было невозможно.
— Что же в нас, к черту, интересного, когда немца к самой Волге допустили? — сказал я в сердцах.
Никто мне не ответил. Я и не надеялся на ответ, просто невмоготу было молчание.
— О чем еще говорят ваши девочки? — спросил я.
— О том же, о чем и вы, — торопливо ответила Ольга. — О Сталинграде. Остановят их на Волге или же до нас докатятся — до Камы, до Урала.
Тихо лежавший капитан привстал, облокотился на подушку и по очереди мрачно нас оглядел: сперва меня, потом Ольгу.
— О чем вы судачите, юнцы! — гаркнул он на всю палату, и я без труда представил его во главе батальона. — Урал, Кама… Как вам не стыдно? Ей еще простительно, она девчонка, но тебе, лейтенант… Неужели и ты думаешь, что до Урала немец дойдет?
— Дальше Волги немец не пойдет, — ответил я спокойно. — И Ольга так думает, и я тоже. Откуда ты взял, что мы думаем по-другому? Меня еще ладно, куда ни шло, я свой, а Ольгу и напугать мог капитанским басом, уродом сделать.
Крутоверов и сам уже спохватился. Он виновато смотрел на Ольгу, хлопал глазами и твердил сумрачно:
— Да, да, нашел отдушину… Извиняйте. Это Сталинград меня взбаламутил, Волга…
«Конечно, отдушина, — подумал я. — Сейчас и не прожить без этих отдушин».
— Где вы родились, Борис Трофимович? — тихо спросила Олега.
Капитан безучастно смотрел в окно и отвечать не спешил. Последовав за его взглядом, я увидел на вершине сосны молодую сороку, старательно чистившую свои перья. В лесу кто-то свистнул, и сорока улетела.
— Это было так давно, аж не верится… — сказал он. — В деревушке я родился, на реке Ветлуге.
— Вот и хорошо! — Ольга обрадовалась. — Вот и думайте о Ветлуге, а про Волгу пока забудьте. И про Сталинград тоже. Представьте себе лес, поля, цветы… Вы любите цветы? Я ромашки люблю и колокольчики. И птиц очень люблю: скворцов, пеночек, синичек… А соловья ни разу не видела.
— Пробовал, — медленно ответил капитан. — Думал о Ветлуге, а видел Волгу, пытался цветы представить, а перед глазами все равно бомбы да мины. Никуда, видно, не уйдешь от них.
— Если захотите, уйдете! — упрямо твердила Ольга. — Надо только сильно захотеть и взять себя в руки, я на себе проверяла. Если уж я могла, то вы… Вы же солдат, даже капитан солдатский.
На его лице, усталом и посеревшем, обозначилась печально-добродушная усмешка.
— А ведь Ветлуга-то в Волгу течет, — сказал он, поворачиваясь к Ольге. — В этом, наверное, все дело.
Ольга промолчала, но пасовать как будто не собиралась.
— А скажите, Борис Трофимыч, рыбалка на Ветлуге хорошая? Муксун, например, водится? Или нельма?
Встрепенулся капитан, услыхав о рыбалке. Глаза его потеплели, оживились. Угадала Ольга. Как говорят, прямо в яблочко. А я третью неделю в одной палате и ни разу не сообразил завести речь о рыбалке. И ведь сам рыбак. Не бог весть какой, правда, но ерша от окуня отличить мог. А уж поговорить о них — и подавно.
— Муксун у нас не водится, — сказал капитан, — и нельму не видел. Признаться, я и не слыхивал о такой рыбе. А вот стерлядка у нас — царская. Не еда, а объедение. — Он причмокнул языком, а глаза сами собой полезли вверх, будто там, на потолке у окна, и обитала эта чудо-рыба. — Что в ухе, что в пирогах — одно объеденье. Лучше не вспоминать, — он махнул рукой. — А нельма что за рыба?
— Нельма тоже объеденье. — Ольга рассмеялась, потом вдруг задумалась и неожиданно рассказала нам о своих родных.
Отец у нее был убит в бою с японцами у озера Хасан, а мать погибла три года назад здесь, на Каме. Погибла нелепо, на глазах у дочери. Они возвращались из леса, усталые, измученные, с полными туесками ягод, и соседке тете Поле вздумалось искупаться. Мать отговаривала ее, торопила домой, но та уперлась — и ни в какую. Лесной пот смыть решила. Разделась и — бултых нагишом в Каму, вынырнула, поплыла и вдруг закричала: «Караул! Тону-у!» Мать как была в платье, так и бросилась в воду. А та хохочет. Не тонула она, и опасности никакой не было, просто решила хитростью заманить подругу в реку. Заманить-то она заманила, только хитрость ее обернулась двойным несчастьем. Увидев, что ее обманули, мать тотчас же вышла на берег и принялась отжимать одежду. Но в эту минуту у соседки вдруг свело в судороге руки и ноги. Она крикнула, но мать не поверила ей и спокойно продолжала отжимать платье. Та крикнула еще раз, и опять зов ее остался без ответа. «Нашла дурочку», — пробормотала мать и даже бровью не повела. Беду обнаружила Ольга. «Мама, мама, взаправду тонет!» — крикнула она что есть мочи, увидев захлебнувшуюся тетю Полю. Мать вновь бросилась в реку, только теперь уж на свою погибель. Со страху тетя Поля вцепилась в нее мертвой хваткой и медленно потянула за собой на дно. Через минуту не стало ни матери, ни тети Поли, Ольга осталась круглой сиротой, а лет ей в то время было неполных четырнадцать.
Первые дни после похорон она ходила и ничего и никого не замечала. Что люди говорили, то и делала, куда велели, туда и шла. Жила вслепую, будто в потемках. Белый свет она увидела в тот день, когда приехала бабушка. Бабушка была точь-в-точь как мать, только постарше. И голос у нее был чуть-чуть поглуше.
Поразмыслила бабушка и решила увезти внучку к себе. Окна и двери в доме заколотили досками; попросили соседей присматривать, а сами на поезд — и в дорогу. В дальнюю-дальнюю дорогу. Ехали поездом, двумя пароходами, тряским грузовиком, а последние версты — на лошади. Целых три недели ехали и приехали наконец в бабушкину Якутию. Устала бабушка, умучилась, а Ольге дорога полюбилась и запомнилась на всю жизнь. Разве можно, к примеру, забыть шумные города или огромную заснеженную тайгу? А реки? Одна Лена чего стоит! Кама по сравнению с ней — ручеек. Там-то, в бабушкиной Якутии Ольга и видела нельму. Сперва мороженую, а потом и живую. Бабушка первым делом, как приехали, угостила внучку нельмой. Принесла из мерзлого погреба — там у них вечная мерзлота — рыбину с полметра длиной, живо ее очистила и принялась строгать тоненькие стружки из этой самой нельмы. Блюдо называется строганина. Берешь в рот эти тоненькие ломтики-блестки, а они тают во рту, и такой от них вкус, что лучшей еды на свете не бывает.
А живая нельма чуть Ольгу в реку не стащила — заглотнула крючок и с испугу рванула вглубь. Она в одну сторону тянет, Ольга — ни жива ни мертва — в другую. Леска натянулась, вот-вот оборвется. Чувствует Ольга: помаленьку, по шажочку крохотному сдает она рыбе. Слезы на глазах, а сделать ничего не может, рыба оказалась сильнее. И если бы не соседский мальчишка, подоспевший в эту минуту, быть бы Ольге в реке. Вдвоем они кое-как осилили рыбу, вытащили ее на берег. Большущая, жирная была нельма, с красивыми плавниками. Бабушка так удивилась, что своим глазам не хотела верить.
А еще в Якутии оленьи языки очень вкусные. Мягкие, сочные, вместе с ними и свой язык не мудрено проглотить.
Ольга рассказывала живо, картинно. Мне совсем нетрудно было представить ее мать, бабушку, ее самое и даже нельму.
В памяти у меня тотчас же воскресилась моя бабушка. Бабушка Наташа, Наталья Петровна. Мне стало тепло и радостно от одного воспоминания. Радостно и немножко горько. Горечь примешивалась оттого, что бабушку свою я вспомнил не сам по себе, — Ольгин рассказ заставил меня вспомнить. Едва Ольга приумолкла, я, не долго раздумывая, повел речь о своей бабушке. Тем более что она была неутомимой рыбачкой.
Бабушка Наташа жила в глухой деревне, вдалеке от рек и морей. На всю деревню был один пруд — и тот за версту от нее. Когда-то этот пруд принадлежал помещику. В годы революции усадьбу разрушили, а пруд, обсаженный кудрявыми ветлами, остался. По старинке его называли барским, хотя барского в нем ничего уже не было. Даже караси ловились самые мелкие, плебейские. Бабушка, однако, твердила, что крупного карася, какой подавался на стол барину, надо уметь ловить. Она была умная женщина и знала, что слово лишь тогда в цене, когда оно подкрепляется делом, и всерьез занялась рыбалкой.
Весной и летом у женщины-крестьянки на счету каждая минута, поэтому тяжелее всего было выкроить время, хотя бы часа два-три в сутки. И так прикидывала и этак, и все равно, кроме как у сна, занять было негде. «У сна так у сна, — решила бабушка Наташа. — Осенью отосплюсь да зимой, когда ночи длинные».
Удочки она отвергла в самом начале: не падок на них карась. Если б и шел, то много ли удочкой натаскаешь? Ей хотелось вдоволь попотчевать вкусной рыбкой внука и деда да и мужикам-рыболовам нос утереть. Выбор пал на вершу. Загодя, еще по зиме, напряла она крепких суровых ниток, скрутила их и связала легкую, аккуратную вершу. Ставить ее пошла, благословясь, затемно ранним утром, сразу после пасхи. Прихватила с собой и меня — на счастье, как она говорила. По ее понятию, непорочные дети должны приносить счастье или, по крайней мере, удачу.
— А вы вправду были тогда непорочным? — перебила меня Ольга.
— Я был маленький.
— Да ведь и маленький, поди, девчонок за косы таскал. — Она не унималась. — Непорочные могут быть только девочки.
— Почему-у?! — крикнул я удивленно.
— Потому, — спокойно возразила Ольга, — что мальчишки с детства задиры. Им только воевать да драться.
— Правильно, — согласился с ней капитан. — Хватит об этом. Рассказывай про бабушку. Карася крупного поймала она или нет?
— Поймала, — ответил я. — Только не сразу.
— Чем она вершу заправляла?
— В этом все дело. Целых два лета приноравливалась. Поначалу, как и все, обыкновенный ржаной хлеб клала. Мякиш, в комок скатанный. Только польза от этого мякиша была небольшая. Раза два в неделю приносила мелочишку — коту лишь и годилась на закуску. Потом в этот мякиш разных ароматов стала добавлять, чтоб душистостью завлечь карася. Масло разное пробовала: льняное, конопляное, сливочное. Когда свежее бывало маслице, и рыбки, понятно, побольше попадалось, а когда старое да прогорклое — опять только кот пировал. На укроп иной раз льстился карась, на горох распаренный.
— И горох в ход шел? — спросил капитан.
— Да-а, он же душистый, особо если с маслицем свежим! Неплохой карась шел, нам с дедом тоже перепадало.
Ну, а главная приманка была еще впереди. Обычно я жил у бабушки летом, а в тот год пришлось приехать и зимой. Нежданно-негаданно бабушка захворала, дед был где-то на промыслах, и мать привезла в деревню меня, чтоб я ухаживал за бабушкой. Рады мы были оба, и бабушка и я. Мать вскоре уехала, и мы остались вдвоем. Если б не соседи, я, конечно, никак не справился бы со своими обязанностями. Оказалось, ухаживать-то надо было не за бабушкой, а за коровой, которая вот-вот должна была отелиться, за овцами, за поросятами. Все это по очереди делали соседи — топили русскую печь, варили еду, кормили всю живность, — а мне оставалось лишь подать бабушке лекарства и раза два покормить ее и попоить.
Лекарств было много, но чаще всего она принимала валериановые капли. Я не любил их, мне запах не нравился, а бабушке они, видно, помогали. Но кто эти капли прямо-таки обожал, кто с ума по ним сходил, так это кот Рыжик. Как только я брал в руки пузырек с валерьянкой, он бросался ко мне, танцевал вокруг, как заправский балерун, и нещадно орал, будто его резали. Изредка по улыбчивой просьбе бабушки я угощал этими каплями и Рыжика. Видели бы вы, с какой жадностью он слизывал их. Налижется и блаженствует: поворачивается на спину, мурлыча закатывает свои кошачьи глазки и пошел бросать себя из стороны в сторону. Забавная картина, ничего смешнее я не видел. И бабушка тоже. Она до слез хохотала, глядя на Рыжика. Я до сих пор думаю, что выздоровела она тогда совсем не от лекарств, а от этого редкого зрелища.
«Кота соблазнили, теперь карася попробуем заманить этими каплями, а?» — сказала бабушка, когда прошла хворь.
И заманила. С первой же весенней верши. Да карась-то какой пошел — ровный, матерый, я карасей-то таких и не видел. На радости бабушка сказала даже, что такой карась и барину-то, поди, не снился.
— Ай да бабка! — воскликнул капитан. — Утерла, утерла нос мужичкам вашим. Как они на это глянули?
— Так и глянули. Не хочешь, да глянешь… Секрет-то каждому хотелось узнать.
— Сразу и разболтала?
— Не сразу и не всем. Сперва, говорит, внучка своего накормлю вдоволь да деда, а потом видно будет… По правде сказать, закормила она нас этими карасями. И жареные, и вареные, и сушеные. Особо хороши были в сметане жаренные. Вот уж впрямь объеденье. Берешь его, миленького, со сковородочки целиком, а он сочный, румяный, так в рот и просится. А в рот надо брать осторожно — костей мелких много, до несчастья рукой подать. Вот и обсасываешь его по кусочку. Красота. А уж пальчик-то потом каждый оближешь, и не один раз.
На жаренье шли большие караси, а те, что помельче, — сушились. Почистит их бабушка, уложит рядками на противень — и в русскую печку. Пока в поле или в огороде работает, они и готовы. Похрустывают, как сухарики. Только повкуснее. Сушеные караси впрок шли. За лето бабушка набирала их по целой кадушке. А уха из сушеных карасей — просто чудо. Январь на дворе морозный или февраль снежный да пуржистый, а у нас наваристая уха на столе. Не зря бабушка говорила: любой барин позавидует. А что? И позавидовал бы, если б отведал.
А секрет свой раскрыла дяде Моте Шлыкову. Степенный мужик был, с окладистой бородой. Сказки нам рассказывал в ночном. Лес кругом, темень непроглядная, а мы сидим и слушаем его затаив дух. «Этот зря губить рыбу не будет, — говорила бабушка. — Он всю молодь назад выпускает, сама видела».
На пруд бабушка шла затемно, когда утренняя зорька едва-едва занималась, заходила по пояс в воду, вытаскивала вершу. Хорошо, если там барахтались золотистые красноперые караси, тогда и вода была не так холодна, и домой шагалось весело. А если вместо карасей в вершу набирались водоросли да лягушки? Ее же надо вычистить, уложить как следует новую приманку, вновь зайти в воду и, поставив вершу, закрепить ее (лучше всего, конечно, привязать веревку к подводному ивовому корневищу). Домой бабушка возвращалась, когда начинало всходить солнце. А до-ома — только успевай поворачиваться.
Солнце блеснуло в боковом окне — теперь уж совсем скоро выгонять в стадо корову, стало быть, первым делом надо ее подоить. Дойку бабушка любила, и если Лысенка была спокойна, времени это отнимало немного. Но, бывало, Лысенка капризничала, артачилась, и тогда дойка оборачивалась каторгой. Проводив корову, бабушка спешила топить печь. Пока разгораются дрова, она успевает процедить молоко, почистить рыбу. А тут уж и овец пора провожать в стадо, поросят кормить. Управившись с живностью, бабушка начинает стряпать. На завтрак идут караси, если, конечно, утром бабушке подфартило, а на обед варятся щи да каша. До завтрака надо еще натаскать воды из колодца, прибраться в доме, покопаться в огороде. Дед до такой работы не унижался, он был занят мужскими делами: чистил плуги, чинил сбрую, отбивал и точил косы.
После завтрака отправлялись в поле делать главнее крестьянское дело: весной — пахать, сеять, бороновать, а летом — полоть, косить и молотить…
В обед бабушку ждали новые заботы. Надо сходить на луг и подоить Лысенку, надо постирать бельишко, что-то посадить, а что-то прополоть в огороде, наконец, пообедать и помыть посуду.
А после обеда опять в поле, до самого вечера. Солнышко заходит, заканчиваются и полевые работы. Дома к вечеру скапливается столько дел, что переделать их по плечу только расторопной умелице. Такой умелицей и была моя бабушка. Она успевала накормить поросят, загнать и напоить овец, подоить корову, приготовить ужин, поужинать, помыть посуду, прибрать в доме. А когда начинало темнеть, брала свою приманку и отправлялась на пруд. Там ее ждали холодная вода и пойманные караси. Домой она возвращалась затемно.
«Когда же ты, бабушка, спишь? — спрашивал я ее. — Ложишься в темноте и встаешь в темноте, а летом и темноты-то — кот наплакал. А? Так и умереть можно».
«Не-ет, ягодка моя, не умру, я живучая, — отвечала она. — Я сплю во сне, вдоволь сплю. Так-то некогда, вот я во сне и отсыпаюсь».
Ольга и капитан засмеялись.
— Очень ваша бабушка похожа на мою, Федор Василич, — сказала задумчиво Ольга. — Такая же добрая, непоседливая и такая же, наверное, счастливая.
Так, видимо, и было. Одного я не знал досконально: счастливая ли она. Когда приносила домой ведерко увесистых карасей или когда собирала первый урожай крыжовника и смородины, арбузов и помидоров — она первая из всей деревни посадила в своем огороде эти ягоды и овощи, и только после нее, и то не сразу, взялись за них другие односельчане, — или когда удавалось приютить на ночь какую-нибудь старушку-странницу, накормить ее, уложить в теплую постель, или же когда вместе с соседками запевала она по праздникам веселую озорную песню и глаза ее загорались удалым огнем, а на щеках проступали молодые ямочки — и вся она светилась радостью, конечно же, в эти минуты она была счастлива. Но однажды, лет пятнадцать назад, совсем нечаянно я подслушал ее разговор с дедом. Они сидели в сумерках на крыльце, а я вышел в сени напиться холодной воды.
«Я ведь знаю, отчего ты завсегда торопишься на свои промыслы, — говорила она тихо. — Не мила я тебе».
«Послушай, Натаха…»
«Я и так завсегда слушаю, послушай теперь ты. Я терплю, терплю, а в одно святое воскресенье тоже могу махнуть на промыслы. Пока еще не совсем поздно…»
— Все бабушки хорошие и все друг на друга похожи, — сказал капитан. К моему удивлению, он очень внимательно слушал и Ольгу и меня. — Разве вы не знали?
— Не-ет, — удивилась Ольга. — А почему?
Капитан повозился, поворочался, нашел ладное лежбище для больной ноги, улыбнулся.
— Может быть, по той причине, — сказал он весело, — что все мы всю жизнь смотрим на бабушек детскими глазами. А уж внуков и внучек они и любят и балуют. Пожалуй, даже больше, чем любили и баловали своих детей. Не знаю, как вас, а меня больше бабушки никто не жалел и не ласкал. — Глаза его потеплели, повлажнели, и он, слегка смутившись, потупил их. — А рыболовом у меня был дед, а не бабушка, — продолжал капитан. — На реке она, пожалуй, и не справилась бы, там и лодка могла перевернуться.
Увлекшись, капитан Крутоверов повел рассказ о Ветлуге, о ее лесных берегах и деревеньках, о ветлужанах. Село, где он родился и вырос, старинное купеческое село, вытянувшееся вдоль высокого и крутого берега реки, славилось по всей округе своим жильем и пирогами с рыбой. Лес был рядом, и дома строились не скупо, не из чего попало, а из отборных сосновых бревен, таких, чтоб звенели и светились. Дома были разные — большие и маленькие, низкие и высокие, — но все, как на подбор, чистые, уютные, аккуратные — одно загляденье. Как повелось исстари, так и идет до самых наших дней: можно недоесть, можно лишнюю зиму проходить в старых валенках, можно победнее праздники отгулять, но жилье свое ветлужане строили на совесть. Друг перед другом старались и друг другу помогали.
Особую любовь питали ветлужане к праздникам. Чтили с одинаковым старанием и церковные праздники, и новые, советские. И ни один праздник не обходился без пирогов с рыбой. На столе у ветлужанина могло не быть мяса и огурцов, можно было обойтись без груздей и рыжиков, без капусты и сала, но без пирога с рыбой праздник был не праздник. Из всех рыб выше всего почиталась, конечно, стерлядь. Оно и понятно: нежная, сладкая, без единой косточки. Что там ни говори, как ни хвали карася или щуку, налима или окуня, а царь-блюдо на любом пиршестве — это пирог со стерлядкой. Большой, румяный, духовитый. Чем внушительнее его величина, тем лучше, тем больше будет о нем разговоров и больше почета хозяевам. На один стол иной пирог и не умещался, тогда подставлялся другой стол; важно, чтоб перед гостями пирог красовался целый, без единого надреза. По большим праздникам пирог обычно соответствовал величине пода в русской печке и свободно располагал на своей груди до дюжины стерлядок.
И все же главное в стерляжьем пироге не величина, а вкус. Редкий, неповторимый вкус. Неопытные гости зарятся первым делом на рыбу, на стерлядку. Иной даже целую рыбину старается утащить к себе на тарелку. Слов нет, запеченная стерлядка и сама по себе хороша. И сладость в ней, и аромат. Но пышная корка, насквозь пропитанная живым стерляжьим соком, маслом, жареным луком и еще бог знает чем — вот уж объеденье так объеденье. И сравнить не с чем.
И уха стерляжья — лучше не придумаешь. Когда она сварена из одних стерлядок, вкус у нее, конечно, сладковат и есть ее, пожалуй, приторно. Но если стерлядку разбавить парой-другой ершишек да окуньком хоть самым захудалым, тогда от ухи самого привередливого едока за уши не оттащишь. Такую уху на Ветлуге только и отведаешь.
Ранее стерлядка в Ветлуге водилась порядочная, и было ее немало. Не всегда, конечно, но по праздникам ветлужане лакомились ею вдоволь. И сами ели, и гостей угощали. А сейчас отчего-то извелась стерлядка. Другой рыбы много, а стерлядь заметно поубавилась. В прошлом году весной, перед самым началом войны, он, Борис Крутоверов, приезжал туда в отпуск и за три недели поймал всего полдюжины стерлядок. По две штуки на неделю — что это за улов? Правда рыболовом отчаянным он не был, но все равно промашки делал редко.
Везучим и виртуозным рыболовом был его старший брат Николай. Этот, видно, от деда унаследовал рыбацкую хватку. Он уже семилетним пацаном таскал приличных стерлядок. Но сейчас и он приходит иной раз без улова. Что там говорить — меньше стало рыбы. Рыбы меньше, а спросу больше. Разузнали, разведали стерлядку — теперь только подавай. И по праздникам, и в будни. Когда жизнь день ото дня лучшает, на плохой товар никто не зарится. Вынь да положь хорошее. Так и с рыбой.
Не один уже год на Ветлуге в самом большом почете ходят рыболовы. Дед Крутоверов только на старости лет и удостоился такой чести среди односельчан, а в первую голову среди хозяек. До праздника еще далеко, а они так и снуют вокруг него, так и снуют. И молодые и пожилые. Одна просит дюжину стерлядок словить, другая. Для форса дед поломается, покочевряжится, а стерлядок, конечно, наловит и одной, и другой, и третьей. В отличие от других рыбаков, денег он не брал, как ему ни навязывали. Зато почет ему был больше, чем кому-либо.
Перед самой войной этот почет вместе с уменьем перешел по наследству к Николаю. Теперь ветлужские хозяйки его стали обхаживать, благо, как и дед Иван Леонтьевич, от денег он наотрез отказывался. Предпочитал женскую улыбку, и в чести у него были, понятно, хозяйки помоложе да посмазливее. Парень он был видный, статный, и улыбок ему хватало. Даже лишку было, и за этот избыток ему иной раз попадало от молодых мужьев. Сейчас-то брат Николай на Северном флоте служит, на катерах-охотниках, и вольготная довоенная жизнь только во сне, поди, снится ему, а год назад веселее его и человека не было по всей Ветлуге.
Капитан рассказывал о брате, как и вообще о Ветлуге, о ветлужанах, охотно, с улыбкой и не без гордости. Мы с Ольгой радовались этой его перемене. И сам он, кажется, был доволен. С лица его незаметно, как-то само собой сошло уныние, глаза заблестели, заискрились, и весь он обмяк, стал похож не на капитана Крутоверова, сурового молчуна, а на обыкновенного ветлужского парня. Окажись сейчас на месте брата Николая на родной своей Ветлуге, и он, пожалуй, не отказался бы от улыбок молодых ветлужских хозяек. И стерлядок наловил бы им за эти улыбки.
«До чего ж здорово, что мы затеяли разговор о рыбалке, — живо говорили мне глаза Ольги. — И о бабушках тоже хорошо, о родных местах. На человека стал похож Борис Трофимыч, на молодого. Как вчера. Молодцы мы».
«Пожалуй что и молодцы, — отвечал я Ольге. — Отчий дом, детство, мирная пора — это и нас с тобой чуть не до слез растрогало. А его и подавно. После того, что с ним случилось, он, может быть, и думать боялся о доме, о Ветлуге своей».
Взгляды наши капитан перехватил и, наверное, догадался о безмолвном разговоре. Он глянул на Ольгу, на меня и тихо, по-доброму усмехнулся.
— Вы, поди, думаете, что я теперь и про Волгу забуду, и про мины, и про Сталинград? Может быть, и рад был бы забыть. — Он вновь оглядел нас, и улыбка растаяла на его лице. — Только как же забудешь, когда немец и карасей наших рвется забрать, и стерлядок, и бабушек наших извести как низшую расу? А по какому праву? Он что — умнее нас? Может быть, красивее? Или сильнее? Нет! Кто же с этим беззаконием смирится?
Говорил он спокойно, не спеша, и, быть может, поэтому слова его ложились увесисто.
— А ты, оказывается, комиссар заправский, — сказал я.
— Хватишь с мое, и ты будешь комиссаром, — ответил он. — Хотя вы не хуже меня комиссары, с вашими бабушками да рыбалками. — Он опять усмехнулся. — Нынче любой наш мальчишка без агитации перегрызет горло фашисту.
Ольга собралась домой, я пошел проводить ее. На дворе было тепло, хотя солнце склонилось к самому лесу. Только что Ольга была веселая, сияющая, а сейчас ни с того ни с сего пригорюнилась.
— Что это вы? — спросил я.
Она помялась в нерешительности, но, поборов сомнения, рассказала о молве, поползшей по госпиталю. Одна девчонка сказала вчера, будто в шутку, что капитан Крутоверов по нынешним временам самый надежный жених. У него, мол, всего лишь стопы нет, а на фронт больше не пошлют. Значит, цел будет. Вот и подумаешь… Одни посмеялись, другие возмутились. Ничего вроде бы страшного, а вдруг Валентина Александровна услышит? Или Борис Трофимыч! Этак можно отравить все и разрушить!
Да-а, было над чем задуматься.
Мы дошли до госпитальных ворот и распрощались. Дальше мне пути не было.
Пошел четвертый месяц моей больничной жизни, а мне казалось, что длится она уже вечность. Кое-кто из здешних моих товарищей по несчастью делил свою жизнь на две половины: на довоенную и военную. По времени это были неравные половины — довоенная, конечно, брала верх, а по горю и мучениям, по жизненным испытаниям год нынешней войны мог перевесить целое столетие. До госпиталя и я, наверное, согласился бы с таким разграничением. Другой, более веской черты в нашей жизни не было.
Госпиталь смешал это деление. Пробыв здесь три месяца, я к первой части готов был отнести всю свою жизнь до ранения — задорную, кипучую, боевую. А вторая половина…
Разве в госпитале жизнь? Немцы под Сталинградом, а у тебя — обход, перевязки. Краснодар сдали немцам, а у тебя — тихий час, процедуры. Трус или подлец, может быть, и рад был бы, а нормальному человеку — тяжко.
Где-то я читал об одной любопытной надписи на камне. Прекрасные слова: «Научились ли вы радоваться препятствиям?» Кажется, это в Тибете, в горах. Не страшиться, а радоваться.
Сказано, конечно, здорово: неизвестно еще, что лучше — сама радость или ее преддверие. Но сказать всегда легче. Ты сделать попробуй! Попробуй-ка заставить себя вместо страха ощутить радость.
И все же от одной этой мысли на душе стало легче. Госпиталь как-то сам собой представился мне очередным крупным препятствием, а чтоб его преодолеть, надо было, как обычно в таких случаях, собрать в кулак все силы, поднатужиться и сделать главный рывок.
Лучше всего, конечно, было бы какое-то занятие, дело. Пусть небольшое, посильное, но дело. Чтоб уйти в него с головой и не думать часами о своей несчастной судьбине. Это надо как следует обмозговать. С Валентиной Александровной посоветоваться, с капитаном.
Легкий на помине сосед мой, Борис Крутоверов, спросил неожиданно:
— Как там наш Георгий Победоносец? У тебя нет желания навестить его?
Капитан и сам давно бы навестил Жору Наседкина, но ему трудно было подниматься по лестнице — Жору поместили на втором этаже, поближе к операционной.
— Схожу обязательно, — ответил я и, чтоб не откладывать дело в долгий ящик, начал собираться.
— Привет ему передай, — наказал капитан. — Скажи, чтоб держался, как мужчине подобает.
— Как мы с тобой?
Капитан ничего не ответил.
— Не обижайся, — сказал я. — Это от долгого лежания. Три месяца — это тебе не две недели.
Жора Наседкин моему приходу обрадовался. Помимо своей воли он сделал попытку приподняться, но я тотчас же остановил его. На лбу у него выступила испарина.
— Я знаю, что и вы и капитан спрашивали про мое здоровье, — сказал он с тихой улыбкой. — Мне Валентина Александровна рассказывала. Спасибо вам.
— Тебе не хуже? — спросил я, присаживаясь на табуретку, и взял его за руку, словно доктор, собравшийся проверить пульс.
— Все так же.
— Это хорошо, значит, стабилизировалось. Теперь улучшения надо ждать. Капитан просил передать тебе привет.
— Спасибо, большое спасибо.
— Он и сам давно бы пришел, да не подняться ему пока на второй этаж.
— Конечно, это же не шутка — ногу потерять. Он ведь и нестарый еще.
— Он молодец, — сказал я. — Тяжко ему, а он не унывает. Сделают протез, говорит, ох и напляшусь.
— Правильно. — Жора улыбнулся.
— Ты тоже молодец. Пульс ровный, стало быть, спокойно держишься. Так и надо.
— Стараюсь, — ответил Жора.
В палату вошла Валентина Александровна.
— О-о, на ловца и зверь, — сказала она, улыбнувшись. — Совет ваш нужен, Федор Василич!
— Совет? Вам?
— Чему вы удивляетесь?
Я пожал плечами.
— Посмотрю сейчас Егорушку и поговорим. Ладно?
— Мне уйти? — спросил я.
— Как хотите. Я на вашем месте ушла бы. Хватит вам и своих болячек. Подождите меня в коридоре, я скоро.
Из палаты она вышла довольно быстро, как и обещала, но разговор начала не сразу. Попросила меня пройти по коридору: шагов десять вперед и обратно, потом снова вперед и снова обратно, сперва медленно, потом быстрее. Все это время она пристально наблюдала за больной ногой, за походкой.
— Не больно? — спросила она.
— Пустяки, — ответил я. — Пора о выписке думать. Пока на костылях ходил, вроде бы так и надо было. А сейчас — тоска… Четвертый месяц в заточении.
Она взяла меня за руку и повела в перевязочную. Долго и дотошно осматривала мою ногу. Беспокойство у нее вызывала стопа. Глубокая рана под коленным суставом затягивалась хорошо, а стопа, невредимая стопа сгибалась плохо, и при ходьбе я был вынужден отставлять ее в сторону.
— На днях съездим на рентген, — сказала она, — а пока начнем разрабатывать стопу. Ванны, упражнения, массаж…
— И сколько же это дней?..
— Трудно сказать. Может, и недолго.
Перевязав ногу, она усадила меня на стул у окна, села напротив и совсем неожиданно повела речь о ленинградцах, о моих земляках, как она сказала.
В госпитале у нас лечилось несколько бойцов из-под Ленинграда. Раны их серьезной опасности не внушали, но истощены они были до крайности. Дело понятное — блокада. Это были скелеты — не люди. Мне эти живые мощи были не в диковинку — я нагляделся на них в Ленинграде, — а здешние врачи, сестры, да и бойцы, раненные на других фронтах, поначалу приходили в смятение. Попривыкнув же, неизменно проявляли к ним особое внимание. Им первым приносили обед, выбирали лучшие куски мяса, и никто из больных ни разу на это не посетовал.
День ото дня силы у них восстанавливались, здоровье крепло. Поправке их радовался весь госпиталь. Трое с неделю назад выписались, другие готовились к выписке. И лишь красноармеец Пантюхов вызывал недоумение. С ним творилось что-то странное. Тщетными оказались все старания поставить его на ноги. На первых порах у всех его изголодавшихся однополчан был чрезмерный аппетит, и, чтоб не повредить здоровью, их приходилось ограничивать в еде. Один Пантюхов едва притрагивался к пище. Когда озабоченная Валентина Александровна попыталась выяснить причины, он сказал, что у него совсем нет аппетита и ему тошно смотреть на все съестное. Ей пришла в голову мысль, что, возможно, ему не по душе незатейливая госпитальная пища, и она спросила, что он хотел бы поесть. Пантюхов подумал, пожал плечами и ответил, что, может быть, и съел бы кусочек осетрины или небольшой бутерброд с икрой, но понимает: разве это сейчас где-либо добудешь?
Валентина Александровна сделала невозможное: раздобыла на оборонном строительстве и осетрину, и зернистую икру. Немного, конечно, но раздобыла. Шла к нему довольная, радостная. Каково же было ее огорчение, когда Пантюхов поглядел на гостинцы, а есть не стал. «Душа не лежит», — сказал он и отвернулся.
Грустно ей было, обидно, а отступать не хотелось. Приносила ему овощи, ягоды, кисели. Иногда Пантюхов съедал несколько ложек киселя, отведывал ягод, но по-прежнему оставался замкнутым, отчужденным. Можно было пойти к начальнику госпиталя и посоветоваться, но тот наверняка усмотрел бы в Пантюхове симулянта, устроил бы ему разнос и, чего доброго, отдал бы его под трибунал.
Валентине Александровне и самой приходила мысль о притворстве Пантюхова. Приходила не случайно, не сама по себе. От ее глаз не ускользала ни одна мелочь. Она хорошо помнила, как он дважды сглотнул слюну, когда смотрел на икру и на осетрину. Не забыла и другой случай. Едва она поставила перед ним чашку с земляникой, ноздри у него раздулись, а в глазах появился жадный, лихорадочный, недобрый блеск. Он глянул на ягоды, на Валентину Александровну, поблагодарил ее, но есть отказался, сославшись на боли в желудке. Не на шутку встревоженная, она старательно обследовала его, но, кроме дистрофии, никакого заболевания не нашла. После этого она и засомневалась: не хитрит ли Пантюхов?
А вдруг все это не так, вдруг это ее домыслы? Не такой она лекарь, чтобы в точности распознать болезнь. Ошибаются и опытные врачи, а ей учиться еще и учиться. Разве можно думать так о человеке, который насмерть стоял и кровь свою не жалел ради победы? Какое у нее право осуждать его, когда ее тыловая работа ни в какое сравнение не идет с его ратным делом? Бои, бои, да еще на голодный желудок. В организме бог весть что может стрястись.
Как ей быть, что делать? Прежде чем идти к начальнику, она хотела получить добрый совет от меня. Почему от меня? По той хотя бы причине, что я тоже воевал в Ленинграде.
Нелегкую задачу задала мне Валентина Александровна. Я даже не знал, как к ней подступиться.
— Сколько ему лет? — спросил я.
— Скоро будет сорок.
— А до войны кем он был?
— Продавцом в магазине, а потом — заведующим.
— Поня-ятно.
— Что же вам понятно? Профессия ни о чем еще не говорит.
Конечно, не говорит, это я тоже знал. И все же…
— Вы упомянули бои… — сказал я. — Не могу утверждать, что Пантюхов хочет избежать фронта, но не удивлюсь, если узнаю, что так оно и есть. Бои — не радость, не счастье, человек жизнью своей рискует. Кто испытал их на собственной шкуре, да еще от ран намучился, не сразу готов ринуться в бой. Дети у него есть?
— Трое, — ответила она робко.
— Ну вот… Тем более надо поразмыслить. Я посоветуюсь с Борисом, и мы придумаем что-нибудь. К начальнику, пожалуй, не спешите.
Словам моим Валентина Александровна обрадовалась.
— Я тоже хотела с ним посоветоваться… — сказала она, смутившись.
— Что же вам мешает? Вместе и поговорим.
С минуту она колебалась, то поднимала, то опускала глаза, потом все-таки решилась.
— Разговор тут пошел от девчонок… Капитан, мол, среди наших больных самый сейчас надежный и верный жених. Понимаете, что они имели в виду? После этого лишний раз и не посоветуешься.
— Ерунда, — сказал я твердо.
— Вы так думаете?
— Тут и думать нечего.
Валентина Александровна остановила на мне пытливый взгляд и облегченно вздохнула.
— Спасибо, Федор Василич. Капитан, по-моему, в любом случае завидный жених. Прямой, честный, сильный… — Она зарделась.
— Какой еще сильный! — подтвердил я. — Знаете ли вы, что он сам ампутировал себе ногу? Ножом, обыкновенной финкой.
Я выдал чужую тайну и рисковал навлечь на себя гнев капитана, но просто не мог утаить от Валентины Александровны этот редкий, а может быть, и единственный в своем роде случай, достойный, на мой взгляд, высокой военной награды.
— Если это правда, — тихо сказала изумленная и слегка растерянная Валентина Александровна, — если вы надо мной не смеетесь, расскажите, пожалуйста, поподробнее. Сам он, уверяю вас, не расскажет мне.
Это уж точно, ей он не расскажет. Он мне-то рассказал нечаянно, к слову пришлось. Принесли нам мясо на обед старое, твердое, а резать было нечем. Я собрался на камбуз за ножом, но капитан остановил меня и достал из полевой сумки свой нож — старенькую армейскую финку. Едва я начал резать, как тотчас же зачертыхался — финка была на редкость тупая. Я сказал, не заботясь о выражениях, что если бы на корабле кто-либо из моих подчиненных содержал в таком виде свое оружие, он в первый же день схлопотал бы себе карцер. Капитан улыбнулся, с нежностью посмотрел на финку и ответил, что это оружие затупилось не обо что-нибудь, а о его собственную ногу.
…Когда по его приказу санитар пополз искать командира первой роты, капитан, сжав зубы, через силу повернулся на бок и взвел автомат. Он хотел в случае надобности прикрыть своего бойца. Санитар полз ловко, прицельно, лавируя меж кустами в овражке, и капитан вскоре потерял его из виду. Поблизости было тихо, подозрительно тихо, как ему показалось. Не шибко доверяя своему слуху, он ощупал уши и всю голову. Вроде бы все шло нормально. А успокоился он через минуту, услышав, как неподалеку, на северо-востоке бабахнули одна за другой две пушки — ничего загадочного и тревожного, стало быть, не было, и он теперь мог заняться ногой.
Мог… Легко сказать — мог… Устало, нехотя, с незнакомым брезгливым чувством он издали оглядел свою стопу и не узнал ее. Вспухшая, сине-землистого цвета, местами окровавленная, она показалась ему уродливой и чужой.
Мог… А мог ли? Санитар на прощанье сказал, что стопу, по всей видимости, придется ампутировать, и чем скорее, тем лучше. Он даже показал сустав, по которому должна пройти граница ампутации. Возле лодыжек. Как уж его? Голеностопный?.. Жаль, что он, капитан, мало смыслил в медицине и анатомии, а то и сам мог бы, пожалуй, решиться… Что же делать — не умирать же в этом овражке. Он еще жить должен. И не только жить, но и воевать еще.
…Перед тем как покинуть высоту, капитан глянул в бинокль на немцев, рвавшихся к нему. Взгляд его на минуту задержался на молодом офицере, расчетливо перебегавшем от куста к кусту. На мгновение капитан увидел его лицо, торжествующее и не по возрасту жестокое. Оно взбесило его.
«Ах ты, фриц пучеглазый! — крикнул он и полоснул очередью по кусту, за которым тот скрылся. — Подожди, фриц!»
Фриц ждал за кустом, а в это время другие немцы были уже в нескольких шагах от капитана. Ему надо бы по этим немцам полоснуть, а он ждал того фрица. Так и не дождался, и уходить пришлось в последний миг. Не будь этой торжествующей улыбки фрица, капитан ушел бы раньше и спокойнее и, уж конечно, не попал бы так нелепо на свою мину.
Не-ет, он должен жить! Он должен сполна расквитаться за свою оплошность.
Капитан открыл сумку, оставленную санитаром, и увидел бинты, йод, ножницы. В металлической фляжке был спирт. Вспомнил, что и у самого была целая фляжка, нашел ее, поставил рядом. Вместе с фляжкой достал и свою финку, старенькую, не ахти такую красивую, но удобную, приносившуюся. Разложил все так, будто собрался сам делать операцию. Поймал себя на этой мысли и не удивился.
Брат Николай тоже не был медиком, а с этой операцией справился бы, наверное, без особого труда. Во всяком случае, телят и барашков он разделывал быстро и свободно. Отрезать ногу по суставу — это для Николая пустяковая работа. Хороший топор или нож острый и — минутное дело.
Впервые за свою жизнь капитан пожалел, что не резал никогда животных. Даже ни одной курицы не прирезал. Когда случалась такая операция, он всякий раз уходил из дома. Николай и ругался, и высмеивал его — не помогало. Капитан хоть и жалел сейчас, что нет у него этого опыта, а доведись ему резать теленка, и сейчас отказался бы.
Он взял свою финку и пальцем потрогал лезвие. Нож был острый. Посмотрел продовольственные запасы: сухари, две банки свиной тушенки, сахар. Не много, но жить можно, на крайний случай хватит. Банку тушенки он выложил на траву, остальное убрал в сумку. Рядом с банкой поставил оловянную кружку, собрался ножом открыть тушенку, но из-за опасения раньше срока затупить его открыл ножницами. Несмотря на слабость и на непрерывную боль в ноге, отвлекавшую чуть ли не все внимание, мозг его фиксировал любой шаг, любое движение.
Капитан открыл флягу, плеснул в кружку спирта. Подумал немного, добавил еще и тотчас же залпом выпил. Во рту обожгло, из глаз хлынули слезы. Закусив тушенкой, он крякнул, достал ложку и начал есть. Боль в ноге стала затихать.
«Жгут!» — молнией мелькнуло в голове. Дожевав сухарь, он не спеша достал широкий бинт, скрутил его, примерил к ноге и экономно отрезал. Теперь как будто порядок. Не-ет, фриц пучеглазый, торжествовать тебе еще рано. Мы еще повоюем. И неизвестно еще, чья возьмет. Ей-богу, неизвестно.
Он подтянул к себе здоровую ногу и медленно, старательно, до боли ощупал весь злополучный лодыжечный сустав, распознал, где там были сухожилия, где вены, где хрящи. От напряженья слегка закружилась голова, и он опустил ногу. Теперь ее можно было и выпрямить.
Поразмыслив, он налил в кружку еще два-три глотка спирта и, зажмурившись, выпил. Боль в ноге утихла совсем. Он отдышался и туго, сколько мог терпеть, перевязал чуть выше колена больную левую ногу. Потом подтянул ее, уложил поудобнее, взял в руку финку. Подумал: хорошо, что левая — правой рукой сподручнее работать.
Он нагнулся и что было силы полоснул по суставу чуть ниже лодыжки. Нож впился и сразу, видно, дошел до хряща. Глубже, глубже, нож уже был не виден. Острая боль пронзила как молния. Пальцы ослабли, разжались, и капитан потерял сознание.
Очнулся он, когда багряно-красное солнце вплотную приблизилось и повисло на сосновой верхушке в том лесу, куда он приказал вывести остатки своего батальона. Очнулся и сразу же почувствовал боль. Память тотчас же воскресила события дня. Первым делом он глянул на ногу. На стопе, на лодыжечном суставе и на финке обильно запеклась кровь. Сердце его дрогнуло. Утром нога была еще целехонькая и невредимая, а сейчас обрубок. Да и обрубок-то надо еще сохранить. Хочешь не хочешь, а нужно браться за дело.
Он приподнялся, превозмог усилившуюся боль и потянулся к фляжке. Один глоток, другой, третий. Отставив фляжку, посидел, дождался, пока по всему телу разлилось спасительное тепло, и с трудом вновь подтянул к себе ногу. Трудно было сдвинуть нож с места, но он все-таки сдвинул его, и нож заходил; вперед-назад, вперед-назад. Он не знал, откуда брались у него силы, но финка уходила глубже и глубже. Боль была адская, но зло и остервенение пересиливали, они, наверное, были сверхадскими. Однако шоковая боль повторилась, и он опять провалился в темноту.
Проснулся капитан от боли и холода. Еще один небольшой рывок, и он навеки распрощается с раздробленной стопой. Рывок этот он сделает, надо только унять предательскую дрожь во всем теле. Осилит и дрожь, сейчас же осилит — спирта во фляге хватит. Он подумал, сможет ли достать флягу не приподнимаясь, решил, что сможет, и в эту минуту услышал соловья. Совсем рядом в кустарнике сперва робко, а потом все смелее и громче засвистел, защелкал соловушка, и капитан ожил, взбодрился. Где же, любопытно, хоронилась вчера эта певчая малютка? Здесь же ад был кромешный. А соловей разошелся, распелся во все свои птичьи легкие: Цэк-цэк, тью-вить, тью-ви-ить… Одно колено хитрее другого. Тью-вить, тью-ви-ить.
Капитан привстал, дотянулся до фляги, отвинтил крышку и залпом выпил остаток спирта. В голове закружилось, дрожь стала утихать. Под соловьиные трели нещадно клонило в сон. Смежались веки, тяжестью наливалось все тело. «Не спешить, — подумал он, — а то совсем сморит. Сон не уйдет, поспать можно потом». Он тряхнул головой, с силой сжал пальцы в кулаки. Ногу пронзила резкая боль, и сон сняло как рукой. Теперь надо спешить… Выбрав удобную позицию, он нажал изо всех сил на нож и со стоном, с зубным скрежетом довершил дело. Уронив руки на землю, закрыл глаза. Желтые дрожащие круги замельтешили перед глазами. Он приподнял веки и, не давая себе расслабиться, обмыл ногу спиртом, смазал йодом — обжигающая боль высекла из глаз искры — и крепко, ладно забинтовал ее, подложив толстый слой ваты.
Теперь можно было и поспать, даже лучше всего было бы поспать, но он внезапно почувствовал голод. Открыв тушенку, съел всю банку в один присест. Съел и тотчас заснул.
К вечеру он проснулся, глянул на толстую в белых бинтах ногу, и непрошеные слезы хлынули из глаз. Не от боли, ноющей и саднящей, а от горькой обиды, от неизбывной злости на немцев.
А вечерними сумерками из леса приползли в овражек его бойцы с санитаром, переправили в свой лесной лагерь, и через три дня он уже был в полевом госпитале.
Рассказ мой Валентина Александровна слушала молча, терпеливо. Иной раз, когда капитан, по ее мнению, мог сделать иначе и тем самым облегчить свои страдания, она закрывала лицо руками, замирала, а через несколько мгновений из-под ее ладоней вырывался тихий, но явственный стон. Рассказ этот недешево обошелся и ей и мне.
— Благодарю вас, Федор Василич, — сказала она тихо, едва я замолчал. — Я должна это знать.
Разговор наш затянулся. Валентину Александровну ждали дела, и я поднялся. Не удержавшись, спросил ее о Жоре Наседкине и в опечаленных глазах увидел тревогу.
— Ничего нового сказать пока не могу, — ответила она. — В моей практике это, наверное, самый тяжелый случай.
В палате меня давно уже ждал капитан. Госпитальная разведка донесла ему, что все это время я разговаривал с Валентиной Александровной.
— С Жорой пока все по-старому, — сказал я. — Духом он вроде бы не падает, просил передать тебе привет.
Я сел на кровать и подробно рассказал ему о Пантюхове и о переживаниях Валентины Александровны. Капитан принял мой рассказ близко к сердцу.
— Как я понимаю, — сказал он, воодушевляясь, — мы с тобой должны помочь ей.
— И поможем, — ответил я. — Надо только хорошенько подумать, как это лучше сделать.
На другой день капитан, проснувшись, сказал вместо утреннего приветствия:
— Любая серьезная операция начинается с разведки. Пентюхов — не исключение.
— Пантюхов, — поправил я.
Он повернул голову и пристально посмотрел на меня. В глазах у него я увидел смешинки.
— Может быть, ты и прав. Но без разведки, скажу я тебе, и этого точно не установишь. Стало быть — разведка. Глубокая, полная. Исключить на первых порах придется, пожалуй, только одно — разведку боем. Правильно?
— Пожалуй, — ответил я. Судя по всему, капитан со вчерашнего дня о многом успел поразмыслить.
— Внизу этот Пантюхов или наверху? — спросил он и огорчился, когда узнал, что наверху. — Придется тебе пока одному попотеть.
Я ничуть не опасался разведки в одиночку — в этом случае она, по моему разумению, была даже кстати, — но я решительно не представлял себе, как ее начать. Думал я почти сутки, но ничего путного не придумал. Мешала разница в годах: Пантюхову было сорок, а мне — двадцать с маленьким гаком. Меня всегда тянуло к пожилым людям, и я довольно быстро осваивался с ними, как и они со мной, но начинать знакомство всякий раз было тяжело, я их стеснялся, мне казалось, что им со мной будет неинтересно, что они попусту потратят время. Бывали случаи, когда почин брали они сами, и все тогда шло хорошо. Но мог ли я надеяться, что отъявленный, по словам Валентины Александровны, нелюдим Пантюхов соизволит заговорить со мной? Как же, интересно, такой молчун мог работать в торговле? Сколько я знал, продавцы — люди веселые, общительные и на что другое, а на слова не скупые. Может быть, и он такой же, когда в своей стихии? Как-никак до заведующего дослужился. А тут оторвали от привычного дела, окунули в смертельный водоворот войны, и человек сник. В сорок лет не так просто приспособиться к боевым тяготам.
С этими мыслями я и отправился после завтрака к Пантюхову. В светлой палате о двух окнах нашли временную тыловую пристань пятеро солдат-страдальцев. Четверо были мои ровесники, а может быть, и моложе, я встречал их в перевязочной, в коридоре или же на прилегающей к госпиталю лесной территории. Моему приходу они обрадовались, повставали с коек и наперебой стали предлагать табуретки.
— Присаживайтесь, товарищ лейтенант, — сказал белобрысый парень в густых веснушках, с рукой на перевязи. Я знал, что его, как и меня, звали Федором. — Сюда, пожалуйста, к окошку. Вид у нас из окон царский.
Их окна выходили на большую поляну, покрытую густой травой и обрамленную вековыми деревьями — соснами и елями, пихтами и березами. Деревьям было просторно, они росли мудро, спокойно, и бушевавшая далеко за ними, на западе, война казалась при виде их абсурдом, нелепостью.
— Присядьте, товарищ лейтенант, — повторил Федор и отвлек меня от раздумий.
— Спасибо, тезка, — ответил я и, отставив ногу в сторону, не без труда присел. Мне было легче вставать, чем садиться. — Вид здесь завидный, умиротворяющий, а наше окно смотрит в поселок, деревья только поблизости.
— На поселок-то, может быть, и лучше, товарищ лейтенант, — сказал Федор. — Рановато нам умиротворяться-то.
— Рановато, — ответил я. — Что верно, то верно.
— То-то и оно. Немец к Волге подошел, к родным моим местам, зло кипит, а тут лежи и умиротворяйся…
— Зло надо поберечь, оно помогает. А вот чтоб рука скорее ожила, надо на лес почаще смотреть да воздухом лесным дышать.
— С леса да с воздуха ноги можно протянуть, сала побольше бы, — весело сказал сосед Федора и кивнул на Пантюхова, молча и безучастно лежавшего в углу около двери. Все четверо заулыбались.
— Сало, конечно, хорошо, — согласился с ним Федор, — только не всякий желудок к нему приспособлен.
— Крестьянский или рабочий желудок не только сало — топор перемелет, — возразил сосед. — Тем паче сейчас, в войну.
— Не скажи, брат Дмитрий… Мой отец самый что ни на есть крестьянин, мужик испокон веков, потомственный, можно сказать, мужик, а как вошла к нему в желудок язва, он только кашу молочную и мог принимать. И с мужиком может случиться…
Ни белобрысый Федор, ни его сосед Дмитрий, рябоватый, богатырского сложения детина, не знали, конечно, зачем я к ним ни с того ни с сего пожаловал, но разговор, который они затеяли, был для меня как нельзя кстати.
— Большая язва? — спросил я, поглядывая на Пантюхова.
— Может, и большая, — ответил вместо Федора Дмитрий. — Только ведь как отец его попал на фронт да в бою побывал разок-другой, язвы этой и след простыл. Сам отец написал Федору, с неделю, как письмо пришло. Язва — она тоже сознательная, понимает, что к чему… А может быть, испугалась, как знать? — Он повернул голову к Пантюхову, и все мы следом за ним обратили свои взгляды на угол у двери. Но Пантюхов упорно безмолвствовал.
По взглядам молодых солдат я без особого труда догадался, что подобные разговоры велись здесь не впервые. Видел отчетливо и другое: цели своей негласные союзники Валентины Александровны не достигали. Я попытался представить себе лицо Пантюхова — он лежал к нам спиной — и не смог. Если мне не изменяла память, раза два я видел его мельком в коридоре, но лицо, к сожалению, не запомнилось. Какое оно, что на нем сейчас написано? Он же не спит и слышит все. В чем другом, а в самообладании и выдержке ему, видно, не откажешь. А может быть, он привык к таким разговорам. Особой изобретательностью молодые его соседи, наверное, не отличались, а когда изо дня в день твердится одно и то же, это входит в привычку и не замечается. Надо, стало быть, другое что-то придумать, потоньше и поинтереснее. Только вот что?..
— Закурить у вас не найдется, товарищ лейтенант? — спросил богатырь Дмитрий. — Плоховато у нас с куревом, не хватает. Жалуемся Валентине Александровне, а она улыбается и заверяет нас, что чем меньше мы будем курить, тем скорей затянутся раны. Хороший она человек и доктор хороший, а понять не хочет, что все как раз наоборот.
— Понимает она, — возразил ему Федор, — очень даже все понимает, только где она возьмет махорку, когда этой заразы недостача во всем государстве? И дело это совсем не докторское, хватит с нее бинтов да лекарств.
Я достал папиросы, и спор мгновенно затих. И Федор, и Дмитрий, и два других солдата — я не знал их имен — глядели во все глаза на голубую пачку «Беломорканала», почти полную, с душистыми папиросами и, глотая слюнки, не смели, не решались протянуть к ним руки.
— Пожалуйста, — сказал я и выдавил из пачки несколько папирос. Только после этого, и то переглянувшись, они робко и бережно вытянули по одной-единственной.
— После завтрака, — сказал Федор и заложил папироску за ухо. То же самое сделали его друзья-соседи.
— Где же это вы, товарищ лейтенант, раздобыли такую драгоценность? — спросил Дмитрий. — Аж не верится. Поди, рублей сто заплатили?
Ничего за эту драгоценность я не платил, ни рубля, ни копейки; папиросами я разжился два месяца назад в Ленинграде, на родном своем корабле. На крейсере у нас, как во всем блокадном городе, всю зиму и всю весну туго было с продуктами. Мы все понимали — блокада есть блокада, — донельзя подтянули ремни, но голод унять были не в силах. Спасали нас папиросы. Смолишь, бывало, одну за другой, до одури, до темноты в глазах, и голод мало-помалу стихал, приглушался. Голова иной раз шла кругом, но это можно было терпеть. А папиросами нас вдоволь обеспечивал корабельный начпрод Иван Никанорыч Пышкин. В противовес своей сдобной фамилии он и ростом не выдался, и худющ был как кощей, Зато талантом снабженческим бог наделил его с избытком. За два дня до войны он умудрился получить на складе большой запас консервов, сала, копченой колбасы и целую годовую норму табака. Другие снабженцы отбрыкивались любыми путями от этого залежалого товара, а Иван Никанорыч вцепился обеими руками. Чутье у него было. А как пригодились нам в голодную зиму и колбаса, и сало, и консервы! На других кораблях пустая похлебка, а у нас суп с душистой приправой. Не говоря уж о табаке. На фабрике Урицкого ему наделали из этого табака множество первосортных папирос, и мы были спокойны за курево все тяжкое время. Мало того, он на табак ухитрялся жиры выменивать. «Лишние калории голодающим морякам не помешают», — говорил он.
Из самых скудных продуктов по его рецептам готовили такие блюда, которым мог позавидовать любой довоенный ресторан. Мы даже ссорились с ним из-за этого. На голодный желудок человек думает не о вкусе, пусть что угодно — только побольше. А Иван Никанорыч рассуждал по-другому: пускай немного, но вкусно. Съешь эту вкусную порцию, а она воробью впору, и еще больше есть хочется. Вот мы и набрасывались на него.
Перед маем Гитлер приказал своим стервятникам уничтожить наши балтийские корабли. Сотни бомб обрушились на наши головы, фугасных и осколочных, больших и малых, и нам, по правде говоря, было жарковато. Мы яростно отбивались, сбили не один десяток «юнкерсов» и корабли отстояли, хотя урон и у нас был немалый. В одном из боев, в канун праздника, я был ранен и попал в морской госпиталь на Васильевском острове, совсем недалеко от своего корабля, стоявшего в Неве. С крейсера в госпитале было несколько человек, и Иван Никанорыч навещал нас ежедневно, как самый ближайший родственник. И не просто навещал — всякий раз приносил гостинцы. То кусок сахара, то печеную картошку, то пару ломтиков хлеба. Кто-кто, а мы-то хорошо знали, как трудно было ему урывать все это от мизерной нормы экипажа, и просили его поумерить старания. Но он и слышать ничего не хотел. «Я не только о вас пекусь, но и о корабле, о флоте, — отвечал он. — Вам надо поправляться и поскорее в строй. Воевать нам еще долго».
Почти месяц провалялся я на Васильевском острове, раны из-за нехватки витаминов затягивались плохо, и решили нас эвакуировать в тыл. Перед отъездом мне разрешили зайти на корабль — собраться, проститься с боевыми друзьями. Деревянный трап, соединявший борт корабля с набережной, был некрутой, и я даже на костылях мог бы подняться сам, но друзья внесли меня на руках. Сборы и прощание из тесной каюты пришлось перенести в салон кают-компании. Друзья принесли мне кучу денег — в тылу, мол, и деньги пригодятся, — но Иван Никанорыч, взявший бразды правления в свои руки, решительно отодвинул в сторону деньги, а чемодан мой, довольно объемистый, до краев набил папиросами.
«На деньги ты и в тылу сейчас мало что купишь, а папиросы, брат, — чистое золото, — сказал он. — И на золото не найдешь того, что возьмешь за папиросы. Поверь моему опыту».
Я поверил и не просчитался. Папиросы мои пошли в ход еще в опасной зоне, на дальних подступах к Вологде, куда хоть и не часто, а все же залетали фашистские стервятники. Мне запомнилась небольшая станция. Поезд наш стоял там минуты две-три, не больше, а Витька Прохоров, разбитной матрос из нашей музыкальной команды, ехавший, как и я, в тыловой госпиталь, успел раздобыть румяную сочную курицу. Я уже забыл, как пахнет курица, а тут тебе, пожалуйста, с ножками и крылышками, с шейкой и с потрошками. Мы за один присест с курицей разделались. Ели и вспоминали переправу через Ладогу. Наш крохотный буксирчик, до отказа набитый ранеными, выделывал невероятные зигзаги, увертываясь от фашистских самолетов. Толчки и повороты были неожиданными, резкими, и беспомощные из-за ран и повязок бойцы то и дело срывались с палубы в воду.
Капитану буксира, веселому и отчаянному человеку, приходилось маневрировать и вылавливать из воды этих несчастных. Побывал в ладожской купели и Виктор. Меня все еще бросало в дрожь от одного воспоминания о Ладоге, хотя судьба обошлась со мной по-божески, избавив от жутких минут забортного плавания. После вкусного обеда я разлегся на своей нижней полке.
Часа через три проснулся и увидел на купейном столике еще одну — румянее и крупнее первой. Поначалу мне даже не поверилось: я подумал, не наважденье ли это, и удивленно захлопал глазами. Сидевший у столика Виктор самодовольно рассмеялся. Я не выдержал и спросил, как ему удаются столь сложные коммерческие операции. Он помолчал, поухмылялся загадочно, решая, видимо, раскрывать передо мной карты или же повременить, а потом признался: «На папиросы, товарищ лейтенант, не только курицу — живую корову можно выменять». Во-от оказался в чем секрет его коммерции: он и покуривал мои папиросы, и с успехом приторговывал ими. Курицу мы, конечно, и эту уплели, а коммерцию пришлось прикрыть, папиросы были нужнее. Не сохрани я их, нечем было бы угостить сейчас госпитальных друзей по несчастью.
Как я и полагал, друзья оценили мою решимость. Федор, с минуту поразмыслив, сказал с мужицкой обстоятельностью:
— Без курицы жить можно, а без курева что в госпитале, что на фронте — беда.
— Беда и есть, — согласился с ним Дмитрий. — Кура хоть и сладка, зараза, ничего не скажешь, и похлебка из нее хоть куда, только ведь все равно для брюха. А табачок — другое дело. Без него, брат, ни умом пораскинуть, ни потолковать как следует.
Молоденькая сестра Наташа принесла завтрак, и в палате запахло свежими огурцами и чесноком. И хотя я всего лишь четверть часа назад трапезничал и даже покурил потом, все равно почувствовал, что не прочь был бы еще раз полакомиться и чесноком и огурцами: сказывалась длинная и зябкая, как полярная ночь, блокадная голодовка. Федор и Дмитрий степенно пригласили меня откушать с ними, я поблагодарил их и, конечно, отказался. Надо было прощаться и уходить, а я медлил, мне хотелось собственными глазами посмотреть, как поступит с завтраком Пантюхов. Оба моих собеседника стали меня уговаривать, но я почти не слышал их: в эту минуту сестра Наташа подошла к Пантюхову, что-то ему сказала, и он, повернувшись к ней, попросил оставить все на тумбочке и добавил, что сегодня, может быть, он что-нибудь и съест. Я увидел его лицо, худое, землистое, но, к своему удивлению, вовсе не старое. На мгновенье наши взгляды встретились, и в глазах его я не заметил ни обреченности, ни сколь-нибудь серьезной тревоги за свою судьбу. Мне увиделось в них одно любопытство.
Я почувствовал, что задерживаться больше нельзя, и ушел.
И правильно сделал, что ушел. Вечером у волейбольной площадки ко мне подошел Федор и шепнул, что хотел бы сказать несколько слов. На площадке сражались две азартных команды, я судил это сраженье — мне, наверное, и осталось теперь только судить — и не мог выслушать Федора в ту же минуту. Но как только игра завершилась, мы с ним отошли в сторону, облюбовали свободную скамеечку, и он поведал нечто любопытное.
— Чем-то вы, товарищ лейтенант, Пантюхова нашего расшевелили, — сказал он с улыбкой. — Как пить дать, расшевелили. Бывало, лежит часами не шелохнувшись, как доска трухлявая. Нас, грешным делом, и оторопь брала иной раз, думали, не преставился ли. А утром нынче, как вы ушли, и каши поклевал немного, и огурчики съел, и весь чеснок с луком умолотил, хотя до этого ни разу к ним не притрагивался. Улегся после завтрака, а лежать покойно не может. Вздыхает и ворочается, да громко так, от души. «Может быть, доктора позвать?» — спрашиваем. «Нет, — говорит он, — доктор тут не поможет». — «А кто же поможет?» — «Ежели сам не помогу, отвечает, никто не поможет». Больше мы и не спрашивали, все равно ничего не сказал бы. Может, вы попробуете, товарищ лейтенант? Сейчас же бы и пошли…
— Рановато, пожалуй, — ответил я. — Чует мое сердце, рановато.
— Может, конечно, и рановато, — отозвался Федор, — только он ведь и после обеда подремал с полчаса, не больше, а потом опять все время ворочался да вздыхал. Койка у него скрипучая, и нам из-за него совсем не спалось.
— Надо повременить, — сказал я. — По-моему, это тот самый случай, когда, как говорится, поспешишь — людей насмешишь.
В палату к ним я пришел через день вечером. Не знаю, как у Пантюхова, а у меня к этому часу терпение иссякло. Мы с капитаном так увлеклись рассуждениями о Пантюхове, что забывали порой и о своих ранах, и о том, где находились. Два дня пролетели у нас как два часа. Мне иногда казалось, что Валентина Александровна не без умысла подсунула нам этого Пантюхова. И хотя мы разработали с капитаном десятки вариантов, в палату я вошел без малейшего представления, как и с чего начну разговор.
Предполагаешь, как часто бывает, одно, а на деле оборачивается все по-другому.
— Вы стали лучше ходить, товарищ лейтенант, — весело сказал богатырь Дмитрий, подвигая мне табуретку. — Меньше отставляете ногу, ступаете тверже. Я нынче приглядывался.
В последние дни я и сам чувствовал улучшение, но когда вместе с тобой это видит не врач и не сестра медицинская — они должны видеть, — а такой же, как ты, раненый, душа твоя невольно начинает млеть от радости.
— Да ведь и пора уж, Дмитрий, — ответил я. — Четвертый месяц пошел, как в госпитале торчу. Месяц в Ленинграде да здесь два.
— Мне тоже надоело, — сказал он сокрушенно. — Недельку-другую отдохнуть, отоспаться — ничего еще, можно. А больше — муторно… Да-а, товарищ лейтенант, давно собирался спросить… Говорят, на кораблях на военных все в броне да в железе, как же вас угораздило? — он кивком показал на мою раненую ногу.
— И я хотел спросить, товарищ лейтенант, — сказал Федор. — Дюже нам с Дмитрием это интересно.
Усевшись лицом к двери, я слушал этих молодых смышленых солдат и незаметно косил глаза на Пантюхова. Прихода моего он ждал, мне это ясно стало с первой минуты. Он повернулся, едва я вошел, мягко и почтительно ответил на мое приветствие. Я чувствовал, что он ждал случая заговорить со мной. Теперь только бы не промахнуться.
О корабле и о своем ранении можно было бы рассказать в другой раз, но Федор и Дмитрий просили, им было любопытно, и я повел рассказ. Пусть будет все, как должно быть в беседе фронтовиков на большом досуге — обстоятельно, без спешки. Пришлось объяснить, что военные корабли сильны не броней, а грозным оружием — пушками, минами, торпедами, — равно как и боевым духом моряков, их умением выжать из своего оружия все, что можно.
Я рассказал им и о скоротечном бое, в котором был ранен, и об одном курьезном эпизоде после боя. Корабль наш носил дорогое для ленинградцев имя, и весть о раненых на его борту облетела весь город. Позвонили из морского госпиталя и сказали, что к борту корабля высылается машина. Командир приказал вынести раненых на берег. Сделать это было не просто: по крутым корабельным трапам не разбежишься. Существовали особые носилки — горбатые, как мы их называли, напоминавшие легкие кресла, — но их было всего несколько пар, и раненых переправляли главным образом на руках.
Осколки немецкой бомбы, угодившей в спардек, достали меня на сигнальном мостике. В первый миг было ощущение тупой боли, будто по ногам ударили увесистой оглоблей. Корабль зашатался, заходил, и я подумал, что это от сотрясения. Немцы не унимались. «Юнкерсы» пикировали один за другим, мы били по ним из всех уцелевших стволов, и ожесточенный азарт боя вновь поглотил все мое внимание. Боль притупилась, а вскоре я совсем перестал ее замечать. В минуту затишья, уставший, я поднялся в пост наблюдения за подлодками, сел на высокий крутящийся табурет и неожиданно для себя задремал. Сквозь зыбкую пелену забытья мне послышались чьи-то тревожные слова: «Товарищ лейтенант, у вас под ногами кровь». Их смысл дошел до меня не сразу, мне думалось, что они обращены к кому-то другому, хотя другого лейтенанта в посту не было. Я почувствовал на плече чью-то руку, меня затормошили, сперва легонько, потом резче и настойчивее. «Лужа крови, товарищ лейтенант, — услышал я тот же голос, — очнитесь!» Усилием воли открыл глаза и увидел перед собой двух краснофлотцев.
— Вы ранены, товарищ лейтенант, — сказал один из них. Это он, Сергей Новозыбков, первоклассный сигнальщик и весельчак, первый увидел у меня под ногами кровь и забил тревогу. — Сейчас мы вас перевяжем.
Я взглянул вниз, кровь не произвела на меня никакого впечатления, она показалась мне чужой. Нехотя, через силу я пошевелил пальцами, один раз, другой — в обоих ботинках было сыро и липко, — и только тогда всерьез поверил, что ранен. Мне захотелось встать, я попытался сделать это и не смог. Ребята перенесли меня в другой угол поста, уложили на диван, сделали перевязку. Как потом оказалось, перевязали они лишь левую ногу со сквозным ранением, а правую, где застрял солидный осколок, оставили так, как она была. В те минуты ни им, ни мне не пришло в голову посмотреть ее.
Лежать на диване пришлось недолго. Услыхав приказ командира, ребята взяли меня на руки и бережно, как с младенцем, спустились на мостик. Первый трап остался позади. Неожиданно им подвернулись носилки, и я довольно быстро без лишних хлопот очутился на берегу. Едва они успели опустить носилки на землю, как из-за низких облаков вдоль набережной посыпались бомбы. Одна, другая, третья… Рушились дома, взлетали в воздух доски, булыжник, султаны пыли поднимались то в одном, то в другом месте.
«На корабль!» — приказал я ребятам. Они медлили, и мне пришлось распорядиться вторично, на этот раз громче и решительнее. Оставшись один в крайне неловкой позе, точь-в-точь как в кресле, опрокинутом на спинку, я вынужденно смотрел на облака, безучастно плывшие на восток, и в небольшом просвете увидел фашистский бомбардировщик. Он шел медленно и бесшумно — немцы не первый раз выходили на цель с выключенными моторами, — и такая меня взяла злость, что я не вытерпел, выхватил из кобуры пистолет и вдогонку выпустил по нему всю обойму. То ли от напряжения, то ли от дикой боли в ногах я на какое-то время потерял сознание, а когда пришел в себя, пистолета в руке не обнаружил. Я не на шутку испугался — за потерю оружия грозил трибунал — и начал обшаривать карманы, носилки и все вокруг. Пистолет я нашел в кобуре, но в нем не оказалось ни одной обоймы и ни одного патрона.
Вскоре нас погрузили в машину и отправили в госпиталь, и мне до сих пор неведомо, куда же задевались обоймы и патроны.
Рассказ мой был неожиданно прерван, и не кем-нибудь, а Пантюховым.
— Неужто не догадываетесь, товарищ лейтенант? — спросил он и даже привстал, облокотившись на подушку. — Это же они, ваши матросы, вытащили у вас все патроны. На всякий случай. То вы по немцу стреляли, хоть и высоко он забрался, а могли бы и в себя пальнуть от отчаянья, чем черт не шутит. Они, поди, постарше вас были, вот и надумали.
Я был крайне изумлен. И тем, что услышал — это никогда не приходило мне в голову, — а еще больше, наверное, тем, что молчун Пантюхов наконец заговорил. Я смотрел на него во все глаза, довольный, слегка растерянный, и напряженно думал, как продолжить разговор. Ничего не придумав, я спросил:
— Отчего вы так решили?
— А мне, товарищ лейтенант, особо и решать нечего, сам бывал ой-ой в каких передрягах. Иной раз думал: легче пулю в лоб. — Он обвел взглядом ребят, и те, не мешкая, вышли из палаты. Мы с Федором даже условились, что в случае необходимости они оставят меня с глазу на глаз с Пантюховым. Он захотел этого сам, и у нас отпала нужда разыгрывать спектакль.
Пантюхов долго молчал и все это время неотрывно смотрел на меня. Порой я едва выдерживал его взгляд, напряженный и не очень доверчивый. Неожиданно глаза его повлажнели, взгляд сразу смягчился, и он тихо, не спеша повел речь о своей незадачливой судьбе.
В юности он перепробовал уйму профессий. Пытался стать плотником, слесарем, трактористом, механиком и всякий раз терпел неудачу. Плотницкая работа лишила его пальца на левой руке. В бытность свою слесарем он умудрился повредить глаз старику учителю, человеку, которому многим, очень многим был обязан. Утопив в реке совхозный трактор, навсегда распрощался с земледельческой нивой. Не постиг он и механику: поршни, цилиндры, системы передач явно были не его делом.
Зато довольно быстро усвоил он торговую механику. В магазин его привел, случай, но он-то знал: если бы не отчаянье, не было бы и случая. Жизненные неудачи заставили его покинуть родные места. В захолустном городке, куда он приехал, не было ни одной знакомой души. Он, наверное, двинулся бы дальше, если бы не увидел в магазине за прилавком совсем еще юную черноглазую девушку. Она подала ему папиросы и с доброй улыбкой спросила, чей он и как случилось, что она никогда его не видела. Пантюхов не знал, что больше повергло его в смущение — вопрос ее или улыбка, — но тотчас же понял: из городка этого пути ему нет. Не сумев справиться с краской, пылавшей на его лице, совсем растерявшись, он не нашел ничего другого, как рассказать ей о себе всю печальную правду. Девушка слушала его так участливо, что временами на глазах у нее проступали слезы.
«Оставайся здесь, — сказала она неожиданно твердо, как если б была видавшим виды мужчиной, а он — нерешительной девчонкой. — Куда ты поедешь, коль нигде никого не знаешь? А здесь я помогу тебе. Работы и у нас хоть отбавляй. Не ладится с машинами — поступай к нам в магазин. Тетя Нюша возьмет тебя с радостью, сама вчера говорила: хорошо бы парня к нам крепкого».
После этих слов в душе его случился переворот. Жизнь казалась ему теперь не злой старой ведьмой, расставлявшей на каждом шагу коварные капканы, а молодой невестой, сулившей одни радости. Так оно потом и было. Никакой работы он не гнушался, делал все споро, с улыбкой. Ему было радостно и за прилавком стоять, и ящики с товаром подтаскивать, и ездить за этим товаром на базу. Завмаг тетя Нюша не могла нарадоваться на него. Поверив в его доброту и честность, она начала мало-помалу раскрывать ему немудрящие тайны торгового дела. Перво-наперво, говорила она, надо хорошо знать, в чем люди нуждаются, что они хотели бы купить в мае, а что в декабре. Надо только слушать хорошенько и запоминать. Главная забота — добывать нужный товар. Жизнь год от года выравнивалась, входила в новую колею, и самые обыкновенные граждане требовали для себя и платье понаряднее, и туфли покрасивее. А где их было взять, эти платья и туфли, когда все капиталы шли на станки да на машины? Крутились пуще белки в колесе.
Юный Пантюхов и без тети Нюши смекнул, что царем и богом для них была торговая база. Спорить и ссориться можно было с черноглазой девушкой Юлей, хотя дороже ее не было никого на свете, с друзьями-ребятами, даже иной раз с тетей Нюшей, но не с работниками базы. На базе в ход шли только улыбки, добрые слова и обещания не остаться в долгу. Против улыбок и хороших слов тетя Нюша не возражала, а по поводу обещаний прочла ему целую лекцию. В торговле, как в любом деле, не обойтись без взаимной выручки, без поддержки. Но выручка выручке рознь. Она может быть праведной и неправедной. О неправедной тетя Нюша не хотела даже слышать. Но и на праведную ее помощь, на самую что ни на есть законную, мог надеяться не каждый. Если она хоть раз уличила кого-либо в грехе, поддержки такому человеку от нее не будет. Она не станет трезвонить об этом и виновнику может ничего не сказать, но симпатии ее и доброго расположения он лишится навсегда.
Почти три года тетя Нюша готовила себе смену. Вернувшись однажды из райкома, она собрала своих подчиненных и молвила с грустинкой в голосе:
«Ну, дети мои, передаю вас в руки Кузьмы Андреича Пантюхова. Давно сватали меня на базу, не спешила я, а нынче дала согласие. Сказать по чести, Кузьма Андреич поднаторел в нашем деле изрядно, пора ему коренным становиться в упряжку. А будет надобность, и помочь завсегда готова. Ну, а если еще одно дело свершим, я уж совсем бы рада была и спокойна! — Она не по возрасту молодо оглядела всех, дольше, чем на других, задержала лукавый взгляд на черноглазой девушке Юле и на Пантюхове и добавила твердо: — Женить нам надо Кузьму Андреича!»
И женили. Через месяц сыграли свадьбу, веселую, шумную, двое суток пел и плясал без умолку весь городок, и стал Кузьма Андреевич Пантюхов почтенным мужем и столь же почтенным завмагом. Народили они с Юлей трех дочерей, жили не богато, но дружно, в любви и согласии. Он уже и вспоминать перестал свои юношеские неудачи, пришла пора жить да радоваться, и вдруг — война. Может быть, конечно, и не вдруг, но жизнь, вся жизнь, сразу же перевернулась вверх дном.
Пантюхова призвали на третий день и без обучения, без подготовки определили в маршевую роту. Тут-то и начались его страдания. Оказалось, что он совсем не приспособлен к стрельбе. Не то чтоб не умел — это бы еще полбеды, со временем можно было и научиться, — но не мог. И целился вроде бы нормально, как все — ловил немца на мушку, выравнивал ее по прорези прицела, — и на крючок спусковой нажимал плавно и вовремя, а пуля летела куда угодно, только не в цель. Чаще всего они ложились тут же, рядом, перед самым его носом. То ли винтовка попалась завалящая, то ли глаза никуда не годились. Первое время никто ему ничего не говорил, и сам он не заикался о своих незадачах, страдал молча. Потом не выдержал и поделился горем с таким же, как сам, пожилым бойцом. Тот отнесся к нему сочувственно, обещал проверить винтовку, но разговор их нечаянно подслушал один разбитной малый и тотчас же разнес по всему взводу. После этого даже юнцы, у коих молоко на губах едва обсохло, позволяли себе насмешки над ним. И ничего нельзя было возразить: эти юнцы отменно стреляли, на счету у них были десятки фашистов. Будь он таким же молодым, все, наверное, обошлось бы, но он уже привык к почтительности, к уважению, и всякие подковырки были теперь невыносимы.
Винтовку проверили, она оказалась недоброкачественной, и ему дали другую. Он воспрянул духом, но ненадолго: в его руках и новая винтовка била не по цели, зря тратились драгоценные патроны. Насмешки день ото дня становились злее, и Пантюхов лишился сна. В редкие минуты, когда ему удавалось задремать, перед глазами все равно маячили то хохочущие юнцы-солдаты, то свирепый взгляд командира взвода, то винтовка, выраставшая ни с того ни с сего в пушку длиной с богатырское дерево. А кроме насмешек, были вражеские бомбежки, обстрелы, танковые атаки. Можно было запросто распрощаться с жизнью или — еще хуже — стать калекой, обузой для жены и дочерей.
Появились боли в животе, сперва тупые, ноющие, потом все более резкие и мучительные. Сходил в медсанбат, пожаловался, его наспех послушали, дали какие-то таблетки, порошки. Так, для отвода глаз. Оно и понятно — раненых навалом. Один кричит благим матом, другой ругается на чем свет стоит. Как они только выдерживают, доктора да сестры, это же ад кромешный, хуже любой атаки. Побывал он в этом медсанбате один раз и дал себе зарок по своей воле, своими ногами туда не ходить. Таблетки, как он и думал, не помогли ему, а в роте пошла молва, будто он ищет пути, как избавиться от передовой. Стало еще хуже. Даже одногодок, тот пожилой красноармеец, который пытался отладить ему винтовку, начал сторониться его.
А боли не утихали, хуже того — разрастались, временами все внутри обжигало, как огнем, и он не находил себе места. Бывали минуты, когда он подумывал пустить себе пулю в лоб. В себя-то уж он попал бы, тут целиться не надо. Приставил дуло, нажал на крючок и — прости-прощай. Думать-то он об этом думал, порывался не однажды, а храбрости в последний момент недоставало. Дочки удерживали да жена. В страшные эти минуты почему-то они на ум приходили, и никто больше. До того ему бывало их жалко, а за себя стыдно, что он на время забывал о болях.
Пища на Ленинградском фронте только называлась пищей. Хлеб, этот недомесок из мякины, древесной коры и мерзлой картошки, едва сдобренный захудалой мучицей, застревал в зубах и в горле, а когда проходил в желудок, ложился там тяжким камнем. Не для больного желудка был этот хлеб. Стоило Пантюхову проглотить небольшой кусочек, как в животе начиналась резь. Она была нестерпима, эта резь, куда страшнее голода, и он совсем, начисто отказался от хлеба. От похлебки и от каши, которые бывали не каждый день, он исхудал до того, что еле волочил ноги. Вдобавок ко всему, одолела цинга. И тут нежданно-негаданно его ранило. Теперь он кому угодно мог прямо смотреть в глаза: врачам и сестрам, бойцам и командиру взвода. Когда его доставили в медсанбат, он плакал от радости. Рука не двигалась, ныло плечо, нещадно болела и кружилась голова, а он глотал слезы и улыбался. Теперь он был вровень со всеми. Раненый боец Красной Армии, он мог теперь смело говорить не только с командиром взвода, но и с самим полковником.
Пулевое ранение оказалось сквозным, не таким уж и серьезным, и когда бы не полное расстройство организма, не проклятая эта дистрофия, через месяц-другой он снова был бы в строю.
В ленинградском госпитале Пантюхова держали недолго — не было смысла. Непрерывные обстрелы и бомбежки, тощий блокадный паек без витаминов и без жиров сводили на нет все лечение, да и лечить-то, по совести говоря, было нечем. Здесь, в тылу, все, конечно, по-другому: покой, благодать, рана почти затянулась. Желудок, правда, болит, но сейчас хоть терпеть можно. Заглянуть бы туда, проверить все как есть — может, побойчее пошло бы лечение, да вот опять загвоздка: аппарата такого нет в здешней больнице.
— Вы так отощали, Кузьма Андреич, что и без аппарата можно все разглядеть, — пошутил я.
Он усмехнулся и поднял на меня белесые, отцветающие глаза.
— Поневоле отощаешь, товарищ лейтенант. Только и видишь покой, когда в желудке ничего нет. Докторша у нас добрая, ласковая, чего только не приносила мне… Погляжу, проглочу слюнки, а есть боюсь.
— Все равно надо есть, Кузьма Андреич. Без еды и совсем не вылечитесь. Для войны против болезни нужны силы, а где вы возьмете их без пищи?
— И докторша то же самое говорит. Что верно, то верно, сам понимаю. Но такой я натерпелся боли, что пугаюсь ее пуще огня.
— Пересилить себя надо, — сказал я твердо. — Весь организм может расстроиться, и тогда не помогут никакие лекарства. А уж если говорить о болях, они могут быть и похлестче. Ради дочек надо себя пересилить.
Пантюхов часто заморгал, словно ему что-то мешало смотреть на меня, и опять усмехнулся. Мне показалось, что эти мысли были ему знакомы.
— Вроде бы начинаю, товарищ лейтенант, — сказал он, помолчав. — Начал помаленьку. — В глазах у него замелькали блестки тихой радости, но в них таилось еще и беспокойство. Я видел эту тревожную недосказанность, догадывался о ее причинах, но спрашивать ни о чем не стал — пусть говорит сам. Мне казалось, что сейчас он все может сам. Но молчанье мое вдруг насторожило его. Блестки в глазах погасли, взгляд сразу же потускнел, и от Пантюхова повеяло отчужденностью. Неужели он подумал, что мне неинтересно?
— Помаленьку и надо, — сказал я. — Важно решиться.
— Решиться… — медленно повторил он. — А в роту вернусь — там что со мной будет? Все сначала?
Во-от, оказывается, в чем дело. Мы были не так уж далеки от правды, когда пытались разгадать истинный смысл его голодания. Боли — болями, но главное было не в них. Как ни крути, как его ни оправдывай, а факт оставался бесспорным: возвращаться на фронт он не хотел. Боялся. У меня мелькнула мысль, что его рота могла быть давно расформирована, как это часто бывает на фронте, и что он может попасть совсем в другую роту, но я в тот же миг отогнал эту мысль. Куда бы он ни попал, он останется таким же. У него в любой роте начнется все сначала.
— Вы сейчас думаете, я боюсь фронта, — сказал он упавшим голосом. — На беду мою, все так считают. И молодые мои соседи, и даже, наверное, Валентина Александровна, пригожая наша докторша. Но это, говорю вам честно, неправда. Я не фронта боюсь, хоть и страшно там. Того боюсь, что неумеха. Боюсь, что опять стану обузой… Смеяться снова надо мной будут, а я ничего не смогу поделать.
Он смотрел мне в глаза, и я видел: он говорил правду. В его взгляде было отчаяние. Мне хотелось помочь ему, но я решительно не знал, как это сделать.
Выход нашел он сам. После тягостного молчания заговорил вновь:
— Позавчера слушал вас, товарищ лейтенант… Вы рассказывали о своем снабженце. Об Иване Никанорыче. Смею доложить: рассказывали здорово. Меня чуть слеза не прошибла. От радости. Сделал человек доброе дело — его добром и вспоминают… А я ведь это тоже умею. Как еще умею, товарищ лейтенант! — Глаза его загорелись. — Слушал я вас вчера и думал: каким бы помощником я мог быть Ивану Никанорычу. И вспоминали бы меня, как вы вчера, добрым словом, а не хулой да насмешками.
Пантюхов говорил дело. Служи он в любом полку по интендантской части, все у него было бы нормально, даже, наверное, хорошо было бы. И благодарности мог заслужить, и медали. А главное — был бы человек на месте, пользу приносил бы немалую. Тем паче на Ленинградском фронте, где интендантская жилка ценилась особенно высоко. Отчего же он, глупый человек, молчал до сих пор? Любой командир полка посчитал бы его находкой.
— Не Ивану Никанорычу, так другому был бы дельным помощником. Снабженцы есть в каждой части. Без них и на войне нельзя. Верно ведь, товарищ лейтенант?
— Конечно, верно! — воскликнул я. — Вы просто вредитель, Кузьма Андреич. Вместо того чтобы заниматься своим делом и ковать всеми доступными силами победу над врагом, вы понапрасну тратили боеприпасы, портили жизнь и себе и взводу. Как вы могли?
— Виноват, товарищ лейтенант! — Он встал, вытянулся в струнку и попытался даже прищелкнуть голыми пятками. В глазах, на худющем лице, во всей его нескладной фигуре играла радость. — Может быть, еще не поздно, товарищ лейтенант?
— Вылечиться надо сперва, поправиться! — Я шагнул в сторону, оглядел совсем невоенную его стать и невольно улыбнулся.
— Это мы мигом, товарищ лейтенант. — Он тоже расплылся в улыбке. — Только бы все так вышло, как вы говорите. Две недели — и порядок. Как по маслу пойдет, я себя знаю.
— Вот и добро, — сказал я, радуясь не меньше Пантюхова. — А я попрошу Валентину Александровну и начальника госпиталя обязательно все указать в предписании.
— Век буду вам благодарен, товарищ лейтенант. Молодой вы еще совсем, а человека видите справедливо, государственно.
От его похвалы я пришел в замешательство. Не найдя подходящего ответа, пожелал ему спокойной ночи и вышел из палаты.
Долгие месяцы народного горя приучили нас ценить даже небольшую радость. Сказал человек доброе слово, и на душе у тебя потеплело, а если он еще и улыбнулся, горе обволакивалось незримой, но явственно ощутимой мягкой пеленой и казалось временным, преходящим.
У нас с капитаном была большая радость. Пантюхов начал поправляться, его победа над самим собой, мучительная и счастливая, переменила в нашей палате воздух, и у нас — мы чувствовали это оба — открылось второе дыхание. Молчун капитан, целыми днями недвижно лежавший на койке, охотно вышагивал по палате, стуча костылями, или же вытаскивал меня на улицу и говорил, говорил без умолку.
— Ты только подумай, через какой обрыв он перешагнул. Не решись он еще недельку-другую, могла завариться серьезная кутерьма. На войне — страшные месяцы, а тут притворство, симуляция… Верный трибунал. И ты, надо сказать, молодец. Тихохонько, незаметно взял да и подтолкнул его. Без тебя он бы не решился. Ты про меня говорил, что я — комиссар, а на поверку оказалось, комиссар-то ты. С виду посмотришь и не подумаешь. Молодой, форсистый.
Мы сидели на скамейке под двумя могучими сросшимися елями, капитан хотел сказать что-то еще, я собирался похлестче ответить ему на его хвалебные слова — другого пути у меня не было, — но ни ему, ни мне ничего сказать не довелось — к нам неслышно подошла Валентина Александровна.
— Вот они где, голубчики, а я ищу их по всему госпиталю.
— Вы не рады нашим прогулкам? Хотите, чтоб мы торчали в палате? — спросил я шутливо.
— Еще как рада. — Она весело оглядела нас обоих. — И за вас рада, и за Пантюхова. Он преображается на глазах. Не знаю уж как и благодарить вас, Федор Васильич.
И она с похвалой. Как сговорились. Ответить, что ли, им обоим, чтоб неповадно было в другой раз? Я, конечно, рад был радешенек, что с Пантюховым все пошло хорошо, но похвала, из чьих бы уст ни исходила, совсем мне ненадобна и может отравить всю радость. Неизвестно еще, кто из нас получил больше: Пантюхов или я. У меня, я это чувствовал, произошел перелом. В душе. Добрая Валентина Александровна, может быть, для меня и придумала это препятствие.
Мы все трое молчали. Досада моя потихоньку улеглась, и я подумал, что для новой радости, способной подстегнуть лечение и укоротить больничную грусть-тоску, мне теперь нужно будет новое препятствие. Большого ума был человек, высекший те мудрые слова на тибетском камне. С дальним заглядом вперед — на десятилетия, а то и на века.
Напрасно я полагал, что мои собеседники, Валентина Александровна и капитан, молчали, меж ними шел напряженный разговор, хотя и безмолвный. Они, как мне показалось, тоже говорили о препятствиях. Это и понятно: чего другого, а препятствий, больших и малых, им было не занимать. Их чувство, едва возникнув, оказалось на виду. Ему бы хоть чуть-чуть согреться под крылышками добра и ласки, опериться и окрепнуть, и тогда, наверное, не страшны были бы ни ледяной ветер зависти, ни коварные волны людской молвы. А пока…
Можно попытаться оградить их от злословия, уберечь от кривотолков. Но как они еще поведут себя сами? Что ни говори, а живые люди. Они и сами могут нагромоздить себе неодолимые барьеры. Один такой барьер вышиной с Тибетские горы мне уже виделся. Может быть, они пока не догадывались о нем, но он уже стоял меж ними и, я чувствовал, разделял их.
— Пантюхов, надо думать, выпрямится и долг свой исполнит, — сказал я. — Нам останется честно сдержать обещание.
— Конечно, конечно, — торопливо согласилась Валентина Александровна. — Все напишем как лучше, как следует быть. Тут и сомневаться нечего.
По тому, как поспешно и даже слегка растерянно ответила мне Валентина Александровна, я еще раз убедился, что говорили они меж собой не о Пантюхове, не обо мне, а о чем-то более важном для них.
Лучше всего было бы оставить их — пусть разбираются сами, — но сделать это следовало раньше, а я не догадался. Оставалось ждать подходящей минуты.
— Теперь надо браться за Георгия, — сказал капитан.
Лежа в палате, он не ведал, а я в подробностях знал подоплеку несчастной судьбы Жоры Наседкина. Этого юного синеглазого парня следовало бы положить в хороший госпиталь к хорошему хирургу. Будь время хоть чуть-чуть поспокойнее, так, наверное, и сделали бы. Но под шквальным огнем вражеской артиллерии, когда раненых был не один десяток, никому и в голову не приходило думать о городском госпитале и об опытном хирурге. Все усилия командира роты тратились на то, чтоб удержать позицию, а санитары едва успевали оттаскивать раненых в безопасное место. Жоре Наседкину прикрыли распоротый бок марлей и ватой, кое-как забинтовали и волоком потащили к лесу, где должен был располагаться пункт медицинской помощи. В лесу от медпункта остались свежие кровяные бинты да колышки, которыми крепились палатки. С досады и с отчаяния выбившийся из сил санитар, такой же юный, как Жора, залился слезами. И немудрено: что было делать, куда двигаться? Края хоть и свои, русские, но совсем незнакомые. Да и лес дремучий пугал своей жутковатой невоенной тишиной.
Жора посоветовал санитару вернуться в роту. Тот поначалу не понял, а когда уразумел суть его слов, пришел в негодование. Разве мог он бросить товарища? Раненного, в дремучем лесу — на верную гибель? Да он потом всю жизнь страдал бы от угрызений совести, лучше уж смерть принять. Вместе ли, порознь ли — лишь бы по-людски. Слезы у него высохли, страх прошел, и он поволок Жору в глубь леса на восток. Сколько они блуждали, Жора сказать не мог — он был в какой-то дремоте, а временами терял сознание, — только санитар, золотой парень по имени Федосей, не отлучался от него ни на минуту.
Неизвестно еще, удалось ли бы им дотянуть до большака, если бы не ребята из своей роты. Тут, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Роте пришлось оставить позицию, и командир, отступая, думал в первую голову о том, как уберечь личный состав. Шли рассредоточенно, в каждой цепочке было выставлено боевое охранение, подбирались раненые. На глаза ребятам попались и Жора Наседкин с Федосеем, приютившиеся, чтоб перевести дух, в кустарнике недалеко от тропинки. Федосей разыскал остатки своего отделения, примкнул к нему, а Жору уложили на носилки и тащили по очереди до самого большака.
На попутной машине вместе с другими ранеными его отправили в тыл. Один перевалочный пункт сменялся другим, кого-то оставляли, кого-то подсаживали, а Жору везли и везли, дальше и дальше. Как понял он из торопливых и скупых реплик врачей, оставлять они предпочитали либо тяжело раненных, кому требовалась немедленная операция, либо тех, у кого были легкие ранения, чтоб быстро их подлечить и снова вернуть в строй. Ни к тем, ни к другим Жора, по мнению медиков, не принадлежал, и завезли его в наш госпиталь, в глубинку; дальше поезда не шли.
На самом же деле раны оказались и серьезные и — что еще хуже — запущенные. Валентина Александровна сделала все, чтоб приостановить воспалительный процесс, и это ей удалось. Предстояло самое главное — операция. Из-за нее-то и разгорелся сыр-бор. Начальник хотел отправить Жору в соседний госпиталь, как только увидел его распоротый, гноившийся бок. И были на то вроде бы веские причины. Под наш госпиталь в спешном порядке приспособили новую, едва достроенную больницу, где еще не было почти никакого медицинского оборудования. Третий месяц обещают установить рентгеновский аппарат и никак не установят, а без этого зоркого ока в замешательство пришел бы и опытный хирург. На весы ставилась не гиря чугунная, а человеческая жизнь.
Валентина Александровна не была даже хирургом. Обыкновенный молодой терапевт с добрым ласковым сердцем. Правда, десять месяцев лечения раненых, с утра до ночи, без единого выходного дня, дали ей богатую практику — в мирное время она не обрела бы такого опыта за долгие годы, — и все же она чувствовала, что эта операция ей не по плечу. Она извлекала пули и осколки из рук и ног, научилась добротно заживлять раны, знала, как врачевать контузии, но ей еще не приходилось вторгаться ни в грудную клетку, ни в полость брюшины.
Везти Жору по ухабистой тряской дороге за полтора десятка верст Валентина Александровна не хотела — это могло плохо кончиться, — а поручиться за операцию не имела права, и тревога начальника была ей понятна. Ни один госпиталь не хотел, чтоб в его стенах случилось самое худшее — смерть человека. Что там ни говори о войне, о трагической необходимости жертв, смерть — это всегда несчастье, тягостное, непоправимое. Не зря за нее взыскивают и с командиров, посылающих батальоны солдат в сражения, и с медиков, призванных возвращать раненых бойцов в строй. Не зря смертный исход в тыловом госпитале почитается происшествием чрезвычайным.
До сих пор у Валентины Александровны, как и у ее коллег, все шло благополучно, и госпиталь был на хорошем счету. Жора Наседкин мог все изменить. Случись с ним несчастье, тень так или иначе пала бы на весь госпиталь. Начальника беспокоил в первую голову престиж, а перед Валентиной Александровной стояли синие глаза Жоры, юные и беспомощные, и одна мысль о том, что они навсегда могут погаснуть, приводила ее в отчаяние.
Слова капитана Крутоверова без промаха попали в ее сердце, и она не в силах была скрыть своей тревоги и растерянности. Она вспыхнула и почти в тот же миг побледнела. Мне было жалко ее. Зачем завел капитан этот разговор? Неужели есть у него хоть капля сомнения? Все она сделает, все, что сможет. Но ведь не бог она. Добрее, сердечнее бога, но не всемогуща.
— Да, надо браться, — сказала она тихо, виновато, хотя давно уже взялась, давно отдает парню все свое умение, все силы, и вины за ней никакой не было.
— Капитан по армейской привычке полагает, что если операцию как следует подготовить да прибавить быстроту, решительность, натиск, то в успехе можно не сомневаться, — сказал я не без ехидства, чтоб поддержать Валентину Александровну, а она, похоже, не очень и хотела этого.
Капитан, конечно, представлял себе разницу между операцией армейской и госпитальной, понимал, что хирургу, кроме решительности, нужно еще и уменье. Но он безоглядно верил в Валентину Александровну, в ее могущество. Это было ей по душе, и она, видимо, не хотела, чтоб он расставался с этой верой.
— Решительность надобна всюду, — сказала Валентина Александровна. — И быстрота нужна, и натиск. Спасибо вам, — добавила она, вставая. — Пойду, дел по горло.
Когда она скрылась из виду, капитан повернулся ко мне.
— А ты, оказывается, занозистый, — сказал он весело. — Моряки все такие?
— Все, — ответил я. — Особенно когда приходится иметь дело с фрунт-пехотой.
Он рассмеялся. Что ж, пусть смеется, коль весело. Это лучше, чем если б он молча уставился в потолок, один на один со своими тягучими мыслями. Взгляд его скользнул вверх, прочно там на чем-то остановился, и смеха как не бывало. Он весь подобрался, лицо его стало задумчивым. В чистом небе парила стайка белых перистых облаков. На нее, на эту стайку, и был устремлен его взгляд.
— Видишь? — спросил он, не отрывая глаз. — Ты хорошенько смотри. Высь какая… Легкие, прозрачные, ни одного пятнышка. — Лицо его просветлело, он стал похож на святого. — Если хочешь знать, тучи должны были пройти над землей, гроза вчерашняя должна была пробушевать с огненной молнией, чтоб эти белые лепестки могли взвиться высоко в небо. А ты с фрунт-пехотой…
Я не возражал ему. Стайка перистых облаков и меня настроила на высокий лад.
После рентгена Валентина Александровна прописала мне каждодневный массаж и лечебную гимнастику.
На первых порах стопой моей занималась угрюмая сестра Тамара, не верившая ни в гимнастику, ни в массаж.
— Разве можно терпеть в своем теле немецкую железяку? — говорила она. — Вырезать ее да выбросить подальше, и делу конец.
Вскоре ей пришло известие о ранении мужа, и она, выпросив отпуск, уехала к нему в Саратов, где он лечился. На очередной массаж вместо Тамары совсем для меня неожиданно пожаловала Ольга Костина. Я был удивлен.
— Вы недовольны? — спросила она, ставя мою ногу в тазик с теплой водой.
— Наоборот, — ответил я. — Теперь моя стопа будет гнуться, как лозинка.
— Не смейтесь. Стопа ваша будет гнуться. Не сразу, конечно, но будет, могу вас уверить.
Она улыбнулась и взялась за дело. Насухо вытерла стопу, смазала вазелином и мягко ощупала каждую жилку. Слегка наклонившись, заработала длинными пальцами. Сперва медленно, едва касаясь, потом быстрее, быстрее, с нажимом. Было чуть-чуть щекотно и удивительно, сказочно хорошо. Я чувствовал, как оживали, заряжались и приходили в действие самые глубинные клетки.
— Кто тебя послал мне? — спросил я. — Какой бог?
— Валентина Александровна, — ответила она, улыбнувшись. — Не хочешь ли ты, спрашивает, флотскому лейтенанту помочь? Федору Жичину из двенадцатой палаты? Отчего же, думаю, не помочь доброму человеку. Ты добрый?
— Как тебе сказать.
— Добрый, я знаю.
Мягкая улыбка играла на ее лице, щеки разрумянились, на лбу выступили капельки пота.
— Отдохни, — сказал я. — Куда спешить-то?
— Пожалуй. — Она подняла голову, достала платочек, вытерла пот. — Будто дрова пилила. Рабо-отница…
— Без привычки?
— Привы-ыкну.
Не так давно мы говорили с Ольгой открыто, прямодушно, будто знали друг друга чуть ли не с рожденья, а сейчас отчего-то разговор у нас не клеился.
— Откуда Валентина Александровна узнала о болтовне ваших девчонок? — спросил я.
— Ума не приложу! — Ольга задумалась. — С каждой говорила, девчонки божатся… Может быть, собрание комсомольское провести?
— Что ты! — возразил я. — Тогда наверняка пойдут разговоры, да еще какие — не остановить.
— Что же делать-то? — она смотрела на меня и растерянно моргала глазами. — Я и сама хотела у тебя спросить…
Сейчас, пожалуй, что ни делай, все будет плохо. Только любопытство разжигать.
— Поговорили — и хватит, — сказал я. — Валентина Александровна все равно знает, а Борис… Бориса я постараюсь оградить. Сейчас самое лучшее — будто ничего не произошло.
Привезли на перевязку раненого, и разговор наш прервался. Сильные пальцы Ольги вновь заплясали-забегали по злополучной моей стопе. Вслед за коляской в кабинет вошла Валентина Александровна. Она зорко нас оглядела, улыбнулась едва заметно и посоветовала нам перейти в другой кабинет.
— А мы уже почти закончили, — ответила, смутившись, Ольга.
— Тем более, — сказала Валентина Александровна.
Мы вышли в коридор, заглянули в один кабинет, в другой — они были заняты — и решили направиться в нашу палату. Ольга пропустила меня вперед, поотстала немного и сказала, что хочет посмотреть на мой шаг. Я старался идти лучше, прямее, а получалось у меня хуже обычного.
— Иди легче, как всегда ходишь! — крикнула она вслед. — Вот так, вот так, молодчина.
Она догнала меня, взяла за руку.
— Скоро ты совсем перестанешь отставлять ногу.
— Дай бог, — ответил я.
Едва мы вошли в палату, сосед мой Борис Крутоверов, читавший книгу о Суворове, поднялся с постели, обмолвился шуткой с Ольгой и спешно куда-то засобирался.
— Куда вы, Борис Трофимыч? — спросила Ольга. Она, как и я, опасалась за него: вдруг и ему наболтают невесть что.
— Дельце одно у меня есть, — ответил он уклончиво. Никакого дела у него не было, захотел нас оставить одних.
Когда он вышел, мы переглянулись и оба смутились.
— Попробуем теперь расшевелить ее. — Ольга кивнула на стопу. Она усадила меня на кровать, сама села рядом на табуретку и положила мою ногу к себе на колени.
— Если будет больно, не терпи, говори сразу, я должна это знать.
Начала она с пальцев. Потрогала, погладила, посгибала и поразгибала суставы. Потом перешла к стопе. Вниз стопа опускалась легко, свободно, а вверх почти не двигалась. Это и мешало мне ходить. Ольга пошла на хитрость: не двигается вверх — бог с ней, пока потерпим, попробуем подать ее слегка влево да вправо. Попыталась и расцвела в улыбке: влево стопа подалась. Не на много, на самую малость, но подалась. И вправо пошла.
Не веря своим глазам, Ольга осторожно, не спеша повторила оба движения.
— Видишь?! — воскликнула она. Глаза ее горели, на лбу и на кончике носа блестели капельки пота. — Сейчас влево да вправо, а потом и вверх пойдет. Как миленькая пойдет!
Она еще раз коснулась пальцев, обняла ладонями стопу, легонько тормоша ее и поглаживая.
— Не больно было? — спросила она.
— Ни капельки.
— Ты не обманываешь? Говорят, все моряки — обманщики. У них, говорят, в каждом порту есть женщины, и живут они с ними как обвенчанные. Это правда?
Она смотрела на меня светлыми глазами и ждала ответа, а мне было смешно.
— Это тебе бабушка сказала?
— Может быть, и бабушка. Какая тебе разница?
— А все же?
— А как ты узнал? Давай говори.
Я взял ее руку и поднес к своей щеке. Щеки у меня пылали, а ладонь ее была холодная.
— Очень просто, — ответил я. — По одному слову. Кто из твоих подружек захочет в наше время венчаться? Никто. Стало быть, и разговор про венчание они не заведут. Одна бабушка твоя и остается.
— И правда, — сказала она сокрушенно. — Как же это я? Так ведь и тайну военную выдать можно.
Чистая, бесхитростная, она показалась мне светлой звездочкой на зловещем грозовом небе войны. Может быть, такой вот манящей звездочкой и жив человек, ради нее борется, воюет, идет на смерть.
— Тайну военную ты не выдашь, не бойся, — успокоил я Ольгу.
— Ты отвечай на вопрос, — потребовала она. — Забыл, что ли?
Я не забыл. Как забудешь? Если б знал, что сказать, сразу же, наверное, и ответил бы.
— Видишь ли… Я ведь и моряком-то настоящим был чуть больше года. На корабль пришел перед самой войной. Может быть, и есть такие, о каких ты говоришь… Но я думаю, вранья больше…
Пряча улыбку, она непроизвольно погладила мою стопу, и я понял, что ответ пришелся ей по душе. За дверью в коридоре кто-то громко окликнул Валентину Александровну, Ольга пропустила это мимо ушей. Она смотрела мне в глаза, а пальцы ее пружинисто и нетерпеливо ходили по стопе.
Что еще я мог рассказать ей?
С девушками мне всю жизнь не везло. В школе я целых полгода был влюблен в Клавочку Синицину, худенькую бледную девочку-одноклассницу. Все в ней было заурядное, пожалуй, даже невзрачное. Все, кроме глаз. Черные с глянцевитым отливом, они пронизывали и бросали в дрожь. В то время на клубной сцене я впервые услыхал душещипательную песенку «Очи черные, очи жгучие» и был твердо убежден, что ее сочинили про Клавочкины глаза. А думал так потому, что глаза ее очень мне нравились, но я и боялся их. День ото дня я стал от них худеть и опасался, что они иссушат меня совсем (тетушка моя, у которой я в то время жил, не раз говаривала, что черные глаза не только иссушить могут, но и с ума свести). Тем более что и встретился я с ними в недобрый час, когда поколотил Вовку Авдонина, своего двоюродного брата. Мне и самому было жалко его, а тут откуда ни возьмись эта Клавочка со своими жгучими осуждающими глазами.
Потом она, правда, простила мне эту драку. После того как я ввязался в другую — с Петькой Евстигнеевым, который ни за что ни про что обидел Клаву, оскорбив ее при всем классе. В схватке этой досталось изрядно и мне, домой я пришел с разбитым носом, но, по общему признанию, все-таки вышел победителем. Я был не сильнее Петьки, но мне сочувствовал и болел за меня весь класс, и силы мои от этого удваивались. Случись перевес на Петькиной стороне, ребята за меня наверняка бы вступились.
Эта схватка и родила нашу странную любовь. На другой день все пять уроков я ощущал на себе пристальный взгляд ее черных глаз. Этот взгляд будоражил меня, заставлял думать о чем угодно, только не об уроках, но я стерпел и ни разу на нее не оглянулся. А еще через день я тем только и занят был на уроках, что не сводил с нее глаз.
О чем только с ней не говорили полудетскими, открытыми настежь глазами. Если учительница упоминала в своем рассказе Африку, мы с Клавой немедленно отправлялись в путешествие по Нилу, встречались там с туземцами, по-братски дружили с ними, вместе охотились на крокодилов, строили хижины, ели кокосовые орехи. Уроки истории мы своим воображением дополняли такими подробностями из жизни народных вождей, какие другим ученикам и не снились.
На первых порах над нами, конечно, подсмеивались, даже стихи сочиняли ехидные, обоих нас прозвали «гляделками», но увлечение наше, наши причудливые совместные путешествия, каким-то дивным образом совпадавшие, оказались сильнее насмешек. Нас, наверное, все-таки извели бы, доконали, если бы мы, Клава и я, плохо учились. К всевозможным проделкам одноклассников прибавились бы язвительные улыбочки и остроты учителей, и тогда нам, конечно бы, несдобровать. Но в эти месяцы и Клава и я учились на редкость хорошо: на уроках отвечали спокойно, вразумительно и обстоятельно. А Клавка, эта тихоня Клавка, додумалась до того, что наши переглядывания и почти точно совпадавшие в эти минуты мысли и ощущения громогласно объявила важным психологическим опытом.
Любовь наша кончилась так же неожиданно, как и началась. Промочив по ранней весне ноги, я схватил воспаление легких и пролежал недели три в больнице. Когда же после болезни вернулся в школу, то увидел, что Клавка Синицина, чьи глаза то и дело виделись мне и в больнице, довольно успешно проводит тот же психологический опыт с Петькой Евстигнеевым. Не с кем-нибудь, а с Петькой, с заклятым моим недругом! Я готов был к чему угодно, только не к этому. Меня охватило крайнее негодование, я не мог видеть ни Петьку, ни Клавку и ушел с уроков. Следом за мной ушли мои друзья, за ними потянулись те, кому не хотелось сидеть при ясном солнышке в темном классе, и два последних урока были сорваны. В школе разразился скандал, и главным виновником посчитали меня. Утешало одно: весь класс был на моей стороне. Клавка прибегала ко мне виниться, я не стал даже разговаривать с ней. Хотя и молчал, отвернувшись от нее, она все же успела сказать, что с Петькой Евстигнеевым у нее был совсем другой опыт. Никуда они не путешествовали, ни о чем, по ее словам, не фантазировали. Он, Петька, не смог распознать ни одной ее задумки, ни одного намерения. Они хоть и глядели друг на друга, а все их ощущения, все думы и надежды шли разными волнами и друг друга не достигали. Он не мог догадаться даже о том, что вся эта затея преследовала одну-единственную цель — отомстить ему. Она хотела сама, без чьей-либо помощи расквитаться со своим обидчиком и оскорбителем. Мое появление в классе и демонстративный уход с уроков помешал ее хитро задуманной расплате. Но она обязательно придет, эта расплата. Она настигнет его в минуту, когда он меньше всего будет ее ожидать.
С этими словами Клавка повернулась и ушла. Мой не очень взрослый ум был, наверное, не готов к таким испытаниям. Если и вправду все было так, как она говорила, это бы еще куда ни шло, хотя коварных и хитроумных замыслов я никогда не любил и оправдать их мог лишь при военной надобности, когда на карту поставлена судьба народа и государства. Но я совсем не был уверен, что она говорила правду, и у меня были на то веские причины. Она ни разу не пришла ко мне в больницу, ни разу не справилась о моем здоровье, хотя почти все друзья побывали у меня или же присылали горы бодрых записок, а иногда даже гостинцы. Ладно, думал я, могла и сама прихворнуть или же времени не было (она росла без отца, и жилось ей не сладко). Но когда я выздоровел и пришел в школу, меня все окружили, мне все улыбались, расспрашивали про болезнь, про больницу. Все были мне рады, и я это хорошо чувствовал. Одна Клавка безучастно поздоровалась и торопливо прошла к своей парте. Даже Петька Евстигнеев был приветливее.
На другой день после ее объяснения я пришел в класс, сунул в парту свой портфелишко и мельком глянул на Клавку. Глянул и поразился: те черные очи, которые манили меня и в которые я смотрел, как в бездонные лесные озера, стали вдруг тусклыми, блеклыми. Не озера, а мутные лужицы. И куда только подевался глянцевитый их блеск?
Мне стало жалко Клавку. Я думал о ее глазах все часы, пока был в школе. На последнем уроке перед самым звонком невольно посмотрел на нее еще раз. Потухший взгляд ее, тронутый недетским безразличием, был устремлен в угол классной доски, где кто-то написал знак квадратного корня. Что она хотела извлечь из него, я не знал и знать уже не хотел.
Прозвенел звонок, я сложил в портфель книги, тетрадки и впервые за последние месяцы пошагал домой легко и свободно.
Клавка Синицина надолго отбила у меня охоту заводить дружбу с девочками. С ребятами все было проще. Нынче поссорились, завтра помирились. А не помирился с кем — тоже беда не велика, друзья у меня всегда находились, и друзья хорошие. Да мне и одному никогда не бывало скучно. В мире столько всего интересного, заманчивого — хоть в лесу, хоть в книгах, на реке или в поле, в кино или на стадионе, — успевай только поворачиваться.
В десятом классе в первый же день после летних каникул я обнаружил в себе изрядные перемены, хотя в первую голову преобразились, наверное, наши девчонки, а не я. По привычке мы называли их девочками, и сами они так себя называли, но это уже были девушки. На уроках я только и глазел на них. Они могли так затейливо повести плечами или с такой лукавинкой прищуриться, искусно напустив в глаза таинственного влажного блеска, что я, рослый парень, вроде бы и не простофиля, казался перед ними зеленым юнцом, не постигшим в жизни каких-то важных истин, без чего не может человек считать себя полноценным.
На первых порах мне думалось, что во всем классе один я был такой простак, не умевший разгадать девичью душу, уловить ее тревожную музыку. Оказалось, другие ребята мало чем отличались от меня. Одни, как и я, были застенчивы, и когда их взгляд останавливался на чьей-то девичьей груди, они краснели и тотчас же отводили глаза. Иные прикрывали свою робость ухарством и бравадой. Но симпатией у девчонок пользовались почему-то два отпетых хулигана. Это удивляло и огорчало меня. Ладно бы еще храбрыми были эти оболтусы. Мы как-то припугнули их, и сразу они сникли, на попятную пошли. Где же, думал я, ум у девчонок наших? Разочаровался я в них.
Пожалуй, одна Тонька Лутонина могла, если б захотела, изменить мои взгляды, но она предпочла другого.
А в морском училище, куда я подался после школы, пошла совсем иная, непривычная и поначалу довольно тяжкая жизнь. Месяца два или три никуда нас поодиночке не пускали. Ходили только строем. Мы даже спали на четко выровненных койках строго одинаковой масти. Жизнь в училище проходила так, что о девушках в течение суток можно было вспомнить лишь после отбоя, пока не заснешь, а засыпали мы, намаявшись за день, почти мгновенно. Правда, во сне не возбранялось ни вспоминать их, ни даже обнимать.
Начальник училища говорил нам: чем строже соблюдается умный распорядок, тем больше остается у человека времени и тем свободнее он себя чувствует. Мы не очень ему верили, а когда попривыкли и вошли в новый, размеренный по минутам ритм, то убедились, что он был прав: свободного времени становилось у нас больше и больше, словно по чьему-то высочайшему указу раздвигались и сутки и часы. Мы слушали лекции, проводили опыты, несли вахтенную службу, но мы ходили и в театры, бывали в музеях, на балах и концертах. И не от случая к случаю, а едва ли не каждую неделю.
С девушками в эти годы я встречался часто. Случалось, провожал их, иной раз и дома у них бывал, знакомился с родителями. Это были хорошие девушки, но я никогда особенно не огорчался, если наши встречи отчего-то прекращались.
Война поставила под угрозу всю нашу жизнь. Радость и горе, восторг и страдание, любовь и ненависть — все теперь шло через войну.
Зимой на Невском в грозную минуту воздушной тревоги мелькнула, как сказочное виденье, незнакомая девушка в беличьей шубке. Один ее взгляд, стремительный и трепетно-изумленный, высек в душе у меня искру, ту самую искру, какую ждал все эти годы. Теперь я знал: искра эта передалась мне от нее. Мы повстречались и пошли своими дорогами. Через минуту оба вернулись, но встретиться нам больше не удалось: девушку убило осколком бомбы.
Мой добрый старший друг Пекка Лаукко прислал мне из Ленинграда фотографию другой девушки, похожей будто бы на ту, погибшую. Она была красива, эта девушка Рита, я любовался ярким ее лицом, она писала мне в госпиталь прекрасные письма, но сердце мое не замирало ни от карточки, ни от писем. Будь она здесь, рядом, может быть и…
Я достал фотографию и протянул ее Ольге. Она долго и пытливо разглядывала ее. И так поворачивала, и эдак, вблизи смотрела и издали.
— Красивая, ничего не скажешь. — Ольга вернула мне карточку, я убрал ее в книгу. — Храни хорошенько, — добавила она, прищурившись, и я не понял, всерьез она сказала или в насмешку.
Это побудило меня рассказать Ольге еще об одной девушке.
Когда меня отправляли из Ленинграда, мне твердо сказали, что долечиваться я буду в Кирове, в головном флотском госпитале. То же самое говорили мне и в пути. Ехали мы по-черепашьи, останавливались на всех полустанках и совсем потеряли счет и времени и расстоянию. До Кирова доползли ночью, когда я непробудно спал, и никто меня не разбудил. Сделать это должна была вагонная медсестра Ксана, тихая, небольшого росточка девушка с косичками-хвостиками, а она и сама не подняла меня, и напарнице своей запретила. Проснулся я утром от чьего-то долгого взгляда, когда поезд был далеко за Кировом. Открыв глаза, увидел улыбавшуюся Ксану.
«Вы так хорошо спали после этих жутких бомбежек, я просто не осмелилась тревожить вас, — сказала она. — Извините меня, пожалуйста». Сказала душевно, кротко, виновато, и хотя я в эти минуты был на нее зол — мог бы уже спокойно лежать в чистой и мягкой постели, а не трястись в пыльном вагоне, — обида улетучилась тотчас же.
«Впереди госпитали будут не хуже, — продолжала она, — а может быть, даже лучше. Подальше от фронта — поспокойнее и посытнее».
После Кирова поезд наш останавливался и в других городах, и Ксана всякий раз говорила мне, чтоб я потерпел, потому что дальше, по всем признакам, должно быть лучше. Мне было уже все равно, и я терпел.
Перед расставанием она призналась, что ей всегда нравилось делать мне перевязки, приносить еду, поить меня чаем, смотреть на меня. Оттого и везла до самого тупика. Если бы поезд мог следовать дальше, пусть даже на край света, она и туда готова была меня завезти.
Два письма прислала мне из своей Вологды. На одно я ответил, а на другое так и не собрался.
Вот и все девушки, к коим судьба пыталась протянуть от меня либо от них ко мне тонкие ниточки сердечной связи. То ли ниточки эти были непрочные, то ли мы неосторожно с ними обращались, или же протягивались они не вовремя, но радости особой они мне не принесли, хотя я чувствовал, что каждая ниточка рвалась не бесследно, что в душе моей накапливалось богатство. Я не знал ему цену, но догадывался: богатство это немалое.
Пришел капитан, хмурый, усталый, и сразу же улегся.
— Что-нибудь случилось, Борис Трофимыч? — спросила Ольга.
Он по привычке долго молчал, глядя в окно на верхушки сосен, на сизые грозовые облака, плывшие с запада, потом ответил неторопливо:
— Случится, наверное. Сердце что-то запрыгало.
— Сердце пройдет, — сказала Ольга. — Полежите немножко и пройдет. Не надо вам было подниматься.
Чем-то капитан был удручен, и я дал Ольге знать, что лучше сейчас его не тревожить. Может быть, и вправду не надо было ему уходить. Сморозил кто-нибудь глупость, а он страдает.
Борис закрыл глаза, и мы с Ольгой потихоньку вышли.
— Неужели сболтнул кто? — испуганно прошептала Ольга.
— Не думаю. Находился, наверное, умаялся без привычки. Поспит часик-другой — и порядок будет.
— Да? Ты так полагаешь?
— На себе испытал, — ответил я.
Под кудрявой березой напротив крыльца соорудили недавно скамейку, мы, не сговариваясь, подошли к ней и сели.
— Ты, между прочим, лишку ходишь, — упрекнула меня Ольга. Она, пожалуй, была права, возразить я не мог, а признаваться не хотелось.
— Молчишь? — Она скосила на меня прищуренные глаза, и я заметил в них веселые блестки.
— Молчу.
— А я на твоем месте не молчала бы. — Блестки стали явственнее, озорнее.
— Это отчего же?
— Сколько тебе лет?
— Двадцать три скоро. Старик.
— Ну какой же ты старик? — Она резко повернулась и глянула на меня счастливыми, сияющими глазами.
Из дверей вышел начальник госпиталя, кивнул нам и пошагал в контору. Проводив его взглядом, Ольга пододвинулась ко мне, спросила таинственно:
— Хочешь, я тебе что-то расскажу?
— Хочу, — ответил я.
И она рассказала.
Валентина Александровна не поладила с начальником с первых дней. Кадровый военврач, с юности привыкший к дисциплине, Андриан Иннокентьевич Сошкин рьяно старался распространить воинский устав на всех, кто работал в госпитале, независимо от того, военнослужащие они или вольнонаемные. Валентина Александровна понимала необходимость дисциплины, но не хотела и без смеха не могла в шелковом летнем платье или в белом врачебном халате выстаивать перед ним по стойке «смирно». Никак не могла привыкнуть она и к тому, чтобы называть его по воинскому званию, тем более, что оно было длинное — военврач третьего ранга. Ей было гораздо легче называть Сошкина по имени и отчеству, и она упорно называла его так, хотя всякий раз он морщился и кривился.
Однажды Андриан Иннокентьевич не вытерпел и спросил, почему она так упрямо не желает выполнять его требования. Валентина Александровна ответила чистосердечно, что, едва она опускает руки по швам и выпячивает грудь, ее разбирает неудержимый смех, и она уже не только ничего путного не может сказать, но и слушать-то как следует не в состоянии, потому что все ее усилия направлены на то, чтоб удержаться от смеха. Она просто-напросто глупеет в этой позе. Со временем, может быть, привыкнет, а пока… Ей гораздо легче преодолеть второе препятствие. Она, конечно, может называть его «товарищ военврач третьего ранга». Может без особого труда и без смеха. Но ей этого не хотелось бы. Во-первых, чин его длиннее имени и отчества. Во-вторых, очень уж ей не нравится эта странная добавка — «третьего ранга». Не хватало еще, чтоб именовали военврачом третьего сорта. В-третьих, слишком много в армии военврачей и третьего ранга, и второго, и первого, Андриан же Иннокентьевич, возможно, всего-навсего один. Один на всю армию. А потом, и проще это, и уважительнее. Не к рангу обращаешься, а к человеку.
Против обыкновения, Андриан Иннокентьевич выслушал ее терпеливо, ни разу не поморщился. В конце беседы, тоже против обыкновения, отметил, что Валентина Александровна высказала весьма любопытные мысли и что над ними надо как следует подумать.
У Валентины Александровны отлегло от сердца. Хоть эти мелочи, думала она, не будут теперь мешать. А то ведь просто смешно было. Как он до сих пор не понимал?
Не ахти какая уж радость была у нее, да и та оказалась преждевременной. Андриан Иннокентьевич, поразмыслив несколько дней над этим разговором, решил, что молодая девушка-врач не зря, совсем, наверное, не зря подчеркивала не формальное, не казенное, а чисто человеческое свое отношение к нему. А он, старый глупец, вздумал еще отчитывать ее за это, вместо того чтоб сразу же согласиться с ней и даже поощрить. Оглядев себя со всех сторон в зеркале, он пришел к заключению, что вполне еще может привлечь внимание молодых женщин, особенно здесь, в глуши, где мужчин подходящих днем с огнем не сыщешь — все поголовно ушли на фронт.
Незаметно для посторонних он начал оказывать Валентине Александровне знаки внимания: то платье похвалит, то прическу, то улыбнется совсем не по-начальнически. И за собой стал следить старательно, за своей внешностью. Брюки и гимнастерка всегда теперь были отутюжены, сапоги начищены, подворотничок свежий.
От глаз Валентины Александровны все это, конечно, не ускользнуло. Это и забавляло ее, и не на шутку расстраивало. Как отвергнуть его ухаживания, чтоб и свое достоинство сохранить, и его не обидеть, не восстановить против себя? Он начальник, и от того, как установятся их отношения, многое будет зависеть в ее работе. Больше всего она боялась за своих больных, за то, как бы они не пострадали от ее объяснения с начальником. А что объяснение должно было вот-вот последовать, она ничуть не сомневалась. Она уже и ответ обдумала, а вернее сказать — придумала.
Пополудни в субботу после обхода и перевязок ее пригласили в кабинет к начальнику. Андриан Иннокентьевич вышел из-за стола и, чего никогда с ним не бывало, пододвинул ей стул и пригласил сесть. От него попахивало спиртом и тройным одеколоном. «Сейчас начнется», — подумала она и, к радости своей, отметила, что разговор предстоящий нисколько ее не пугает. Неделей раньше, может быть, и испугал бы, а сейчас, наверное, уже притерпелось.
Не спросив о делах, о прошедшем нелегком дне, он пригласил ее совершить вместе с ним лесную прогулку к Каме, где можно отдохнуть от суетных дел, которых, как известно, никогда не переделаешь.
Она спокойно встала, подошла к нему, положила на плечо руку. Он явно этого не ожидал, чуть-чуть поначалу даже оторопел, потом же, истолковав ее жест по-своему, как-то нечисто заулыбался. Это заставило Валентину Александровну поторопиться с ответом.
— Я признательна вам за приглашение, Андриан Иннокентьевич, польщена им, но принять его не могу. Дело в том… понимаете, у меня есть жених, которого я люблю. Он сейчас на фронте, и обманывать его… это выше моих сил. Не обижайтесь на меня, Андриан Иннокентьевич, ладно?
Он повернул голову и сел прямо, как сидел до этого. Ни с того ни с сего застучал по столу пальцами. Валентина Александровна прошла к своему стулу и раздумывала, сесть или же постоять. Решила не садиться.
— Это совсем другое дело, — ответил Андриан Иннокентьевич, не глядя на нее. — Так надо было сразу и сказать. И разговор короткий.
— Спасибо, Андриан Иннокентьевич.
— Не за что, Валентина Александровна. Это уж вы меня извините.
С тех пор речь у них об этом не заходила, но отпечаток взаимной неловкости и в то же время некоей доверительности остался. Словом, все шло хорошо до тех пор, пока по госпиталю не поползли слухи, что раненый капитан Крутоверов влюбился в Валентину Александровну, а она — в него. Слухи не злые, но и не очень добрые. Капитан о них ничего не знал, а Валентина Александровна знала, слышала-переслышала и старалась сделать все для того, чтоб эти слухи не дошли ни до капитана, ни до Андриана Иннокентьевича. Ей это было важно особенно потому, что предстоял решающий разговор с начальником. Разговор и о Жоре Наседкине, и о самом капитане.
Она обдумала десятки вариантов, и любой из них мог быть разрушен этими злополучными слухами. Заикнись Андриан Иннокентьевич о них хоть одним словом, она должна будет честно признаться в своих чувствах к капитану Крутоверову. Скрывать это от начальника она не могла и не хотела, она выжидала лишь подходящий случай. Сейчас, перед серьезнейшим решением, время для такого признания было самое неподходящее. Она не знала, что делать с тем женихом, которого выдумала, чтоб отделаться от притязаний военврача Сошкина. Если зайдет об этом разговор, придется сказать всю правду, и неизвестно, совсем неизвестно, как еще военврач Сошкин к этому отнесется. Он вправе оскорбиться, и важнейшие ее просьбы и предложения могут быть восприняты им в этот момент не так, как надо. Может быть, даже наоборот.
Но и ждать она больше не могла: Жоре Наседкину требовалась операция. На пути к начальнику госпиталя решила: «Если понадобится, возьму еще один грех на душу — скажу, что жених мой погиб на фронте». Она так обрадовалась этой придумке, что у самой двери в кабинет Андриана Иннокентьевича приостановилась, чтоб погасить непрошеную улыбку. Перед начальником она предстала озабоченной, какой и была на самом деле. Не успев еще дойти до его стола, нервно заговорила:
— Андриан Иннокентьевич, я все-таки осмеливаюсь еще раз просить, чтоб для Наседкина непременно пригласили хирурга. Сами мы не справимся, а везти его в город по нашим ухабам и колдобинам — это и грех великий, и… все равно мы ничего не выгадаем. Они же так распишут его состояние, прежде чем принять к себе, что ответственность все равно падет на нас. Очень прошу вас, Андриан Иннокентьевич. Двадцать лет парню… И жизни-то еще не видел.
Начальник и сам думал о Наседкине. Выслушав Валентину Александровну, он тяжко вздохнул, медленно поднялся со стула и хмуро, устало зашагал по комнате. Валентина Александровна не знала, что делать, и лишь поворачивала вслед за ним голову в надежде, что он взглянет на нее. А он ходил, скрестив на груди руки, и сосредоточенно смотрел себе под ноги. То и дело поскрипывали под его тяжестью рассохшиеся половицы, и ей казалось, что он внимательно вслушивается в этот скрип. Широкая половица возле окна скрипела особенно противно — как сверчок за печкой, — а Андриан Иннокентьевич будто нарочно наваливался на нее всем телом. Помимо ее воли, Валентине Александровне и в этих его тяжелых шагах стал видеться какой-то особый смысл. Как ни странно, именно в эти минуты она и уверовала в Андриана Иннокентьевича, почувствовала, что он сделает все возможное.
А он, Андриан Иннокентьевич, мучительно вспоминал сейчас имя, отчество или фамилию одного старого врача-хирурга, который по нездоровью и по возрасту уже не работал, но жил будто бы по-прежнему возле аптеки в соседнем городке, куда предлагала обратиться с просьбой Валентина Александровна. Престиж госпиталя дело серьезное, думал он, но жизнь человека дороже. Тем более юноши, коему жить да жить.
Так ничего и не вспомнив, он остановился около Валентины Александровны. Осмотрел ее с ног до головы, попросил снять, если можно, халат, чем ввел ее в краску, и снова обратил на нее пристальный взор.
— Берите машину и немедленно поезжайте в город, — сказал он. — Без халата, в этом вот платье. Зайдите в больницу или в амбулаторию и спросите, как зовут седовласого старика хирурга с такой же седой бородкой клинышком. Он живет где-то возле аптеки. Спросите, узнайте адрес и — к нему. Он года два уже не врачует, но изредка, когда попросят… Говорят, не хирург, а виртуоз. Природный талант. В столицах, говорят, редко такого встретишь. Если кто и сможет его уговорить, так это вы. Это я вам точно говорю. Меня вот и в халате уговорила.
— Ну, Андриан Иннокентьевич, спасибо вам большущее. — Последние слова начальника хоть и смутили слегка Валентину Александровну, но и лестны были ей, приятны. — Не знаю уж как и благодарить вас. В таком случае, я сейчас же распоряжусь, чтоб готовили к операции, а сама пулей в город…
— Подождите, — остановил ее Андриан Иннокентьевич. — О подготовке к операции могу распорядиться и я. А вы… Вам не кажется, что подоспела пора ампутировать голень капитану Крутоверову? — Он остановил на ней прямой пытливый взгляд, остановил ровно настолько, чтоб понять все и оценить, и, чтоб не конфузить ее, тотчас же опустил глаза.
— Подоспела, — ответила она. — Я и об этом с вами хотела поговорить.
— Дело, конечно, не сложное, — продолжал Андриан Иннокентьевич, — но вы, сколько я понимаю в медицине, наверное, не возьметесь сделать эту операцию? — Он вновь поднял на нее добрые, с хитроватым прищуром глаза. — Или, может быть, я ошибаюсь?
— Нет, не ошибаетесь, — ответила она. — Я как раз и хотела просить вас, чтоб вы освободили меня от этой миссии. Я не хотела бы даже присутствовать на этой операции, хотя, как лечащий врач…
— Ясно. Все ясно, Валентина Александровна. — Он вновь заходил по комнате, и вновь послышался скрип половиц. Валентине Александровне этот скрип уже не казался противным. Она была даже рада ему, верила, что он поможет Андрину Иннокентьевичу найти выход и с Борисом Крутоверовым. Поворачивая голову вслед за начальником, она с сожалением и со стыдом думала, как же заблуждалась в нем, и корила себя, корила беспощадно.
Андриан Иннокентьевич прошел к своему столу и сел. Постучал по нему пальцами.
— Если выйдет осечка со стариком, — сказал он, подняв голову, — то привезите Александра Павловича Долинина. Операций у него нынче нет, я уже справлялся. Он моложе, выдержит и Наседкина, и Крутоверова. Лучше всего, конечно, если привезете обоих. Тогда Александр Павлович по старой памяти поассистировал бы старику, они, говорят, хорошо сработались и уже давненько дружат. Только б не обидеть Александра Павловича… Подумает, что не надеемся, если старика зовем. Это уж ваша забота. Ясно?
— Ясно, Андриан Иннокентьевич.
— Тогда идите и запрягайте машину, а я тем временем бумагу к ним сочиню. Без бумаги весь ваш разговор может разговором и остаться.
— Бегу, Андриан Иннокентьевич, спасибо, — она побежала, но около двери спохватилась, вернулась обратно и чмокнула его в щеку.
— А это уж совсем ни к чему, — проворчал он вдогонку и потянулся за пером.
Всю дорогу до города, пыльную и тряскую, Валентина Александровна думала о своем начальнике, который, как оказалось, все видел, все понимал и нисколько не меньше, чем она, если не больше, переживал за раненых.
Молодой водитель проклинал лесную дорогу, а в редкие минуты, когда ее можно было все-таки терпеть, пытался, как мог, развлечь красивую докторшу, но ей было не до шуток и не до развлечений. Мысли ее по-прежнему были заняты Андрианом Иннокентьевичем и своими поспешными опрометчивыми суждениями о нем. Она так себя забичевала, что внушила себе твердое убеждение: в людях она пока ничего, к сожалению, не понимает. Надо, видно, и вправду с ними пуд соли съесть, прежде чем судить о них и уж тем более — осуждать их.
В городе Валентину Александровну ждала неудача. В больнице ей любезно сказали, как зовут старого хирурга, сообщили его адрес, но идти туда сейчас не советовали: Нил Афанасьевич Смолин и супруга его Аксинья Михайловна находились в больнице. Нил Афанасьевич, радетель их и любимец, прооперировавший за долгие годы чуть ли не всех жителей города, сам лежал на операционном столе. Не заладилось у него что-то с желчным пузырем, да еще как не заладилось-то — чуть богу душу не отдал, — а он терпел да помалкивал. Верной быть бы беде, когда бы не Аксинья Михайловна. Заметила она за ним неладное и за Александром Павловичем побежала. Тот мигом примчался, высмотрел все, выслушал и давай ругать учителя-то своего на чем свет стоит. И так его пушил, и эдак, аж кулаком по столу стучал. Но все это после того, как за подводой, за кучером больничным послал. Нил-то Афанасьевич слушал его, слушал, да как засмеется, хоть и боль у него была страшенная.
«Неужели, — спрашивает, — я тебя только ругаться и научил?»
«А это уж операция покажет, — отвечал Александр Павлович. — А ты, старый, лежи, молчи и будь добр, слушайся своего ученика. Сейчас я над тобой командир и начальник».
«Что правда, то правда. — Нил Афанасьевич вздохнул и в усы свои белые опять усмехнулся. — По этой твоей реплике если судить, то мно-огому я тебя научил».
«Помолчи, Нил Афанасьевич. Сейчас тебе любое напряжение не благо, а помеха. Сам лучше меня знаешь».
«А вот и неправда твоя, командир-батюшка. Потешаться над собой да над тобой — это для меня вовсе не напряжение. Это, если хочешь знать, самое настоящее отдохновение, а может, и услада. Неужто до сей поры не догадывался?»
«Догадывался, Афанасич, догадывался. Только сейчас, пожалуйста, помолчи».
«Ладно уж. Буду молчать, если велишь».
И вправду потом молчал. И дома ни слова больше не сказал, и всю дорогу молчал. У самой больницы не выдержал. Поманил к себе пальцем Александра-то Павловича и тихо, на ухо молвил ему: «Ты, Сашунь, ежели что, не церемонься с ним, с пузырем-то. Чик его — и в ведерко. Как-нибудь и без желчи обойдемся на старости лет».
«Видно будет, Нил Афанасьевич».
Разговор этот Аксинья Михайловна передала больничным служащим, давним своим приятельницам, а они рассказали Валентине Александровне. Может быть, он уже и по городу гуляет, рассказ этот, — операция шла третий час. Как она шла, никто не знал.
Валентине Александровне полюбились и Нил Афанасьевич Смолин, и Александр Павлович Долинин, хотя она ни разу их не видела, и добрые, приветливые сестры, и нянечки. Ей было хорошо в этой больнице. Она слегка расслабилась и отдыхала здесь. Кроличьим хвостиком мелькнула в голове мысль: а не перебраться ли сюда? Уютнее здесь, тише, покойнее. Ей показалось, что на минуту она даже задремала, сидя в старинном глубоком кресле. А едва очнувшись, представила своих раненых, которых должна, обязана избавить от мучений и, как говорят, поставить на ноги, и покой ее кончился.
Она услышала мелодичный бой часов, донесшийся откуда-то из коридора, сверила по ним свои часики, подаренные покойным отцом, и отметила про себя, что операция идет уже почти четыре часа. И сразу же подумала, что там, в своем госпитале, ее ждут, нервничают, надеются и не знают, что делать и что думать. Надо бы сообщить им, как-то предупредить. Она высказала свою тревогу старшей сестре, высокой молодящейся женщине. Та, не затрудняя себя раздумьями, взяла Валентину Александровну под руку и провела в кабинет главного врача, к телефону.
«Позвоните своему военврачу и скажите, что Александр Павлович Долинин вряд ли сегодня сможет приехать. Сами знаете почему. А завтра у него три операции: две в госпитале, одна здесь. Так что к вам он сможет выбраться, наверное, только послезавтра. Передайте ему привет от Анны Дмитриевны».
Бойкая Анна Дмитриевна вышла, прикрыла за собой дверь, Валентина Александровна осталась одна. Дозвонившись с трудом до Андриана Иннокентьевича, она почему-то разговор свой начала с привета от Анны Дмитриевны.
«Вы дело, дело говорите, — недовольно сказал начальник. — Когда будут хирурги? Что случилось?»
Валентина Александровна все ему объяснила и спросила, что ей делать.
«Дождитесь конца операции и договоритесь лично обо всем с Александром Павловичем. Лично и точно. На Нила Афанасьевича рассчитывать теперь нечего. Хоть жив бы остался».
С Долининым, закончившим операцию на пятом часу, разговор был короткий. Александр Павлович, опасаясь за жизнь Нила Афанасьевича, решил остаться здесь, в больнице. И ночевать будет здесь. Как и предполагала Анна Дмитриевна, операции Жоре Наседкину и капитану Крутоверову наметили на послезавтра.
Это было вчера, а сегодня Ольга Костина каким-то образом узнала все и все мне под строгим секретом рассказала. Очень просила никому не говорить, даже Крутоверову, и я дал ей твердое обещание. Зато как и от кого она все это выведала, Ольга говорить не хотела и умоляла меня не спрашивать, потому что тайна была не ее.
— Когда же она успела тебе рассказать-то? — спросил я.
— Кто?
— Как кто? Валентина Александровна!
Ольга подняла на меня испуганные и удивленные глаза, и я невольно рассмеялся и поспешил заверить ее, что никакой тайны она не выдала, просто я сам догадался. Я видел Валентину Александровну вчера вечером, когда она только что вернулась из города. Она шла в палату к Жоре Наседкину и выглядела обеспокоенно и утомленно.
— Кто же еще, кроме нее, мог рассказать тебе про вчерашние городские новости? Не Нил же Афанасьевич прискакал, чтоб бедой своей поделиться. И не Долинин Александр Павлович, он только завтра приедет.
— Это просто никуда не годится, — сокрушалась Ольга. — Я еще сказать не успею, а ты уже все знаешь. Так мне и доверить-то ничего нельзя.
— Наоборот, это очень хорошо, — уверял я ее. — У меня друг один был на финской войне, он тоже, вроде тебя, горевал, что у него все мысли на виду. А мысли у него были чистые, хорошие. Чего же их скрывать-то? На мое разуменье, это самое большое счастье, когда тебе нечего перед людьми утаивать, нечего стыдиться.
Ольга вроде бы и согласилась со мной, но огорчение ее долго не проходило.
— Хватит тебе хмуриться-то, — сказал я, — а то морщины раньше срока прорежутся.
— Если много смеяться, морщины тоже нагрянут. Бабушка не раз говорила мне об этом.
— Тебе еще далеко до морщин. Ты юная совсем.
— Не такая уж и юная. Я иной раз знаешь какой взрослой себя чувствую… Сама удивляюсь. Будто мне тридцать лет.
— А тридцать — разве много?
— Три-идцать?! — удивилась она. — Тридцать — это уже мама.
— Мамой и в твои годы можно стать. Моей матери семнадцати не было, когда я на свет божий появился.
— Пра-авда?
Я засмеялся и сказал, что Борису Крутоверову скоро тридцать.
— Мужчины — это другое дело…
Мне было хорошо с Ольгой. Она и впрямь была то наивной девочкой, то умудренной женщиной, постигшей такие вещи, которые мне и во сне не снились.
— А когда же все-таки Валентина Александровна успела рассказать тебе? — спросил я, не унимаясь. — Она же только вечером вернулась.
— Все-то ты знать хочешь, будто Варвара любопытная… Возьму вот да не скажу.
— Ну и не говори. Подумаешь…
Но Ольге уже трудно было утерпеть, ей и самой хотелось выговориться.
— Вчера же и рассказала, вечером. Мы же с ней как подруги, она и живет у нас с бабушкой.
Вспомнив о бабушке, Ольга заторопилась домой и попросила меня проводить ее до ворот.
— Может быть, до самого дома?
— Нет, нет. Это запрещено. И ноге твоей лишняя нагрузка ни к чему. Потом, потом. А ногой завтра займемся всерьез.
— Мне уже лучше, — сказал я.
— Не притворяйся.
— Я серьезно тебе говорю.
— Да ну тебя… Знаешь, о чем я подумала?
— О чем?
— Ой, стыдно даже говорить… — Она закрыла лицо руками. — Я хочу, чтоб ты в своей морской форме меня проводил.
— Могу и в форме, хоть сейчас. Мне ее уже выдавали, когда в клубе надо было выступать.
— В белой руба-ашке с синим воротником, в бескозы-ырке с ленточками. Девчонки от зависти лопнут. — Ольга засмеялась и сразу же осеклась. — Но не сейча-ас, а когда нога будет гнуться, как лозинка, — съязвила она.
— Должен огорчить тебя, — сказал я. — Бескозырку и форменку с синим воротником я носил, когда был курсантом. А сейчас у меня обыкновенный китель и обыкновенная форменная фуражка с крабом и с козырком.
— Да-а? — изумилась она. — А на моряка-то ты хоть будешь похож?
— Наверное, буду. Китель-то все-таки синий, а брюки черные…
— Ты мне завтра покажи свой китель, ладно? И фуражку покажи.
У госпитальных ворот она помахала мне рукой и побежала. Я стоял и долго смотрел ей вслед.
Когда вернулся в палату, Борис лежал на койке и, как это бывало с ним раньше, недвижно смотрел в окно. Я не мог сказать, заметил ли он мой приход — думаю, все-таки заметил, — но я знал точно: это была не лучшая его позиция, и хорошего она ничего не предвещала.
Я почувствовал усталость и тоже прилег. Сами собой закрылись глаза, и мне вдруг представились старые русские врачи Нил Афанасьевич Смолин и Александр Павлович Долинин. Они могли подтрунивать над собой и друг над другом, могли под горячую руку ругнуться — вроде бы и грубовато, а на самом деле по-доброму, от души, — могли перекинуться в картишки, но в любую непогоду, в любой час дня и ночи, в любую даль они идут или едут, бегут или от собственного бессилья еле тащатся к хворому человеку, кто бы он ни был, чтоб вывести у него эту хворь и чтоб вновь сделать его похожим на человека. Не воины мы будем, достойные отцов своих и дедов, а людишки ничтожные, если не сможем уберечь таких людей, как Нил Афанасьевич и Александр Павлович. Я в глаза не видел Нила Афанасьевича да и слышал-то о нем из третьих уст, а уже полон был к нему устойчивого, прочного доверия. Дай бог ему выжить, поздороветь, чтоб смог он хоть недолго, но послужить еще своим горожанам. Он ведь, поди, такую только жизнь и полагает за жизнь.
Нила Афанасьевича я представил без труда — у него были седые волосы и седая бородка клином, — а вот Александр Павлович виделся мне смутно, может быть, даже не таким, каким был на самом деле. Он казался мне сухопарым, педантичным, в пенсне. Мог, подражая своему учителю, и ругнуться, и анекдот рассказать, но ни то, ни другое у него не получалось. Всю жизнь — на вторых ролях. В молодости это не чувствуется, даже хорошо, удобно — ответственности меньше, а когда зрелость приходит, наверное, тяжко. Впрочем, гадать осталось недолго, завтра увидим.
— Ты к Георгию не заходил? — спросил капитан. — Говорят, завтра операцию ему будут делать. Это правда? Ты у нас все знаешь, тебе бы в разведке служить.
Я лежал с закрытыми глазами, но ясно представлял, как он скосил на меня тяжелый свой взгляд. Можно было бы отплатить ему тоже шпилькой, но завтра и ему предстояла операция, и я решил отложить ответные стрелы до следующего случая.
— Правда, — сказал я. — Говорят, вчера еще должна была быть, да с хирургом что-то случилось.
— То-то вчера сплошная беготня была. Ко мне, к примеру, и сестры наведывались, и начальник госпиталя заходил. Ты в это время где-то разведданные добывал.
— Я смог добыть их только сейчас. А что тебе начальство говорило, ежели не секрет?
— Разное говорили… — нехотя ответил капитан. — Говорили, к примеру, что и мне пора бы как следует ампутацию сделать, чтоб скорее срослось все и можно было протез заказать.
— А что ты ответил?
— Сказал, что должен посоветоваться с лечащим врачом. А врач лечащий отчего-то старательно меня избегает. Я нынче пять раз слышал в коридоре ее шаги… Приближались и удалялись. Ни разу к нам не зашла. Разведданных на этот счет никаких нет?
Я догадывался, отчего Валентина Александровна обходила стороной нашу палату, но говорить не стал. Они могли быть неточны, мои догадки, а кроме того, она должна сказать ему обо всем сама, только сама.
— Пойдем сходим к Георгию, — промолвил он. — Хочу посмотреть на него перед операцией. Дело не шуточное.
— Сходим, — ответил я. — Давай только повременим чуть-чуть, ногу я натрудил. Ноет. Пусть малость отдохнет.
Нога у меня и вправду ныла, но на второй-то этаж я, конечно, мог подняться и ничего со мной не случилось бы. У Жоры Наседкина, я знал, сидела сейчас Валентина Александровна. Капитан если и не ведал этого, то, наверное, чувствовал. Может быть, потому и позвал меня. Но хотела ли сейчас встречи с ним Валентина Александровна? Если б хотела, сама зашла бы. Есть, стало быть, у нее причина избегать его.
— Пойду один, — сказал он и тяжело сел на койку.
— Одного я тебя не пущу. — Я тоже поднялся. Знал, что отговорить его сейчас невозможно. Пусть будет что будет.
Собрались, потихоньку пошли. Я нарочно медлил, надеясь, что Валентина Александровна уйдет от Наседкина, а капитан торопил, подгонял меня.
На второй этаж поднялись мы с трудом. Борису такие подъемы были пока и в новинку и не под силу, хотя от ступеньки к ступеньке дела шли лучше, равновесие постепенно обретало привычное состояние. Под конец он расхрабрился, решил обойтись без моей помощи и едва не загремел вниз. Как только ступили мы на второй этаж, торопиться капитан перестал. Медленно, спокойно подошли к палате Жоры Наседкина, открыли дверь и Валентину Александровну там не обнаружили.
Увидев нас, Жора заворочался на своей широкой койке, но капитан жестом руки остановил его. Мы присели.
— Спасибо вам, что навестить решили, — сказал Жора, почему-то пряча глаза. — Товарищ лейтенант бывал у меня, а вы, товарищ капитан, первый раз. Я к тому, что вам очень это тяжело.
Он говорил и вроде бы смотрел на нас — то на Бориса, то на меня, а взгляда его я никак уловить не мог.
— А от меня только что Валентина Александровна ушла. Долго сидела, успокаивала. Хирург, говорит, опытный, самый лучший в городе. А меня что успокаивать-то? Я и так не боюсь. Чему быть — того не миновать. — Губы его дрогнули.
— Опять ты за старое, Георгий, — мягко сказал капитан. — Поплакать иногда, может быть, и не мешает, чтобы тяжесть лишнюю снять с души. Иной раз даже на пользу идет. Но тебе-то, тебе-то сейчас другое нужно… Совсем другое, пойми ты! Вера тебе нужна, вера! В жизнь! В любовь! В победу!
Капитан говорил вроде бы тихо, а получалось у него твердо, и слова его действовали. Я чувствовал это по себе. Так и просачивались независимо от твоей воли куда-то вглубь, так и оседали там. Я видел: эта его твердость нужна была и Жоре Наседкину, и не меньше она нужна сейчас самому Борису. Может, оттого и звучали его слова так весомо.
Как встряхнуть этого парня, как вернуть ему интерес к жизни, чтоб не помехой он был хирургу, а доброй подмогой?
— Ты девушку любил когда-нибудь? — тихо спросил Борис. — Может быть, в школе, может быть, там, на фронте. Нравилась тебе хоть одна?
Жора долго молчал. Он то хмурился, то на лице его появлялась вдруг загадочно-скорбная ухмылка, будто он знал что-то важное и раздумывал только о том, сказать нам об этом или промолчать. Это вызвало у меня любопытство, и когда он остановил на мне прищуренные глаза, я решительно подтолкнул его к разговору. Он горько мне улыбнулся и перевел взгляд на Крутоверова.
— А отчего это вы, товарищ капитан, все в прошлом времени спрашиваете? Любил ли я? Нравился ли мне кто? А может, мне и сейчас нравится. Может, и сейчас я влюблен…
Не обратив внимания на лихорадочный взгляд Наседкина, капитан выпалил довольно и обрадованно:
— Вот и скажи, чудак-человек! Это же великое чувство — любовь! Любовь побеждает смерть! Знаешь, кто это сказал? То-то и оно. Возьми себя в руки. Немедленно возьми себя в руки! Во имя этой девушки. Во имя любви. Слышишь? Ты просто не имеешь права оставлять ее одну. Это трусость. Это все равно, что в плен сдаться. Добровольно. Она не простит тебе эту трусость. И никто не простит, слышишь? Говори, говори сейчас же!
Горькая усмешка скользнула по лицу Жоры.
— А что говорить-то, товарищ капитан?
— Как это что? Про девушку говори, про любовь свою говори!
— Про девушку, про любовь… — медленно повторил Жора. — А зачем это вам? Вот вам, товарищ капитан, лично вам зачем это?
На минуту капитан оторопел и растерянно смотрел то на меня, то на Жору.
— Как это зачем? Я хочу помочь тебе. Хочу, чтоб ты выжил. Чтоб жизнью загорелся. Это поможет и хирургу. Вот и лейтенант вместе со мной за тем же пришел. — Он кивнул в мою сторону, вслед за ним Жора тоже повернул ко мне голову.
— И вы хотите, товарищ лейтенант, чтобы я про любовь свою рассказал? — спросил он просто, ровным спокойным голосом.
— Хочу, — ответил я.
— И вы уверены, что это поможет мне? И даже хирургу?
— Может статься и так, — ответил я, сжав зубы. Кое-что я уже стал понимать.
— Хорошо, — кротко ответил Жора, поудобнее устраиваясь на кровати. — Может, и вправду кому-нибудь поможет.
Он наконец нашел себе подходящее положение и начал свою исповедь медленно, но свободно и твердо.
— Любовь моя и далеко от меня, и совсем близко. Она светла и прозрачна, умна и красива. Доброта ее и сердечность не знают пределов. Ее волосы, хоть и видел я их лишь однажды, ослепляют, словно солнце. Глаза ее чисты и бездонны, как озера Светлояр на моей родине. Имя ее звучит как симфония. Она мой бог, идеал мой, и умереть за нее мне совсем не страшно.
Оба мы, и капитан и я, были изумлены. И высокими словами, так просто и естественно слетевшими с уст Жоры, и той, кто вызвала, породила их, облекла в такие одежды и кто, может быть, не меньше хирурга обладал сейчас властью над этим солдатом.
А он, Жора Наседкин, смолк и смотрел на нас скорбно, почти безучастно.
— Послушай, Жора, — сказал я, взяв его за руку, — а ей, ей говорил ты эти слова? Или не осмелился?
— Говорил.
— Давно?
— Только что.
— И что она ответила?
— Сказала, что я должен жить. Обязательно должен жить. Жить и бороться…
— Тогда какого же черта ты распустил нюни?! — рявкнул на него капитан, да так громко, что Жора вздрогнул.
— Она вас любит, товарищ капитан, — ответил он упавшим голосом.
— Откуда ты знаешь? Она говорила тебе?
— Нет. Но все говорят, и сам я вижу.
— Ни черта ты не видишь из своей палаты, а говорить могут всякое. Дело не в этом. Тебе просто легче так. — Капитан наклонился к нему. — Трусишь?
— Без толку, товарищ капитан.
— А ты пробовал? Ты попробуй сперва.
Капитан кричал не от досады и не от возмущения. Он потерял выдержку от смятения. От полного смятения. Мне казалось, он еще не понял, не осознал как следует всего, что здесь произошло.
— Некогда уж и пробовать, товарищ капитан. Завтра операция.
Капитан резко встал, стукнув костылями, и, не сказав больше ни слова, пошел к двери. Я тоже встал. Не знал я еще его намерений, но отпустить одного не мог. Пообещав Жоре, что скоро к нему зайду, я пошел следом за Борисом. Хоть и на костылях, а по ровному полу он шагал быстро, я за ним не успевал. Дойдя до лестницы, он остановился и подождал меня.
— Где она может сейчас быть? — спросил он.
— Провожу тебя в палату и разыщу, — ответил я. — Пошли, не задерживай меня. Скоро уже вечер.
Спускаться с лестницы на костылях было не легче, чем подниматься, но Крутоверов терпел. В палате он сразу же повалился на койку.
— Отдохни и ты, — предложил он.
Отдыхать я не стал, нельзя было упустить Валентину Александровну. Выйдя во двор, я присел на лавочку под косматой березой. Над лесом, над самыми верхушками деревьев висело багряное солнце. Скоро оно окунется в зеленую листву с желтыми пятнышками, и через час-полтора на нас опустится темень и прохлада.
Едва я успокоился, как мне с непреложной очевидностью стало ясно: ждать Валентину Александровну незачем, идти к ней — тем более.
И все-таки я пошел. Я знал, где она бывала, когда хотела уединиться, и прямым ходом двинулся к старшей сестре. Дверь была заперта, я трижды тихонько стукнул, и мне открыли.
— Вы-ы? — удивленно спросила Валентина Александровна. — Впрочем, этого можно было ожидать. Садитесь, Федор Васильич. Что скажете?
Я присел и молча на нее уставился. Она была в халате, без шапочки, светлые волосы взъерошены, лицо чуть припухло. «Наверное, плакала, — подумал я. — Женщины на это горазды».
Молчала и она. Все правильно. Что она могла сказать мне? Оперевшись на палку, я стал подниматься, но она в тот же миг подбежала и усадила меня на место.
— Извините, Федор Васильич. Я… просто, я сейчас не в своей тарелке. Это пройдет. Посидите.
Она подошла к стеклянному шкафу, потерла виски, лоб, причесалась и повернулась ко мне улыбающаяся. Передо мной была прежняя Валентина Александровна, спокойная, приветливая, всегда готовая прийти на помощь.
— Я надеюсь, вы не откажете мне в компании, когда я буду говорить с Крутоверовым?
— Нет, Валентина Александровна. Вы поговорите с ним без меня. Он, думаю, хочет видеть вас одну.
Она села, облокотилась на стол, задумалась.
— И к Жоре Наседкину вам лучше сходить одной.
— Я недавно была у него, — сказала она.
— Но после вас были мы, Крутоверов и я, и Жора признался нам… Он такие о вас святые слова говорил… У меня, знаете ли, дыхание перехватило… Если сейчас кто-либо может склонить его к жизни, то только вы. Только вы, Валентина Александровна. Попробуйте.
— Бог ты мой! — воскликнула она и закрыла лицо руками. Она долго сидела так, облокотившись на стол и заслонив лицо. Мне было больно смотреть на нее. Я поднял голову, и взгляд мой невольно остановился на двух сросшихся елях, под которыми мы совсем недавно сидели на скамейке — она, Борис и я — и говорили о нем, о Жоре Наседкине.
— А если я обманулась? — Она отняла от лица руки и подалась ко мне. — Если я за любовь приняла… Вы понимаете? Когда этот синеглазый юноша начал говорить мне о своем чувстве, я жила им, все во мне замирало… Потом он читал Блока… В эти минуты я забыла даже, что есть на свете капитан Крутоверов. Понимаете? Я ведь ничего еще не знаю, я ни разу не любила. Вдруг это ошибка? Ведь это ж на всю жизнь…
Теперь оторопь взяла меня. Я видел, как рождалось чувство Валентины Александровны и Бориса, оно казалось мне большим, единственным, и вдруг… И ничем я не мог помочь ей, я тоже ничего не знал. Мне подумалось, даже Ольга помогла бы ей сейчас больше, чем я.
— Если хотите, я пойду с вами и к тому и к другому.
Она с минуту поколебалась, тряхнула слегка головой и сказала, что должна справиться сама. Еще раз причесалась, глянула на себя в стеклянный шкаф и надела белую шапочку.
— Перед тем как войти к Жоре, снимите ее, пожалуйста. — Я кивнул на шапочку.
Она остановила на мне пристальный взгляд и попросила подождать ее здесь.
— Может быть, на улице?
— Пожалуйста, здесь, если можно. — Она грустно улыбнулась. — Здесь мои слезы и тайны.
Я остался ждать. Оглядел комнату, глаз ни на чем не задержался, и я подвинул стул к окну. Внимание мое вновь привлекли две сросшиеся высоченные ели. Им было лет по сто, не меньше, и воедино срослись они, судя по стволу, давно, назад тому эдак лет семьдесят. Немалый срок живут они одним деревом. Может, оттого и живут так долго, что срослись удачно, подошли друг другу? Дед мой покойный говорил как-то соседу — давно это было, я еще только в школу пошел, — что в жизни самое главное — это найти себе по душе и по сердцу верного человека. Хоть в семье, хоть в любом деле. Слова его тогда в одно ухо влетели, в другое — вылетели, а сейчас вспомнились и, возможно, не зря. Валентина Александровна, может быть, в самое время и спохватилась. Хороший человек Борис Крутоверов, по всем статьям хороший, а вдруг он не для нее? Вдруг и она не для него? А про Жору Наседкина и говорить нечего. Жалко его, а что поделаешь? Добрый, тихий, мечтательный. Из таких, наверное, поэты выходят либо художники. Их любят все, а живется им всегда почему-то мучительно. Ему бы сейчас выкарабкаться, любовь он найдет.
В коридоре послышались легкие шаги, мне показалось, что это шла Валентина Александровна. Шаги вскоре растаяли, а мысли о ней не покидали меня. Вдруг ее суженый где-то сейчас за тридевять земель, только ни он, ни она этого еще не знают? Тыкаются, как слепые котята, — к одному, к другому, — а того не ведают, что их ждут не дождутся. Каждого кто-то ждет. В училищах у нас да в институтах обучают и анатомии, и механике с астрономией, и навигации, а вот как человека себе по душе найти и не ошибиться в нем, и чтоб всю жизнь прожить с ним в любви да в согласии — ни в одной школе не учат.
Может быть, этого и не знает еще никто? Может, ни профессоров, ни доцентов и нет еще по этой части?
Я так размечтался, что и не услышал, как в комнату вошла Валентина Александровна.
— Долго я? — спросила она с ходу и сама с ходу же ответила: — Как-никак двое их.
Ни сами слова, ни тон, каким они были сказаны, не вызвали у меня особого беспокойства. Мне показалось даже, что она довольна своим походом.
— Рассказать? — Она присела рядом и сняла белую докторскую шапочку.
— Если сочтете нужным, Валентина Александровна, — ответил я. Это был не лучший ответ, но она, я видел, сама уже настроилась рассказать о них. — Могу уверить вас, что ни одна душа…
— Я верю вам. Я почему-то сразу стала вам верить…
— Что вы сказали Жоре? — спросил я.
— То же самое… Может быть, потеплее и поласковее. Он взял мою руку, припал к ней губами и долго не отпускал ее. Я сделала все, что вы хотели.
— А вы разве не хотели?
Она пропустила мой вопрос мимо ушей и заговорила о Борисе. Капитан просил, чтоб ампутацию ему сделала она, Валентина Александровна.
— Вы согласились?
— Я не сказала ему ни «да», ни «нет». Обстоятельства покажут. Первым будут оперировать Наседкина.
— Конечно, — промолвил я и подумал, что она, пожалуй, ответила уже капитану.
— Кому вы сочувствуете? — спросила она устало. — Наседкину или Крутоверову?
— Вам. Их жизнь сейчас от вас уже не зависит. Судьба — другое дело. Но у судьбы столько превратностей… Пока вы с ними разговаривали, меня не покидала мысль о том, что где-то в другом месте другой человек вот так же, как вы…
— Кто вы? — Она перебила меня так неожиданно, что вопрос ее дошел до моего сознания не сразу. В самом деле, кто я? Какое мне дело до них? Взрослые люди, разберутся сами.
— Где-то я читал… есть такое выражение — влюбленный друг.
Это не огорчило ее и не обрадовало. Она, видно, так намучилась в эти дни, так настрадалась, что чувства ее невольно притупились. Оно и понятно, кому ни довелись…
— Спасибо, Федор Васильич. Влюбленный друг — ве-ерный друг. — Она вздохнула и неожиданно склонила на плечо мне голову.
— Можете всегда на меня рассчитывать.
— Спасибо. Как ваша нога? Вы не проводите меня до ворот?
— Буду только рад. Одну даму я уже проводил.
— Ольгу? — Она улыбнулась. — Чу-удо-девушка!
Пока мы спускались по лестнице, шли по коридору, а потом по дороге к воротам, она на все лады расхваливала Ольгу.
— Бог отпустил ей столько достоинств, сколько, наверное, у дюжины девушек не сыщешь. Прекрасное лицо, глаза, как лесные озера, дивный гортанный голое, чиста и наивна, как ребенок, умница, на все руки мастерица. Кто свяжет с ней свою судьбу — счастлив будет всю жизнь.
У ворот Валентина Александровна остановилась:
— Скажу вам откровенно: это я к вам ее подослала. Может быть, я тоже влюбленный друг, — добавила она тихо.
Проснулись мы с Борисом рано, и оба лежали молча. Лучше молчания мы сейчас ничего, пожалуй, и не придумали бы. День предстоял тяжкий, рисковый, а в часы ожидания верные слова приходят редко. Нас могла бы всколыхнуть добрая весть с фронта. Отвоюй наши войска у фашистской нечисти хоть один город, пусть даже небольшой, и все у нас пошло бы по-другому. И слова нашлись бы нужные, и улыбки зацвели.
Мне не зря пришла эта мысль в голову: время приближалось к утренним известиям. Я проверил наушники, посмотрел, плотно ли сидит штепсель в розетке. Движения мои не ускользнули от Бориса, хотя он и лежал с закрытыми глазами. Он тоже ждал, ему хорошая весть нужна была не меньше, чем мне.
Ждали мы успеха, а дождались очередной боли: наши войска оставили Моздок. Оперные арии после таких известий были уже не арии, завтрак — не завтрак. Наушники я отключил, к котлете едва притронулся. Борис, к моему удивлению, съел все, что ему принесли, и меня заставил придвинуть тарелку и подчистить ее, как только что сделал сам.
— Плохо будем есть, — сказал он строго, — до зимы залежимся тут. А кому это на руку?
Завтрак мы съели, но бодрости у нас не прибавилось. Не глядя друг на друга, снова улеглись на койки и молча уставились в потолок. За этим занятием и застала нас Ольга.
— Покойника в палате нет и не предвидится, — сказала она, окинув нас пытливым взглядом, — а вид у боевых офицеров — что у одного, что у другого — прямо-таки похоронный.
— В палате покойников нет, — сказал я, — а под Моздоком их, наверное, сотни, если не больше.
— Наверное, — тихо согласилась Ольга. — Я сейчас была наверху, в двадцатой палате… Семь человек там. Услышали они, загоревали. Один ухарь возьми да и скажи: «В Моздок я больше не ездок». Может быть, развеселить хотел, не знаю. Ка-ак они накинулись на него, кто-то даже костылем запустил. Едва утихомирила их.
— Да-а, — вымолвил капитан. — Хоть бы с утра-то не передавали таких известий…
— Это кому как, Борис Трофимыч, — возразила Ольга. — Мне, к примеру, лучше с утра. В работе легче переносится.
— Тоже верно, — согласился Борис. — И работается, поди, злее. Я сейчас гору бы своротил…
— Правильно! — поддержала его Ольга. — То же самое я двадцатой палате говорила. Это что же будет, если на всех похоронный стих найдет? — Она скосила глаза на меня. — Эдак всякое может случиться, даже самое страшное.
— Не случится, — сказал я. — Нам бы дело в руки, да поскорее. А то ведь и голову отлежим — не только бока.
Я спросил Ольгу, хороший ли хирург Александр Павлович Долинин, который должен сегодня приехать.
— Конечно! — ответила она без колебания. — Столько лет проработать с Нилом Афанасьичем… Не хочешь, да научишься.
Твердый ее ответ нужен был и мне — тревога за судьбу Жоры Наседкина росла с каждым часом, — но еще больше надобности в таком ответе было у Бориса.
— А Нил Афанасьич? — подзадорил я Ольгу.
— Что Нил Афанасьич?
— Стоящий хирург?
— Сто-о-ящий! — воскликнула она возмущенно. — Да вы знаете, как его вся наша округа зовет? Нил-чудотворец. Зря звать не станут. Бабушка моя совсем уж умирать собралась, наказ мне последний отдала, а как в больницу к нему угодила, так через месяц вернулась здоровой. И по сию пору бегает как молодая. Сто-оящий! — повторила она обиженно.
Борис хоть и смотрел в окно, делая вид, что разговор наш о хирурге его не касается, на самом же деле ловил каждое слово. Пусть теперь подумает да поразмышляет. Может быть, помудрее что-либо придет в голову, чем ставить в тупик Валентину Александровну. Впрочем, он, возможно, и неспроста упрашивал, хотел, может быть, в чувствах ее разобраться.
— Ты уж не обижайся, — сказал я Ольге. — Я же не знал. Это ты все знаешь, ты здешняя.
— Зде-ешняя! — Ольга никак не могла унять свой пыл. — Если хотите знать, обе операции пройдут как нельзя лучше. — Она взглянула на капитана и добавила тихо: — Бабушка и я видели нынче сон, совсем одинаковый. Это значит — быть двойному добру.
— Вот теперь и я уверовал.
— Не смейся, так оно и будет.
— Я не смеюсь. Душа моя теперь спокойна, могу идти на массаж.
— Пошли, пока тихо, — сказала она. — Потом, будут сплошные хлопоты и беготня.
В коридорах и в процедурной было и в самом деле тихо, слишком, пожалуй, тихо для утреннего рабочего часа. Операция начнется не скоро, часа через два-три, а сестры и нянечки говорили уже вполголоса, по полу ступали бесшумно. Это и неудивительно: в небольшом тыловом госпитале не часто бывали операции, от которых зависела жизнь человека.
Ольга провела меня в дальний угол, усадила на топчан и принесла тазик с теплой водой. Пока нога моя распаривалась, Ольга шепотом рассказала мне о тревожной ночи в их доме. И все из-за Валентины. Пришла вчера хмурая, усталая, никогда такой не приходила. Выпила кружку молока — и сразу в постель. Улеглась, глаза закрыла. Она, Ольга, с бабушкой тоже ко сну засобирались, хотя на дворе еще и не стемнело как следует. Лежит каждая по себе, думает свою думу, и не спит никто. Бывало, как только стемнеет, Валентина нырь к ней под одеяло, и пошли у них девичьи разговоры чуть ли не до рассвета. О чем только не нашепчутся. А тут всю ночь не спала, хоть и лежала с закрытыми глазами. И бабушка из-за нее не спала. Уже рассветало, солнышко взошло, тогда только и задремали немножко. День такой трудный, а они не выспались. Она-то ничего, вытерпит, у нее и дел не так много, а вот Валентине придется туго. Две операции — не шутка, нервы могут сдать. Сейчас она на обходе, это еще куда ни шло, а когда дело дойдет до операции…
Слушая Ольгу, я легко представил себе ладный их дом у самой реки, срубленный из смолистых сосновых бревен, и три добрых женских существа, обитающих в нем… Валентине Александровне, конечно, повезло. Разве не радость — прийти после тяжких докторских забот домой, а дома — родственные души? Будто у себя в Рязани. Зря она, пожалуй, не поведала им вчера о своих сердечных терзаниях. Ночь они все равно не спали, мучились, и от неведенья было только хуже. Расскажи она им о своей тревоге, о перепутье сердечном, может быть, за какой-нибудь час и ее успокоили бы и сами перестали терзаться.
Ольга принялась за стопу. Вытерла ее, смазала, потрогала ладонями и, чуть повременив, пустила в ход упругие пальцы. Волшебные токи таились в ее пальцах. Они будоражили во мне все живое и возвращали к жизни искалеченное, угасшее. Временами у меня закатывалось сердце и горячая пробегала дрожь от стопы до самого темечка.
Закончив массаж, Ольга вытерла капельки пота, немного отдохнула и взялась, как она сказала, за главное дело. Поворочала стопу в стороны, опустила вниз, потом мягко, бережно, дуя на нее, как на горячий чай, подала вверх. Сперва чуть-чуть, слегка, потом побольше.
— Больно? — спросила она.
— Нисколько.
Разогнув стопу до предела, она вновь стала сгибать ее.
— Выше, выше давай, — подгонял я Ольгу.
Медленно, осторожно увеличивала она угол сгиба.
— Терпишь?
— Выше давай, мне совсем не больно.
До сих пор она сгибала стопу плавно, а сейчас попыталась подать ее вверх легкими толчками. Один толчок, другой…
— Ты правду-то когда-нибудь скажешь? — Она подняла на меня усталые, покрасневшие глаза.
— А как быть, если в самом деле не больно? Придумывать?
Ольга откинулась назад, сжала стопу в ладонях.
— А я что говорила? — Глаза ее заблестели. — Помнишь? Как миленькая будет гнуться. Это только начало.
— Ты давай выше, выше.
— Нельзя выше, все дело испортишь.
— Дай-ка я сам. — Я протянул руки к стопе. Она хлопнула по моим рукам ладошкой, я тотчас же отдернул их и рассмеялся.
— Получил? — Глаза ее тоже смеялись.
— Ты хоть до старой границы посгибай, — взмолился я.
— Это я сделала бы и без твоей просьбы, а теперь не буду.
— Почему же?
— Ты мешаешь мне. Дело есть дело.
— Пожалуйста…
Сестра Тамара привела на процедуры двух раненых. Ольга глянула на них и смилостивилась.
— Ладно, — сказала она тихо. — Только ты не мешай мне. Помалкивай.
Стопа моя и впрямь покорялась Ольге. Дело пошло на лад. Помимо моей воли где-то в глубине души всплеснулась серебристой рыбкой безмолвная радость. Теперь и я поверил, что стопа будет гнуться. В голове замелькали веселые мысли: не нужна будет операция, все войдет в норму само собой. Человеком буду, как прежде. Можно, наверное, и на корабль скоро вернуться. К друзьям-товарищам.
Я на минуту закрыл глаза и в один миг перенесся на свой крейсер. Он по-прежнему стоял в Неве неподалеку от горного института. Два месяца назад, когда я прощался с ним, уезжая в тыл, вид у него был довольно жалкий, не боевой — он пострадал во время бомбежки не меньше меня, — а сейчас и трубу починили, и батареи зенитные поставили заново и пулеметы. Словом, корабль как корабль. Едва я поднялся по трапу и ступил на палубу, как очутился в окружении друзей. Старший лейтенант Феоктист Ефремов, сосед мой по столу в кают-компании (Фео-Фео, как мы его прозвали), бросил воинственный клич: «Качать его!» Меня сграбастали, приподняли и, как я ни артачился, два раза подбросили вверх. После этого двинулись ко мне в каюту.
Небольшая у меня была каюта, не лучшая на корабле, но мне она казалась роскошной. Письменный стол с креслом, мягкий диван, шкаф, умывальник — что еще нужно молодому офицеру? До корабля у меня не было ничего подобного.
Очнулся я от пристального взгляда Ольги.
— Задремал? — спросила она с улыбкой. — Вот как я тебя умаяла.
— На корабле был, на своем, — ответил я не спеша. — Даже в каюте у себя побывал. Хорошо-о!
Ольга помолчала, о чем-то задумавшись, спросила вдруг:
— Он тебе как дом, корабль твой?
— Как дом, — ответил я. — Может, и больше, чем дом. Нас вместе покалечили.
— Так уж и покалечили! Да мы твою ногу в два счета теперь приведем в порядок.
— Пожалуй.
— Не пожалуй, а точно.
Я улыбнулся. В эту минуту вошла Валентина Александровна, окинула всех усталым взглядом и зашагала к нам. Ольга сидела спиной к двери и не видела ее.
— Доброе утро, — сказала Валентина Александровна. — Как себя чувствует наш флотский друг?
Лицо у нее было блеклое, утомленное, ей, наверное, трудов стоило сохранять спокойствие и бодрость духа.
— Лучше, чем кое-кто из наших целителей, — съязвил я, не удержавшись.
— Не слушается он, Валентина Александровна, — пожаловалась Ольга, стараясь перевести разговор в другое русло, но главная целительница пропустила ее слова мимо ушей.
— Я рада за вас. А вот сосед ваш хандрит. Не знаю уж, как и помочь ему.
Валентина Александровна лукавила. Она хорошо знала, как помочь Борису, знала, как поднять его настроение, как осчастливить.
— Вы не должны делать ему операцию, — сказал я. — Если у хирурга не будет возможности оперировать сегодня, после Наседкина, отложите на другой день. Пожалуйста, Валентина Александровна.
Она кивнула мне и торопливо вышла.
Ольга все поняла и, ни о чем не спрашивая, заспешила. Надела на ногу мне носок, собрала нехитрые свои принадлежности, положила их в шкафчик.
Мы вышли в коридор и столкнулись со старшей сестрой. Она шепнула Ольге: «Выехал хирург, через полчаса будет здесь». Только мы отошли от нее, встретили озабоченного начальника госпиталя. Он поздоровался и хотел пройти мимо, но меня обуревала радость, и я не мог так просто отпустить его.
— Здравия желаю, товарищ военврач третьего ранга! — Я подтянулся и опустил руки по швам.
— Здравствуйте, лейтенант. — Он остановился и подал мне руку. — Как ваши дела?
— Хорошо пошли, товарищ военврач третьего ранга. Стопа не выдержала натиска и близка к капитуляции. Сгибается помаленьку. Массаж, гимнастика лечебная… — Я кивнул на Ольгу. — Так и быть должно.
— Конечно, — согласился он. — Валентина Александровна назначила?
— Так точно.
— Давно?
— Уже несколько дней.
— Хорошо, хорошо. Надеюсь, вы серьезно относитесь к ее назначениям? — Он перевел взгляд на Ольгу, та собралась что-то сказать, но я опередил ее:
— Даже слишком серьезно, товарищ военврач третьего ранга.
— Как это слишком? Что вы говорите?
— «Хватит на сегодня», — говорит мне, а я прошу еще. Чтоб скорее подействовало.
— Это другое дело. — Он улыбнулся. — Перебарщивать тоже нельзя. Вы не к Наседкину собрались? — Он бросил взгляд на дверь палаты, которую только что миновал. Я и не заметил, что мы остановились рядом с палатой Жоры.
— Хочу зайти, — ответил я.
— Зайдите, зайдите. Ваше слово для него может статься сейчас самым нужным. Иду вот операционную посмотреть.
— Извините, товарищ военврач третьего ранга… А хирург опытный?
— Да. И опытный и аккуратный. То, что нам надо.
— Все будет хорошо?
— В наших условиях это лучший вариант. Думаю, что все обойдется. Хотя, конечно, операция есть операция… — Он развел руками, еще раз кивнул нам и скрылся в дверях операционной.
Из дверей пахнуло сладковатой прохладой. Ольга повела ноздрями, принюхалась:
— Неужто хлороформ разлили? Ну да проветрится еще до операции. Ладно. А ты, голубчик, иди-ка сюда. — Она подвела меня к окну. — Дай-ка я на тебя гляну.
Она отступила слегка назад и уставилась на меня с таким откровенным любопытством, будто я не с Балтики приехал, а прилетел к ним в госпиталь с Марса или с Юпитера. В прищуренных глазах весело и озорно дрожали солнечные блестки.
— Ну знаешь ли… — На лице ее шевельнулась насмешливая улыбка, пытливые глаза сузились еще больше. — Если б не видела и не слышала сама, никогда, ни за что не поверила бы, что ты такой артист.
— Я моряк.
— Не-ет, артист, — возразила она. — Заслуженный или даже народный. Час назад был бирюк бирюком, а теперь…
— Час назад у меня стопа не сгибалась.
— А с начальником как разговаривал? Он с тобой всерьез, а у тебя одни смешки в голове.
— Да я же подшучивал, и то самую малость, — рассмеялся я. — Хочешь, вместе пойдем к Жоре?
— Ты иди, у меня дела.
Тихо, на цыпочках вошел я в палату и услышал доносившееся из распахнутого окна звучное щебетанье птиц. Голоса их были чистые, звонкие, и у меня мелькнула мысль оставить Жору наедине с ними: перед операцией вряд ли можно найти что-либо лучше. Я мягко, неслышно отставил ногу назад, к двери, но Жора заметил меня и взглядом остановил. Взглядом же он пригласил меня сесть и послушать. Минуту-другую мы очарованно слушали.
— Ну? — спросил он тихо и кивнул на окно.
Я поднял палец, поднес его к губам. Жора улыбнулся. Птицы пели неумолчно и, казалось, от минуты к минуте слаженнее, стройнее.
— У меня такое ощущение, — сказал я, — будто в зеленых листьях на той вон березовой верхушке спрятался дирижер. Может быть, соловей, а может быть, и скворец. Это же целый оркестр, не могут они без головы!..
— Да, да… — Синие его глаза высекли фиолетовую искру. — Я уже часа два слушаю. Они долго примеривались друг к другу. А может быть, и состязались: кому вести заглавную партию, а кому… Но соловей в этот час не поет.
— Я не говорю, что поет. Хватит им того, что он на соседней ветке сидит. При соловье плохо не запоешь.
— Это верно. А вы знаете, что скворцы великолепные подражатели?
— Знаю. Я в деревне рос. Он тебе и соловьем присвистнет, и прочирикает как воробей. Ма-астер на чужие голоса.
— Оттого вы и определили его в дирижеры?
В дирижеры скворец угодил случайно. Как говорят, к слову пришлось. Но племя скворцовое я любил с детства. Задолго до прилета мы, деревенские ребятишки, начинали мастерить скворечни. Старались друг перед другом. Скворцы народ капризный, не всякий дом они облюбовывали. Еще капризнее были скворки. Первыми по весне прилетали скворцы. Скворец и скворечню оглядит, и деревья вокруг, и постройки. После того как сделал выбор, принимался за отделку гнезда. Через несколько дней стайками появлялись веселые, неутомимые скворки. Скворец садился на свое крылечко и старательно зазывал их, заманивал. И песни пел заливистые, и ловкость показывал в полете, выделывая такие замысловатые фигуры, какие и чижу не снились.
Пощебетав, посоветовавшись с подругами, одна из скворок великодушно соглашалась осмотреть жилье. Не были в стороне, и подружки, они тоже проверяли каждый угол. Если дом оказывался неказистым, неуютным, скворки, посмеиваясь, летели дальше, а скворцу приходилось ждать новой стайки. Случалось иной раз и так, что оставался скворец на все лето бобылем.
Птицы под окном распевали на все голоса утренние песни, и я ответил Жоре рассказом о скворцах. Слушал он участливо, в иные минуты даже жадно.
— А ты знаешь, какая роль отводится скворцам-бобылям? — спросил я в конце рассказа.
— Не знаю, — ответил он, насторожившись.
— Воспитывать чужих скворчат. Обучать пению и всем премудростям жизни. Как в детском саду или в школе.
— Интересно. Я этого не знал. — На лице Жоры отчетливо виделось сожаление. — А что говорят об операции? — спросил он неожиданно.
— Говорят, пройдет нормально, — ответил я. — И Валентина Александровна говорит, и Андриан Иннокентьевич, начальник госпиталя. Сам сказал мне. Только что. Он пошел операционную проверить.
— А вы как думаете, товарищ лейтенант? — Сам он, похоже, не поверил еще в благополучный исход.
— Я думаю, что все будет хорошо. Хирург опытный, аккуратный. Организм у тебя юный, здоровый…
Я хотел сказать, что он и сам может помочь хирургу, что мужчина и на столе операционном должен оставаться мужчиной, а вместо этого поведал ему о Борисе Крутоверове, о том, как настойчиво и упорно пилил капитан собственную ногу. Я не назвал имени Бориса, но Жора догадался, о ком шла речь.
— А она знает об этом? — спросил он.
— Знает. — Говорить ему неправду я не решился.
— Молодец, ничего не скажешь. — Он вздохнул. — Это надо же… Храбрости и терпенья ему, видно, не занимать.
— Не занимать, это верно. Но и ты ведь не из робкого десятка. А потом… кому что… Кому сокол, а кому соловей.
Лицо его тронула спокойная, не юношеская улыбка.
— Спасибо, товарищ лейтенант. Может быть, скворцов послушаем?
— Ты слушай, а мне идти надо. — Я тоже улыбнулся. — До вечера.
Удерживать меня он не стал.
В коридоре было тихо. Я подошел к окну и, зажмурив глаза, подставил лицо солнышку. Виделась мне теперь густая, тягучая ярко-оранжевая масса, заполнившая все пространство. Такой в школьные годы представлялась мне загадочная магма. Едва я об этом подумал, как магма моя стала остывать и покрываться пеплом. Нехотя приподняв веки, я не увидел солнышка; скрыло его плотное синее облако, похожее на Каспийское море из школьного учебника. Даже залив Кара-Богаз обозначен был точно. Я грустно усмехнулся: хоть на небе море увидеть. Не повезло мне: море на глазах рушилось. Сначала отпочковался и поплыл в сторону Кара-Богаз. Минуту-другую он гордо двигался самостоятельным озером, потом вытянулся в ручеек и вскоре исчез совсем. Наступил черед и северной глыбы Каспия. Отделившись от южной половины, она сгрудилась беспорядочно у самого устья Волги, как бы ища выход своей силе, а рукава реки сами несли ей навстречу раздольную силу. В какой-то миг силы эти встретились, сшиблись, и море, поборов речной поток, ринулось в проторенное русло Волги. Я вздрогнул, хоть это и было минутное воображение.
Облако развеялось, исчезло, только теплое солнышко плавало теперь в голубом высоком небе, а я с необъяснимой тревогой смотрел и смотрел туда, где так неожиданно и так странно пропало мое море.
Из неподвижного состояния вывел меня Пантюхов. Он подошел почти неслышно и кашлянул. Я оглянулся.
— Здравия желаю, товарищ лейтенант! — Он весь подобрался, худоба его стала еще заметнее. Высокий, неуклюжий, он невольно вызывал улыбку.
— Здравствуйте, Кузьма Андреич. Как живы-здоровы?
— Так ведь на поправку пошел, товарищ лейтенант. Большое-пребольшое спасибо вам.
— А я-то при чем, Кузьма Андреич?
— Как это при чем? При самом главном. Веру мне вернули, товарищ лейтенант. Как говорят, не по дням, а по часам болячки мои заживают, а без веры да без надежды разве вышло бы что-нибудь? Гиблое дело, это я точно вам говорю. А вы-то как, товарищ лейтенант? Похрамываете?
— Похрамываю, Кузьма Андреич. — Он развеселил меня. — Только и я ведь не лыком шит — лучше становится.
— Так и быть должно, товарищ лейтенант. Вы молодой, у вас должно заживляться скорым ходом.
Говорил он серьезно, обстоятельно, а в белесых глазах пряталась добрая хитринка. Чтобы выманить ее наружу, я улыбнулся, слегка прищурившись, и Кузьма Андреевич не выдержал.
— Скажите, товарищ лейтенант, ежели это не секрет: командовать вам было трудно?
Улыбку у меня как рукой сняло. Я был изумлен его проницательностью. Откуда она? Он же ничего обо мне не знает.
— Как вы это увидели? — спросил я. Он смотрел вниз, топтался на месте, как провинившийся школьник, и молчал. — Я действительно испытывал трудности, а когда подчиненные были старше меня годами, мучился.
— Это все оттого, что вы о других печетесь, а не о себе. Такие люди к командованию не приспособлены. — Он поднял голову и остановил на мне серьезный пристальный взгляд. — Цену вы себе не знаете, товарищ лейтенант. Плохо, когда цена завышена, но и занижать ее боже упаси. Привыкнуть можно и смириться. А когда человек смирился с низкой ценой, ждать от него нечего.
Кузьма Андреевич говорил о категориях, которые никогда не приходили мне в голову. Я был смущен, озадачен.
— Это вас торговля научила? — спросил я.
— Жизнь меня научила, товарищ лейтенант. Собственная жизнь. Разве не догадываетесь? И торговля помогла.
— Не обижайтесь, Кузьма Андреич.
— Какая может быть обида? Что-о вы! — Он развел руками и мягко, по-отечески улыбнулся. — Я думал, не обидитесь ли вы на меня?
— Не-ет. Вы мудрые вещи говорили.
Подошла Ольга и сказала, что должна доставить меня в палату. Кузьма Андреевич засуетился.
— И мне ведь идти надо. Что-то я разболтался не в меру. Мускулы-то на ногах да на руках нагонять надо — не на языке.
— Язык, Кузьма Андреич, тоже оружие боевое, — сказал я. — Иной раз похлестче пуль косит.
Мы пошли вместе: Пантюхов на улицу, мускулы нагонять, а Ольга и я — к нам в палату. У лестницы Кузьма Андреевич поинтересовался у Ольги:
— Женихи-то, поди, наступают?
— Пусть они лучше на немцев наступают, — ответила она.
— На немцев само собой. Тут и мы можем пригодиться.
Когда он повернул к выходной двери, Ольга спросила:
— Это и есть Пантюхов? Нескладный какой-то.
— Нескладные чаще всего добрыми бывают.
— Да, я это тоже замечала, — согласилась она и подтолкнула меня к палате. Пантюхов больше не занимал ее.
Бориса в палате не оказалось.
— Где он может быть? — встревоженно спросила Ольга. Я пожал плечами, хотя знал почти наверное, что кроме как во двор, к заветной скамейке под сросшимися елями идти ему некуда. Ольга подивилась, посокрушалась и пошла его искать.
— Сам придет, — сказал я вдогонку. — Зачем он тебе понадобился?
— А это уж мое дело, — ответила она от двери.
Оставшись один, я прилег на кровать и опустил веки. Одно за другим вставали передо мной виденья. Четкие, рельефные, как при солнечном свете. В голубом шелковом платье увиделась Ольга. Платье такое я высмотрел года два назад на оперной певице в концертном зале. Ольга шла по лесной поляне и собирала цветы. Веселый игрун ветерок шевелил ее волосы, платье и доносил до меня песню. Я не мог разобрать слов, догадался по отрывкам мелодии: это была песня о беспокойном девичьем сердце.
Лесная поляна вскоре уступила место довоенному, доблокадному Ленинграду. Зимний дворец, Адмиралтейство, Нева с кораблями, Петергоф. Праздничный Петергоф в день открытия белых ночей. Бьют во всю балтийскую мощь фонтаны — выше всех, конечно, знаменитый Самсон, — струятся по парку вереницы нарядных людей, к пристани швартуются один за другим катера с пассажирами. Подхожу к пристани и, не веря своим глазам, вижу Валентину Александровну. Идет она по трапу, смеется, машет кому-то рукой. Сходит на берег, мне бы подойти к ней, пригласить в парк, а сделать этого не могу: мы, оказывается, еще не знакомы с ней. Никак не могу сообразить: снится мне это или… Валентина Александровна проходит мимо, я остолбенело смотрю на нее и до самого Самсона провожаю взглядом. Она останавливается перед широкой дворцовой лестницей, и в этот миг из окон дворца блещет ослепительная вспышка. Одна, вторая, третья… В парке замешательство, тревога. Вспышки повторились, и люди бросились в разные стороны. Я вижу все, но ничего не слышу. Догадываюсь: из дворца стреляют немцы. Что же я стою? Я же знаю, что во дворце засели немцы, они даже вкатили туда несколько пушек. Это весь Ленинград знает. Немедленно остановить моряков, пробраться через парк к левому флигелю и выбить, вышвырнуть немцев из дворца. Во что бы то ни стало выбить. И не пушками, не гранатами — можно разрушить дворец. Врукопашную, кулаками, зубами…
Но что я вижу? Невысокая девушка в голубом платье взбежала на лестницу, взмахнула косынкой, как знаменем, и рванулись за ней все: моряки, солдаты, женщины. Мелькнул в лихой бескозырке Борис Крутоверов, загородив от пуль девушку. Бог ты мой, да это же Ольга! Ну конечно, она! Как она там оказалась?
Вспышки в окнах прекратились, а под ухом у меня что-то хлопнуло, застучало. Я открыл глаза и увидел Бориса. Он сидел на кровати и приставлял к стенке костыли. Все было обыкновенно, привычно, и что-то все-таки во мне переменилось.
— Глаза сомкнул на минуту, не больше, а сон увидел грандиозный. — Я смотрел на Бориса с нежностью. — Аж в Петергофе побывал, видел, как фашисты из дворца прямой наводкой из орудий шпарили. Знают, гады, что дворец дорог нам и стрелять по нему из пушек вряд ли решимся мы без крайней надобности.
— Да-a, фашисты они и есть фашисты, — сказал капитан. — От них чего только не жди. Сейчас они наступают, победы у нас одну за другой вырывают из-под носа, а что будет, когда назад откатываться начнут? Когда на смену пьяной радости придет отчаянье? Вот когда люди наши горя хватят.
В палату вбежала запыхавшаяся Ольга:
— Я гоняюсь за вами по всей округе, а вы, оказывается, дома. Ложитесь-ка, Борис Трофимыч. — Она подошла к его кровати. — Ложитесь, ложитесь.
Он послушно, как маленький мальчик, закинул на кровать ноги, склонил голову к подушке.
— Жора Наседкин уже в операционной, — выпалила Ольга. — Александр Павлович веселый, бодрый, шутки отпускал направо и налево. Согласился и вам сделать операцию, Борис Трофимыч. Поначалу возражал, говорил, что это по плечу любому фельдшеру, а потом уступил, хотя в городе его ждут неотложные дела. Уговорили его. — Последние слова сказаны были тихо, таинственно, с особым смыслом, и сразу становилось ясно, кто уговорил и чем эти уговоры вызваны.
Радость свою Борис не прятал, но и напоказ выставлять не хотел. Он блаженно смотрел на Ольгу, молчал и ждал, что она скажет еще.
— Перед операцией вам хорошо бы поспать, — добавила она. — Хотя бы с часок. Очень полезно. Это не только мой совет.
— Да, да, — поспешно согласился капитан. — Я сейчас обязательно посплю. Конечно, это полезно, сам мог бы догадаться.
— Не теряйте времени, Борис Трофимыч. Закрывайте глаза и спать, спать.
— Хорошо, хорошо. — Он закрыл глаза и в ту же минуту отрешился и от Ольги и от меня. Он умел это, когда хотел. И заснет он быстро, и спать будет не меньше часа.
Ольга остановила на нем, как заклинанье, безмолвный пристальный взгляд, повернулась ко мне, поднесла к губам палец и плавно, на цыпочках вышла из палаты.
Она вышла, а луговой запах ее волос и приглушенный гортанный голос долго еще витали в палате, будоража меня и успокаивая одновременно.
Борис, наверное, уже заснул. Дыхание ровное, сонное, на лице покой и блаженная отрешенность. Я тоже попытался уснуть. Закрыл глаза, расслабился. Какое-то время виделось лишь мутное синеватое пространство, а потом оно раздвинулось, и из ущелий-прогалин выплыли лица. Ни с того ни с сего появился командир крейсера в полосатой тельняшке. Подмигнул мне и исчез. Верхом на гнедом коне, что-то озабоченно высматривая, медленно проехала моя мать, совсем еще молодая, статная. В раннем детстве раза два или три я видел ее скачущей на лошади — она любила быстрый галоп, — вот когда припомнилось. Сладко защемило сердце, мурашки пробежали по коже, и захотелось мне нестерпимо в деревню.
А Ольга только что ушла и вновь выплыла: сперва показались ее длинные пальцы, потом склонившееся ко мне румяное лицо в мягких бисеринках пота, От нее кругами шел пьянящий запах лесных трав.
Лежать я больше не мог. Тихо, чтоб не разбудить Бориса, поднялся, всунул ноги в тапочки и вышел в коридор. Поискал ее внизу, оглядел весь двор, поднялся наверх. Возле операционной сидела сестра и шепотом предупреждала всех, чтоб не шумели.
— Как там Жора? — спросил я еле слышно. Она глянула на меня, как на дикаря, и была, наверное, права: никто сейчас не мог ответить на мой вопрос. Ладно, потерпим, лишь бы все обошлось.
Ольгу я так и не нашел.
И Ольгу и Жору я увидел лишь на следующий день. Вечером после операции в палате Наседкина дежурила самая несговорчивая сестра — в госпитале за глаза ее называли старой девой, — она даже взглянуть на него никому не разрешала. А утром ее сменила Ольга, и мне удалось разглядеть его. Он лежал бледный и, казалось мне, бездыханный. Лицо исхудало, нос, скулы, подбородок заострились до крайности. Я не видел его глаз — они были закрыты, и закрыты, видно, давно, — но на лбу у него поблескивали крохотные капельки пота. Он был жив! Я видел это собственными глазами. Я не удержался от радости и сделал шаг вперед, к его койке, но Ольга, стоявшая на страже, решительно меня остановила.
— Я же просила, предупреждала!.. — корила она меня шепотом. — Он после операции еще не просыпался, ему, наверное, легкое дуновение вредно, а ты как медведь…
Я принимал ее выговор как должное, хотя на медведя вроде бы не походил.
Уже в коридоре, за дверью, Ольга рассказала мне потихоньку: на операции Жора вел себя терпеливо, как мужественный солдат. Валентина Александровна даже не думала, что он будет таким молодцом.
— Какие прогнозы? — спросил я.
Ольга вздохнула, нахмурилась. Еле слышно открыла дверь, пристально взглянула на подопечного Жору. Не обнаружив ничего тревожного, повернулась ко мне.
— Все как будто ничего, — сказала она, — а Александр Павлович Долинин уехал сердитым. Нынче приехать обещал, проведать. В обед поточнее узнаем. Я к тому времени сменюсь и твоей ногой займемся. Сейчас у тебя все должно пойти хорошо, перевал уже позади. Но ты лишку-то все-таки не натруждай ее.
— Зна-аю, — ответил я.
— Знаешь, а днями и вечерами только и слоняешься по госпиталю. Возьму вот да и скажу начальнику, он тебе прочистит мозги.
— Скажи. Кто же тебя удерживает?
— И скажу. Только ты не злись потом.
— Это уж от того будет зависеть, что и как ты скажешь. Сказать тоже можно по-разному.
— Я правду скажу.
— А ты, оказывается, вредная.
— Какая же вредная, когда для тебя стараюсь? Шел бы к себе в палату да полежал, отдохнул хорошенько. Тогда и массаж будет как массаж, и гимнастика получится ладная. Нельзя тебе ногу утруждать… Хоть у Валентины спроси либо у Андриана Иннокентьевича, если мне не веришь.
— Верю, — сказал я. — Только ведь и утерпеть трудно, все бока пролежал.
— Я к тебе в два часа загляну. А сейчас иди и не мешай, Жора скоро проснуться должен.
Я послушно побрел к себе в палату.
Борис тоже спал. Усталая, едва приметная улыбка покоилась на его лице. Ночью он долго не мог заснуть. Выбрав подходящую минуту, я спросил его про операцию. «Терпимо», — ответил он одним словом, и я понял, что боль у него еще не улеглась.
Осторожно опустился я на койку, прилег и с наслаждением распрямил ноги. Видно, права Ольга: рановато еще мне молодцевать без оглядки, ноет нога, постанывает.
Я старался быть тише воды ниже травы, а Бориса умудрился все же разбудить. Как следует еще не проснувшись, он сладко потянулся, и тотчас же лицо его сморщилось от боли. Говорят, чужую беду руками разведу. Поговорочку эту я слышал не однажды, но только сейчас почувствовал, что начало свое она берет не от доброго человека. Боль Бориса я принимал как собственную боль и готов был взять ее всю на себя.
Боль и напряжение сменились на лице Бориса блаженной улыбкой. Он смачно, с невольно вырвавшимся стоном облегчения вздохнул и открыл глаза.
— Ух ты!
— Что случилось? — поинтересовался я.
Борис медленно, плавно, чтоб не стряхнуть улыбку, повернул ко мне голову, и я увидел его глаза, радостные и тревожные.
— Палец большой на ноге опять зачесался, — сказал он. — Спасу нет.
Капитан и раньше говорил о своем злополучном пальце. Палец остался вместе со стопой в зеленом овражке под кустом орешника где-то между Доном и Волгой, а зуд от него не проходил. Капитан, случалось, забывался и, когда подступал этот зуд, тянулся руками к стопе, которой уже не было, а опомнившись, отшатывался, как от заразы. В последнее время палец почти не тревожил его, а сейчас, после операции, засвербило, видно, с новой силой.
— У Георгия не был? — спросил Борис.
— Спит, — ответил я. — Слишком бледный.
— Бледный — не беда, — возразил он. — Георгий и до операции не был румяным.
— Пока, говорят, вроде бы нормально все.
— Кто говорит?
— Ольга, к примеру.
— Она должна знать.
— В середине дня хирург приедет. Все должно обойтись. Должно, если есть на земле хоть какой-нибудь бог.
— Должно, — подтвердил капитан. — Он хоть и юнец, а держался молодцом. Врачи и сестры о нем только и говорили.
— И как ты? Пережил? Ретивое не взыграло?
— А ты пережил бы на моем месте? — Он добродушно улыбнулся.
— Запросто, — ответил я лихо.
Улыбка его растаяла. След ее еще оставался, и минуту-другую лицо его было добрым, потом посуровело.
— Это ты серьезно?
— Вполне.
— Не знаю, право, — сказал он сердито, — что-то никак уразуметь не могу: завидовать мне твоей лихости или же… — В голосе его были горечь и мрачное недоумение, и я — не в силах больше изводить его — рассмеялся.
— Они потому и говорили про него, чтоб ты о своей ноге не думал!
— Ну-у, артист, будет тебе ужо на орехи. Дай мне только оклематься чуть-чуть. Возьму в руки костыль да костылем этим… — Он вдруг осекся. В ту же минуту отворилась дверь, и в палату вошла Валентина Александровна. То ли Борис шаги ее услыхал, то ли иным путем почувствовал ее приближение, но умолк он мгновением раньше, чем она открыла дверь.
— Как наши дела-а? — спросила она мягко, чуть нараспев.
О себе я мог сказать в тот же миг, но первому отвечать полагалось по всем статьям капитану. Она и смотрела на него, а он медлил. Валентина Александровна придвинула табуретку и подсела к его койке.
— Спасибо вам, — отозвался наконец Борис.
— За что?
— За все, — ответил он спокойно. — И за вчерашнее и за завтрашнее.
Его слова слегка смутили Валентину Александровну, она потупила взгляд, но не удивилась.
— Вчера утром я загадала: если операции пройдут хорошо, значит, я счастливая, — сказала она, беря капитана за руку и нащупывая пульс.
— Ну и как? — Борис не сводил с нее глаз.
Валентина Александровна считала пульс, и на вопрос его, казалось, не обратила никакого внимания. Но она все слышала и все видела.
— Нормально, — ответила она. — Семьдесят два удара в минуту. Спалось хорошо?
— Нормально, — не без умысла повторил он ее слова. — А вам?
— Зачем ты спрашиваешь? — не выдержал я. — Неужели не видишь?
— Не вижу, — озадаченно сказал капитан, повернув ко мне голову. — А ты что видишь?
Я видел темные полукружья под глазами. Как ни прятала она их, как ни припудривала, а заметны они были явственно. Стало быть, опять провела ночь без сна, думала, поди, да гадала до самого рассвета.
— Вижу, что и ей спалось плохо, — сказал я, — хоть и доктор и знает, наверное, тысячу средств от бессонницы.
— А что — заметно? — спросила она устало. — Я и вправду плохо спала. Совсем плохо. Вроде бы и позади осталась главная опасность, а все равно тревожно, все время как то не по себе.
— Вы думаете, самое плохое позади? — спросил Борис.
— Я сказала: вроде бы…
— Вы были у него? Сегодня были?
— И сегодня была, и ночью была…
— И как он? — Капитан приподнялся.
— Лежите, лежите! — Она силой склонила его к подушке. — Вам лежать надо и не двигаться. Это лучшее лекарство.
— Георгий как? — повторил он свой вопрос.
— Спит Георгий, — ответила она, — и хорошо делает. Некоторым командирам не мешало бы пример с него брать, хоть он и рядовой боец.
Капитан промолчал.
— Кому что дано, — сказал я в наступившей тишине. Мне стало жалко Бориса.
Валентина Александровна удивленно взглянула на меня и, не ответив, снова занялась Борисом. Прислонила ко лбу ладонь, подержала с минуту, пока не выявила температуру.
— Почему лекарство не пили?
— Спал все утро, — ответил он. — Выпью.
— Выпейте сейчас. — Она налила в стакан воды.
— Хорошо.
— Через сутки-другие глянем на вашу ногу. Все будет ладно, дело теперь только во времени. Будете хорошо лечиться — скоро танцевать начнете.
Капитан усмехнулся.
— Я серьезно говорю. И хирург вчера то же самое сказал. Он в своей практике всего повидал.
— Мне бы в полк свой попасть, — с досадой вымолвил капитан, — а танцульками пусть другие занимаются.
— Полк обещать не могу, — твердо сказала Валентина Александровна. — Вы свое дело сделали.
— Не сделал. — Борис старался говорить мягче, а голос выдавал его.
— Не истязайте себя. Это только вредит вам. Поверьте мне: если вы хотите скорее принести какую-либо пользу, надо взять себя в руки. Не раны свои травить, а настраивать себя на покой, на леченье. Почему вы не верите мне?
Он верил. Может быть, никто так не верил ей, как он, капитан Крутоверов. Ему бы немного надежды к его вере, и все пошло бы как по маслу.
— Договорились? — Она протянула ему руку, а когда увидела, что он не торопится с ответом, взяла его за руку сама и пожала ее, чтоб скрепить уговор.
Борис молча улыбнулся.
— А вы как? — Она пододвинулась ко мне вместе с табуреткой. — Надеюсь, вы скажете мне, как узнать, кому что дано? — Спросила вроде бы в шутку, но за шуткой таилась прежняя растерянность. Умная, добрая, красивая, а сердечный свой узел развязать не может. Ольга на ее месте давно развязала бы, хоть и лет ей меньше.
— У бога надо спросить, Валентина Александровна, — ответил я, подстраиваясь к ее тону.
— И спросила бы, Федор Василич, только ведь не дано мне обращаться прямо к богу.
— Скромничаете, Валентина Александровна. Если не вам, то кому же тогда разговаривать с богом? Не солдатам же раненым?
— Им, им, — поспешно ответила она. — Ни у кого таких прав нет, как у раненых солдат. Они сейчас самые святые.
— А командиры?
— Командиры тоже, но поменьше, пожалуй.
— Поме-еньше? — удивился я. — Чем же тогда, позвольте спросить, это право завоевывается?
Шутки, похоже, кончились, я первый не выдержал.
— Кровью, наверное, — ответила она тихо, не очень уверенно. — Кровью, а еще муками солдатскими, невзгодами.
— Выходит, капитан Крутоверов и крови меньше потерял, и мук вынес меньше? Меньше любого солдата? — Я чувствовал, что собственные мои слова начинали будоражить меня, хотя Валентина Александровна — я мог поручиться за это — не хотела сказать ничего худого ни мне, ни капитану.
— Просто я подумала, что солдату и служить и воевать тяжелее, — сказала она.
— Тяжелее? — Я изумился еще больше. — Солдат воюет за себя, за себя и отвечает. Только за себя. А командир в ответе за всю операцию и за каждого бойца. Головой отвечает, совестью. Неужели, вы думаете, ему легче?
— Я имела в виду фронтовые тяготы. Солдат и окоп должен копать, и пушку вытаскивать из грязи, и сто других тяжелых дел у него на плечах. Командиру же не обязательно делать все самому. На то он и командир. Только об этом и речь.
— Кому в госпитале легче: врачу или нянечке? Нянечка отдежурила свою смену и горя ей мало. А вы, к примеру, круглые сутки о больных своих думаете и страдаете за них. Разве мы не видим?
Валентина Александровна не ответила. Она либо согласилась со мной, либо не сочла нужным спорить дальше. На лице ее держалась скорбная улыбка, неизвестно кому предназначенная. Тихая, от всего, казалось, отрешенная, улыбка эта даровалась не мне и, наверное, не капитану.
— Надо побывать там, — сказала она так же отрешенно, как и улыбалась, и кивнула на окно. И Борис и я хорошо знали, что означал этот кивок. Там — это на фронте. — Там только и почувствуешь, кому что дано, кому легко, а кому тяжко.
Взгляд ее был устремлен в окно, в дальнюю даль, а разговаривала она не с нами и даже не с собой, а с кем-то еще, от кого зависела — ни много ни мало — сама судьба. Так, во всяком случае, мне казалось.
— Я еще зайду к вам, — сказала она, спохватившись, и торопливо вышла из палаты.
Мы с капитаном переглянулись и надолго потеряли дар речи. Оба мы знали, что Валентина Александровна слов на ветер не бросала. Если она сказала, что надо там побывать, она постарается это сделать. Она просилась туда дважды, и ей дважды отказывали. Наученная опытом, она сейчас предпримет надежные, возможно, даже отчаянные шаги, и начальник госпиталя вряд ли устоит. А если Андриан Иннокентьевич по-прежнему будет противиться, она призовет на помощь нас, меня и капитана Крутоверова. Капитан начнет ее уговаривать, убеждать остаться, а она теперь будет неумолима. Это видно было и по улыбке ее, и по речи. Может быть, ей и в самом деле надо побывать там, увидеть все собственными глазами. Капитан этого не поймет, не захочет понять, и странного в этом ничего не будет.
А я? Пойму ли ее шаг я? В случае неудачи она попросит у меня совета. Что я скажу ей? Это был непростой вопрос, и я не мог ответить на него с ходу. Надобно было поразмыслить, поставив себя на ее место.
Это оказалось не так уж и сложно: мы были похожи друг на друга. Наше понимание вещей и событий, наше мироощущение почти не разнилось. И ее и меня звал туда долг.
Неотступные думы преследовали моего соседа. Вчера после операции его положили головой к окну, и он теперь не мог смотреть на верхушки сосен, приносившие ему равновесие и успокоение. Белый потолок палаты ничего, кроме тоски, нагнать не мог, и Борис поступил разумно, опустив веки. С закрытыми глазами легче было представить и Ветлугу, и Валентину Александровну, и поразмышлять о своей судьбе.
По хмурому, застывшему в напряжении лицу виделось: судьба его не радовала. Он еще хорохорился, а в душе понимал, что на фронт, в полк ему не вернуться. Борис начинал мириться с этим. Да и где он сейчас, его полк, существует ли после тех смертельных боев на равнине между Доном и Волгой? Капитан написал однополчанам с дюжину писем и ни на одно не получил ответа. Могло статься, и вправду уже не было полка. И с этим, видно, свыкаться надо, ничего не поделаешь.
Еще с одной мыслью успел свыкнуться Борис: в награду за мучения судьба посулила ему Валентину. Жизнь могла наладиться. Вчера он надеялся, а сейчас все рухнуло. Это было тягостно, мучительно, но он мог, поборов себя, стерпеть и это. В конце концов, у него была Ветлуга, отчий дом с молодым яблоневым садом, там ему всегда будут рады, там он может обрести и силы и терпенье.
Не собственная судьба терзала сейчас капитана. Он не меньше меня понимал и чувствовал, что к решению отправиться на фронт подтолкнул Валентину Александровну не кто иной, как он сам, Борис Крутоверов. Вины его здесь не было, но сути дела это не меняло. Как сложится ее судьба, осуществи она свой замысел? Фронт есть фронт, и случиться там может всякое.
Для Бориса Крутоверова это была казнь.
— Никуда ее отсюда не пустят, — сказал я твердо, хотя уверенности у меня не было и быть не могло.
— Ты думаешь? — Капитан открыл глаза и повернул ко мне голову.
— На фронте хирурги нужны, а она терапевт. Ей здесь самое место.
Доводы мои показались Борису резонными, и напряжение на его лице ослабло.
— В тыловых госпиталях хорошие врачи тоже надобны, — продолжал я. — Уйди она, паче чаяния, кто же здесь останется? Людмила конопатая ничего еще не умеет, а старуха Катерина Семеновна едва ноги таскает. Богадельня будет, а не госпиталь.
— Я их не знаю, — сказал Борис.
— А я знаю. Андриан Иннокентьевич не глупец и госпиталь оголять не захочет.
Ожил Борис, даже повеселел чуть-чуть. Окинув меня неторопливым взглядом, сказал вполголоса:
— Добрый разведчик из тебя вышел бы.
Слова его меня обрадовали. Не похвалой сомнительной, а тем, что хоть на минуту оставил он изнуряющие свои думы.
— Я и морской службой доволен, — ответил я, повернувшись на бок, чтоб лучше можно было видеть его. Взгляды наши встретились, и оба мы невольно улыбнулись. — А ты за эти дни пощедрел. То в комиссары меня произвел, то в разведчики.
Борис оживился.
— Это ладно, это пусть… — Он махнул рукой. — Если говорить серьезно, то я с охотой произвел бы тебя в женихи. Женись, Федор, а? Сватом буду.
— Ты с ума сошел! — воскликнул я и отшатнулся к стенке.
— Посмотри, какая девушка глаз с тебя не сводит. Золото. Клад. Не найдешь такую, поверь мне. А потерять можешь. — Он говорил напористо, страстно, это удивляло меня и пугало.
— Что случилось, Борис?
— Я давно уже смотрю на вас… Какая пара будет! Редкая. Вы же созданы друг для друга.
— Кто же в войну женится?
— Послушай меня, Федор. На корабль тебя не возьмут, будешь где-нибудь в тылу, в штабе. Она не помеха.
— Война помеха! — крикнул я, не заметив ни открывшейся двери, ни входивших в нее людей.
— Какая еще помеха-то, — подтвердил мои слова полный коренастый человек в тесном халате, в пенсне. — Только спокойнее надо, юноша. Эту войну криком не возьмешь. — Он улыбнулся мне, и я сообразил, что это хирург Долинин. Я вспомнил, каким представлял его по рассказу Ольги. Все было иное, кроме пенсне. Он повернулся к Борису, вместе с ним повернулись Валентина Александровна и Андриан Иннокентьевич.
— Как нога? — спросил он мягко.
— Нога в порядке, — ответил Борис. — Даже палец большой давал о себе знать. Как там Георгий?
— Георгий спрашивает о капитане, капитан — про Георгия. Завидные больные у вас, — он потрогал ногу, справился о температуре, пощупал пульс. — Немцам, поди, и в голову не пришло бы подумать о товарище. И они еще хотят войну выиграть. Па-ра-докс. Все будет хорошо, товарищ капитан. И у вас и, думаю, у Георгия.
— Спасибо, доктор, — тихо сказал Борис.
— А у этого юноши что? — Долинин кивнул на меня.
Валентина Александровна рассказала о моем ранении, об осколке, застрявшем под коленным суставом, о плохо сгибавшейся стопе…
— Этот юноша через несколько дней твердо намерен выписаться, — заявил я, воспользовавшись небольшой паузой.
— Осколок не беспокоит? — Хирург не обратил внимания на мою тираду. — И по ночам не беспокоит?
Ночью раза три злополучный осколок устраивал мне концерты — от боли я не мог ни шевельнуться, ни вздохнуть, — но говорить об этом, конечно, не стал.
В дверь заглянула Ольга. Увидев начальство, она подалась назад, но Валентина Александровна остановила ее и пригласила войти.
— Это моя помощница, — сказала она и повела речь о лечебной гимнастике, о массаже.
Александр Павлович выслушал ее и изрек сердито:
— Ну вот, а мы хоть и рядом, но ничего этого не практикуем. Приехали бы да показали.
— Это нетрудно, — ответила Валентина Александровна. — С удовольствием покажем.
Перед уходом она потрогала мою стопу, улыбнулась, и я понял: возражений против моей выписки не будет.
Мы остались втроем, и я сразу почувствовал себя неловко: после разговора с Борисом не мог смотреть на Ольгу прежними глазами. А Борис, как назло, то глянет ласково на Ольгу, то остановит осуждающий взгляд на мне. Он, похоже, не терял надежды уговорить меня.
— Что-нибудь случилось? — тревожно спросила Ольга.
Ни капитан, ни я не ответили ей.
— Отчего вы молчите? Стало быть, вправду что-то случилось?
— Всегда что-то случается, — сказал я уклончиво. — Земля большая, война большая…
— Я не про землю спрашиваю, — перебила Ольга. — Всего-навсего про госпиталь, про палату. Что произошло?
— В палате? — Я пожал плечами, делая вид, что удивлен ее вопросом. — Кроме того что один из нас в ближайшие дни намерен распрощаться с госпиталем, ничего. Но с госпиталем всегда кто-то прощается.
Не дослушав меня, Борис гневно повернул голову к стенке.
— По-нят-но, — сказала она дрогнувшим голосом. — Что ж, не будем тогда терять времени и двинемся на массаж?
— Пожалуй, — ответил я и начал собираться.
Ольга повернулась и вышла. Через минуту следом за ней двинулся и я.
Массаж и гимнастику Ольга растянула часа на полтора и все это время молчала. Я тоже не мог найти подходящих слов. Под конец она все же не выдержала и спросила насмешливо:
— Стало быть, бежать решил?
— Бежать? — Я удивленно вскинул брови, но это не произвело на Ольгу ни малейшего впечатления. Она как стояла с холодной усмешкой, так и осталась стоять не шелохнувшись. — Бегут, случается, с поля боя, с фронта, а на фронт…
— Дело не в словах. — Она поморщилась, и усмешка исчезла с ее лица. Передо мной была прежняя Ольга. И глаза ее светились по-прежнему. — Раньше срока все равно не сбежишь.
Теперь, когда моя госпитальная жизнь подходила к концу и исчислялась не неделями и не месяцами, как раньше, а днями, мне час от часу становилось тягостнее. Мысленно я уже прощался со своей скрипучей койкой, с тусклой лампочкой под самым потолком, с окном на просторную лесную поляну, за которой виднелся поселок. Вопреки моим ожиданиям прощанье оказалось грустным. Стоило только подумать, что я не увижу больше древнего уральского леса, не посижу на скамейке под двумя сросшимися елями, как начинало непривычно больно щемить сердце. А прощаться предстояло еще с Борисом, с Ольгой, с Валентиной Александровной. У меня не хватало храбрости даже подумать об этом. Я не раз мысленно побывал в Москве, в главном морском штабе, резонно, как мне казалось, убеждал своих начальников вернуть меня на боевой корабль, голова моя до отказа была заполнена будущим, а с госпиталем и в мыслях не мог распрощаться. До сих пор мне представлялось, что госпиталь для раненого — это все равно как вокзал для транзитного пассажира, а он оказался домом, родным домом. Крепко держала меня на привязи веревочка, свитая из моей сердечной благодарности и из сердечных же обязанностей. Поначалу я недоумевал, а потом пришел к мнению, что иначе, наверное, и быть не могло. Привезли меня сюда с костылями, я едва передвигал ноги, а сейчас хожу один, с легкой палочкой, через два-три дня расстанусь и с ней. Хромота моя, говорят, и сейчас почти незаметна, а скоро ее не будет совсем. Был инвалидом, беспомощным и жалким, стал нормальным человеком. Разве можно это забыть? Я чувствовал себя в неоплатном долгу. Хотелось сделать что-то хорошее и для Ольги, и для Валентины Александровны, и для Андриана Иннокентьевича. Мне казалось, что если бы я сделал это, то и расставанье было бы легче.
У волейбольной площадки я встретил Пантюхова, веселого, посвежевшего.
— Здравия желаю, товарищ лейтенант, — выпалил он бодро, на одном дыхании. — Раздумываю вот, не поиграть ли с молодежью в мячик.
Он, пожалуй, мог сейчас и в мячик поиграть. Не так уж много времени прошло с той поры, когда жизнь виделась ему беспросветной, а теперь Кузьма Андреевич на человека походил. Надень на него форму, да подгони ее малость, да дело боевое дай по душе — по уменью, какую еще пользу принесет он, какой еще воин-интендант откроется — ни снайперу, ни разведчику не уступит.
— На вашем месте, Кузьма Андреич, я, пожалуй, не утерпел бы, — сказал я, принимая его тон.
— Тряхнуть?
— Тряхните.
— А смеяться не будут? — Лицо его сразу же стало серьезным, озабоченным.
Ребята на площадке были разные, поручиться за них я не мог, а рисковать не хотел.
— А мы возьмем да сами посмеемся над ними, — сказал я. — Посмотрите, как они мажут. Мази-илы!
Игроки оглянулись на меня: одни с улыбкой, другие с осуждением.
— У вас получается, — сказал Кузьма Андреевич. — А я не смогу.
— Что получается? — Я не понял Пантюхова.
— Насмешка, — ответил он. — Над собой я еще могу подшутить, а над другими — боже упаси. Вдруг обидишь?
Слова его удивили меня и позабавили. Не сейчас бы, когда кровь праведная льется по всей земле, говорить об этом. Гибнут в страданиях миллионы людей, рушатся города, оскверняются святыни, а он заводит речь о копеечных обидах… Но он, видно, такой уж, и переделывать его, пожалуй, поздно.
— До войны, товарищ лейтенант, не грех было и пошутить, посмеяться друг над другом. Жизнь была как жизнь, без обмана, без хитростей. А теперь надо осторожнее, беречь надо друг друга. Каждую душу беречь. Война будет дли-ин-ная.
Я понимал его. Не все его воззрения разделял, но понимал.
По скромности Кузьма Андреевич не напоминал мне больше о своей просьбе, полагая, очевидно, что если я человек серьезный и ответственный, то и так, без понуканья и без подталкивания, должен помочь ему найти свое место в боевом строю. Благо в выигрыше будут и он, Пантюхов, и дело, которому начнет служить с полной отдачей. Завтра он покидает госпиталь, сейчас ему, наверное, документы готовят, а он стоит и помалкивает. Думает, может быть, что в порядке все будет, коль лейтенант обещал. Хорошо, конечно, если он не потерял веру в командирское слово; в суматохе боев, в суете отступлений, беспорядочных и не всегда оправданных, мог и потерять ее, эту веру. Я подумал, что обещание мое должно быть выполнено при любых обстоятельствах.
С Валентиной Александровной я говорил, с начальником госпиталя тоже, оба они уверили меня, что в предписании непременно отметят и склонности Пантюхова, и жизненный его опыт. Уверить-то уверили, но могли и запамятовать. Надо обязательно пойти справиться. И не вечером, не завтра, а сейчас же, немедленно.
— Вам предписание еще не вручили? — спросил я Кузьму Андреевича.
— Никак нет, товарищ лейтенант, не вручили. Завтра, должно быть, выдадут, перед отъездом.
Не теряя времени, я направился в госпитальную контору. Мне повезло: у начальника госпиталя я застал Валентину Александровну.
— На ловцов и зверь бежит, — сказал, улыбнувшись, Андриан Иннокентьевич. — Присаживайтесь, лейтенант, да помогите-ка нам изложить потенциальные возможности красноармейца Пантюхова. То, за что вы так горячо ратовали. Мы уже битый час мудрим с Валентиной Александровной, а толку что-то не ахти как много. Попробуйте вы.
Кузьму Андреевича Пантюхова я, наверное, понимал лучше, чем они, и мне удалось довольно быстро сочинить ему живую характеристику и дать дельные советы его будущему командиру. Писал я старательно, от чистого сердца, и когда прочитал, даже сам остался доволен. На человека нормального, непредубежденного сочинение мое должно было подействовать хорошо, правильно.
— Вы уж не сетуйте на нас, — сказала с виноватой улыбкой Валентина Александровна. — У нас то жалостливо получалось, то казенно, а вы в самый раз угадали. Спасибо вам большое. Мне осталось только переписать да печать поставить.
— Отправка завтра? — спросил я.
— Завтра утром, — ответила Валентина Александровна. — Целый ворох бумаг надо еще приготовить.
Встал следом за ней и я. Минута показалась мне подходящей, чтоб напомнить им о себе.
— Завтра, наверное, уже не успеть, — сказал я, — а на следующей неделе и меня, пожалуйста, на выписку. Если можно, в первую же отправку.
Смерив меня веселым взглядом, Валентина Александровна повернула голову к начальнику.
— До чего ж резвые лейтенанты пошли. Словно и бегать уже научились, и ран будто никаких не было. — Она пытливо, в упор смотрела на Андриана Иннокентьевича, а он не поднимал глаз от стола. — Здоровым не угнаться, — добавила она мягко, пожалуй даже робко, но в голосе ее я почувствовал усмешку и скрытый вызов.
На столе у начальника лежали две горки бумаг, он поменял их местами, улыбнулся.
— Будем думать, Валентина Александровна, — сказал он, взглянув на часы. — Вдруг да угонимся? — Улыбка его стала шире, лицо мягче, моложе. — А пока суд да дело, давайте-ка к Наседкину заглянем?
— Может быть, не надо, Андриан Иннокентьевич? — возразила она. — Я сегодня заходила к нему трижды, и это вызвало у него подозрение. Он посчитал, что плохи его дела, коль я так часто его навещаю. Может быть, завтра?
— Хорошо, давайте завтра, только пораньше, до отправки. Я хочу наших проводить, а со станции заехать к военкому.
Валентина Александровна обрадовалась, потом вдруг спохватилась и, перед тем как покинуть кабинет, шутливо Андриана Иннокентьевича перекрестила.
Мы вышли вместе. По ее повелению мне пришлось пройти туда и обратно по всему коридору, потом вновь туда и обратно — на этот раз быстрым шагом. Настроение у нее было хорошее, она весело присматривалась к моей походке и приговаривала со смехом, что это испытание назначено мне в благодарность за мою же помощь.
Экзамен на ходьбу я вроде бы выдержал, хотя от оценки она воздержалась. Я был доволен и этим. На моем месте отсутствие оценки, наверное, любой принял бы за высокую оценку. На радостях я спросил, не нужен ли ей подмастерье, чтоб она могла побыстрее управиться с беспокоившими ее бумагами, и добавил, что если она согласится принять мою помощь, я готов подвергнуться новым испытаниям. Она рассмеялась и охотно взяла меня в помощники.
Работы у нее и впрямь скопилось много. Надо было на каждого отъезжающего бойца сделать выписку из истории болезни. Валентина Александровна диктовала, а я писал. Дело у нас пошло довольно быстро. Время от времени мы поглядывали друг на друга и улыбались.
В одну из таких минут я спросил, всерьез ли она собирается поближе к фронту и есть ли на этот раз надежда. Спросил не очень любезно, но сделал это сознательно: чтобы она разговорилась, надо было ее подзадорить.
Она, конечно, и виду не подала, что разгадала мою уловку. Спокойно, с улыбкой ответила: просится она не поближе к фронту, а на фронт, не в госпиталь прифронтовой, а в медсанбат, чтоб увидеть все собственными глазами. Увидеть, услышать, пороху понюхать. Это необходимо ей для жизни. И сейчас и после войны. Те, кто побывали там, могут жить с чистой совестью. Она хочет быть с ними равной.
На ее месте я рассуждал бы так же. Ничто, наверное, не возвышает так человека и в собственных глазах, и в глазах друзей, как причастность к главному делу времени.
Я слушал ее и согласно кивал, хотя в душе порывался не раз крикнуть: «Милая Валентина Александровна! Война — это мужское дело. В медсанбате тоже должны служить мужчины. Вы и так делаете большое дело, и место ваше здесь! Здесь!»
Я не крикнул. Слова мои могли оказать действие на Ольгу, на Андриана Иннокентьевича, но не на нее. Она была как я: долго думала, терзалась сомненьями, а когда решалась, переубеждать ее не было смысла.
Смысла не было тем паче, что у нее появилась надежда. Начальник госпиталя, совсем недавно и слышать не хотевший о том, чтоб отпустить ее на фронт, вроде бы перестал быть препятствием. Следом за ней он и сам написал рапорт и вновь попросился на фронт. Узнав об этом, она поначалу обрадовалась, а пораскинув умом, загрустила: одну ее, возможно, и отпустили бы, но двоих… Она пошла к Андриану Иннокентьевичу и слезно его умоляла повременить со своим рапортом. Хотя бы два-три месяца. Но он все же подал рапорт.
«Кого выберут, тот и поедет», — только и сказал. Валентина Александровна и за это была ему благодарна. Теперь она по крайней мере знала, что он не будет мешать ей, если выбор падет на нее.
А если выбор будет иной? Он может быть иной, сейчас трудно за что-либо поручиться. Кто же знает, какие мотивы возьмут у начальства верх в минуту выбора? Они сейчас могут меняться каждый день, а то и каждый час, эти мотивы.
Мы сидели за одним столом друг против друга, изредка обменивались словами, а чаще всего обходились без слов, не было в них нужды. Когда меж людьми существует согласие, достаточно одного взгляда, улыбки, едва заметного жеста, чтоб уловить любое движение души.
Через несколько дней мы расстанемся. Она лечила раны открытые и раны, видимые только ей, доброму ее сердцу. Лечила ласковым словом, душевной улыбкой, одним своим появлением. Я увезу с собой и голос ее, и улыбку. Но как сказать ей об этом? И не лучше ли сказать сейчас, в эти минуты?
Я смотрел на нее, раздумывал, а она чувствовала все сама и сама все видела. Подошла к окну, рассеянно посмотрела окрест, обернулась, неторопливо шагнула к столу. Руки ее опустились мне на плечи.
— Вот так-то, друг мой, — сказала она тихо.
Я поцеловал ее руки, сперва одну, потом другую.
Спасибо вам, Валентина Александровна. Спасибо и низкий поклон.
Дай вам бог жизни и счастья. Если не вы, то кто же тогда достоин счастливой жизни?
…На другой день госпиталь покидали семь человек. Это были обстрелянные, сноровистые бойцы, не чета юнцам-новобранцам. Вместе с Пантюховым госпитальную палату оставляли его соседи: тезка мой белобрысый Федор и рябоватый волжский богатырь Дмитрий. Они уже давно наладили отношения с Кузьмой Андреевичем и жили, как говорится, душа в душу.
Провожать их, как повелось, вышли все, кто был в состоянии выйти. Собрались у подъезда, куда должна была подойти машина. Белели замурованные в гипс руки, то тут, то там поскрипывали костыли, молодежь щеголяла самодельными расписными клюшками. Зрелище вроде бы не из веселых, а на лицах у людей играли довольные улыбки и разговор шел задиристый. Начал его, подойдя ко мне, мой тезка.
— Мы, товарищ лейтенант, договорились так с Дмитрием: он этих фрицев должен извести не меньше роты. Сколько у него на лице рябинок, столько ему и фрицев положить. А я счет буду вести по своим веснушкам.
Те, кто стояли рядом и кто слышали его слова, заулыбались пошире, повеселее, а кое-кто и засмеялся и совсем не тихо. К нам стали тесниться поближе. Кузьма Андреевич Пантюхов покачал головой и сказал, как отрезал:
— Не выхваляйся, Федор, кишка тонка.
— Это отчего же? — спросил Федор.
— Да у тебя же их целый батальон, этих веснушек!
Тут уж и степенные бойцы не выдержали и рассмеялись. Если кто и оставался серьезным, хотя бы с виду, так это сам Федор.
— Так уж и батальон? — спросил он.
— Не меньше, — ответил Кузьма Андреевич, разглядывая его лицо. — Может, даже и побольше. Как, хлопцы?
Зашумели хлопцы, заспорили, но Федор сразу же и утихомирил их.
— А ежели и батальон, ну и что? Я как-никак снайпер. В позапрошлом году, когда с белыми финнами воевали, без промаха научился пулять.
Дмитрий, переминаясь с ноги на ногу — в тесноватой солдатской гимнастерке он казался еще крупнее, — разрешил их спор просто.
— Рота там или батальон — не так уж и важно, — сказал он. — Главное, Кузьма Андреич, это чтоб ты харч нам обеспечил да курево. Каши побольше, сальца…
— Это мы с нашим удовольствием, — ответил Пантюхов, словно вся интендантская служба была уже в его руках. — Будет вам и каша, будет и сальце.
— Тогда полный ажур, — сказал Дмитрий. — Там ведь главное — не дрейфить да под пулю себя не выпячивать зазря. А что до силенки… — он распрямил плечи, потрогал мускулы, — да на сытый живот… Не выдюжить немцу.
— Это уж как пить дать, — подтвердил Федор. Вид у него был неказистый, и над словами его посмеялись.
Все это время к разговорчивой троице приглядывался щербатый боец средних лет с забинтованной во всю длину рукой. Он появился у нас с неделю назад, и видел я его всего раза два. Когда к нему кто-либо приближался, он тотчас же отступал в сторону — боялся, что прикоснутся к руке. После слов Федора он выступил как-то боком вперед и хрипловатым ехидным голосом сказал:
— Может быть, конечно, и получшают дела наши на фронте, как вы туда вернетесь, а пока что не мы, а нам фрицы дают прикурить. По всему фронту. Вот оно как выходит пока.
Изрек он эти занозистые слова, и улыбки у людей погасли. Сразу, начисто. Он сказал правду, но лучше бы он приберег ее для другого случая. Не это надо было ребятам в дорогу.
— Пока, — вяло повторил за ним Федор. — В том и все дело, что пока. Пока не обвыклись как следует, пока с силенками не собрались… — Он без охоты вглядывался в щербатого бойца, раздумывая, отвечать ему дальше либо на этом остановиться, чтоб не растравливать больше ни себя, ни своих друзей. Худое лицо щербатого с острым как шило взглядом побудило чем-то его к разговору. — Не так все просто, — продолжал он. — Мой отец на базар по целой неделе собирался. Деготьку припасет самого лучшего, наготовит веревок, мешки отберет покрепче. В дальней дороге, говорил он, всякая мелочь роль свою играет. Отец ладил все молчком, потихоньку да помаленьку, а сосед наш дядя Андрей Карнаухов укладываться начинал в последнюю минуту, зато всю неделю работал языком: и то он с собой возьмет, и другое прихватит, и распродаст он целую гору, и накупит всякой всячины. Отец, бывало, и уедет хорошо, и вернется как следует быть. А у дяди Андрея то колесо соскочит, то ось сломается, то подкова у лошади отлетит. Что-нибудь с ним да случалось, и на базар он часто приезжал к шапочному разбору, а то и вовсе не добирался. А война не базар, тут сотни, а то и тыщи всяких мелочей, и каждую учесть надо, не забыть. Мы перед войной иногда, как дядя Андрей, языки старались оттачивать. Незнамо только для чего: фашистов пугали либо себя подбадривали. Ну да ничего, война и делу научила. И поучит еще, наверное. — Федор вновь глянул на щербатого и усмехнулся. — Вот какую я речь закатил.
— Хорошая речь, — похвалил его щербатый. — Когда б до войны так говорили, глядишь, не драпали бы сейчас со стыдом да с позором. От кого драпаем-то? От фрица плюгавого! Курам смех! — Он остановил сухой, колючий взгляд на Федоре, но чем дольше присматривался к молодому бойцу, тем мягче и дружелюбнее становилось его лицо.
— А сосед твой, случайно, не конопатый был? — спросил вдруг он Федора.
— Дядя Андрей-то? Вроде бы нет. А что?
— Сдается мне, по повадке своей языком чесать ты больше на соседа похож, чем на отца.
Уел парня, ничего не скажешь. И обижаться нельзя — без зла человек говорил.
Федор и не обиделся.
— Ты, парень, не сердись, это ведь я так, для красного словца. Бойцы вы работящие, надежные, сразу видно. А посмеяться, побалагурить… Без этого тоже нельзя. В трудный час — даровая подмога, — сказал щербатый.
— Машина идет, — крикнул кто-то, и зашевелились, засуетились бойцы.
Подошел Кузьма Андреевич Пантюхов и спросил не без робости, можно ли ему из новой воинской части написать мне письмо. Он был уверен, что все у него теперь пойдет ладно, и хотел об этом рассказать. Я, конечно, рад был бы получить от него письмо, но через несколько дней сам собирался покинуть госпиталь. Даже господь бог не мог бы, наверное, сказать, куда мне писать письма. Приуныли мы с Кузьмой Андреевичем. А когда Федор, слышавший наш разговор, тоже захотел получить от нас весточку и даже писать нам, мы пригорюнились все трое.
На помощь пришла как нельзя кстати вездесущая Ольга. Я не видел ее, а она, как оказалось, была рядом с нами и все слышала.
— Проще пареной репы, — сказала она из-за моей спины, и мы дружно оглянулись на добрую нашу фею. — Вы напишете в госпиталь, а я перешлю вам адреса друг друга.
И вправду все было просто. На радости мы по очереди ее расцеловали.
В машину погрузились весело и бойко. Вместе с бойцами на станцию поехали Ольга и начальник госпиталя. Я тоже просился, но меня не взяли.
До свиданья, хлопцы. Счастливой судьбы вам. Пусть летят мимо вас все пули и снаряды, мины и бомбы.
…В госпитале да еще в военное время воскресенье ничем не отличалось от обычного дня. Те же завтраки и обеды, те же врачебные обходы, те же процедуры и перевязки. Все то же самое, и все-таки последнее мое воскресенье в госпитале было особое.
С утра выдалась редкая погода. Солнце теплое, ласковое, на небе ни облачка. И ветер был не ветер, а всего лишь легкое дуновение, нужное, казалось, только для того, чтоб видели все: движется мир, ничего на месте не стоит.
Пусть движется, думал я, только с востока на запад, как солнце, а не наоборот.
Радость вошла в мою душу вместе с солнышком. Госпиталь еще спал, и тишина стояла вокруг первозданная. Не верилось, не хотелось верить, что где-то рвались снаряды и бомбы, сотнями и тысячами гибли люди.
В голову пришла ухарская мысль спутешествовать к реке. Нам запрещалось уходить с госпитальной территории, а до реки, по словам старожилов, было версты две, не менее. Колебался я недолго. Завтра предстояла дальняя дорога, и врачебные правила уже казались мне вчерашним днем. Кроме того, решил я, малый поход перед большой дорогой должен в любом случае принести только пользу: не ахти какая, а все же проверка.
Тропинка шла лесом вдоль ручейка, спешившего на свидание с Камой. В незнакомом лесу, средь вековых сосен и черностволых дубов-великанов, отделивших меня от привычного мира, было чуть-чуть жутковато, но бойкий ручеек, в коем я сразу же почувствовал друга, то и дело отвлекал меня от застоявшегося покоя леса. На подходе к реке лес помельчал и повеселел. Как по команде запели птицы, и тотчас же песней залилось мое сердце, вбиравшее в себя каждый звук, каждое колено, будь оно самое простое или переливчато-замысловатое, и вскоре рождало свою, тревожную и вместе с тем легкую, трепетную, счастливую мелодию.
За поворотом неожиданно показалась Кама, спокойная, прозрачная, темно-зеленая от четко отражавшихся в ней деревьев. Я подошел к берегу и замер. Пели на все голоса лесные пичуги, слышно было глухое порханье, когда они перелетали с куста на куст, а я стоял и не отрывал глаз от реки. Вот она, моя стихия, подумал я. Не море, не Волга, а вот поди ж ты: тянет, ой как тянет к себе.
На другом берегу, поодаль, бесшумно сидели два малолетних рыбака с самодельными удочками. Они заметили меня и с недоумением переглянулись: их, должно быть, удивил мой госпитальный наряд. Мне тоже захотелось испытать рыбацкой удачи, но увы! Можно еще было из куста орешника выломать удилище, а где взять крючок, леску?
Что ж, на нет и суда нет. В такое утро хорошо и без удочки. Грех обижаться на утро в лесу, у живописной реки, когда светит теплое солнышко.
Человек устроен счастливо: на смену одному желанью приходит другое. Не вышло с удочкой — можно искупаться, поплавать. Я не купался целую вечность, война мирила меня и с этим, но сейчас, когда представился редкий случай, грех было бы от него отказываться. Я снял рубашку, шаровары, и взгляд мой невольно остановился на забинтованной ноге.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — подумалось мне. — Как же быть? Купаться с повязкой или разбинтоваться?» Поразмыслив, я решил, что мочить бинт нет нужды, и начал его развязывать.
— Что ты затеял? — услышал я испуганный девичий голос над самым ухом. Мне не надо было оборачиваться, чтоб разгадать, чей это голос. Он был единственный в госпитале, а может быть, и в целом мире, этот мягкий гортанный голос с целой гаммой оттенков.
— Оленька, милая, помоги, — сказал я, подняв на нее умоляющие глаза. — Развязать я и сам развяжу, а вот забинтовать потом… Поможешь?
— А зачем развязывать? — Она присела на корточки. — Забинтовано хорошо.
— Поплавать хочу — спасу нет. Когда теперь придется?
— Ты в уме или в госпитале оставил его на всякий случай? — Она отстранила мои руки и крепко-накрепко завязала узел. — И думать не смей. У нас после ильина дня ногу никто в реку не опустит, а сейчас август к концу подходит. Ты что? Пневмонию хочешь схватить? Одевайся и сейчас же в госпиталь!
Я не знал толком, что такое пневмония, но Ольга говорила в сердцах, иной раз в голосе даже гнев слышался, и внушение ее на меня подействовало.
— Что уж ты на меня так в последний-то день?.. — сказал я с укором.
— Оттого и сержусь, что последний день, — ответила Ольга, хотя совсем уже и не сердилась.
Ладно, подумал я, бог с ним, с купаньем. И вправду еще какую-нибудь простуду схватишь. Ольга пришла, Ольга — разве может что-либо идти в сравненье? По ее ситцевому платью рассыпаны были вперемежку колокольчики и васильки, и сама она, юная, присмиревшая, походила на нежный полевой цветок. Я смотрел на нее, любуясь, и чувствовал, как теплая волна счастья захлестывает мое сердце.
— Как ты здесь оказалась? — спросил я тихо. — Какой ангел принес тебя в этот ранний час?
— А тебе невдомек?
— Ты заходила в палату?
Она покачала головой.
— Как же ты догадалась?
— Солнышко подсказало, — ответила она со смущенной улыбкой. — Ему все видно.
— Ну а как, как все-таки оно тебе подсказало? — Ответ ее крайне удивил меня.
— Совсем просто. С вечера я забыла про занавеску, а утром солнышко без стука и пожаловало ко мне. Спать хотелось, а оно тормошит и тормошит.
Бог ты мой, то же самое ведь и у меня. И меня солнышко растормошило. Не Бориса Крутоверова — он спал и похрапывал в придачу, — а меня. И не Валентину Александровну, к примеру, а Ольгу.
Встретив мой изумленный взгляд, Ольга слегка смутилась, но и обрадовалась.
— Что ж ты хочешь, женское сердце — это самый что ни на есть надежный вещун, — сказала она бойко и уверенно, будто была первым по этой части знатоком. — Бабушка моя минута в минуту почувствовала, когда ранило дядю Петю. Ему-то осколок в плечо угодил, а ее в самое сердце толкнуло. Да как еще толкнуло-то: едва на ногах устояла. Мы с ней в троицын день поутру на поляну пошли, трав хотели пособирать лекарственных — она с молодости была приучена к травам, — и то-олько сквозь листву засветилась наша поляна, бабушку и толкнуло. Одной рукой она за сердце схватилась, другой — за меня. Опомнилась чуть-чуть и говорит: «Беда с нашим Петюшкой, о нем только и думала всю дорогу». Я взялась утешать ее, а она свое твердит: «Сын ведь единственный, кровушка родная, как не почуять». И у меня сердце заныло. Оставили травы до другого раза, домой вернулись. Пришли, и радио заговорило: в Москве, стало быть, шесть часов. Через неделю от дяди Пети получили письмо. Из госпиталя. Он писал черным по белому, что ранило его в воскресенье на троицын день в половине шестого утра… А ты спрашиваешь, как я узнала… Мне и солнце подсказывает, и река, и деревья.
До госпиталя мы не обмолвились ни словом. Шли, изредка друг на друга поглядывали и молчали. Было меж нами все ясно, светло и грустно. Рядом шагало юное диво, протяни руку — и вот оно, счастье, даже рукой шевелить не надо, чтоб ощутить его робкое дыханье, а стоило только подумать, что завтра, всего лишь через день и ночь, это диво останется далеко, как в сердце заползала щемящая тоска, и никакого от нее не было спасенья.
— Сегодня у нас с тобой два важных дела, — сказала она в коридоре, у самой моей палаты. — Массаж и вечер в Доме культуры. Валентина поручила мне и туда доставить тебя и обратно, имей это в виду.
— И массаж последний, и вечер тоже, — сказал я тихо.
— Массаж, если проснуться пораньше, можно еще и завтра сделать, а вот вечер… Первый и последний. — Она отворила дверь, и я вошел в палату.
Борис еще спал, а может быть, делал вид, что спал, я на цыпочках прошел к своей койке, прилег и закрыл глаза. Подумалось беспощадно: вечер с Ольгой вообще может статься последним. Тоска сжала сердце ледяными клещами. Мысль эту я кое-как отогнал, а клещи не разжимались. Лучше всего сейчас заняться бы делом, да где его здесь найдешь, дело, способное разогнать тоску?
Впрочем, в Доме культуры намечалось сегодня дело. Комсомольские вожаки поселка пригласили нас к ребятам, которые вскоре должны призываться в армию. Нас просили рассказать о боях, поделиться опытом фронтовой жизни, дать добрые советы. Мне казалось важным, если ребята с самого начала узнают о войне правду, услышат дельные наставления. Ох как нам этого недоставало! А мы были хлопцы кадровые, обученные. Что ж говорить об этих юнцах-школьниках.
Помимо воли, а может быть, даже и с ее помощью задумался я о том, что же вечером сказать ребятам. Первым делом, наверное, надо завести разговор о страхе. От этого изъяна не избавлен никто, но человек нормальный вполне может его побороть, загнать в угол. Это не всегда просто, но всегда в человеческих силах. Могу судить по себе. Когда поблизости ложатся снаряды или, оторвавшись от самолета, прямо на тебя с дьявольским свистом летит здоровенная бомба, предательски подрагивают коленки, шея сама собой вбирается в плечи. Тогда нужно еще усерднее и старательнее делать свое дело. Дело — верный спаситель от страха.
Страх чаще всего приходит от беспомощности. А если ты знаешь свое оружие, всю его страшную силу, если оно действует в твоих руках играючи, страх может миновать тебя начисто.
И еще очень важно: нельзя дрожать за свою жизнь. Гибель обычно настигает тех, кто в страхе идет на все — лишь бы выжить. Нет слов, жизнь — великое дело. Все доброе на свете и все разумное творится для жизни. Но честь и достоинство человеческое выше. Трус на войне выживает редко. Цепляясь любыми путями за жизнь, он суетится, мечется, делает все не так, как надо, и первым попадает под вражескую пулю. Это проверено веками, сотнями войн. А если всему наперекор и удастся ему избежать смерти, то что у него будет за жизнь? Разве может нормальный человек простить себе потерю чести? А сам себе простит — люди не простят, Родина осудит.
Это я и сказал ребятам в Доме культуры. Народу пришло много, зал был набит битком. Впереди сидели завтрашние бойцы, за ними — старики, женщины, дети. Мне пришлось говорить первым: председатель отдал дань моим лейтенантским нашивкам. Слушатели мои были одеты кто во что горазд, а я пришел в новом флотском кителе с начищенными до блеска пуговицами, и мне стало неловко за свой щегольской наряд. Я и смущен был поначалу, и растерян, но довольно скоро взял себя в руки, поскольку рассказывать собирался о храбрости.
Начал с того, что в отличие от пехотинца моряк не видит противника в лицо. Видит вражеские самолеты, корабли, иной раз случается видеть торпеды, мины, а живой фашист скрыт от его глаз, и у моряка нет той ярости, какая бурлит в пехотинце. Зато когда ему приходится воевать на суше, будь то в предместьях Таллина, под Ленинградом или под Москвой, ярость его удваивается, и пощады от него врагу нет и не будет. Недаром морскую нашу пехоту окрестили фашисты черной смертью.
Я рассказал о военных кораблях, о друзьях-балтийцах, ни разу не дрогнувших перед врагом. Слушали меня хорошо, однако смотрели многие не на меня, а на мой китель, на блестящие пуговицы. Это вызвало у меня улыбку, позабавило, но и помогло: я заговорил попросту, доверительно. И китель перестал привлекать внимание, и на нашивки на рукавах уже не смотрели. Связь с ребятами была установлена, связь прямая, устойчивая, теперь можно было вести речь о главном — о страхе и о том, как его побороть.
Повел я эту речь, и ребята заулыбались, глаза у них заблестели — дошло!
Настала пора уступить место пехотинцам, пушкарям, танкистам. Они могут порассказать куда больше, чем я, и советы их пригодятся скорее: ребят собирались отправлять в стрелковую дивизию.
— Немец, конечно, вояка крепкий, — сказал сержант-пехотинец, выступивший следом за мной. — Самое главное, он давно воюет. И оружия всякого настряпал, и обращаться с ним наловчился. Молодец, ничего не скажешь. Но молодец он, как у нас говорят, против овец, а против молодца сам овца. Пока от него бегут, он и нос успевает задрать, и хвост распустить. А когда звезданут его, как следует быть, он, глядишь, и присмирел.
Лейтенант флотский правильно сейчас говорил: главное — не страшиться, духом не падать. А кроме того, надо все уметь. Окоп отрыть поглубже, винтовку знать, пулемет, гранату бросить подальше да пометче. На бойца-неумеху танк, к примеру, может такого нагнать страху, что отнимутся руки-ноги, и, считай, погиб человек, а ловкий боец, с умом да со смекалкой, подпустит это страшилище поближе и запросто его подпалит без ружья, одной бутылкой с горючей смесью.
Хорошо, конечно, когда у бойца сила есть в руках да в ногах. Сила и ловкость. Месяц назад на два наших окопа целый взвод фашистов кинулся. Перестрелка завязалась, гранаты в ход пошли, а под конец схватились в рукопашной. Двух фрицев я уложил быстро и без особого труда, квелые были оба, а третий попался здоровый детина и сноровистый. Долго я с ним возился. Если б до войны борьбе не обучался в школе, не справился бы, пожалуй. Один раз бросил его через себя, другой, потом прижал к брустверу и тихонько полез за финкой. На один миг отвлекся, всего на один миг, и он моментально вцепился мне в руку зубами. Я рассвирепел и, конечно, придушил его, а рука… — Он глянул на свою забинтованную руку и слегка смутился. — Насквозь прокусил, сукин сын. Стыдно сказать, в госпиталь из-за нее угодил. Заражение случилось, не иначе как слюна у фрица была ядовитая.
После сержанта рассказали о своих ратных делах танкист, едва не сгоревший в машине, сапер, зенитчик, связист, полковой разведчик, стрелок-радист с тяжелого морского бомбардировщика, летавшего на Берлин. К концу встречи такая выстроилась живописная шеренга боевых эпизодов, такая шкатулка солдатского опыта наполнилась до краев, что я не мог бы сказать, наверное, кому было интереснее: ребятам-призывникам или самим рассказчикам. Довольны были и те и другие, смехом и аплодисментами взрывались и зал и сцена.
Я вглядывался в лица ребят, стариков и женщин, в их глаза, то веселые, то полные священного гнева, и если о чем-либо жалел, то лишь о том, что глаз этих не видит Гитлер. Будь он нормальным человеком, всмотрись в них попристальнее, понял бы без особых усилий: одолеть таких людей невозможно. Понял бы и, пока не поздно, убрался бы со своими ордами подальше от России. Впрочем, было уже поздно: после бесчисленных жертв и страданий нас мог устроить только разгром фашизма. Полный разгром и неминуемая кара.
В самый канун отъезда совсем негаданно судьба вооружила меня новыми силами, прибавила азарта, вдохнула жажду боя и отмщения. Не один я ощущал этот необыкновенный душевный подъем. Доведись сейчас идти в атаку, все до единого, от старого до малого, рванулись бы на врага со всей яростью и смяли, сокрушили бы его одной жгучей ненавистью. Никому бы и в голову не пришло думать о возможной гибели, о ранении. Только вперед, на запад, на врага!
Нам сказали, что после перерыва будет концерт самодеятельности. Оставаться не хотелось: слишком дорого было мне только что обретенное чувство окрыляющей душевной высоты, а в концерте и приглушить его можно, и расплескать по капле — неизвестно еще, чем собирались потчевать нас самодеятельные артисты.
Как нельзя вовремя подошла Ольга. Она молча взяла меня под руку, улыбнулась комсомольским вожакам и преспокойно увела меня от них. В фойе по кругу, разминая уставшие от долгого сидения ноги, прогуливались вперемежку с бойцами-ораторами те, кто только что участливо и благодарно слушали нас. Сержант-пехотинец с забинтованной рукой на перевязи шествовал в плотном окружении ребят-призывников. Один за другим сыпались ему вопросы, он степенно отвечал на них. Пытались подступиться к нему девушки, но ребята были настороже, и похищение не состоялось.
Женщины то и дело посматривали на Ольгу и на меня. Не очень уютно было мне под этими взглядами, я нет-нет да и с шага сбивался, а Ольга, напротив, шла важно, горделиво, будто лишь этих взглядов ей до сих пор и недоставало. Щеки ее разрумянились, глаза заискрились. Она была сама радость, само счастье и не хотела этого таить. Иногда мне казалось, что она чуть ли не напоказ выставляет свои чувства. Однако думалось мне так совсем недолго. Не знаю, каким образом, но состояние ее передалось вскоре и мне. Я тоже ощутил прилив радости. Рядом со мной, опираясь на мою руку, шла дивная девушка, я был здоров или почти здоров. Едва я это осознал, как мне стало легко, весело, беззаботно. Теперь и я рад был, что на нас с Ольгой смотрели, я хотел, чтоб на нас смотрели. Она заметила эту перемену во мне, подняла на меня сияющие глаза и тихонько пожала руку. Никаких иных глаз на свете для меня больше не существовало и ничью иную руку я не хотел бы чувствовать в своей руке.
Зазвенел звонок, приглашая всех нас в зал на концерт. Круг гуляющих продолжал еще по инерции свое движение, но с каждой минутой заметно редел. По тому, как слабела и слабела рука Ольги, я догадался, что на концерт не тянет и ее, и, когда фойе почти опустело, мы, ни слова друг другу не говоря, вышли на улицу.
На глазах у нас скрылось за деревьями солнце, но оно еще жило и в лесу, и в воздухе, и в нас самих.
— Ты сказал хорошую речь. — Ольга крепко сжала мне руку. — Это даже не речь была, а откровение. Будто с другом своим близким разговаривал. Молодец. После тебя и другим ничего иного не оставалось. Хорошо получилось все, душевно. Я, грешным делом, не думала даже, что такие могут быть митинги.
— Когда б не ты, не утро нынешнее, я не знал бы, о чем и речь вести…
— Ска-ажешь… — Она не поверила мне. — Я-то при чем?
— Страх на меня напал: вдруг больше не увижу тебя?
Она подняла голову, и глаза наши встретились. Страх этот был и у нее, только она не говорила о нем и говорить не собиралась.
Опустив глаза, спросила удивленно:
— Куда же мы идем? Госпиталь в другой стороне.
Я сказал, что идем мы к ее дому, хотя представления не имел, где он, этот дом. Не мог я, надев форму, не проводить ее хоть однажды, хоть на прощанье. Слов моих она будто не слышала. Да и какой толк в словах, когда ясно все и без них.
— Я хочу с тобой на фронт, — сказала она твердо и остановилась посреди улицы, глядя мне в глаза. — Скажи по-честному: возможность какая-нибудь есть? Хоть самая маленькая?
Что я мог ответить ей? Возможности никакой не было. На боевой корабль меня сейчас и самого не возьмут — врачебная комиссия признала меня годным лишь к нестроевой службе. Но даже если б взяли, об Ольге, конечно, не могло быть и речи. Кто же на боевой корабль возьмет девушку? Не было такого и не будет.
— Совсем не берут девчонок? — спросила она.
— Конечно, не берут. Женщина несчастье приносит кораблю.
— Глупости говоришь.
— Не глупости. Это веками проверено. И в английском флоте так, и в американском.
— Все равно глупости, — сказала она, но уже не так решительно.
Мы пошли дальше, и Ольга поведала мне по секрету, что за начальника останется в госпитале Валентина Александровна, что выдадут ей военную форму, а Андриана Иннокентьевича, должно быть, пошлют на фронт.
Весть эту я принял спокойно: так оно и быть должно. А Борис Крутоверов обрадуется, когда узнает. И Жора Наседкин рад будет радешенек, скорее на поправку пойдет.
Все это моим друзьям еще предстояло, а мне казалось уже свершившимся, будто работала во мне машина времени. Странное это ощущение не касалось одной Ольги. Она была рядом и вне времени: была, есть, будет. Я не выдержал и сказал ей об этом. Она опять остановилась и долго, пристально смотрела на меня. Лицо ее было серьезным, озабоченным.
— Если б мы были сейчас не на улице, я тебя расцеловала бы, — сказала она дрогнувшим голосом и отвернулась, чтоб скрыть слезы.
— Ну вот… — растерялся я, — знал бы, и не говорил.
— Ничего, это от радости… — Она достала из-за рукава сиреневый платочек и бережно промакнула им глаза. Потом снова взяла меня под руку, и мы пошли вдоль улицы. — Как неладно у тебя получилось: знал бы, и не говорил… Разве такое можно таить? А вдруг я не узнала бы? Другая доля могла меня подстеречь. Это не шутка. Я доли другой не хочу. Слышишь?
Слышу, как не слышать. Сам думаю об этом весь день. Только не шибко война с твоей да с моей долей считается. У войны свои дороги. На месяц-другой пересеклись с нашими, завязали узел — и опять в разные стороны.
— Думаешь, я хочу? — Теперь остановился я и невольно вздохнул.
— И ты не хочешь, я вижу. — Она нечаянно посмотрела на окна двухэтажного рубленого дома, откуда нас разглядывали любопытные глаза, и улыбнулась. — Нам, пожалуй, не надо останавливаться.
Подгоняемые посторонними взглядами, путь до ее дома мы прошли нервным торопким шагом. Ольга напряженно о чем-то думала, я не посмел прерывать ее мысли. У калитки, неведомо откуда взявшись, перед нами вырос рыжий с белой грудью пес. Он стоял на задних лапах и, нещадно скребясь о калитку, поскуливая, виляя хвостом, преданно смотрел на Ольгу.
— Это наш Дружок, — сказала она ласково. — Знакомьтесь.
Дружок едва удостоил меня взгляда. Он предпочел лизнуть руки юной хозяйки, уткнуться ей в колени и ждать ласки.
— Что же ты, Дружок? — журила его Ольга. — Это лейтенант Жичин, флотский командир, лучший мой друг, а ты на него ноль внимания. Нехорошо.
Дружок порывался войти с нами в дом, но Ольга его не пустила. Прикрикнув на него, она закрыла дверь на крючок.
На столе лежала записка, Ольга прочла ее.
— Ну вот… Хотела тобой перед бабушкой похвастаться, а она к родственникам уковыляла…
Ей вроде бы и жалко было, что мы не застали бабушку, и в то же время она как будто даже довольна была, что в доме никого не оказалось. Прошла на кухню, открыла шкафчик.
— Хочешь, я тебя грибами солеными угощу? Волнушками?
Будь это вчера или позавчера, я охотно согласился бы — грибов соленых не ел целую вечность, — но сейчас, когда времени оставалось совсем мало и когда с минуты на минуту могли появиться бабушка или Валентина Александровна… Я наотрез отказался.
— Ну и зря. На мой вкус, волнушки нисколько не хуже рыжиков. Может, чаю?
Отказался я и от чая.
— Дай-ка мне лучше посмотреть на тебя как следует. — Я подошел к ней, взял ее за руки. — Запомнить твое лицо…
— А чай, между прочим, с вареньем. Ты, поди, лет сто не ел варенья-то. Земляничное, душистое. Как же это я не догадалась принести тебе?
— Да бог с ним, с вареньем-то. Ты погляди, какие у тебя брови!
— Какие?
— Ершистые, но добрые, красивые. А ресницы прямо по версте.
— Это хорошо или плохо?
— Если б плохо — не говорил бы. А глаза бездонные, как море.
— Говори, говори.
Но говорить мне было уже невмочь. Я прильнул к ее губам, юным, нежным, отдававшим спелой земляникой. И Ольга подалась ко мне, теплыми руками обвила мою шею. Губы наши слились, от счастья у меня перехватило дыхание, закружилась голова, и я уже не мог различить, где были ее губы, а где мои. Было ощущение, будто мы летим в пропасть, не падаем, а летим, и страшно вроде бы, и заманчиво, радостно, того и гляди, сердце выпрыгнет от счастья.
— Это надо же… Влюбилась! — говорила она, уткнувшись мне в грудь. — Была мама, бабушка, их только и любила, ни о ком больше и не помышляла. А тут как снег на голову — моряк, незнакомый, неведомый, и нет на всем белом свете никого дороже. Разве не странно?
Она прижалась ко мне со всей силой, какая у нее была. Плечи ее дрожали, подогнулись в коленях ноги. Но было в этом порыве что-то детское, беззащитное, и меня взяла оторопь.
— Нельзя нам, Оленька… — сказал я глухо. — Пойми меня…
— Отчего же нельзя? — Она вскинула голову, и я встретил решительный взгляд женщины. — Ты мне послан судьбой, я знаю. Так же, как я предназначена тебе. С судьбой шутить не надо, тем паче теперь, когда на каждом шагу стережет смерть.
Я поверил ей. Не словам, слова могли быть иные. Уверил меня и околдовал ее нездешний гортанный голос с торжественно-скорбной окраской. Мне показалось, что это речет, вещает сама судьба. Меня бросило в дрожь.
От удивления и невольной растерянности я склонился к ней, нашел губы, глаза, плечи и не отпускал ее до тех пор, пока не залаял на улице Дружок.
Ольга была права: от судьбы не уйдешь. И зачем уходить, когда она само счастье.
— Мне следовало бы тебя проводить, — сказала она, поправляя волосы. — Но я не пойду. И завтра не приду, ладно? Хочу сохранить тебя таким, какой ты сейчас.
Умница. Лучше, чем сейчас, мы все равно не будем.
…Утром, простившись с госпиталем, я уехал. На душе было грустно, тревожно, но оба эти чувства заглушались светлой звенящей радостью. Оно и понятно: я увозил с собой любящее сердце, я знал, что отныне меня будут ждать.
Другая жизнь, когда тебя ждут.
ЗАВЕЩАЮ ТЕБЕ…
Рассказ
Перед тем как ехать в дальние края, я собрался навестить свой госпиталь. У матери на Волге я только что побывал. Надо бы, конечно, махнуть еще в Ленинград, на боевой свой крейсер, но из-за блокады путь туда был заказан.
Госпиталь поставил меня на ноги, преподнес урок душевной щедрости, а главное — открыл мне Ольгу, мою любовь и мою судьбу. Мы расстались год назад, сами собой разумелись встречи или хотя бы письма. На встречи особых надежд не было, а вот письма… Писать друг другу не возбранялось и в войну.
Сотни писем отправил я Ольге — добрых, сердечных, недоуменных и даже сердитых, — а в ответ не получил ни одного. В первые недели у меня было резонное объяснение — Ольга не знала моего адреса, — а потом я просто терялся в догадках. Заподозрить Ольгу в каком-либо худом умысле я не мог, не такой она была человек.
Я терпеливо ждал целый год и, как только представился случай, отправился в путь.
Всю дорогу я думал об Ольге. Тревожно думал, мучительно. Что-то, конечно, стряслось с ней, что-то недоброе. Не могла она молчать просто так или из-за пустячного каприза. Я представил себе ее добрые глаза, не по возрасту мудрый взгляд, мягкую, застенчивую улыбку, живо воскресил в памяти необыкновенный ее голос с низким, гортанным придыханием, и мне стало совершенно ясно: произошло что-то невероятное. Случись, паче чаяния, другая любовь, Ольга не замедлила бы признаться. Она не дала бы ходу этой любви, пока не призналась.
Говорливые попутчики не однажды пытались втянуть меня в шумную свою беседу за хмельной трапезой, а я всякий раз отказывался, и где-то на полпути артиллерийский капитан, смерив меня насмешливым взглядом, спросил, не по ошибке ли я надел флотскую форму. Молодой лейтенант, не уловив иронии, потребовал мои документы…
Удивительный голос Ольги слышался мне теперь то и дело… Этот голос и волшебные девичьи слова уносили меня в теплое прошлогоднее лето, в тихий лесной городок на Каме, ставший городом моей любви, и я начисто отрешался от поезда и от попутчиков. Когда приглашения моих коллег-офицеров становились слишком навязчивыми, я приносил извинения и сказывался нездоровым.
Я впрямь чувствовал себя странно: то меня в жар бросало, и я ощущал необыкновенный подъем сил, то обливался холодным потом и едва шевелил пальцами. Моя болезнь, как я догадывался, была лихорадочным предчувствием беды.
Попутчики сходили раньше, и мне стоило труда взять себя в руки, когда подошла пора прощаться. Артиллерийский капитан глянул мне в глаза и тихо промолвил, что он не завидует мне, несмотря на элегантную флотскую форму. Я признательно кивнул ему: хорошо, что ни о чем не расспрашивал.
К вечеру я добрался до своего городка и после минутного колебания выбрал дорогу к госпиталю. Идти к Ольге домой не решился, сделалось страшно.
Белокаменный двухэтажный госпиталь весь выплыл на опушку леса, едва я миновал массивный Дом культуры, загораживавший поляну перед сосновым бором.
Чем ближе я подходил к белой своей лечебнице, тем реже, замедленнее становились мои шаги. Зато сердце колотилось гулко и часто. Мне казалось, что оно слегка пошатывало меня из стороны в сторону. Оно, сердце, боялось и госпиталя.
— Вам кого? — спросила меня незнакомая пожилая женщина в белом халате, заметив мою робость.
— Мне? — переспросил я, не готовый к ответу, и перевел взгляд на окна госпитальной конторы, алевшие от закатного солнца. — Я хотел бы видеть Валентину Александровну.
— В конторе, поди, бумаги свои пишет либо палаты обходит в больнице. Раненых-то вчера прибавилось.
Такой от ее слов повеяло знакомой жизнью, такие встали перед глазами пронзительные ее штрихи, что меня невольно взяла оторопь. Я закрыл глаза и почувствовал холодок в груди.
— Много раненых? — спросил я.
— Дюжины полторы, не меньше. И флотские есть, — добавила она, разглядывая меня и мою форму. — А вы… вы не лечились у нас?
— Лечился. Прошлым летом.
— То-то я и вижу, будто знакомый… Идите, идите, Валентина Александровна рада будет. — Она торопливо перекрестила меня, что-то под нос себе прошептала и пошла своей дорогой.
Валентина Александровна Мажорцева, мой лечащий врач и друг, и вправду сидела в конторе и писала свои бумаги. Бумаг этих, как и прошлым летом, был целый ворох, и я по прошлогоднему же опыту предложил себя в помощь. Валентина Александровна подняла голову и долго в недоумении смотрела на меня. Потом всплеснула руками, сорвалась с места и в один миг очутилась рядом со мной у двери.
— Фе-е-дор Василич! Фе-едя! — Она обвила меня руками, уткнулась в плечо. Я отчетливо слышал ее сердце, оно билось-отрывисто и тревожно.
Больше всего на свете я хотел сейчас узнать об Ольге, а Валентина Александровна, умная, тонкая Валентина Александровна, молчала. Неужели не догадывалась? Может быть, не хотела догадываться?
— Как Борис? — спросил я о своем друге, с которым прокоротал здесь не одну неделю в одной палате. О ком, о ком, а о Борисе Крутоверове Валентина Александровна должна знать.
— Борис в отъезде, — ответила она без особой охоты. — С протезом у него не заладилось. Поехал на завод сам, собственнолично.
Она могла сказать о Борисе и побольше, но не сказала.
Был еще человек, о ком я не мог не спросить, — Жора Наседкин. На этот вопрос Валентина Александровна откликнулась живее. После операции Жора довольно быстро пошел на поправку, повеселел, заулыбался, будто и не было смертельной опасности. Песни пел, сочинял стихи, общим любимцем стал в госпитале.
— Улетел наш соловушка. — Она вздохнула. — В дальние края война унесла. Пишет нам. Недавно вырезку из газеты прислал — орденом боевым наградили… Батюшки! — Она всплеснула руками. — Что же это мы все о других да о других… Сам-то как живешь-можешь? Осколок не беспокоит? Мы тебя тут часто вспоминаем. Чаще всех. И тебя, и осколок твой. Что молчишь? Беспокоит или угомонился?
За меня ответили мой взгляд и мое молчание. Ответили столь речисто, что Валентина Александровна больше не спрашивала. Ни слова не говоря, она убрала со стола бумаги, сняла халат и вновь подошла ко мне.
— Пошли, — сказала она и взяла меня под руку. Возле входных ворот, встретив раненых, спохватилась и руку убрала. Я повернулся к ней и, к своему удивлению, обнаружил, что она была в армейской форме. На плечах у нее, как и у меня, блестели погоны с новыми звездочками. У нее было четыре звездочки, а у меня — три. В иных обстоятельствах я не упустил бы случая поострить, посмеяться над нашим неравенством. В любых иных, но не в этих. Я уже догадался, что мы шли к дому Ольги, — дорогу Валентина Александровна знает, жила там, — но никак не мог додуматься, почему Валентина Александровна ни словечком о ней не обмолвилась. Может быть, спросить ее — и дело с концом? И ее избавить от тяжести, и самому узнать. В груди у меня похолодело. Нет, нет, ни к чему, она видит все и все чувствует.
— Когда меня определили в начальники, — тихо начала Валентина Александровна, — я перебралась от них в контору, поближе к больным. И дел в госпитале по горло, и комната пустовала. Переезд был для них большим огорчением. И для меня тоже. Сроднились мы. Ольга частенько у меня ночевала, я к ним наведывалась. Ладно все шло, душевно, пока…
— Что пока? — не выдержал я. — Говорите же!
Валентина Александровна эти слова ожидала, готова была к ним, а ответить решилась лишь у самого дома.
— Пока не надумала Ольга на фронт.
— Она на фронте?
Вместо ответа Валентина Александровна отомкнула калитку и молча пригласила меня пройти в дом. На крыльце лежал полусонный Дружок. Услышав нас, он не спеша потянулся и грустно, лениво вильнул хвостом.
В доме было сумрачно и пустынно. На боковой стене, натяжно подгоняя время, тикали старые ходики.
— Это ты, доченька? — прошелестел голос из-за перегородки.
— Я, Наталья Кузьминишна, я, — ответила моя спутница.
— По шагам тебя узнала, а спросила просто так, для порядка.
— А ведь я не одна, Наталья Кузьминишна.
— И это знаю, доченька. Чужой кто-то с тобой.
Валентина Александровна едва заметно скосила на меня глаза, вздохнула.
— Я этого не сказала бы, — вымолвила она едва слышно, но за перегородку слова ее дошли.
— Однако, не Борис же?
— Не Борис, это верно. Породнее Бориса.
— Да ну? — Наталья Кузьминична, худенькая морщинистая старушка, выскользнула из-за перегородки и уставила на меня пристальный сердобольный взгляд. — Кто же это?
Взгляд ее был предельно ясен, у меня подкосились ноги.
— Это тот самый моряк, — сказала Валентина Александровна. — Старший лейтенант Жичин. Федор Васильевич.
— Во-он ка-ак! — изумленно вымолвила Наталья Кузьминична, хотя догадалась, кто я такой, с первого же мгновения, как только глянула на меня. — Таким он, пожалуй, и виделся мне по ее рассказам. Ладно, что приехал, а то уж я и забывать стала. Немудрено — старая. Проходите, усаживайтесь, я сейчас чай смастерю.
— Ната-алья Кузьминишна, — остановила ее Валентина Александровна.
Склонив голову, Наталья Кузьминична прошла к узорчатой горке, отворила ее и достала конверт из плотной серой бумаги. Она подержала его в руках, повернулась и решительно шагнула ко мне.
— Это тебе, Федор, — сказала она, протягивая конверт. — Это все тебе. Читай.
На конверте смоченным чернильным карандашом был выведен знакомый мне адрес Ольги, внизу значилась полевая почта отправителя, ничего мне не говорившая. Я вытащил из конверта аккуратно сложенные листки бумаги, исписанные торопливой девичьей рукой. Я не знал почерка Ольги, но с первых же слов понял непреложно: письма эти адресованы мне, а писались они Ольгой.
Друг мой, муж мой! Следом за тобой и я отправилась на фронт, по-другому я не могла, и в первую же ночь в сырой душной землянке привиделся мне страшный сон. Одетая в военную форму, точь-в-точь как у меня, явилась передо мной моя бабушка, о которой я тебе не однажды рассказывала, и строгим неземным голосом, каким она никогда не говорила, дала наказ: «Если ты его любишь, если хочешь, чтоб он жил, не обременяй его, не пиши ему. Ты поняла меня?»
«Но он рад будет моим письмам! — воскликнула я. — Он просил меня!»
«Не испытывай судьбу, — молвила она в ответ. — Я сказала все».
Сказала и тотчас исчезла.
Я проснулась в холодном поту и спать больше не могла. Я лежала с закрытыми глазами, думала, призывала на помощь тебя. Пожаловаться не могу: ты приходил ко мне и молча становился у изголовья, красивый, недоступный. Если б я решилась спросить тебя, ты, наверное, что-нибудь посоветовал бы мне, но я боялась не только слово молвить — глаза открыть боялась: вдруг исчезнешь, как исчезла бабушка. Я любовалась тобой, довольно с меня было и этого. Я лежала, боясь шевельнуться, и думала, думала… Под утро решила: писать я тебе буду, а письма отправлять повременю. Придет конец войне, опасность минует, тогда и пошлю.
Прочла свои каракули и испугалась: не с того ль света ты являлся к моему изголовью? Где ты? Хорошо, если в Москве.
Проливной дождь льет, а пушки палят и с нашей стороны, и с той, с вражеской. Похвастаюсь перед тобой: мне совсем не страшно. Подруги мои испугались и убежали в укрытие, а мне хоть бы что. Кто-то пустил слух, что я заговоренная. Если это правда, то заговорил меня ты. Чувствую всей своей кровью: если б я не полюбила и не узнала тебя, я была бы здесь первой трусихой.
Три дня назад в бою за маленькую деревеньку Глухово ранило командира роты. Он был богатырского сложения, однополчане звали его Ильей Муромцем, и на помощь ему послали Варю Терехову, рослую сильную девушку. Рядом с ней я гляделась пигалицей. Лощинка, где укрыли командира роты, была верстах в четырех от медпункта. Варя ушла и пропала. Час не появлялась, два, три. Пришлось идти мне. И не идти даже, а пробираться ползком, по-пластунски, как здесь говорят, потому что то и дело слышались поблизости пулеметные очереди. Встретила я их на полпути, Варю и капитана. Капитан был без сознания, а Варя совсем выбилась из сил. Она лежала бледная, измученная, тяжело дышала. Увидев меня, обрадовалась, засуетилась.
«Оленька, милая, как хорошо, что ты пришла. Вдвоем-то мы его живо дотащим. Ему операцию надо делать немедленно».
Поглядела я на Варю и поняла: ее самое надо тащить. «И тебя ранило?» — спросила я.
«Чуть-чуть, — ответила она. — Самую малость. Отдышусь вот — и поползем».
«Ты лежи тут и никуда не двигайся, — сказала я твердо. — Оттащу капитана, приду за тобой».
Смерила она меня с ног до головы жалостливым взглядом и только вздохнула молча. Как же, мол, ты его потащишь, когда он — смотри — как берег раскинулся, а ты… Промолчала она, но мне и без слов все было понятно.
Не стану рассказывать, как я его тащила — скажу только, что истратила все свои силы и всю выдумку, — часа через два или три я все же его доволокла, доставила живым. Его, конечно, сразу же на операционный стол, а я…
Передохнула чуть-чуть и — за Варей. Стрельба поутихла, наши вроде бы поотогнали эту немчуру, и я то ползком, то пешком скорехонько до нее добралась. Она, бедняжка, и не ждала меня, думала, что я и с капитаном-то не справлюсь, а я вот взяла и справилась. С обоими. С Варей-то, конечно, легче было, она временами и сама двигалась, без всякой помощи.
Майор как увидел меня, так руками всплеснул.
«Неужели это ты? — спрашивает. — И капитана и Варю? Да тебя надо орденом наградить. Где же ты сил-то столько взяла?»
Я не стала ему отвечать — сил-то у меня почти не осталось, — но я могла ответить, я знала, что ответить: эти силы дал мне ты! Спасибо тебе за это.
За себя я не боюсь нисколечко, а вот за тебя… Вдруг я тебя потеряю?
Майор Поневолев и вправду представил меня к ордену. Не к медали, а к боевому ордену. Говорят, вполне могут наградить. Вот уже не думала никогда. Мне даже неловко как-то перед подругами.
Фамилия у майора смешная, а человек он хороший, добрый, и зовут его все майором поневоле. Ему бы не командиром быть, а учителем в школе или в институте. Это я не свои слова тебе говорю, а Варины, но я с ними полностью согласна.
Лицо у майора совсем молодое, почти как у тебя, а волосы белые, седые. Варя говорит, что волосы у него поседели от крупных переживаний, я тоже так думаю, а догадаться, что это за переживания, не можем ни Варя, ни я. Мне это не очень уж и интересно, а вот Варе… Она только о майоре и говорит. Узнала где-то его имя, и теперь я только и слышу: Дима, Димочка, Дмитрий Сергеевич.
На днях я встретила майора возле санбата. Он остановился, пристально меня оглядел и спросил, как зовут.
— Ольга, — ответила я.
— А ее звали Анфиса.
— Кого? — удивилась я.
Он опять остановил на мне внимательный взгляд, и я увидела в нем такую мимолетную радость, но радость эта тотчас же на глазах утонула в давней, застоявшейся боли.
— Жену мою, жену, — ответил он. — Похожа ты на нее.
Сказал и пошел своей дорогой. А когда я поведала об этом разговоре своей подружке, она как-то сразу сникла. Мне и невдомек было, что рассказ мог выбить ее из колеи. Казалось, наоборот: по крайней мере, ясной стала причина его страданий.
Варя думала по-другому. Она слушала меня молча, не шевелясь, а голова ее сама собой клонилась ниже и ниже. Я испугалась и стала тормошить ее.
— Варя, Варя, что с тобой?
Она тряхнула головой, выпрямилась.
— Либо ты, Ольга, наивная, как ребенок, либо хитрющая до невозможности. Неужели не видишь: по душе ему ты пришлась, ты, а не я. Ты, ты!
Напустилась на меня Варя, будто я не подруга ее была, а враг лютый. Обидно мне стало, так обидно, что я не выдержала и разревелась.
— Если даже и вправду все так, как ты говоришь, если я, а не ты пришлась ему по душе, в чем же, скажи, моя вина? Не вижу я своей вины, хоть убей. Не завлекала его, не привораживала, я и видела-то его дважды, двумя словами и обмолвилась-то, а ты…
Обняла меня Варя и тоже расплакалась.
— Прости меня, глупую, — шептала она сквозь слезы. — Это моя тоска бабья на тебе выместилась. Вины твоей никакой нет и не будет, я знаю. Не сердись, Ольгуш, ладно?
— Хорошо, хорошо. Послушай-ка, Варь, а с чего это ты взяла, что я ему?.. Мало ли на кого я могу быть похожа?
— Толчок важен, Олюшка, — ответила Варя. — Приметилось одно, потом другое приглянется и третье… А как поймут тебя и как оценят, когда ни внимания к тебе, ни любопытства?
Пожалуй, она права, подружка моя Варя. Взять хотя бы наш с тобой случай. Не приглядись я к тебе там, в госпитале, не возьми во внимание твое доброе сердце или, к примеру, флотскую твою стать, все у меня было бы по-другому. Сам ты вряд ли догадался бы выделить меня среди наших девчонок, вы с Борисом оба ослеплены были Валентиной. И торчала бы я в нашем уральском госпитале, помогала бы перевязывать раненых, не узнав и не изведав тебя — мою жизнь, надежду мою и счастье.
А доведись мне сейчас с кем-либо из соперниц воевать за тебя, я показала бы, чему научилась на фронте. И силу мою почувствовала бы противница, и тактику, и стратегию.
Где ты? Как ты? Болит нога или перестала?
Боюсь я за тебя. Ни за кого так не боюсь, как за тебя.
Мы с Варей и поплакали вместе, и помирились вроде бы душевно, а ладу прежнего меж нами так и нет. У нас, правда, дел прибавилось изрядно — части наши пошли в наступление, — едва успеваем поворачиваться, и все же… В горячие дни дружеское участие и сердечность ценятся вдвойне, если не больше, и холодок, отчужденность в эти дни бросаются в глаза сразу.
Как на грех, нечаянную мою встречу с майором — опять же возле санбата — Варя увидела собственными глазами. Встреча эта длилась минут пять, не больше, — времени не было ни у майора, ни у меня, — но Варя не могла стерпеть и этих минут. Мне остается лишь пожалеть о случившемся. Это тем более достойно сожаления, что разговор мой с майором как раз о Варе.
Дмитрий Сергеевич, едва успев со мной поравняться, вновь заговорил о своей покойной жене и моем сходстве с ней. Я тихонько его перебила и настойчиво посоветовала ему приглядеться к Варе.
— У меня есть муж, — добавила я, — а у Вари — только вы. Вы найдете в ней и сходство с супругой вашей, и новое счастье обретете. Не смотрите на мой вид девчоночий, я и в людях толк знаю, и в счастье.
Моя чистосердечность и напористость произвели действие.
— А что это за Варя? — спросил он, поправляя фуражку. — Я вроде бы должен знать.
— Да вы знаете ее, знаете… Варя Терехова, сестра из нашего санбата. Да вон и она — легка на помине.
Из крестьянского дома, приспособленного под операционную, вышла Варя, держа путь к большому бревенчатому амбару, где лежали, ожидая отправки в тыл, тяжелораненые. Я окликнула ее в надежде, что она подойдет к нам, но Варя, смерив нас недобрым подозрительным взглядом, заспешила своей дорогой.
Дмитрий Сергеевич знал ее, видел раньше. Не знал он лишь о ее влечении к нему. Да и как было знать, когда каждодневные изнурительные бои забрали у него все время, когда видеть ее приходилось лишь издали и то мимоходом?
Весть эта не обрадовала его и не огорчила.
— Сердце у тебя золотое, — сказал он, тихо улыбнувшись. — Сердцем ты на Анфису похожа.
Вот и весь разговор, а Варя подумала бог весть что и опять наговорила мне кучу мерзостей. Я не стала с ней спорить, повернулась и ушла. Обидно было до слез, но я на этот раз не заплакала, гордость не позволила. На сердце камень тяжелый, а я терплю. Дышать стало тяжко, я и это пересилила.
Может быть, и не выдержала бы, если б не один парень. Он еще раненый лежал на поле боя, а в санбате о нем только и говорили. Оказалось, что и майор приходил сюда его проведать, этого парня.
Я уже говорила тебе о нашем наступлении. Оно шло нормально, как его и задумывали, пока не встретили на пути, чуть ли не на самом главном направлении, сильную огневую точку противника. Два пулемета были упрятаны в этой точке, ружья противотанковые, еще что-то. Точку эту наши разведчики не заметили, когда надо было, а теперь она задерживала всю операцию. Оставалось одно — уничтожить ее. Все это понимали, а сделать никто не мог: вражеский огонь был беспощаден. Потеряв десятка полтора опытных бойцов, майор задумался: стоит ли рисковать дальше, не подождать ли новой артподготовки?
В тяжкую минуту раздумья к майору подошел сержант Костя Селиверстов и предложил свой план. Наблюдая все это время за пулеметным огнем противника, Костя обнаружил в лощине, преграждавшей путь, узенькую полоску мертвого пространства. В полметра, а может быть и уже. Эту полоску Костя и облюбовал для броска к цели. Главное было до точки этой добраться, а там уж, как говорят, сила на силу. Причем добраться быстро, одним махом, пока фрицы не сообразили, в чем дело. Чуть замешкался или не рассчитал силы — все может рухнуть. Стоит немцам обнаружить свой промах, они не замедлят подобрать иной ключ к этой полоске. Исход будут решать минуты, даже секунды.
Другого выхода у майора не было, и он благословил Костю. Посоветовал взять себе в помощь двух-трех бойцов, Костя наотрез отказался: хорошо, если он один успеет проскочить.
И он проскочил. В одной гимнастерке, несмотря на ледяной ветер, зато с автоматом и с тяжелой связкой гранат. Говорят, весь батальон замер, когда он поднялся и побежал. А фрицы приняли его за сумасшедшего. Пленный немецкий ефрейтор, видевший эту картину, сказал на допросе, что так стремительно можно нестись только от смертельной опасности, а не навстречу ей. По этой причине кое-кто из фрицев посчитали его перебежчиком. А когда с русской стороны раздались ему вдогонку выстрелы, когда пулеметные очереди прошили поперек всю лощину, никто уже в этом выводе не сомневался.
Костя же Селиверстов, добежав до цели, не дал фрицам опомниться: снял автоматной очередью двух часовых, забросал гранатами вход в укрепленный узел и бросился к амбразурам с торчавшими из них пулеметными стволами. В одну амбразуру гранату, в другую, потом еще по гранате в каждую, на всякий случай, для подстраховки, и — сигнал батальону: можно наступать.
Всполошенные немцы выскочили кое-как из укрытия и открыли по Косте огонь, но дело уже было сделано: пулеметы смолкли, батальон вновь пошел в наступление.
Костя был ранен, ранен серьезно, десять раз мог погибнуть, но не погиб, живет назло врагам и потихоньку начинает выздоравливать. Я только что его видела, разговаривала с ним — чудесный, замечательный парень. Его представили на Героя Советского Союза, и он в самом деле герой, делегации к нему чуть ли не из всех подразделений, корреспонденты, а он стесняется, краснеет, нервничает. Поначалу встретил меня в штыки.
«А ты какая делегация?» — спросил сердито.
«Я сестра милосердия, я сама по себе».
«Ну, если сама по себе — садись. Садись и рассказывай, что нового на белом свете, а меня не спрашивай. Все, что я знал, уже сто раз рассказывал. Язык не ворочается».
Пришлось мне свой язык пускать в ход. Я рассказала ему про наш уральский госпиталь, про тебя, про Валентину и про Бориса Крутоверова. Слушал он меня так, будто я ему сказку волшебную рассказывала. А под конец спросил про тебя: где ты и не разлюбил ли ты меня? Оба эти вопроса я обращаю к тебе.
Где ты?
Не разлюбил ли меня?
После беседы с Костей моя размолвка с Варей Тереховой показалась мне мелкой, ничтожной.
С легкой руки Кости Селиверстова наше наступление идет хорошо. Не так быстро, как мы ожидали, но идет, и, главное, идет безостановочно. Мы уже получили распоряжение перебазироваться на запад, поближе к передовой. Опытные люди полагают это хорошим знаком: когда выдвигают вперед медсанбат, есть уверенность в том, что отступать здесь не придется. Я думаю, что это правильно. На войне, конечно, может случиться всякое, и все же боевой дух у нас заметно переменился. Шутим и улыбаемся не только мы, здоровые, — раненые песни запели. Зашла к ним вчера, хотела газету армейскую почитать, в ней про Костю написано, а они «Катюшу» пели, да так хорошо, ладно. Я подпевала им, как могла, а сама думала о тебе. Тебя вспоминала и Бориса, ваши страдания от плохих известий с фронта.
После песни Костя Селиверстов усадил меня возле своей койки, долго расспрашивал об отце моем и о матери, поинтересовался тобой — красив ли ты или не очень, — а под конец признался, что, если бы у него была такая жена, как я, он от счастья носил бы ее на руках. Я сказала, что жена у него будет добрее, красивее и умнее меня — он такую заслужил, — а я предназначена другому фронтовику, и это предназначенье для меня свято, другого мне не нужно.
Он поцеловал мне руку и ответил смущенно, что лучше меня никого быть не может. К удивлению своему и к радости, я отнеслась к его словам на редкость спокойно. Этот душевный покой дал мне ты. Знал бы ты, какая это для меня защита. Броня, самая крепкая броня.
Мы перебрались на новое место. Здесь был довольно большой хутор, весь в садах и цветах, а сейчас, после немцев, остались три полуразрушенных дома, где нас и разместили.
Я впервые вступила на землю, побывавшую у немцев. Могу представить себе, как ей горько и тяжко. То ее любили, пестовали, берегли как зеницу ока, а то пошли кромсать безжалостно бомбами да снарядами. Кому не доведись… Мне от одной этой мысли стало не по себе.
Я попыталась вообразить этот хутор мирным, довоенным. Перед глазами встали цветущие яблони, вишенник, веселый чубатый парень со звонкой гармошкой, а вокруг парня нарядный девичий хоровод. С резного крылечка на хоровод засмотрелся усатый дед. Ватага молодых хлопцев приблизилась к девушкам, и гармонист рванул «казачка».
Мне сделалось еще хуже, и я решительно прогнала свои хуторские видения.
Теперь только ты мог помочь мне. Я подумала, что расстояние, какими бы тысячами верст оно ни исчислялось, не должно быть преградой. Собрав свою волю, я повернулась лицом к северу, — по моим представлениям, ты сейчас или в Москве, или в Ленинграде, — и изо всех сил позвала тебя:
«Фе-дор, Фе-дор! Во имя нашей любви, во имя судьбы нашей…»
Ты долго не отзывался. Если б нас разделяло море, а не суша, ты, наверное, быстрее явился бы ко мне. Но ты все же явился. Закрыла я глаза, сделала еще одно усилие, и ты встал передо мной в полной флотской форме, строгий, внимательный. Я показывала тебе развалины хутора, хотела провести к раненым, ты остановил меня. Лицо твое посуровело, голос стал низкий, скорбный.
«Мужайся, — сказал ты. — Войне идти еще долго, не то увидишь».
Ничего вроде бы и не сказал ты особо мудрого, а на душе у меня полегчало. Это, наверное, не столько от слов твоих, сколько просто от вида твоего, от присутствия.
А часом позже ко мне даже радость нагрянула: надо было отправлять в тыл, к Волге, партию раненых, и меня определили сопровождающей. Чем не радость? Хоть Волгу посмотрю.
Спасибо тебе за поддержку. Что бы я без тебя делала?
Зовут ехать. Вернусь — обязательно напишу…
Не выдержала, пишу тебе прямо с высоченного волжского берега. Раненых своих мы сдали, видели даже, как их через Волгу переправляли, и теперь до вечера, пока не заедет за нами машина, будем здесь. Варя нервничает, в санбат торопится, а я даже этой передышке рада, хоть Волгу разгляжу как следует.
И вот я гляжу, гляжу без отрыва. Мне то и дело мерещится, что я двигаюсь вместе с рекой, только не вниз, а вверх. Волга течет степенно, неторопливо и дышит, кажется мне, лишь вполсилы; наверное, бережет запас для схватки с фашистами. Если сесть в лодку да помочь реке веслами, к вечеру, пожалуй, можно увидеть их противные морды. Но мне даже одним глазом на них глянуть не хочется.
Чем пристальнее всматриваешься в Волгу, тем таинственнее она становится. Вскоре после твоего отъезда из госпиталя старая моя учительница посоветовала мне прочесть Бунина. Она даже книгу мне раздобыла. Много интересного я вычитала в этой книге, я тебе обязательно все расскажу, а сейчас, на берегу Волги, мне вспомнился рассказ о загадочной русской душе. Вспомнился, должно быть, не случайно: Волга и есть русская душа, добрая, широкая, терпеливая.
Ты знаешь, я так рада, что додумалась сравнить их. Теперь и душа русская стала мне яснее, понятнее, и Волга ближе, роднее, будто на берегу Камы сижу. А может быть, это камские воды помогли мне? Кама-то в Волгу впадает.
А теперь скажу тебе самую главную новость: у нас с тобой будет ребенок. Тебе, наверное, и невдомек, что я его уже чувствую. Кроме меня, об этом никто не знает. Тебя, наверное, оторопь возьмет, когда узнаешь, я поначалу тоже испугалась, а сейчас на душе спокойно, радостно. Даже возвышенно. И у тебя так будет, я уверена.
Почему, ты думаешь, я испугалась-то? Не только оттого, что роды предстоят, уход тяжелый, воспитание. Война ведь идет полным ходом, а я не успела на фронт попасть, как надо поднимать вопрос о демобилизации. Не сию минуту, конечно, но и не за горами час тот. Неловко как-то, стыдно. Может быть, поэтому я пока и таилась от всех. Здесь же, на берегу волжском, мысли мои пошли по другому руслу: сколько людей мы потеряли, сколько еще потеряем в грядущих сражениях, и ни в чем не будем мы так остро испытывать нужду, как в людях, в солдатах и рабочих. Впрочем, солдаты к тому времени, может быть, и не нужны будут.
Хочешь или не хочешь, стыдно или не стыдно, а через несколько недель с армией надо будет прощаться. Были дни, когда я страшилась об этом думать, а сейчас… Чувство материнского долга представляется мне сейчас таким высоким и таким первостепенным, каким оно, может быть, никогда не было. Нигде и никогда. Это чувство облегчит мне прощание с фронтом, оно защитит меня от усмешек и от косых взглядов. Приходится, как видишь, думать и об этом, ничего не сделаешь.
Но все это сущие пустяки по сравнению с неизбывным стремлением и горячей моей надеждой увидеть тебя. Увидеть, обнять, пожалеть. Здесь, на волжском берегу, недалеко от кровопролитных боев, это кажется розовой мечтой, а разве это много?
Спросила я тебя и подумала: зря спросила, без толку, не ответишь ты мне. По правде говоря, мне не столько ответ твой нужен — сама как-нибудь отвечу, — сколько необходимо мне, совершенно необходимо сказать тебе о ребенке, о новой жизни, которую я уже ощущаю. Ты просто должен это знать.
Я подожду немного, поразмыслю — да и ослушаюсь, пожалуй, свою бабушку. Возьму вот и отошлю тебе все свои письма, не ожидая конца войны. А если не все, то хотя бы вот это, последнее.
Надо, чтоб ты знал.
Бабушка, если б ведала о новой жизни, охотно благословила бы мое ослушание…
На этих словах оборвался листок тетрадной бумаги в косую линейку, оборвалась нежданно и женская исповедь Ольги.
От нового листка сразу же повеяло холодом. Я не прочел еще ни одной строчки, а сердце мое уже зашлось: письмо было написано чужой рукой, и предназначалось оно не мне.
«Здравствуйте, родненькая Олина бабушка!» — начиналось письмо. Против бабушки возражений у меня не было, бабушка тоже ждала от внучки добрых известий. А вот почерк чужой в уме не укладывался. Ольгиным откровением я проникся с первых же секунд, оно входило в меня даже не словами, а едва слышным запахом скошенных луговых трав, исходившим то ли от ее дома, то ли от писем. В словах ее, конечно, тоже была волшебная сила, иначе они не были бы так близки мне. Порой мне казалось, что говорит она со мной моими же словами. Я не удивился: в конце концов она и есть я, и наоборот — я есть она. Зачем же чужой почерк? Мне Ольгина рука нужна. Ольгина, и ничья больше. Может быть, за этим другой лист есть, Ольгин? Нет, и другой и третий листы были чужие…
«Здравствуйте, родненькая Олина бабушка! Пишет вам ее подружка, бывшая подружка Варя Терехова. Признаюсь вам: ее письма я прочла. Правильно она обо мне написала, только мягко слишком, деликатно. Это потому, наверное, что сама Оля была на редкость чистым и душевным человеком. А я в десять раз хуже, чем она обо мне написала. Паскуда я рыжая, вот я кто.
Если бы не зависть моя гнусная, может быть, и жива была бы Оленька. Шофер позвал ее в кабину, а мне велел в кузов лезть. Я не стерпела обиду и ляпнула со зла:
— Что это ей за честь такая?
— Потом поменяетесь, — ответил шофер, а я, дура, ни в какую.
Ни слова не говоря, Ольга прыгнула в кузов, и спор разрешился.
Мы уже подъезжали к своему хутору, к медсанбату, когда нас высмотрел вражеский „мессер“. Мы не знали, что он собирался делать, но видели, конечно, что силы были неравные. Нам оставалось ехать своей дорогой, а в случае атаки — поумнее маневрировать.
Ольга, судя по всему, думала иначе. Едва „мессер“ снизился и зашел к нам в хвост, Ольга открыла по нему огонь из автомата. Мне сперва показалось, будто стрелял немец, но водитель, крутанув в сторону, крикнул: „Молодец, девка!“ — и я во всем разобралась.
Шофер то и дело бросал машину в крутые зигзаги, то останавливался, то рвал вперед, Ольга размеренно посылала вверх очередь за очередью, и только я была никчемным балластом.
„Мессер“ все же подкараулил нас и крупнокалиберными пулями прошил поперек весь кузов. Почти одновременно сели оба задних ската. Шофер выругался, выскочил из кабины и почти в тот же миг крикнул мне из кузова: „Иди сюда, кукла!“
Оля лежала бледная, бездыханная. Глаза закрыты, руки сжимали автомат. Со страху я долго не могла нащупать пульс, а когда нащупала, испугалась еще больше: сердце сбивалось, слабело.
— Оля, Олюшка! — крикнула я. — Прости меня. Не уходи!
Она медленно, с тяжким трудом подняла веки и улыбнулась. Я обрадовалась, в ладоши захлопала. Улыбка ее ширилась, крепла, наполнялась жизненным соком. Оля смотрела на меня, вроде бы даже в глаза мне, а видела кого-то другого или же не видела никого. Когда я прочла ее письма, мне стало ясно, кому посылались эта улыбка и этот взгляд. Счастливый он человек, Федор Жичин. Счастливый и несчастный.
Прощальная улыбка была недолгой. Оля увидела того, кого ей надо было увидеть, и взгляд ее, вспыхнув последней искрой радости, стал угасать.
— Оля, Оля!!! — закричала я суматошно.
— Чем орать благим матом, перевязку бы лучше сделала, — буркнул сердито водитель.
Крикнула я, наверное, и вправду благим матом: Ольга вздогнула, шевельнула губами. Я склонилась к ней и увидела, что она хочет что-то сказать. Тихо, едва слышно, она вымолвила с перебоями:
— Напиши… передай: я завещаю ему… завещаю любовь…
Боясь ослышаться, я притихла, затаила дыхание, но не досталось мне больше от нее ни одного словечка».
Вот и все. Была Оля — и нет ее. И не будет.
Я оцепенело уставился на Валентину Александровну. Взгляд мой она встретила со скорбным спокойствием, так же и ответила мне:
— Я не могла давеча сказать, что ее нет, я и сейчас не могу, не верю. Могло не стать меня, могла уйти Наталья Кузьминишна, но Оля… Оля должна жить, радоваться, смеяться, как должен жить Жора Наседкин, как… Делайте со мной что хотите — не верю.
— Верь не верь, — вздохнула Наталья Кузьминична, — а помянуть Олюшку надо. Мы самые родные у нее, самые близкие… Последний долг…
— Наталья Кузьминишна, милая, должно официальное извещение прийти, и пока его нет…
— Мое сердце, доченька, лучше любого извещения, — перебила ее Наталья Кузьминична, собирая на стол. — Как птица билось в силке, когда Олюшкин черед подошел…
Сердце у Натальи Кузьминичны и сейчас билось как птица в силке. Я видел, как нервно пульсировала жилка на ее виске. Натужно, с глухими провалами колотилось мое собственное сердце. Как и Наталья Кузьминична, поверил я не письму, а своему сердцу.
Взгляд мой остановился на столе. Неужели это поминки? Неужели и вправду конец?
Наталья Кузьминична зовет выполнить долг. Последний долг. Что ж, надо выполнить и это. Только почему последний?
Мы долго сидели в тишине. Потом я вышел на улицу, в лес, к Каме. Мне надо было побыть одному, совсем одному, чтобы легче и надежнее было вместе со всеми.
НАДЕЖДА
Повесть
События вдруг помчались с такой скоростью, что некогда было ни оглянуться на них, ни — тем более — о них подумать или порассуждать. Не успевало завершиться одно — начиналось другое. Едва, казалось, приехали из Москвы три армейских полковника, едва они начали желанный для лондонских старожилов рассказ о родной земле, о столице, о новых русских победах, как вошел дежурный офицер и сообщил, что пришла машина и что гостям надо спешить на аэродром. В середине дня гости-полковники улетели по своим делам в Париж, а к вечеру пришло известие об их гибели в автомобильной катастрофе. Нелепая катастрофа произошла случайно, но легче от этого не было. Только что видели живых, веселых, и вот тебе весть… Почти всю войну провели в сражениях, все трое были ранены, один из них даже трижды, и ничего, пронесло косую мимо, а там, на тихой французской дороге… Конечно же, нелепо. Нелепо и странно: столько у человека знаний, столько опыта — уму непостижимо! — а избавиться от нелепых случайностей не может.
Не отошло еще горе, не улеглись разговоры о друзьях-полковниках, а Москва предложила немедленно послать в Париж двух-трех наших офицеров из Лондона. Что ж, жизнь есть жизнь, она жестко требует дел, ежедневных, ежеминутных. Во Франции томились советские военнопленные, десятки тысяч несчастных наших солдат. Немцы угнали их на строительство укреплений и нещадно над ними измывались. По слухам, несладко жилось им и у союзников, которые приравняли их к пленным фашистам. Немало трудов стоила элементарная договоренность об эвакуации военнопленных на родину. Говорили, если б не личное вмешательство главы Советского правительства, переговоры могли длиться бесконечно. Теперь предстояла кропотливая, вдумчивая работа во Франции. Ее должны были взвалить на свои плечи три армейских полковника. Кто же их заменит?
Довольно неожиданно выбор пал на подполковника морской авиации Комлева и капитан-лейтенанта Жичина. Сами по себе ни Комлев, ни Жичин сомнений ни у кого не вызывали, были лишь некоторые опасения за их сравнительно невысокие воинские звания. Адмирал — глава военной миссии — едва заметно усмехнулся, когда услыхал об этих опасениях, видимо, и сам слегка тревожился; но, глянув на их лица и на их погоны, сказал, что если они будут чувствовать за собой звезды рубиновые, то все будет в порядке.
Ни Жичин, ни Комлев о звездах пока не думали. С той минуты, как названы были их имена, ни того, ни другого не покидала иная тревога. Умом они понимали, что поиски и отправка пленных на родину — дело живое, необходимое, за каждым несчастным стоит и дожидается своей очереди человеческая судьба, единственная, незаменимая, а может, и не одна судьба — многие ушли на войну, оставив дома семьи, детей. Но сердце эти судьбы не ранили, болью в нем не отзывались. Для Комлева и Жичина это было странно: оба они вроде отличались и душевностью и участливостью, адмирал, возможно, по этой причине и остановил на них свой выбор.
Что же с ними стряслось, кто подменил их? Не было у них к пленным ни жалости, ни сострадания. Не было, и все тут. Будь вместо пленных кто угодно из соотечественников — женщины или мужчины, старые или молодые, русские или башкиры, карелы или осетины, — сразу бы другое затеплилось отношение. А пленные… Одно то уже скверно, что они были рядом с фашистами. А с фашистами никаких дел иметь нельзя, с ними можно только воевать, их следовало лишь уничтожать. Не зря, наверное, все эти годы твердили из уст в уста: лучше смерть, чем фашистский плен.
А может быть, оттого и запало в душу, что твердили изо дня в день да из уст в уста?
Может быть, и так, конечно; наверное, так, только легче от этого не становилось. Симпатии к пленным не приходили, как они ни старались их вызвать, а браться за серьезное дело с таким сумбурным настроем…
Было и утешение: пленные пленными, а Францию посмотреть, Парижем полюбоваться — это тоже не последнее дело. Как ни интересен туманный Альбион, как ни любопытны его вековые обычаи и традиции, Франция ближе русской душе. Ближе и понятнее.
Оформление многочисленных документов было на редкость четким и быстротечным. Жичин и Комлев не успели даже перемолвиться между собой, как очутились в машине, а машина, едва за ними захлопнулась дверца, взяла с места в карьер.
— Говорят, к Парижу уйма самолетов пойдет, не меньше дюжины, — сказал Комлев. — Нам бы летуна хорошего выбрать.
— Как же ты его выберешь?
— Мало ли как. В глаза глянуть, на походку посмотреть. Настоящего летчика по рукам можно определить, по речи, по еде.
— А шофера настоящего можно определить с первого взгляда? — спросил молчавший до сих пор водитель.
— Я думаю, хороший шофер без труда определит.
— Точно, товарищ подполковник, — согласился водитель. — Про то, какой я шофер, самому говорить неловко, а другого определю за версту.
— Вот-вот. Капитан Жичин, если поднатужится, тоже своего брата моряка угадает за версту. Прищурится на развалистый шаг и — готово дело.
— Я капитан-лейтенант, а не капитан, — поправил его Жичин. — Как говорят в Одессе, две большие разницы.
— Винюсь, винюсь, упустил из виду. Совсем вылетело из головы, что сухопутный фельдмаршал равен флотскому мичману.
— То-то. — Жичин улыбнулся.
Подполковник Комлев (новое звание, присвоенное совсем недавно, было непривычно ему) кое-что еще упустил из виду. На аэродроме невдалеке от Лондона и впрямь стояли наготове, будто их только и дожидались, десятка полтора видавших виды военных самолетов. Стояли четко в линию, как на параде. Возле крылатых машин шли последние приготовления, многие летчики были уже в кабинах.
— Выбирайте любую, — весело сказал Комлеву низкорослый толстяк капитан. Встретив их у входа, он отрекомендовался оперативным дежурным.
— Спасибо! — воскликнул обрадованный Комлев. — С вашего позволения, мы будем выбирать не машину, а летчика.
Капитан молча улыбнулся и закивал, одобряя сказанное. Вместе с Комлевым и Жичиным он охотно зашагал вдоль белой черты, перед которой застыли боевые машины. Шли медленно, подлаживаясь под Комлева, а Комлев пристально вглядывался в лица ничего не подозревавших летчиков и тотчас же, не отрывая глаз, тихо ронял свои суждения:
— Лицо хорошее, взгляд решительный, а руки девичьи. Заклинит что-либо — сил не хватит… Добродушен, медлителен, может прозевать любую опасность… А этот мельтешит, суетлив не в меру. В критическую минуту в простых приборах запутается…
Это были русские суждения, и произносились они по-русски; Жичин вполголоса переводил их капитану. Тот удивленно вскидывал брови и всякий раз подтверждал точность комлевских оценок.
Посреди шеренги Комлев остановился и долго не мог отвести глаз от неказистого на вид лейтенанта лет двадцати пяти, придирчиво остукивавшего пропеллер. Чем он привлек внимание Комлева, ни Жичин, ни британский капитан не знали, сам же Комлев ни словом о нем не обмолвился. Поглядел, призадумался и пошел дальше вдоль шеренги машин, высказывая суждения о летчиках.
— Отчего-то растерян, нет уверенности в движениях… Слишком весел и беззаботен… А тот хмурится, что-то вспоминает, с невестой, поди, поссорился… Не хотел бы иметь его противником в воздухе… — Это о летчике, машина которого стояла последней в шеренге.
Обратное шествие было коротким и скорым. Комлев молча проследовал к середине шеренги и молча же кивнул на машину неказистого лейтенанта.
— Если нет возражений, мы полетим на этой, — сказал Комлев.
— Никаких возражений, пожалуйста, — подтвердил толстяк капитан и задержал на Комлеве недоуменный взгляд. Недоумение еще не покинуло его, когда он отдавал лейтенанту распоряжение взять на борт до Парижа двух союзных офицеров. Смысл этого взгляда стал ясен Комлеву и Жичину позднее, во время полета.
С высоты, даже не очень большой, Англия виделась игрушечной. Не земля живая, а карта-макет с голубыми лентами-речками, зеленью парков и лесов, беспорядочным скоплением кубиков-домов в населенных пунктах.
Впереди по курсу блеснул Ла-Манш, и Британские острова сами собой отодвинулись на третий план. Жичин прильнул к иллюминатору, чтоб глянуть сверху на большую воду, и услышал вдруг славянскую речь. Не русскую, а близкую к ней, наполовину понятную. По обилию шипящих звуков он догадался, что речь польская. Мгновенно повернул голову и увидел: разговаривали хозяева самолета. Дверь в пилотскую кабину была открыта, неказистый на вид лейтенант, облюбованный Комлевым, спокойно держал штурвал и не отводил глаз от курса, а его напарник, коротко стриженный светловолосый малый, копошился возле синего вентиля по левому борту и время от времени докладывал о своем обследовании, пересыпая деловые вести шутками-прибаутками. Лейтенант молчал, изредка ухмылялся.
Ну конечно же, это были поляки! Британские покровители доверяли им, видимо, лишь транспортные да вспомогательные самолеты. Так, по крайней мере, понял Жичин шутки второго летчика.
Жичину доводилось видеть разных поляков. Эмигрантское правительство Польши арендовало главный свой дом на Кенсингтон-пэлэс-гарденс, на той же улице, где стоял особняк советского посольства. Фасады домов смотрели друг на друга, их разделяла лишь узкая зеленая улочка. Жить бы в мире и дружбе, но не тут-то было. Ярые антисоветчики, эти эмигранты вели себя вызывающе, открыто демонстрируя враждебность. Жичин не однажды видел это собственными глазами и не однажды смеялся над их обывательской спесью.
Были в Лондоне и другие поляки. Недолго работал здесь Жичин, но уже встретил польского сержанта, который сразу пришелся ему по душе. Сердце Анджея Витака жгла тревога за родину, за Польшу. Да разве один Анджей такой? И эти летчики, видно, добрые хлопцы.
Знал Жичин и о том, что на Восточном фронте бок о бок с Красной Армией сражаются польские патриоты из дивизии Костюшко. Сражаются храбро, упорно, как и подобает истинным патриотам.
Жичин собрался с духом и глянул на Комлева. Всю энергию вложил в этот взгляд, всю иронию: «Что теперь скажешь, пророк-прорицатель?»
Поначалу Комлев сделал вид, что не понимает его взгляда, а когда стало ясно, что номеру не пройти, недоуменно пожал плечами: «При чем тут кто? Разговор шел о хорошем летчике».
Все вроде бы так, все правильно, но и тот и другой видели эту самую мину при той самой игре. Видели, и все же Комлев от игры пока не отказался: «А летчик он что надо. Первоклассный летчик. Машину чувствует, она его тоже». А когда второй пилот скрылся в кабине и захлопнул за собой дверь, Комлев развел руками: что ж, мол, теперь сделаешь. Минутой позже он наклонился к Жичину и шепнул на ухо:
— Ума не приложу, почему он до сих пор лейтенант. При такой хватке майором можно бы стать, а уж капитаном без слов. — Он откинулся назад, помолчал, подумал. Что-то внизу, за бортом привлекло его внимание, и он приник к иллюминатору.
— Что-нибудь узрел? — спросил Жичин.
— Птица какая-то состязается с нами, погляди!
Жичин глянул, но ничего уже не увидел, птица, вероятно, отстала или свернула в сторону. Комлев довольно долго шарил глазами в иллюминаторе, сдался наконец и он.
— А может быть, оттого он до сих пор и лейтенант, что сам по себе, не хочет дудеть в чужую дуду?
Прощаясь на аэродроме с польскими летчиками, Комлев произнес благодарственную речь. Начал он ее по-английски, потом махнул рукой и заговорил по-русски. Услыхав русскую речь, летчик-лейтенант заулыбался. Будучи младшим по чину, он не мог себе позволить ничего больше и стоял строго, вытянув руки по швам. Комлев подошел ближе и обнял его. Этот русский жест растрогал лейтенанта.
Теперь Комлев и Жичин должны были совершить еще один выбор: в Версаль ехать сначала, в штаб генерала Эйзенхауэра, куда они командированы, либо в Париж, в советское посольство. Это был не праздный выбор, и они остановились на Париже, взвесив предварительно все за и против.
Советский посол в Париже одобрил их выбор. Одобрил, но не без хитринки спросил о соображениях, которые они принимали во внимание. Комлев ответил, что в неведомых местах сам бог велел первым делом посоветоваться с родными и знающими людьми. И не столько, может быть, посоветоваться, сколько обрести добрые указания.
В глазах посла зажглись веселые искорки, он погасил их и высказал надежду, что из доблестных офицеров выйдут дельные дипломаты. Они пили ароматный чай и не притрагивались к печенью, негусто уложенному в изящной хрустальной вазе. Оценив деликатность гостей, посол едва заметно улыбнулся.
— Угощайтесь, угощайтесь, печенье у нас есть, — сказал он, — Париж голодает, туфли у парижанок на деревянных подошвах — слыханное ли дело? — но никто не унывает, всех опьянила свобода.
— Хорошее опьянение, — заметил советник посольства, принимавший участие в разговоре.
— Хорошее, — согласился посол, страдальчески морщась оттого, что советник, размешивая чай, слишком звонко постукивал ложкой о стакан. Они были на редкость разными, посол и советник. Потомственный интеллигент, университетский профессор, посол олицетворял собой мысль. Высокий, взъерошенный, он и внешне походил больше на ученого, чем на дипломата. Даже хорошо сшитый и тщательно отутюженный черный пиджак с кончиком белоснежного платка в нагрудном кармашке и черные же в мелкую полоску брюки — неизменный в то время международный костюм дипломатов — сидели на нем мешковато.
Зато советник блестел, будто только вышел от портного и от парикмахера одновременно. Коренастый, розовощекий, он являл собой пример устойчивого здоровья, собранности и постоянной готовности к любому делу. В деле же был четок и напорист. Их не зря соединили вместе, тандем вышел на славу, хотя послу претили плебейские выверты советника.
— Хорошее, — повторил посол, — да не надолго ли затянулось? Французам надо сейчас быть трезвыми. Как, разумеется, и нам. С Черчиллем каждый миг надо держать ухо востро.
Наши пленные повсюду. Придется иметь дело и с англичанами, и с французами, и с американцами. Важно, чтоб с французами контакт был установлен непосредственный, мы окажем всяческую помощь. В Версале же услуги могут предложить союзники, и тогда связь с французскими властями будет только через них. Стало быть, услуги лучше всего деликатно отвести. Это вам и дружеский совет, и доброе указание.
— Ясно, — ответил Комлев. — Все ясно. — Он чуть привстал, полагая, что разговор окончен, но посол поднял руку, удерживая его.
— Два слова о деликатности. Во-первых, это прекрасное человеческое свойство — зеркало благородной души. Не знаю ни одного случая, когда деликатность кому-либо повредила бы. Боюсь, что нам еще не однажды придется обращаться к англичанам и к американцам. У меня пока все. — Посол поднялся — он спешил на прием, — следом за ним встали остальные. — Пожелаю вам удач на новом поприще. Я уверен, Николай Дмитриевич, — он кивнул на советника, — расскажет вам поподробнее и о Париже и о Версале.
Николай Дмитриевич и впрямь, едва посол затворил за собой дверь, поведал им много интересного и полезного. Начал он с того, что вдвоем Комлев и Жичин не справятся с огромной работой, которая предстоит им в ближайшие недели. Придется искать помощников. Проблема не велика, можно выбрать толковых хлопцев из тех же военнопленных. Любой из них за честь почтет. Трудность одна: нечем кормить. Двух офицеров — официальных представителей — доблестные союзники примут, конечно, достойно, по высшему классу. Поместят, надо полагать, в отеле «Риц», и этим все будет решено: и жилье и питание. А вот что делать с помощниками — никому неведомо.
Для столь важной миссии, как вызволение и отправка на родину военнопленных, посол мог бы отвести отдельный особняк, благо особой нужды в помещениях посольство не испытывает. В особняке и контору можно разместить, можно, на худой конец, и для общежития выделить одну-две комнаты.
Послу, пожалуй, не грех бы и на машину расщедриться. Хлопоты предстоят большие, поездки могут быть и ближние и дальние, и нельзя, наверное, полагаться лишь на волю союзников. Автомобиль в посольстве есть, не шибко, правда, элегантный, зато свой, отечественный и вместительный, а главное — свободный. Столь свободный, что многие недели стоит без движения — нет бензина. Бензин — вот еще одна проблема. Ни бензином, ни продуктами у французов не подразжиться. Во всяком случае, в ближайшее время. И продукты и бензин в штабе союзных войск в изобилии, а кроме них — ни у кого. Вроде бы не ахти какое высокое дело — подумаешь, бензин, подумаешь, продукты! — а затормозиться может успех всей миссии. Не худо бы заодно и посольству помочь. Война войной, а жизнь остается жизнью. Людей в посольстве немного, работают на износ…
— Все ясно! — сказал-отчеканил Комлев. Ему уже не терпелось взяться за дело. — Постараемся быть и настойчивыми и деликатными.
Из Парижа в Версаль ехали молча. Ни Комлев, ни Жичин и думать не думали, что тяжкие заботы лягут на их плечи в первые же часы. Посольский водитель, бывший солдат, демобилизованный из армии после ранения, был рад-радешенек услужить боевым офицерам-соотечественникам и, не поставив их в известность, сделал изрядный круг, чтоб показать им хотя бы самые известные места Парижа. Не прочь он был и познаниями своими щегольнуть. Притормаживая машину, он довольно красочно рассказывал о Триумфальной арке, о Лувре, о Дворце инвалидов. В другой раз и Жичин и Комлев порадовались бы его рассказу, поулыбались и, само собой разумеется, поблагодарили бы его. Но сейчас… Жичин еще слушал и даже иной раз по совету водителя выглядывал из машины, а Комлев лишь тогда более или менее успокаивался, когда машина набирала хорошую скорость, — не терпелось приступить к делу.
— Булонский ле-ес, — тихо, чуть нараспев сказал водитель. Было что-то завораживающее в этих словах, и Жичин невольно подался вперед. Навстречу по обеим сторонам дороги бежали с завидной скоростью вековые деревья, кустарники. Шершавые стволы, зеленые листья. Деревья как деревья, кустарники как кустарники, все вроде бы самое обыкновенное, а ощущение у Жичина было такое, будто оголенным нервом притрагивался к самой истории. Перед глазами вставали живописные кавалькады королевских свит, гневная Жанна д’Арк на вороном коне, притаившиеся засады маки́, поджидающие фашистов. Эти картины виделись Жичину до самого Версаля.
В штабе союзнических войск, занимавшем длинное приземистое здание напротив Версальского дворца, их принял бригадный генерал Венэблс. Невысокого роста, с небольшим животиком и умеренной лысиной, британец оказался веселым, разговорчивым человеком. Он охотно поведал гостям о непростой структуре штаба, основанной, по его словам, на взаимном доверии и взаимном контроле англичан и американцев. Главнокомандующего союзными войсками американского генерала Эйзенхауэра замещал британский фельдмаршал Монтгомери. Секретарем у Эйзенхауэра была английская девушка из женского вспомогательного корпуса, а у британца Монтгомери — девушка американская. Этот принцип действовал во всех отделах и управлениях штаба.
Жичин не удержался и спросил у генерала, что же в этом принципе преобладает: доверие или контроль? Добрым ответом на вопрос была долгая лукавая улыбка хозяина.
— Без надежного контроля доверие недолговечно, — сказал он, как бы подтверждая свою улыбку.
Он повосторгался успехами советских армий, со знанием дела упомянул последние осенние операции, уверил, что союзники тоже наступают неплохо, и приступил к делу. С первой же минуты Комлеву и Жичину стало ясно, что дело он знал преотлично. Четко, энергично назвал по памяти все находившиеся в расположении союзных войск лагеря военнопленных, а их было не менее дюжины, особо подчеркивая число русских в каждом лагере. По его мнению, советским представителям целесообразно побывать во всех лагерях, и, если не будет возражений, он предложил бы сразу, сейчас же согласовать некоторые процедурные вопросы, чтоб он мог дать единое распоряжение начальникам лагерей. Возражений не последовало, и британский генерал изложил точку зрения союзнического командования. Суть ее была такова: по приезде в лагерь советского представителя все русские военнопленные должны быть построены на лагерной площади либо в просторном помещении. Официальный советский представитель может либо согласиться с принятой в лагере организационной структурой русских военнопленных, либо перестроить ее по своему усмотрению, включая назначение из числа пленных всех командиров подразделений. До отправки на родину эти командиры должны быть ответственны за порядок среди своих соотечественников. Ответственны и перед советскими властями, и перед союзным командованием.
Подполковник Комлев посчитал предложения британского генерала вполне приемлемыми и сказал об этом. Жичин согласился с ним и спросил генерала о принципе размещения военнопленных в союзных лагерях. Британец кивнул, а с ответом помедлил. Недолго, одну-две секунды, но Жичин и Комлев догадались, что вопрос был не из приятных.
— Видите ли, — начал он медленно, нараспев, совсем не по-генеральски, — принцип, конечно, есть. Стараемся размещать по национальному принципу: русских с русскими, немцев с немцами. Правда, не всегда это получается…
— Бывает и так, что русских размещают вместе с немцами? — спросил Жичин.
— Думаю, что нет, — ответил генерал. — С немцами, думаю, не размещают. В одном лагере русские и немцы могут быть, но чтоб в одном помещении… Не думаю.
Взвесив ситуацию, Комлев решил помочь генералу.
— По ходу дела, — сказал он, — мы, наверное, не однажды будем встречаться, обмениваться мнениями и решать все вопросы так, как подобает добрым союзникам.
— Разумеется! — воскликнул генерал, довольный возможностью продолжать беседу в намеченном русле. — Любые трудности, с какими вы можете столкнуться, встретят у нас полное понимание. Мы сделаем все возможное, чтоб облегчить вашу миссию.
— Спасибо, — сказал Комлев.
— Так оно и быть должно, — добавил Жичин. — Пользы здесь от пленных никакой, а кормить надо.
— И это верно, — охотно согласился генерал, поглядывая на Жичина и прицениваясь к его задиристости. — Так что цель у нас одна и работать нам, дай бог, в добром согласии.
Остановив веселый взгляд на Комлеве, генерал на минуту смолк, сопоставляя моряка и летчика, едва заметно улыбнулся и предложил им для житья-бытья парижский отель «Риц». Добавил, что обычно там останавливались самые знатные люди, а сейчас весь отель арендован штабом союзных войск, и это вполне закономерно, ибо сейчас нет более знатных людей, чем боевые офицеры. Не забыл упомянуть, что в этом отеле американские продукты и французская кухня — лучшее сочетание, какое он мог себе представить.
Все пока шло так, как предсказал советник посольства, и Комлев с Жичиным охотно приняли услугу генерала.
После того как довольно легко и быстро был согласован вопрос о транспорте, необходимом для доставки военнопленных в порты, куда будут прибывать советские корабли, генерал заговорил о переводчике. С английского и на английский русские коллеги, по его соображению, могут перевести самого дьявола, особенно когда вместе. Один недослышит или недопоймет, другой тут как тут — возместит с лихвой. А вот с французским…
— По-французски мы совсем не смыслим, — сказал Комлев.
Генерал молча кивнул, он и ждал такого ответа.
— Есть на примете один армейский капитан. Родом откуда-то из Латвии либо из Эстонии. Говорит и по-русски, и по-английски, и по-французски. Немецкий знает, итальянский. Ему все равно на каком языке, лишь бы говорить. Клад, а не капитан. Для меня это непостижимо, кажется, нужда крайняя и то не заставит.
Комлев и Жичин едва заметно переглянулись, но генерал был начеку и в тот же миг настойчиво предложил капитана-толмача в их распоряжение. Не дав им опомниться, британец с веселой улыбкой обрушил на них поток любезностей. Он уверял: с русскими коллегами ему просто повезло. Он был убежден, что за такого переводчика союзному командованию благодарны будут и русские и французы.
На версальском небе Жичин увидел первую тучу. Грозу она вроде бы с собой не несла, но легкие молнии уже блеснули. Вместо раскатов грома слышалась мягкая мелодичная речь генерала, пусть она такой доброй и останется хотя бы в первую встречу. Однако чем деликатнее был словоохотливый британец, тем пуще крепло у Жичина желание возразить ему. Так же мягко, так же улыбчиво, но возразить. Причем сделать это так, чтобы последнее слово осталось за подполковником Комлевым.
Жичин подкараулил первую же генеральскую паузу и повел свою речь:
— Французы, надо полагать, и в самом деле скажут вам спасибо, но когда еще скажут, а мы сейчас, сию минуту хотели бы выразить вам свою признательность. Разве это не удача, когда высокий британский генерал заранее предусмотрел все наши нужды? Нам даже неловко доставлять вам столько хлопот. Идет большое наступление, союзное командование занято серьезными операциями, а тут мы с переводчиком… Нам, наверное, и посольство поможет, когда будет нужда.
— А вы уже и в посольстве своем побывали? — спросил генерал, лукаво вскинув брови, давая понять, что если он в точности и не знал, то, по крайней мере, догадывался об этом, как знал или догадывался о том, что деликатное возражение Жичина имеет не военный, а посольский источник.
— В посольство мы заезжали, — ответил, улыбнувшись, Комлев. — Ненадолго, но заехали. О переводчиках речь не заходила. Думаю, и посольство может расщедриться, дело общее. Ну а если уж союзное командование решило оказать любезность, то грех было бы отказываться. Грех и, наверное, не шибко учтиво?
— Пожалуй, — охотно согласился генерал. Сравнивая про себя двух советских офицеров, он отдавал явное предпочтение Комлеву. Жичин видел это, чувствовал, мог даже разгадать ход генеральских размышлений. Генералы привыкли, чтоб им повиновались, а тут выискался с язвительными возражениями какой-то капитан-лейтенант, да еще иностранец, русский. Эти моряки, наверное, на всем белом свете форсуны и спесивцы. То ли дело его коллега — подполковник. Боевой летчик, с орденами, нетороплив, раздумчив. И старше-то вроде бы ненамного, а солидность не уступит генеральской. Возможно, представление Жичина о логике британского собеседника было неточным, а возможно, и неверным, но в эту минуту оно казалось ему безошибочным и он остался доволен своей проницательностью.
А генерал между тем весело, но настойчиво вел свою линию, за ней надо было следовать сосредоточенно.
— Пожалуй, — повторил британец. — Но я сейчас думаю не об учтивости. Бог уж с ней, с учтивостью, возьмемся за нее после победы. Нет слов, посольство, конечно, поможет. Выделят вам девицу-красавицу с розовыми губками да с синими ресничками, а жизнь у пленных, как можно догадаться, не рай. Там и вонь, и словеса не для девичьего ушка. Настрадается она, и вы вместе с ней, с беднягой. О пленных и думать будет некогда. Не женское это дело — возиться с пленными.
— Что правда, то правда, сэр, — ответил Комлев. — Мы и не возражаем против вашего капитана. Наоборот, тронуты вниманием. Как-никак — прибалтиец, можно сказать, земляк. Если он действительно будет в нашем распоряжении, если он постарается избежать попытки командовать нами, вопрос можно полагать согласованным. Добрый совет — другое дело, будем лишь признательны.
— Только совет. И только добрый, — заверил генерал, и это заверение увенчало первую встречу ладным мужским согласием. Уступка, на которую пошел Комлев, осложнениями не грозила.
При выходе из генеральского кабинета Жичин столкнулся с молоденькой секретаршей. Он тотчас же попросил извинения, но ему показалось, что девушка не расслышала, и он решил дождаться ее в приемной. И Комлева склонил к ожиданию, хотя тот торопил ехать в Париж. Когда девушка вернулась, Жичин извинился вновь, на этот раз внятно, без спешки.
— Ну что вы, сэр, — ответила она смущенно. — Виновата одна я. Звонок еще тренькал, а я ринулась, как на пожар. Сама сейчас удивляюсь своему усердию. — Она кокетливо улыбнулась: — Я вас не ушибла?
— К сожалению, нет, — ответил за Жичина Комлев.
— Почему к сожалению? — Девушка удивленно вскинула брови:
— Подполковник шутит, — сказал Жичин. — Как вас зовут?
— Элизабет. Элизабет Филдинг. А еще точнее — сержант Филдинг.
— У вас весьма деловой начальник, сержант.
— Конечно, сэр. Генералы и должны быть деловыми.
— Я хотел бы узнать ваш телефон.
— Мой или генерала?
— У вас разные телефоны?
— Нет, один и тот же.
— Тогда какая разница?
— О-о, большая сэр. Я должна знать, кому вы будете звонить.
— Резонно. — Жичин рассмеялся. — Резонно и деловито, по-генеральски.
— Иначе нельзя, сэр. Война есть война.
В Париже, в посольстве, их ожидала добрая весть: по распоряжению посла их миссии были выделены отдельный двухэтажный особняк и большой автомобиль отечественной марки. На радостях подполковник Комлев пригласил Николая Дмитриевича, одарившего их этой вестью, в свой отель в гости, чтоб отметить первые парижские шаги.
— Вы уже устроились? — спросил удивленно Николай Дмитриевич.
— Нет еще, но предписание у нас в кармане.
— Предписание еще не жилье. Даже американский сервис может дать осечку, война есть война. Надо, пожалуй, ехать. А по пути заглянем в особняк, там сейчас порядок наводят. Должны наводить, — с улыбкой добавил Николай Дмитриевич.
На улице шел мелкий дождь, с востока доносилась глухая канонада, напоминавшая о тревожных временах.
— Садитесь вперед, — сказал Комлеву Николай Дмитриевич, открывая дверцу автомобиля.
— Советника надо слушаться, — ответил Комлев.
— Это уж как водится. Даже посол иногда снисходит.
Выехали на Елисейские поля, и Жичиным вновь, как в Булонском лесу, завладела фантазия. Он смотрел на элегантные — один лучше другого — дома, на умытые кудрявые деревья, в несколько рядов протянувшиеся вдоль бульвара, на разномастные автомобили, невольно замедлявшие ход при виде почти естественного слияния изящества и красоты, а воображение непрестанно уносило в историю. Один за другим, беззаботно пританцовывая, шествовали расфуфыренные Людовики. Шествовали до тех пор, пока путь им не преградил разгневанный Робеспьер. Высоко вскинув руку, он что-то им крикнул, они сбились с ноги и в нерешительности остановились. Один из них, выделявшийся самым пышным париком, выдвинулся вперед, намереваясь вступить в переговоры, но, увидев за спиной Робеспьера богатырские кулачищи Марата, тотчас же отступил назад. Парик у него сбился набок, глазки забегали по растерянным королевским лицам, а через миг все Людовики пустились наутек. На их месте откуда ни возьмись выросли две фигуры в мундирах разных времен. В полноватой, приземистой легко угадывался Наполеон, хотя и был он без вошедшей в историю треуголки, в другой же фигуре, тощей и длинной, без труда распознавался генерал де Голль.
— Смотри, Федор, каштаны плачут, а парижане смеются, — сказал, обернувшись, Комлев и сам засмеялся. Жичин не ответил: смех друга-коллеги показался ему неуместным.
Возле Триумфальной арки, изящной и величественной, Жичин попытался представить свою, русскую историю, но, как ни старался, четкие картины не являлись. Едва в сизоватой сказочной дымке начинал видеться Александр Невский с боевой дружиной или фельдмаршал Суворов со своими чудо-богатырями, как из-за рваных облаков выныривал горбатый «юнкерс», и черная его тень в тот же миг застилала глаза. Что это? Неужели своя история помнилась хуже? Нет, война на время заслонила ее.
Особняк был небольшой, с виду неказистый, зато внутри все блестело и звало к работе. Даже легкий запах хлорки, витавший в комнатах и в холле, не портил впечатления.
— При желании и при известных усилиях наш сервис тоже может быть неплохим, — сказал Николай Дмитриевич, явно довольный чистотой и порядком. — Садись и принимайся за дело.
— Спасибо за заботу, — ответил Комлев. — Завтра с утра и сядем, а теперь неплохо бы подкрепиться.
В отеле уже знали о приезде русских офицеров и встретили их с такой любезностью и таким радушием, какие не предусмотрены ни в одном наставлении по сервису. Пожилой француз-портье умиленно разглядывал то их самих, то их мундиры, улыбался во все лицо и приговаривал непрестанно:
— Да мы вас устроим сейчас же… Как самых дорогих гостей устроим. Давненько у нас из России никто не останавливался. Если остались у меня хоть крохи памяти, последним из русских жил у нас ваш известный поэт. Красивый такой, светлые кудри. Он приезжал с американской танцовщицей.
— Есенин? — обрадованно спросил Жичин и сам тотчас же ответил: — Ну конечно, Есенин. Есенин и Дункан.
Ответил Жичин и почувствовал: ближе стал отель, роднее.
— Может быть, и Есенин, — продолжал портье. — Вам лучше знать своих поэтов. С русскими у нас дружба давняя. Америки еще не было, а мы дружили… Я надеюсь, вам здесь понравится. Номера заказаны хорошие, поместим вас рядом, если хотите.
— Да, если можно, то, пожалуйста, рядом, — сказал Комлев.
— Ваше желание — закон. Два номера рядом есть на третьем этаже, туда и пожалуйте. Я вас проведу… мне, знаете ли, большая радость и честь большая — принимать русских гостей. И не просто гостей, а боевых офицеров. Почетнее в эти лихие годы и быть ничего не может… К вашим услугам — ресторан. До войны он был очень хорош, но и сейчас неплох, вы увидите. Париж живет впроголодь, а здесь добротные продукты из Америки. К тому же их много. Ешь на здоровье, сколько хочешь, столько и ешь, были б деньги.
Говорливый портье пришелся Жичину по душе, может быть, поэтому номер на третьем этаже с окнами на площадь показался ему уютным, домашним, хотя столь роскошную мебель, какой была обставлена комната, он видел доселе лишь в музее. Комлеву повезло еще больше: номер у него, как у старшего по чину, был и просторнее и богаче.
— Тебе, брат, сам де Голль позавидует, — сказал Жичин, оглядев хоромы.
— И позавидует, — ответил Комлев. — У нас с тобой хоть и много забот, а у него, надо думать, побольше. Я, во всяком случае, не завидую ему.
— Заботам, конечно, не позавидуешь, а вот власти… — Это, улыбнувшись, сказал Николай Дмитриевич. — Ничему люди так не завидуют, как власти.
Жичин вскинул на него глаза, пытаясь добраться до смысла сказанного и понять, всерьез ли говорит об этом Николай Дмитриевич. Власть, на разумение Жичина, это тяжкое бремя, которое можно понимать как необходимость, можно нести это бремя, если нет другого выхода, но завидовать… Это в голове у Жичина не укладывалось.
Ресторан шумел в сто голосов, раскатисто смеялся и пьянящими запахами звал, звал к столу. А стола свободного не было. Они смотрели во все глаза, но, кроме защитных мундиров янки, высмотреть ничего не могли. Выручил знакомый француз-портье. Как оказалось, он наблюдал за ними и, когда увидел, что сами они с задачей не справятся, подошел к метрдотелю и попросил помочь. Стол нашелся тотчас же, и вскоре за столом звенел неизменный тост военных лет — за победу!
Николай Дмитриевич пил и ел с отменным аппетитом, но это не мешало ему думать о деле, которое их теперь связывало. Он полагал необходимым завтра же приступить к отбору помощников. С неделю назад ему довелось побывать в небольшом лагере наших военнопленных под Парижем, и ребят он там встретил как на подбор. Ума и отваги не занимать. И по-французски говорят сносно. С десяток смело можно отобрать, а то и больше. Кроме того, завтра же надо дать толковые объявления в газетах о начале работы репатриационной миссии. И чтоб не один день печатались подобные объявления, а, по крайней мере, с неделю подряд. Не обойтись, пожалуй, и без парижского старожила, придется кого-нибудь из посольства выделить. Хотя бы на первое время, пока бывшие вояки привыкнут к деликатным мирным делам.
Каждый совет Николая Дмитриевича сопровождался шутливым тостом. По его словам, это было верным залогом успеха. Когда советы были исчерпаны, он распрощался и ушел.
Едва Николай Дмитриевич вышел из отеля и сел в машину, к столу подошел высокий, средних лет капитан в британской форме. Прищелкнув каблуками, он извинился и спросил по-русски:
— Если не ошибаюсь, имею честь видеть подполковника Комлева и капитан-лейтенанта Жичина?
— Не ошибаетесь, господин капитан, — ответил Комлев, догадавшись, что перед ними тот самый офицер, о котором говорил бригадный генерал Венэблс. — Присаживайтесь.
— Разрешите представиться: капитан Голдберг. — Он вновь щелкнул каблуками.
— Мы так и подумали, господин капитан. Садитесь, если не спешите на свиданье с парижанкой…
— Сочту за честь, господин подполковник. — Капитан сел и перво-наперво оглядел орденские ленты Комлева и Жичина. — Сочту за честь побыть рядом с боевыми русскими офицерами. Кроме того, с нынешнего дня в полном вашем распоряжении, включая и свидания с парижанками.
Все трое рассмеялись.
Комлев разлил по рюмкам коньяк, выпили за доброе знакомство, закурили.
— Смех смехом, — продолжал капитан, — а парижанки, должен вам сказать, — женщины! С большой буквы. Одна из их главных заповедей гласит: в любовных делах нет плохих мужчин, есть плохие женщины. Истинная парижанка раззадорит любого старца. Мало того, что расшевелит и раззадорит, она покажет истинную цену близости. Так что спешите и опасайтесь.
— А чего же опасаться? — спросил Жичин.
— Последующих разочарований, — ответил капитан. — Не век же вы будете жить в Париже. — Он поймал взгляд Жичина и тихо улыбнулся. — «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва». Вы об этом подумали?
— Угадали, — сказал Жичин, слегка смутившись. — Прочел про себя те же строки.
— Хорошие строки, не мудрено. Точные. Русским плохо живется за границей, даже богатым и знатным. Американцу или французу все равно, где жить, были б деньги да веселье, а в русских червь сидит. Сидит и точит, точит… Впрочем, вы это лучше знаете.
Капитан взглянул на часы, охнул и начал извиняться. У него был обычный рутинный день, а русские коллеги успели прилететь из Лондона, переделать уйму дел здесь, в Париже, и им, разумеется, давно пора отдыхать, а он своими байками нещадно их задержал. Назвав свой номер на третьем этаже, он встал, щелкнул каблуками и откланялся.
Сытые, усталые, покинули ресторан и Комлев с Жичиным. Поднимаясь наверх, Жичин подумал, что это все-таки здорово — завтракать в Лондоне, а обедать в Париже. Подумал, а сказать не было сил.
Поутру за ними заехал Николай Дмитриевич. Свежевыбритый, элегантно одетый, он с первой же минуты без суеты, без торопливости настроил их на деловой лад. Хорошо выспавшись, они и сами были готовы к безотлагательной работе, Николай же Дмитриевич внес в их желание предельную четкость. В большой машине отечественной марки он познакомил их с миловидной молодой женщиной.
— Маргарита Владимировна будет вашей помощницей и советчицей, — сказал он. — В числе многих ее достоинств я особо выделил бы капитальное знание французского и английского и редкую деловитость.
— Вы всегда меня перехваливаете, Николай Дмитриевич. Мои знания французского еще туда-сюда, а в английском я сущая дилетантка…
— Возьмем на заметку еще одно достоинство — скромность.
— Николай Дмитриевич, я ведь могу подумать, что вы неравнодушны ко мне.
— Это само собой, Маргарита Владимировна. Текст объявлений продумали?
— Даже написала. — Она вытащила из сумки лист бумаги и передала ему. Он не спеша прочел, улыбнулся, показал Комлеву.
«Обращение Советского посольства.
Немецкие варвары, попирая элементарные человеческие нормы, насильно угнали в Германию десятки тысяч советских граждан-военнопленных и гражданских лиц с временно оккупированных территорий. Многие из них были переправлены во Францию на строительство военных объектов.
Советское посольство по поручению своего правительства намерено в самое короткое время репатриировать советских граждан на родину и обращается к французским властям и ко всем французам с просьбой оказать в этом важном деле всяческое содействие…»
— По-моему, нормально, — сказал Комлев.
— По-моему, тоже, — согласился Николай Дмитриевич. — Придраться, пожалуй, можно лишь к почерку.
— Да-а? — удивленно спросил Жичин, вглядываясь в строчки. — На мое разумение, в тексте надо бы сделать две-три поправки и добавить фразу, обращенную к самим пленным. Адрес надо бы указать, телефон. А почерк, по-моему, хорош. Ясный, четкий.
— Чересчур ясный. И в голову не придет, что писала женщина. — Николай Дмитриевич лукаво скосил глаза на Маргариту Владимировну.
— Ах, ах! Как будто мужчины отличаются ясностью. — Изящным движением она взяла из рук Комлева свое сочинение и положила в сумку. — Более неясных существ, чем мужчины, трудно представить. Может быть, только военные составляют исключение, и то еще надо проверить.
Николай Дмитриевич пришел в восторг от ее слов, а Жичин насторожился: никак не мог уразуметь, в чей огород брошен камешек. Ясность он полагал признаком похвальным, но солдафон или бюрократ тоже могут быть ясными…
Догадки Жичина тотчас же забылись, как только он по приезде в отведенный им особняк глянул в ясные очи Маргариты Владимировны. В серых с голубизной глазах светилась доброта. И не случайная, не бездумная, но обретенная с рождением и, быть может, даже выстраданная. С такими глазами камень за пазухой не держат.
Тихие комнаты особняка с их строгим уютом звали к делу.
— Скоро и здесь забурлит жизнь, — сказал Николай Дмитриевич.
— Будем считать, что уже забурлила. — По праву хозяина Комлев всех поименно пригласил сесть за стол и изложил план действий на день.
На долю Маргариты Владимировны выпала многохлопотная забота о газетных публикациях, о канцелярском и телефонном обеспечении. Жичину поручалось отобрать в помощь их миссии толковых офицеров из военнопленных. Комлев обязывался ехать в Версаль, чтоб договориться с союзниками о точном графике осмотра всех лагерей, где содержались советские военнопленные. Не остался в стороне и Николай Дмитриевич. Помня о своем обещании, он взялся помочь Жичину.
— Все ли ясно? — спросил Комлев, остановив хитроватый взгляд на Маргарите Владимировне.
— Ясно, ясно.
— В таком случае по назначенным местам ра-азойдись!
Маргарита Владимировна засияла, захлопала в ладоши.
— Что-о я говорила?! Это же одно удовольствие. Только у военных и осталась ясность. Ясность и четкость.
Не теряя времени, разошлись-разъехались по делам и встретились поздним вечером.
Исполненный долг или хорошо сделанная работа всегда вызывают у человека радость, и нет в природе лучшего стимула для совершенствования, чем эта радость. Маргарита Владимировна побывала во всех парижских газетах и, пользуясь авторитетом своего государства, своим обаянием и настойчивостью, добилась первой очереди намеченных публикаций, и не на задворках газетных полос, а на видных, привилегированных местах. Не упустила она и французское радио. Обращение к советским военнопленным договорено передавать несколько раз в день следом за известиями. В одной из редакций Маргариту Владимировну настоятельно просили перейти к ним на корреспондентскую работу. Она, разумеется, отказалась, но была польщена.
С помощью Николая Дмитриевича и Жичину удалось завершить свое дело. Слушая соотечественников — пленных офицеров, он независимо от своей воли впустил в душу несколько людских судеб — одна несчастнее другой. Это были судьбы его ровесников, так же или похоже могла сложиться и собственная его судьба. Мысль эта мгновенно прошила сознание, он был изумлен ею, как поразило его и другое ощущение — полнейшее отсутствие неприязни к пленным землякам. К вечеру он устал, сник, ощутил озноб, и лишь удалая русская песня, вырвавшаяся из измученных душ, согрела его и привела в себя. Что было, то было, а жизнь есть жизнь. Ребята сияли от одного вида родного кителя и офицерских погон, которых они не успели надеть.
Комлев отчитался коротко:
— По одному дню на лагерь, успевай только поворачиваться.
К немалому удивлению Комлева и Жичина, у штаба американского лагеря их встретил светловолосый парнишка лет одиннадцати в хорошо сидящей армейской куртке и армейских же брюках. Он вытянулся, как заправский солдат, прищелкнул каблуками.
— Здравствуйте… товарищи командиры, — сказал он по-русски. От радости, от волнения у него перехватывало дыханье. — Добро… пожаловать!
— Вот это сюрприз! — воскликнул Комлев, протягивая ему руку. — Вот это удружил. Где же это ты так ладно выучился по-русски?
— А в России, товарищ командир! — Глаза его полнились восторгом и любопытством, готовые вот-вот выпрыгнуть из орбит. — У меня только форма американская, а сам-то я русский, из Смоленской области.
В сопровождении нескольких офицеров из штаба вышел довольный, улыбающийся полковник.
— Я подумал, вам для начала будет приятнее услышать здесь родную речь, — сказал он, представляясь и пожимая руки русским коллегам.
— Большое спасибо, — ответил Комлев. — Так неожиданно…
— И для меня неожиданно. Попался на глаза Ник, вот и пришло в голову… Хороший паренек, хочу с вами особо о нем поговорить. А сейчас… Отдохнете с дороги или сразу за дело?
— Если можно, за дело, — ответил Комлев. — Сразу за дело.
Полковник Брайт обернулся, попросил распорядиться, и в ту же минуту лагерная площадь ожила. Со всех бараков сюда сбегались люди, бывшие солдаты, а теперь бесправные военнопленные. Бежали они бойко, споро, как и положено исполнять воинский приказ, но была в их беге и безудержная радость. Видимо, на площадь их подгонял не только приказ.
Большой военный корабль по тревоге должен быть изготовлен к бою за две минуты. Это уставное требование выполнялось на флоте неукоснительно. Дружина военнопленных в три с лишним тысячи выстроилась минуты за четыре, не больше. А лагерь — не корабль, дистанция от бараков до площади подлиннее самого большого линкора. Не-ет, думал Жичин, не только в приказе дело.
Строй выравнивался, утихал, а когда Комлев и Жичин вместе с американским полковником вышли на середину площади, в строю были одни глаза. Ни слова, ни шороха, ни дыхания — одни глаза, и все они, изнывая от ожидания, торопили, подстегивали.
Комлев не выдержал и шагнул на дощатое возвышение. Уже на возвышении подумал, что следовало бы для порядка и для пущей важности получить у полковника Брайта «добро» на эту трибуну, хозяин здесь он, но полковник опередил его:
— Говорите же! Если б я знал по-русски, я сейчас бы целую речь произнес. Говорите!
— Дорогие товарищи! — начал Комлев. — Речь моя будет короткой. Мы с капитан-лейтенантом Жичиным прибыли сюда для того, чтобы как можно быстрее вернуть вас домой. Поздравляем вас с вызволением из плена. Можете быть уверены: фашисты за свои злодеяния получат сполна. Теперь расплата уже близка. Наши войска гонят их с востока, союзники — с запада. Конец скоро фашистской Германии, и будет это всемирной радостью, в каждый дом придет праздник.
Вас в этом лагере свыше трех тысяч. Свыше трех тысяч советских граждан. Целый полк. Мы вас и будем считать полком. Разделим на батальоны и роты, на взводы и отделения, назначим командиров, и пойдет у нас нормальная воинская служба. Как дома, на Родине. До тех пор, пока наши корабли не доставят вас домой.
Предполагаю, что могут быть к нам вопросы. Уверен даже, что они будут, но ответим мы на них позднее, когда определим вам командиров. А сейчас слушай мою команду. Командный состав армии и флота от младшего лейтенанта и выше — два шага вперед!
Десятки людей шагнули вперед. Как и все остальные, одеты они были кто во что горазд. На одном русская гимнастерка и немецкие брюки мышиного цвета, на другом широченный флотский клеш и узкая рубаха в сине-зеленую вертикальную полоску, даже отдаленно не похожая на морскую тельняшку. Третий напялил на себя тесную кожаную тужурку… Словом, вид у них был не парадный. И все же кое в ком можно было с первого же взгляда выделить офицера. Их не так много, можно сосчитать на пальцах, но они были, спокойно стояли в строю, отличаясь и статью особой, и горделивой осанкой, и взглядом, полным достоинства и неколебимости. Кадровые офицеры, военная косточка, основа армии.
Комлев попросил командный состав задержаться, а строй рядовых распустил.
Полковник Брайт выделил русским коллегам два кабинета, и вскоре Комлев и Жичин начали беседы с новыми подопечными — лейтенантами, капитанами, майорами. И тот и другой ощущали на своих плечах тяжкий груз ответственности за эти беседы. Кому вручить судьбу трех тысяч несчастных соотечественников? А собственная судьба этих майоров и лейтенантов? Сейчас они бывшие лейтенанты и майоры, но как знать, не помогут ли эти беседы вернуть им и звание воинское, и, главное, доброе имя?
Беседы были разные: длинные и быстротечные, нервные и спокойные, логичные и самые негаданные. Рассказывали о каждодневных побоях и голоде, о садистских пытках и умерщвлениях, о методичном вытравливании из человека всего человеческого. Перед глазами Жичина вставали жуткие картины, он принимал их к сердцу и временами не мог сообразить, явь это или воображение. Он чувствовал, что сердце его переполняется и что вот-вот наступит минута, когда все эти людские мучения перельются через край. Или же оно разорвется от нестерпимых страданий.
С этим ощущением он встретил капитана Михайлова родом из-под Новгорода. Оно менялось по мере исповеди собеседника, но суть его по-прежнему оставалась тяжкой.
В плен капитан попал раненым, без сознания. Очнулся на другой день у немцев. Неизвестно, что бы с ним было, обнаружь он у себя пистолет. Скорее всего, пустил бы пулю в висок. Не было при нем даже складня, отцовского дара, с которым не расставался несколько лет. Он не скрывал ни чина своего, ни партийной принадлежности, полагая это недостойным.
Однажды его привели в двухэтажный особняк на окраине Витебска и оставили с глазу на глаз с офицером СС. Офицер был довольно молодой, одних лет с капитаном, и немного даже похожий на капитана: светлые волнистые волосы, карие глаза, открытый взгляд. Уловив это сходство, капитан усмехнулся. И эсэсовец с любопытством разглядывал капитана. Долго разглядывал, молча, то криво улыбаясь, то хмурясь. Потом снял телефонную трубку и что-то кому-то отрывисто сказал. Минутой позже в комнату вошел армейский лейтенант, говоривший по-русски. Он тоже обратил внимание на схожесть эсэсовца и капитана.
— Большевик? — спросил эсэсовец.
— Да, большевик, — ответил капитан.
— Командовал батальоном?
— Командовал ротой, трое суток батальоном и два часа до ранения — полком.
— При таких потерях мог и до дивизии дослужиться. — Немец криво усмехнулся.
— Ваши потери не меньше.
— Мы наступаем.
— Не везде.
— А вы откровенны, — сказал эсэсовец.
— Мне нечего скрывать. Я не грабил, не разбойничал. Это очень хорошее состояние, когда нечего скрывать.
— И в смелости вам нельзя отказать, — медленно молвил немец, откинувшись к спинке кресла.
— Может быть, и так, спасибо за доброе слово. Я думаю, все в жизни взаимосвязано. Смелость, на мой взгляд, это прежде всего чистая совесть.
— Возможно, возможно, — сказал эсэсовец и не спеша достал из кобуры пистолет. — Значит, чистая совесть? Может быть, и совесть, но это надо проверить. Отодвиньтесь назад, к стенке, к стенке.
Едва капитан, привстав и оглянувшись назад, отодвинулся, как громыхнул выстрел. Один, другой, третий. Капитан не шелохнулся. Он начал догадываться, что его пытают.
— Может быть, и совесть, — повторил немец. — Проверим еще раз.
На этот раз эсэсовец не спешил. Долго и нарочито старательно прицеливался, примерял пистолет то выше, то левее или правее. Сжав зубы, капитан молча ждал, ничего иного ему не оставалось. Немец наконец смилостивился и выстрелил. Когда развеялся дымок, пытливо осмотрел стенку за головой капитана.
— Всегда стрелял недурно, а тут совсем близко, трех метров не будет, и — мимо. Не пойму, в чем дело. Не волосы ли волнистые мешают? Эсэсовец куражился, а лейтенант-переводчик всплескивал руками и надрывался от смеха, поощряя его.
Капитан только сейчас догадался, что оба они пьяны.
Эсэсовец положил пистолет на стол, поднялся и достал из шкафчика ополовиненную бутылку и два бокала.
— Может быть, добрый ром придет на помощь, — сказал он с кривой усмешкой, наполняя бокалы.
Они выпили, лейтенант залпом, эсэсовец в два глотка. Русские люди, после того как выпьют, по обыкновению закусывают и начинают душевный разговор. Частенько этот разговор выливается в песню, тоже душевную. Немцы, видимо, придерживались иного обычая.
Эсэсовец поставил бокал и вновь взял в руку пистолет. Повторилась комедия с тщательным прицеливанием, выстрелом и внимательным осмотром стенки, куда врезалась пуля.
— Опять мимо! — воскликнул он и развел руками. — И ром не помог. Может быть, мало? — Он снова наполнил бокалы и тотчас же выпил. — Не попробовать ли вам, лейтенант? Впрочем, нет, надо проверить самому. Обязательно самому.
Он встал и, почти не целясь, выстрелил. Спрятав пистолет в кобуру, попросил капитана Михайлова подняться и взглянуть на стенку, чтоб оценить стрельбу.
Капитан не сразу сообразил, чего от него хотят, и поднялся лишь после напоминания. Стрельба была выше всяких похвал, если оценивать ее лишь по точности попаданий. На стенке, наспех оклеенной разномастными обоями, выше стула, на котором он сидел, виднелись свежие пулевые пробоины. Поначалу капитану показалось, что их было три: чуть слева, чуть справа и чуть выше его головы. При более внимательном взгляде он обнаружил в каждой пробоине по два следа пуль. Шесть выстрелов, три пробоины — пуля в пулю.
— Завидное попадание, — тихо сказал капитан.
— По-другому не мог, — буркнул эсэсовец. — Заболел сын, а сегодня у него день рождения. Ночью во сне мать явилась, умоляла не грешить, о сыне подумать.
Капитан молча смотрел на немецкого ровесника, в голове не было ни одной мысли и даже не хотелось, чтоб они были. Ни думать не хотелось, ни слушать, ни загадывать.
— А совесть у вас и на самом деле, наверное, чиста, — сказал под конец эсэсовец. — И смелость, возможно, от чистой совести. Это, может быть, и похвально, но весьма опасно. Долго не продержитесь.
С этими словами капитан был с миром отпущен. Его привели в барак, он начал было рассказывать об эсэсовской пытке своим товарищам, но его быстро сморил сон. Спал он долго и крепко, а утром, когда проснулся и стал бриться, увидел у себя полголовы седых волос. Друзья заметили их еще накануне, но сказать либо не успели, либо не захотели.
Вопреки предсказаниям эсэсовского офицера капитан продержался. Это произошло, возможно, оттого, что ему удалось надолго избавиться от гестаповских глаз. В спешке его вместе с земляком-новгородцем включили в команду пленных, которая была отправлена сперва в Германию, потом в Бельгию и, наконец, во Францию. Приходилось работать на рудниках, в шахтах, на строительстве военных объектов. От них требовались работа, мускулы, только мускулы и работа. Охрана тягловой силы занимала умы самого высокого начальства. И в Германии, и в Бельгии законопачены были все щели, о побегах перестали думать, а во Франции ни с того ни с сего железный порядок слегка поослаб. Этим обстоятельством и решили воспользоваться капитан и его земляк-новгородец. Все вроде бы продумали, все предусмотрели, не учли одного — секретных патрулей за пределами лагеря. Не могли учесть, не было опыта. На патруль наткнулись в овражке перед рощей, и было это столь неожиданно, что оторопели и сами они, и патрульные немцы. В первый миг у капитана мелькнула мысль, что им встретились свои, бежавшие, как и они, из лагеря, но в руках у встречных были автоматы, и капитан, не раздумывая, бросился на ближнего. На другого немца накинулся земляк-новгородец. Схватка была долгой, ожесточенной. Капитан своего немца прижал к земле, отшвырнув в сторону автомат, а земляк подкачал, второй немец оказался сильнее. Капитан напряг все силы, дотянулся до автомата и, изловчившись, ударил фашиста прикладом по голове. Теперь было самое время помочь земляку, капитан повернулся, привстал, и в это мгновенье полоснула автоматная очередь. Обожгло шею, плечо, но ощутил он это после того как дал ответную очередь по стрелявшему немцу. Тот вскрикнул и повалился наземь.
Сознание работало четко, молниеносно. Капитан приподнял земляка, вложил ему в руки автомат и подтолкнул к роще. Тот побежал, капитан за ним. Бежали молча, быстро. Позади слева и справа послышался треск автоматных очередей. Это, вероятно, очнулись соседние патрули, стрелявшие наугад. Углубившись в рощу, беглецы сделали передых. Здесь-то и почувствовал капитан свои раны: шея и рука не двигались, плечо распухло и жгло, саднило. А засиживаться было нельзя, немцы могли снарядить погоню с ищейками. Пока темно, надо уйти как можно дальше. И они двинулись вновь: земляк впереди, капитан следом. Тяжело идти по роще ночью, а если ты еще и ранен, если разнылось все тело и кружится голова, а шагать надо быстрее, осторожнее… Капитан не говорил земляку о своих ранах, не говорил умышленно, и шли они довольно споро. Обмолвись он хоть словечком, земляк сразу бы заохал, заговорил бы о повязке, а может быть, и перевязку затеял бы. На рассвете земляк увидел все сам, но к этому часу они ушли далеко.
Встретив на тропинке старика француза, они кое-как объяснили свое положение и спросили, как связаться с партизанами. Старик долго их разглядывал, все понял и приказал молча идти за ним. Он привел их к пожилой француженке, которая сделала капитану добротную перевязку, здесь же дали им цивильную одежду, и черноглазый, лет тринадцати, подросток доставил их в маленький городок.
Пришлось долго ходить по врачам, пройти дюжину если не тайных, то, во всяком случае, неафишированных осмотров, прежде чем напали на смелого и опытного хирурга, извлекшего у капитана две фашистские пули. Через два месяца капитан Михайлов был уже в партизанском отряде, недавно район их действий был занят американскими войсками, а теперь он сидел перед Жичиным и во все глаза разглядывал офицерские погоны.
Капитан внушал Жичину самое высокое уважение, совершенно не думая об этом. Протягивая на прощанье руку, Жичин размышлял лишь о том, батальоном командовать капитану или, может быть, сразу полком. Во всяком случае, здесь, где мнение Жичина кое-что значит.
Жичину хотелось побыть одному хотя бы несколько минут, чтоб опомниться от услышанного, но это оказалось невозможным. Постучав и спросив разрешения, в комнату четким шагом вошел бравый на вид молодой человек в полувоенной одежде. Пристукнув каблуками, он вытянулся и доложил:
— Бывший старший лейтенант Климчук по вашему вызову явился!
Безупречная выправка и четкость, свойственные истинным кадровым офицерам, покорили Жичина, и он не посмел предложить ему подождать.
— Почему называете себя бывшим старшим лейтенантом? — спросил Жичин.
— Буду рад вновь стать настоящим!
И ответом Жичин остался доволен. К чему рассусоливать, когда и так все ясно? Мягко говоря, вопрос был не из удачных.
Судьба Климчука походила на сотни других. Знойным летом сорок первого под Великими Луками батальон попал в окружение. Сражались до последнего патрона, потеряли половину бойцов, но прорвать вражеское кольцо не удалось. Так старший лейтенант Климчук, только что получивший это звание, оказался в плену.
Начались допросы, избиения. В отличие от капитана Михайлова он представился немцам как рядовой. Это была его ошибка. Кто-то из пленных однополчан выдал его воинский чин, и немцы ему отплатили. Побои сменились надругательствами и жестокими пытками, из камеры его не однажды выносили без сознания.
Выразив ему сочувствие и уверенность в наказании виновных, Жичин перешел к делу:
— Вы, надеюсь, не забыли, что основой существования воинского подразделения является дисциплина и установленный порядок?
— Никак нет, — ответил Климчук. — Убедился в этом еще больше.
— Это хорошо, правильно. Мы с подполковником Комлевым думаем о том, чем вам здесь лучше заняться до отправки на родину. Не сидеть же сложа руки месяц, а может быть, и два?
— Так точно. Полагаю, надо организовать военную учебу. В первую очередь занятия по тактике, по оружию.
Жичин разделял мнение Климчука, так же в принципе думал и Комлев. Теперь, когда к четкости и собранности, к образцовой выправке прибавился еще и дельный ход мыслей собеседника, у Жичина окрепло убеждение в правильности выбора.
— Ну что ж, товарищ Климчук, офицер вы боевой, решительный. Я думаю, назначим вас… командиром роты.
Климчук вскочил, выпрямился, прищелкнул каблуками.
— Яволь! — гаркнул он на всю комнату. Гаркнул и в тот же миг спохватился. Смолк, замер, не зная ни что сказать, ни что сделать.
— Можете идти, — выдавил из себя Жичин. Климчук повернулся, вышел. Движения его по-прежнему были чеканно четки и в другую минуту могли заслужить лишь похвалу. Теперь же о похвале Жичин и не помышлял.
Он встал, с силой встряхнул головой, прошелся по комнате. Не было ни малейшего сомнения: муштру Климчук прошел у немцев. И как же он, Жичин, не смог догадаться об этом раньше? Мог, мог сообразить, в первую же минуту мог. Чего стоит одно прищелкивание каблуками! Ясно же, что оно искусственное, показное, и не зря в Красной Армии оно никогда не практиковалось. Промахнулся Жичин, непростительно промахнулся. Не обратил внимания на выправку, на четкие движения, доведенные до автоматизма. До того умилился, что даже брякнул о назначении командиром роты. Никому не говорил, капитану Михайлову ничего не сказал, а этому муштрованному деятелю наобещал.
Жичин еще казнил себя, а в комнату уже вошел очередной кандидат в командиры, и надо было внимательно слушать его, вникать в истинную его судьбу, чтоб не ошибиться, не попасть по-мальчишески впросак. И он слушал, вживался в новый рассказ, примеривал новое назначение. Чем-то выдающимся или сногсшибательным новая судьба не выделялась. Обыкновенный русский человек, обыкновенная жизнь. Озорное детство на Рязанщине в старинном селе Ижеславль. Пятистенный отцовский дом с длинным огородом до самой реки. Отворил калитку — и вот она, Проня, невеликая, неторопливая река с заливными лугами. А в реке и окунь, и лещ, и плотва, и раки. А трава на заливных лугах густейшая, пахучая, в человеческий рост. Делянка небольшая, а корове накашивали на всю зиму. Из села и в армию пошел, окончил командирские курсы. Война застала не врасплох, но и не в готовности. Нужно было время освоиться, обрести навык. Русский человек сметлив и неприхотлив, он и приглядывается недолго, и комфорта большого не требует. Не прошло и месяца, как рязанец стал и бойцом цепким, настырным, и командиром кое-что смыслящим. И не взвод его бегал уже от немцев, а немцы то и дело улепетывали без оглядки. Они еще наступали, продвигались вперед, пьяные от шнапса и от успехов, но спесь с них день ото дня заметно сбивалась. В плен рязанец попал случайно, по простодушию: принял за своих переодетых в красноармейскую форму эсэсовцев. Горько было, обидно, а главное — непоправимо. Оставалось одно — терпеливо нести свой крест и ждать первой возможности освободиться. И он нес этот крест. «В плену, как в дыму, — сказал он, — нечем было дышать». Нечем, а все же дышал, ждал случая.
Может, и не все делал рязанец так, как хотелось бы, но Жичину он был ясен. Его порядочность сомненья не вызывала, рязанец не Климчук, ему скрывать нечего.
Стоило Жичину возвратиться мыслью к судьбе Климчука, как сразу же заныло сердце. Эта боль воскресла не только из-за страданий и малодушия соотечественника. Жичин корил и себя. Словцо «яволь» в устах советского офицера звучит погано, но не преступно. Слово еще не действие. Следовало полагаться не на первое свое ощущение, а на объективную проверку или поначалу хотя бы на деловое объяснение самого Климчука. А он, Жичин, не удосужился даже предложить ему рассказать обо всем подробнее и откровеннее.
В комнату неожиданно вошел подполковник Комлев. За эти два-три часа он, наверное, не меньше переслушал и перечувствовал людских трагедий, а вид бодрый, задорный, хотя и озабоченный.
— Хорошие люди! — воскликнул он, потирая ладони. — Но есть и подлецы. — Он нахмурился. — С фашистами сотрудничали, даже служили у них. Двух таких типов я уже лицезрел. Мерзко. Внешне вроде бы на людей похожи, а человеческого почти ничего не осталось. И как только дальше жить будут?
Жичин рассказал о Климчуке, о своих сомнениях и о своей боли. Комлев даже не дослушал его.
— Выкинь из головы, — сказал он решительно. — Предатель твой Климчук, самый настоящий предатель. Мне двое о нем в один голос говорили. За этим я и пришел к тебе. Он был на службе у немцев, людей наших выдавал. Его судить надо, а ты…
Жичин не возражал. Сомнения его кончились, а боль осталась.
Не один еще час понадобился Комлеву и Жичину, чтоб выявить достойных командиров и расписать их по взводам, ротам и батальонам. Были меж ними разногласия, споры, которые к общему удовольствию завершились смехом, как только обнаружили, что оба, и тот и другой, старались продвинуть повыше своих кандидатов. Когда все назначения были согласованы, подполковник Комлев построил командиров и объявил, кто куда определен.
Чуть позже выстроен был весь лагерь, но командовал им уже не Комлев, а капитан Михайлов, назначенный главным командиром. Едва ли не больше всех этому назначению радовался Жичин. Он был убежден, что капитан лучше, чем кто-либо другой из несчастных соотечественников, готов к сложнейшим предводительским обязанностям. Жичин на себя так не надеялся, как на капитана. И капитан эти надежды оправдал. Без суеты, четко и ладно расчленил он весь строй на четыре части, вознамерился членить дальше, но вовремя передумал. Едва заметно улыбнувшись, подозвал к себе четырех комбатов и спокойно, с достоинством приказал им формировать батальоны самостоятельно. Комлев и Жичин переглянулись: верное решение было отмечено ими сразу же. Не он назначал комбатов, но доверие сбое он выказал им с первых же минут. Это было и доверие, и в то же время проверка их умения командовать. «Пусть, пусть, — думал Жичин. — На фронте два часа оставался за командира полка, а здесь, глядишь, месяца два покомандует. Доставит людей домой, а там дело сыщется. Дома всегда есть дело».
Полковник Брайт пригласил Комлева и Жичина на обед, хотя по времени это скорее был ужин. Американец начал с похвалы. Его удивили быстрота и прозорливость русских коллег. Провели в лагере несколько часов, а людей распознали лучше, чем он за несколько недель. Самым удачным показался ему выбор капитана Михайлова. Этот офицер сам собой оказывался в центре лагерных событий, его слушались и до назначения.
Прислуживали за обедом два русских паренька — знакомый уже по встрече Коля Кузьмичев и его одногодок Митя Трофимов. Старались они, как только могли. Ловили каждый взгляд, упрашивали отведать то одно, то другое и от души радовались, когда Комлев и Жичин ели с аппетитом. Глазенки блестели, с лиц не сходили счастливые улыбки. Будто отцы родные сидели за столом. Растроган был даже полковник Брайт.
Ребята не отходили от стола, а Брайт хотел доверительно поговорить с русскими коллегами и никак не решался выпроводить мальчишек. На помощь пришел Жичин. Он подозвал ребят и тихо, почти шепотом сказал, что между полковником Брайтом и подполковником Комлевым должен сейчас произойти весьма секретный разговор и что им, двум юным бойцам, поручается немедленно предупреждать обо всех, кто направляется в офицерскую столовую. Повторять не было нужды, мальчишки в тот же миг заняли посты у входных дверей.
Брайт поинтересовался, каким образом Жичину удалось выпроводить ребят. Когда Жичин объяснил, полковник долго смеялся. Надо быть прирожденным педагогом, сказал он, чтобы провести такую операцию.
— Смех смехом, — продолжал полковник, — а разговор у меня и в самом деле сугубо доверительный.
Комлев и Жичин со всем вниманием выслушали его исповедь.
Война унесла у него единственного сына, последнюю надежду на продолжение рода. Сын был флотским лейтенантом и погиб от японской бомбы в Пирл-Харборе. В доме стало пустынно, жена от расстройства заболела, болеет до сих пор. Полковник тоже ходил сам не свой и, как только представилась возможность, попросился в Европу, в экспедиционный корпус. Долго шла подготовка к высадке, множество было всяких забот, а когда высадились, дел стало еще больше и горе помаленьку отступало. Нет, боль не прошла и, наверное, не пройдет, но за делами, за бесчисленными хлопотами притупляется, притерпливается.
Не так давно получил назначение в лагерь. Должность непрестижная, но подумалось, что пользу людям можно приносить и в лагере. Все вроде бы шло своим чередом, и вдруг увидел этих русских ребятишек. Боль всколыхнулась, и он несколько дней избегал встречи с ними. Но, видно, не зря говорят: чему быть, того не миновать. Как-то вечером заявляется к нему Ник. Глазенки налиты гневом, светлые вихры торчком. Пришел с жалобой на лейтенанта и закатил целую речь. Правильную речь. И когда только успел выучиться по-английски. «Это от фашистов можно было ожидать любых зверств, но американский офицер — не фашист. Что же он военнопленных избивает?» Ник оказался прав, пришлось дать лейтенанту взбучку.
Ник… Сына его тоже звали Ник. Николас Брайт.
Этот упрямый мальчишка совсем не похож на сына, но как только полковник встречал его, вспоминался Ник. Со временем он стал замечать, что смотрит на маленького Ника, как на сына.
Недели две назад ему пришла мысль усыновить Ника. В последние дни он возвращался к этой мысли то и дело. Ник сирота. Отец погиб на границе, а мать умерла на глазах у сына в фашистском лагере. Что будет с мальчишкой после войны? Дом разрушен, родителей нет. Кто о нем подумает, кто позаботится? Знает полковник: государство советское в беде людей не бросает. Но каково будет после войны государству? Такие жертвы, такие разрушения… Это же сколько лет потребуется, чтобы привести все в порядок. Не до Ника будет государству, одни невзгоды ждут мальчишку.
А он, полковник Брайт, готов дать Нику все необходимое: приличный дом, любое образование, свою привязанность. А как обрадовалась бы жена! Мальчишки — ее слабость.
Другой на его месте мог бы воспользоваться служебным положением и отправить мальчишку к себе домой, в Штаты. Ник еще малолетний, при добром отношении может быстро привыкнуть, войти в семью и жить-поживать. Но полковник Брайт не фашист и не торговец. Ник хоть и маленький, но человек, а людей ни покупать, ни угонять по чьей-либо прихоти не должно. Только фашисты не считаются ни с какими нравственными принципами, они, надо полагать, ответят за это по всей строгости. А он, полковник Брайт, сказал теперь все, сказал чистосердечно и просит у русских коллег доброго совета.
Добрый совет… Где его взять, этот совет? Понять полковника, конечно, можно. Горе его понять, желание хоть как-то возместить потерю, скрасить жизнь заботой о несчастном мальчишке. Но Коля хоть и маленький, но человек, и этим все сказано. Какой тут может быть совет?
— Вы правы, господин полковник, — сказал наконец Комлев. — Человека в наше время ни покупать, ни продавать нельзя. Никому нельзя. Только сам человек волен выбирать и строить свою судьбу.
— Но Ник еще мал, чтоб осмысленно принимать решение. За него должны подумать взрослые. Взвесить все обстоятельства и выбрать наилучший вариант. Я могу дать клятву предоставить ему полную свободу выбора, как только он достигнет совершеннолетия.
— А вы уже говорили с ним? — спросил Жичин.
— Конечно нет, — ответил Брайт. — Я ждал встречи с официальными русскими представителями. Я даже жене ни слова об этом не написал. Зачем обнадеживать, когда ничего еще не ясно.
— Не знаю, что и сказать вам, господин полковник. — Комлев пожал плечами. — Рад бы помочь, но как? Нас никто не уполномочивал решать такие вопросы.
Брайт сник, глаза потухли, сразу стало заметно, что он уже в летах.
— Я мог бы дать ему выбор в любое время, — сказал он тихо. — Захочет в Россию через месяц — пожалуйста. Могу отвезти его сам. Через год захочет — поедет через год.
— Я думаю, надо спросить его самого, — сказал Жичин. — Он хоть и мал, но голова у него на плечах. В войну люди взрослеют не по дням, а по минутам.
В глазах у Брайта мелькнула надежда, а Комлев даже слегка оторопел. Не по душе пришлась Комлеву эта затея. Мало ли что мальчишке может прийти в голову? Ляпнет что-нибудь второпях, не подумав, а потом расхлебывай. Комлев, конечно, в любом случае не даст Брайту согласия, какое бы сочувствие он ни вызывал, но хлопот может прибавиться, могут подвергнуться риску добрые отношения.
А Жичин был спокоен. Он видел мальчишечью радость: в глазах, в улыбке, во всех движениях. Радость оттого, что в далекий лагерь прибыли русские, с далекой русской земли, и что все скоро поедут домой. Видел Жичин и складки на детском лице: и у губ, и у глаз. Парень сам знает, что к чему. Должен знать.
— Позовем? — спросил Жичин.
Брайт оживленно кивнул, Комлев недовольно пожал плечами.
Жичин поднялся и привел Колю к столу. Усадил парня в кресло, улыбнулся.
— Мы говорили сейчас о тебе, о том, как устроить твою жизнь, — сказал ему Жичин. — Говорили потому, что нет теперь у тебя ни родителей, ни дома, и судьбу свою ты должен решать сам. Решишь ты ее сам, ты уже не маленький, а мы постараемся тебе помочь.
Коля слушал напряженно, не замечая, как весь подался к Жичину. Жичин это видел и поспешил, не томя парня, изложить суть дела.
Вслед за Жичиным речь повел полковник Брайт. Он говорил медленно, отчетливо выговаривая каждое слово, чтоб все Коле было понятно. Вспомнил о погибшем сыне, рассказал о своем двухэтажном особняке в Калифорнии, о белом «паккарде», купленном для сына за два месяца до гибели. Дрогнувшим голосом поведал о своих симпатиях к Нику, о болезни жены и ее любви к детям. Дал джентльменское слово, что и автомобиль, и дом, и все, что у него есть и будет, перейдет по наследству Нику, если Ник согласится на усыновление. Повторив обещание в любое время привезти Ника в Россию, как только тому всерьез пожелается, полковник добавил, что человек он довольно состоятельный и что Нику в Калифорнии будет хорошо.
— Я прошу тебя, Ник, от имени жены и от своего имени стать нашим сыном, если, разумеется, не будет возражения со стороны советских властей.
Все трое уставились на Колю и лишь в эту минуту с недоумением заметили, что он спокойно смотрел в окно. Проследили за его взглядом, но ничего интересного за окном не обнаружили. У Жичина мелькнула догадка, что Коля про себя все уже решил и думал о том, как получше про это решение сказать. Жичин не ошибся.
Коля часто заморгал, на глаза навернулись слезинки.
— Спасибо вам, сэр… Большое спасибо. Вы все время были ко мне добры. И ко мне, и к Мите. Я уж и не помню, кто ко мне так хорошо относился… Только мама да отец. Спасибо… Не знаю, как уж и благодарить вас…
Парень растрогался, разволновался, и говорить ему было трудно. Как назло, бросило в пот. А люди ждут от него ответа. Хорошие люди. Он вытер рукой пот со лба, смахнул слезы.
— Но я ведь русский, смоленский… Я должен жить в России. — Сказал он эти слова и с облегчением вздохнул: главное теперь позади. — Наша деревня у самого леса, а в лесу грибы, птицы поют. На полянах тьма-тьмущая ягод. Бывало, все лицо, все руки искрасишь ягодами.
— Но деревни-то уже нет, — сказал Брат. — Она сожжена, сам говорил.
— Построим, — спокойно ответил Коля. — Лес есть, колхоз у нас дружный. Место очень хорошее. Где еще такое встретишь? Я ни в Германии, ни во Франции лучше не видел. Вы только не обижайтесь на меня, сэр. Вот вы говорили об автомобиле, о большом доме… — Коля застенчиво улыбнулся. — А зачем они мне? Мне учиться надо, работать. Когда на автомобилях-то разъезжать?
Комлев торжествовал, виновато поглядывая на Жичина, а полковник Брайт был в полном недоумении. Сын его о белом «паккарде» мечтал, а этот мальчишка… В голове у полковника не укладывалось такое миропонимание. Разве хороший автомобиль мешает работать или учиться? Не дорос парень, не дорос. Вырастет — спохватится. Парень-то, конечно, мал, несмышленыш, но почему два взрослых офицера молчат? Они-то должны понимать…
— Что будем делать дальше, господин полковник? — спросил Комлев, едва скрывая радость. — Может быть, отпустим парня? Или вы хотите сказать ему что-то еще?
— Нет, — ответил полковник, пожав плечами. — Все сказано.
Долго после ухода Коли никто из троих не мог прервать молчания. Тихо было и в лагере. Со двора через окна пробивалась вечерняя синева, Комлев уже подумывал о возвращении в Париж, но без добрых прощальных слов уехать было нельзя, а нужные слова не приходили.
— Хороший парень, — сказал наконец полковник Брайт. — Лучшего сына я и не хотел бы. Попробуй-ка найти ему замену.
— Найдете, — заверил его Комлев. — Хороших ребят много. Опасаться надо избалованных, капризных.
Полковник остановил на Комлеве недоверчивый взгляд, усмехнулся. Формальные слова для формального успокоения.
— После этой беседы я полюбил Ника еще больше, — сказал он. — Горько мне, смутно на душе, но, как говорится, нет худа без добра. Теперь я знаю, какого искать парня. И ему и вам обоим спасибо за урок.
— Это вам спасибо, господин полковник! — воскликнул Комлев. — Спасибо и за ребят, которых вы по-отечески приютили, и за дружескую помощь в нашем деле, и за вкусный обед. Я думаю, взаимное содействие в делах потребуется нам и после войны.
— Это верно, я тоже так думаю. Я сказал бы даже, что от взаимного понимания между нашими странами и взаимного содействия будет зависеть и мир на земле, и вся послевоенная жизнь. Это главный урок войны.
Кроме Брайта проводить Комлева и Жичина вышли Коля Кузьмичев и Митя Трофимов, капитан Михайлов, американские офицеры. Жичин залюбовался новгородцем Михайловым. Седовласый капитан и раньше выделялся безупречной выправкой, теперь же к его строевой осанке прибавилось чувство достоинства и уверенности. Нет, не ошиблись они в его выборе, за этот лагерь можно теперь не беспокоиться.
Почувствовав на себе взгляд Жичина, капитан подошел к нему и тихо поблагодарил за доброту и доверие. Оно и окрыляет и внушает ответственность. Жичин крепко пожал ему руку и пожелал мужества.
Славные русские ребятишки храбрились, улыбались, а в глазах были слезы.
— Когда я вернусь домой, пойду в военное училище, — твердо сказал Коля.
— Вместе пойдем, чтоб фашистов добивать. — Это Митя Трофимов поддержал своего товарища.
Комлев и Жичин со всеми простились, сели в машину.
— До встречи в России!
Как застоявшийся конь, машина взяла с места в карьер. Это было как нельзя лучше, Комлева и Жичина могла сейчас угомонить только быстрая езда. Начинало темнеть, водитель включил фары. Дорога тянулась прямой ровной лентой, слегка покачивало. Жичин откинул голову, зажмурил глаза.
— А ты, Федор, молодчина, — неожиданно изрек Комлев. — Поговорили полчаса с парнем — и делу конец, Брайту крыть нечем. Однако рисковый ты. Мало ли что парень мог сказануть…
— Не мог, — ответил Жичин. — Я видел его глаза.
— И что же было в глазах?
— Все как надо. — Жичину не хотелось об этом говорить, но Комлев вынуждал. — Все как должно быть.
— Ты чем-то недоволен? Все получилось ладно.
— Все получилось правильно, — сказал Жичин, — но я не убежден, что мы поступили наилучшим образом.
Жичин ожидал от Комлева возражений, а получил, к своему удивлению, нечто вроде согласия:
— Может быть, ты и прав, — устало сказал Комлев.
Жичин и верил ему, и не верил. Сейчас, когда дело решено и возврата к нему нет, можно было сказать и так. Минутой позже Комлев предложил вздремнуть, и теперь в его искренности Жичин не усомнился. Они продремали до самого Парижа.
Передачи по радио и публикации в газетах дали себя знать на другой же день. Сотворившей их Маргарите Владимировне пришлось принять на себя первый удар. Бесконечные звонки и визиты, настойчивые расспросы и рассказы доставляли ей удовлетворение, но к концу дня нещадно утомили, и она уже не чаяла, когда вернутся из поездки Жичин и Комлев. И тот и другой были удивлены и обрадованы, услышав ее рассказ о хлопотном дне. В планы пришлось внести поправки. Решили так: одному из них ехать в очередной лагерь, чтоб по вчерашнему примеру подготовить людей к отправке, другой же останется в Париже, в штаб-квартире, ради текущих забот. Договорились и об очередности.
Жичин приступил к делам с торжественной нотой в душе. В небольшой кабинет из-за высокого соседнего дома заглянуло солнышко, позолотило край стола и кресло, в которое будут усаживаться посетители. В самом начале весьма кстати вошла Маргарита Владимировна с добрыми известиями о продвижении на запад советских армий. Жичин пододвинул ей кресло, она присела и попросту, как давнему другу, улыбнулась.
— Вчера к вечеру позвонил генерал из ведомства юстиции и с беспокойством поведал о серьезном инциденте французских властей с каким-то нашим партизанским отрядом, — сказала она тоже попросту, будто речь шла не о важном официальном деле, а о мелкой бытовой истории, касающейся немногих, может быть, только их двоих. Это было немножко странно, непривычно — дело есть дело, — но Жичину эта ее манера пришлась по душе. — В середине дня, — продолжала Маргарита Владимировна, — группа вооруженных лиц подъехала к французской тюрьме и потребовала освобождения всех советских граждан. Пока их предводитель, он оказался русским, излагал свои требования, на тюрьму были наведены пулеметы, установленные на грузовых автомобилях. В тюрьме и в самом деле находятся советские граждане из военнопленных и перемещенных лиц, осужденных во время оккупации за нарушение французских законов. Французский генерал намеревался туда поехать, чтоб разобраться во всем на месте, и просил в случае необходимости оказать ему содействие. Идет война с фашизмом, и никоим образом нельзя допустить ненужного кровопролития. Обещал звонить либо с места событий, либо по возвращении в Париж.
— Странная история, ничего непонятно, — ответил Жичин. Ответил не очень ладно, сбитый с толку ее рассказом, доверительной улыбкой и этой необычной манерой речи. Оторопь его, однако, тотчас же прошла, а к строгой и возвышенной мелодии в душе прибавилась, он чувствовал, простая земная радость и земное же, мягкое ощущение мира. Он не помнил такого единения в себе столь разных состояний. Маргарита Владимировна, сама того не ведая, а может быть, и ведая — женское сердце способно на то и другое одновременно, — щедро поделилась с ним своим богатством и на самом старте вселила в него второе дыхание. — Я думаю, надо ждать звонка. Ничего другого не остается.
Жичин с удивлением отметил про себя, что и он помимо своей воли говорит об этом инциденте попросту. Может быть, так и надо? Попросту не означает худо. Попросту — это спокойно, привычно, без суеты. Он же не виноват, что судьба заставила его решать серьезные дела. Такая, стало быть, работа.
Маргарита Владимировна деликатно привлекла его внимание к большой нужде в помощниках, без которых даже опытному моряку можно утонуть в мелких хлопотах. Он понимал это и сам, помощники уже подобраны, дело остановилось из-за того, что нечем их кормить, выход был один — просить пайки у союзников. Не хотелось бы, душа не лежала, но иного пути нет. Узнав, что все зависит от двух генералов из штаба Эйзенхауэра, ведающих судьбами военнопленных, Маргарита Владимировна подала мысль пригласить их на обед в посольство, и звать их должен не кто-либо, а сам посол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза.
Это был добрый дельный совет. Чрезвычайный и Полномочный Посол это не шутка, это Советская власть, это — Его превосходительство. Если уж посол не в силах помочь, никто не поможет. Не Сталина же просить.
— Вас, наверное, сам бог к нам послал, Маргарита Владимировна. Что мы без вас делали бы?
— У меня муж на фронте, Федор Васильевич. — Она и об этом сказала без обиняков, попросту, как о нечто само собой разумеющемся.
— На каком?
— Судя по всему, на одном из центральных.
— И дети есть?
— Дочка Машенька. Хотела с собой взять — передумала. Дома с бабушкой надежнее.
— Пожалуй.
— Не буду больше докучать, вас уже ждут.
Первым собеседником был пожилой суетливый лейтенант Бабкин. Его прислали товарищи из лагеря, приютившегося возле небольшой деревни в двухстах километрах от Парижа. Лейтенант потрясал газетой и шумливо приговаривал:
— Дождались! Есть все-таки бог на земле, есть. Как ни страшен немец, а ни хрена не вышло. Прочли и плакали. Нельзя без правды, нельзя. Сперва плакали, а потом «ура» стали кричать, обниматься. И фуражки бросали вверх, и сапоги.
В лагере их около сотни, без семи человек сотня. Больные есть, искалеченные. Живется голодно. Крестьяне французские относятся к ним по-доброму, жалеют, иной раз харчами делятся. У французов сейчас у самих негусто, хлопцы это видят, понимают. Домой рвутся, только о доме и речь. Дома и несытая жизнь стерпится.
Жичин поведал об успехах на фронтах, дал слово в ближайшее время навестить лагерь и по возможности облегчить нелегкую судьбу соотечественников. Лейтенант повеселел и признался: хлопцы и тому будут рады, что в газете написана правда. Кое-кто сомневался. А уж если приедет действующий русский офицер при всей форме, с погонами да поможет кое-чем, ребята будут на седьмом небе.
Лейтенант встал и, забыв на радостях уставной воинский ритуал, дважды Жичину поклонился.
— Спасибо. От всех солдат душевное русское спасибо. — Он повернулся, торопливо вышел. Должно быть, слеза набежала, подумал Жичин, не хотел, чтоб видели. И напрасно. Слезы у солдат, наверное, и после войны долго еще будут незваными гостями. Жаль, что не расспросил, кто он и откуда. Выправки никакой, видно, из запаса призван. А может быть, и к лучшему, что не стал расспрашивать, — как бы и в самом деле не утонуть в текучке.
На ум внезапно пришел капитан Голдберг. Не очень, пожалуй, хорошо, что они с Комлевым совсем про него забыли, могут истолковать не так, как нужно. Но вспомнился он Жичину не только по этой причине. Из головы не выходили продуктовые пайки. Как выбить их у союзников? Не сможет ли капитан помочь? И захочет ли? Он, конечно, немедленно доложит своим генералам, а те начнут судить да рядить… Нет, лучше всего говорить с генералами послу, и говорить неожиданно, за званым обедом в посольстве, когда и времени нет на размышления, и отказывать не очень ловко.
Жичин снял трубку и позвонил Николаю Дмитриевичу. Тот все выслушал, одобрил и как бы между прочим спросил, не Маргарита ли Владимировна это придумала. Жичин ничего не утаил. В конце разговора Николай Дмитриевич заверил, что посол отнесется к делу благосклонно, но просить посла лучше не ему, а кому-либо из доблестных офицеров. Он же в случае надобности поддержит предложение безоговорочно.
В душе Жичин надеялся, что Николай Дмитриевич, одобрив идею, возьмет на себя и хлопоты, связанные с генеральским обедом. Не вышло, не принял во внимание людские слабости. Мог бы, конечно, и не надеяться, видел же: отношения между послом и советником — не душа в душу. Ох уж эти отношения, есть ли на свете что-либо сложнее? Надо, не теряя времени, звонить самому, звонить и ехать.
Не обнаружив у себя телефона посла, Жичин прошел к Маргарите Владимировне. Доброжелательная помощница изъявила готовность созвониться с секретарем посла и договориться о встрече. Добавила, что у посла могут быть другие важные дела и не следует удивляться, если прием будет назначен на поздний час.
Час Жичина не смущал. Позднее даже лучше — посетителей в холле собралось десятка полтора. Об одной женщине Маргарита Владимировна сочла нужным сказать особо. Пожилая, с аристократическими манерами русская привела с собой двух юнцов. Пришла одной из первых. Непременно хочет видеть главного русского офицера.
— Но Комлев сегодня вряд ли появится, — сказал Жичин.
— Поговорите вы. Мне она свои тайны раскрыть не захотела.
Жичин собрался сразу же побеседовать с ней, но в кабинет следом за ним уверенной походкой вошел высокий черноволосый мужчина лет тридцати с отталкивающим нагловатым взглядом. На нем были новехонькие, хорошо отутюженные брюки армейского образца и элегантно сшитая кожаная куртка. Он нетерпеливо ждал, когда его пригласят сесть, а Жичин медлил. Брюки, конечно, куплены у американского офицера, а куртка…
— Sit down, please, — сказал наконец Жичин.
— Спасибо, — ответил пришелец. — Можете говорить со мной по-русски. Отец у меня швейцарец, а мать русская. У русских матерей, куда бы их судьба ни завела, дети всегда знают родной язык.
Это было любопытно, следовало бы в ответ что-то сказать, но Жичин промолчал.
— Моя фамилия Шмидт, — продолжал пришелец. — По-русски означает Кузнецов, а девичья фамилия матери — Калинина, как у вашего президента. Хорошая фамилия, но матушка оставила за мной отцовскую, в Европе более понятную и привычную. Я служил во французской армии, когда немцы разделали нас под орех, потом перебрался в Швейцарию. Про де Голля слыхал, но служить к нему не пошел, сейчас раскаиваюсь. В Париж вернулся три месяца назад, восстановил связи с французскими офицерами, познакомился с американцами. Могу быть полезным России.
— Чем? — спросил Жичин.
— Как это чем? Я ведь уже рассказывал вам про свои связи.
— Не понимаю.
Шмидт пожал плечами, засмеялся.
— Могу добывать вам нужные сведения.
До Жичина дошло, но виду он не подал.
— Мы занимаемся советскими военнопленными. Готовим их к отправке на родину. Союзники предоставили нам списки лагерей, надеемся, что и французские власти не будут чинить препятствий.
Шмидт нахмурился и сразу прибавил себе лет десять.
— Вы, наверное, не хотите меня понять. Я имею в виду сведения не о пленных, это добро никто от вас скрывать не будет.
— И что же за сведения?
— Офицеру вроде бы не пристало задавать такие вопросы. Я толкую вам о военных сведениях.
Жичин смотрел на него с молчаливым равнодушием, зная уже, что тот скажет дальше и что ему ответить. Было одно желание: поскорее закончить разговор.
— Я могу снабжать вас довольно точными данными о численности и расположении английских и американских войск. О французских формированиях сведения будут еще точнее. О цене хотел бы договориться заранее.
— О какой цене? — спросил Жичин. — Союзники, сколько я знаю, не скрывают от нас свои операции.
— Не может быть! — воскликнул Шмидт.
— Нас интересует фашистская армия, — сказал Жичин, едва сдерживая раздражение. — Мы ведем войну с ней.
— Тогда нам не о чем говорить.
— Пожалуй. — Жичин встал, холодно кивнул, чтоб исключить любое продолжение беседы. Пришелец исчез не простившись.
Иначе как провокацию этот визит расценивать было нельзя.
Дошел черед и до русской аристократки. Жичин сделал попытку принять ее раньше, она воспротивилась.
— Я не принцесса и не генерал, чтобы ради меня ломать порядок, — ответила она строго. — И ребята мои не королевичи.
— Достойный ответ. — Жичин улыбнулся, не упустив из виду, что едва заметно, одними глазами улыбнулась и она.
Когда же она вошла в кабинет, невысокая, в строгом черном костюме, взгляд ее первым делом остановился на флотской форме Жичина. Она долго, почти с благоговением рассматривала погоны, золотые нашивки на рукавах, кортик, прицепленный для торжественности.
— Это какой же у вас чин?
— Капитан-лейтенант.
— Стало быть, вы не подполковник?
— Никак нет.
— А я хотела с подполковником говорить.
— Его нынче не будет.
— Как это вы хорошо сказали — нынче. Так уж в наше время и не говорят. А у подполковника какие погоны?
— Два просвета, две звезды.
— Стало быть, вернулись к старому. Это похвально. Старое не всегда плохое. — Она все еще поглядывала то на нашивки, то на погоны, и мысли ее были не здесь, а где-то в дальней дали, и даль эта волновала ее. — В нашей семье к морякам всегда относились с почтением. — Она вздохнула, ей не хотелось расставаться с той далью, но усилием воли она принудила себя. — Может быть, мне не ждать подполковника? Может быть, все решите вы?
— Сделаю все возможное.
Она пришла просить не за себя, а за двух русских парней. Несчастных ребят угнали в Германию совсем мальчишками. Это сейчас они вытянулись, а тогда им едва по тринадцати стукнуло. Мишу с матерью разлучили, возможно, она и жива еще, а у Алеши мать затравили собаками. Это ж надо дойти до такого изуверства. Колесили по Германии, попали во Францию. Алешу она подобрала прошлой осенью на дороге. Худющий был, одни глазенки торчали. Как было не приютить. А Мишу через месяц привел Алеша, и этого пришлось обихаживать, не помирать же им. Жили это время не то чтоб сытно, но с голоду не умерли. Одежонку им кроила да перекраивала из разного старья, не до моды было, конечно, но хоть на людей похожи. В газетах написано, что на родину отправляют военнопленных. Это дело святое, не оставлять же их на чужбине. А как быть с ребятами? Они же не пленные. Неделю-другую она бы еще смогла продержать их у себя, но не больше: истощились все ресурсы. Худо ей придется без ребят, подумать страшно. Привыкла, как к родным. Родные и есть — русские. Кормила, от немцев скрывала, языкам обучала — и русскому и французскому. Все часы и минуты были заполнены, не зря вроде бы и жила. Тоска ждет, пустота. Но раньше всего, наверное, надо думать о них, не о себе. Они, правда, тоже привязались к ней, почитают как мать родную. Да ведь русские — они и жить должны в России. Кто-кто, а она-то знает, как русскому человеку живется на чужбине. Женщине тяжко, а о мужчинах и говорить нечего.
Жичин этих ребят видел. Не знал, кто Миша и кто Алеша, но оба они ему приглянулись. Тихие, стеснительные, с открытыми лицами. И женщина оставляла самое выгодное впечатление. Первая встреча — и полное доверие. И как не верить: целый год от себя отрывала, каждый день на риск шла. Такой человек плохому не научит.
— Ребят мы отправим на родину при первой же оказии, — сказал Жичин. — Вы правы: русские должны жить в России. — Он удивился точному совпадению мыслей совершенно разных людей: мальчика Коли Кузьмичева и пожилой многоопытной женщины. — Через день-два мы можем поместить их в лагерь под Парижем. Жизнь там не сладкая, но мы выделили им деньги, будет получше.
— Может быть, им пожить пока у меня? — спросила она растерянно. — Трудно им там будет.
— Можно и так, — согласился Жичин. — Можем и деньги вам выделить.
— Нет, нет, пока не надо. Как-нибудь перебьемся.
— А зачем? Вы и так истратились. За этих ребят вам большое спасибо, от всей русской земли поклон низкий. Я даже не знаю, как благодарить вас.
— Что вы, что вы! Благодарить меня не надо. У меня брат родной в Красной Армии служит. Игнатьев. Может, слыхали?
— Генерал-лейтенант? — изумился Жичин.
— Нынешнего чина я не знаю. Алексей Алексеевич Игнатьев. Он до революции был здесь русским военным атташе.
— Он самый! Да я же слушал его перед отъездом. Вопросы задавал. Он у нас в клубе беседу проводил с молодыми офицерами. Ре-едкая была беседа — об офицерской этике. Столько интересного порассказал, полезного. Он любит наш клуб, частенько там бывает. Это на Пушечной, рядом с «Савоем». И мы все от него в восторге. В нашем представлении он образец русского офицера. Честность, благородство, широта мышления. И вид у него генеральский — высокий, величественный.
— Я вижу, вы влюблены в него, мне это радостно.
— Не я один, все молодые офицеры. Он написал книгу «Пятьдесят лет в строю». Все зачитываются, невозможно достать.
— О книге я слыхала, но не видела. Здесь ее нет.
— Я вам пришлю. Как вернусь в Лондон, так и пришлю. Возьму в посольской библиотеке, там она есть.
— Из библиотеки, наверное, нельзя, вдруг почта затеряет.
— Пришлю, пришлю. На худой конец из Москвы выпишем.
— Буду вам признательна. Мне, конечно, очень хочется прочесть его книгу. Как прочту, сразу же верну. — Она вдруг умолкла, забеспокоилась. Жичин подумал, что причиной тому ее ребята, но ошибся. — Вы, я вижу, человек добрый, деликатный. — Она встала. — Мне пора освободить кресло другому, там люди ждут, а вы даже не намекнете. Надеюсь, мы еще увидимся. Буду рада, если заглянете ко мне.
Жичин так увлекся беседой, что не спросил даже имени Игнатьевой. Вспомнил об этом, когда ушла.
А едва она вышла, хлынул на Жичина поток людских судеб, со слезами пережитого горя и счастливой надеждой на скорое возвращение домой. Один за другим представали перед ним молодые и пожилые, в одиночку и группами. Не успевал он принять в сердце одну судьбу, как торопилась занять там свое место другая, не менее достойная. Для того чтобы они вошли и закрепились там, нужно было время, а времени, даже самого минимального, не было, и Жичин с ужасом почувствовал, что начинает привыкать к этим искореженным судьбам. Одно в этом тягостном ощущении утешало его: все или почти все, едва узнав о реальной возможности вновь обрести дом и нормальную человеческую жизнь, извлекали из тайников души упрятанные мечты и строили планы один заманчивее другого. Не истребили немцы, не могли истребить в человеке человеческого, как ни старались.
Посол мог принять Жичина лишь к вечеру. Как и предсказывал Николай Дмитриевич, на генеральский обед он согласился сразу же. Под доброе настроение обещал приложить вместе с женой все усилия, чтоб из обеда вышел толк.
Жичин поделился с ним горечью раздумий об искалеченных судьбах тысяч и тысяч соотечественников. И хотя послу это было не в новость, он сдвинул брови, встал, прошелся по кабинету, чтоб утишить нервы, и с недоумением, тревожившим его, по всей видимости, не впервые, начал рассуждать о природе падения нравов, о том, как, оказывается, легко даже в двадцатом веке из цивилизованной нации смастерить массу палачей и изуверов. Провозгласи нацию высшей расой, пообещай по кусочку «жизненного пространства», назови мораль химерой и учреди поголовный надзор, добавь к этому бочку пива и уродливый, на лягушку похожий «фольксваген» — и вся проблема. Можно только диву даваться. А может быть, и не надо. Животным был человек тысячи лет, а цивилизованным много ли?
— Вы в Англии давно? — спросил неожиданно посол.
— Года еще нет, — ответил Жичин.
— Англичан, пожалуй, так быстро не оболванишь, они каждый по себе. — Посол на минуту задумался. — Купить, наверное, можно, а оболванить… — Он оглядел Жичина с головы до ног. — Красивая все-таки форма у моряков…
Жичин понял, что пора уходить, встал, поблагодарил посла.
— Хорошо бы завтра отвезти этим генералам приглашения, — сказал на прощание посол. — Почта ныне ненадежная.
— Отвезем, — ответил Жичин.
В вестибюле миссии его встретила обеспокоенная Маргарита Владимировна. Вновь звонил генерал от юстиции, он вернулся из поездки вместе с русским командиром, и оба они должны вскоре прибыть.
— Успел вовремя, — сказал Жичин. — От посла — и прямо сюда. Завтра везем приглашение.
— Я уже знаю. Разыскивая вас, звонила в посольство.
— Спасибо большое. Вы не откажете в помощи побеседовать с этим генералом?
— Возьму вот и не откажу, хотя он, кажется, говорит и по-английски.
— Мой английский хромает на обе ноги.
— Мне и самой любопытно, чем вся эта история завершится.
Жичин поднял глаза и увидел в открывшейся двери двух коренастых мужчин одинакового роста. Они стояли и никак не могли договориться, кому входить первым.
— Прошу вас, господин генерал, — сказал Жичин, вставая и идя им навстречу.
Спор наконец разрешился, они вошли, представились. Жичин усадил их в кресла друг против друга. Разговор начал генерал.
Он поблагодарил Жичина за доброе согласие принять их и за готовность ни в коем случае не допустить вооруженного столкновения, о чем любезно поведала очаровательная мадам, которая, как он догадывается, здесь присутствует и заслуживает самой сердечной признательности. Просьба у него одна: он хотел бы получить официальное заверение в мирном завершении инцидента. Он уже имел честь довольно подробно беседовать с храбрым русским командиром, совсем еще молодым, но рассудительным и понимающим серьезность ситуации, и у него сложилось впечатление, что в принципе они пришли к согласию.
Вести совещание, когда в роли просителя оказывался генерал, Жичину еще не приходилось, и он чувствовал себя не совсем ловко. С минуту выждав, убедившись, что дело свое генерал изложил, он перевел взгляд на соотечественника:
— Что скажет лейтенант Чернов?
Чернов встал, вытянулся.
— Так точно, товарищ капитан-лейтенант: в принципе пришли к согласию.
— Тачанки пулеметные еще там?
— Никак нет. — Чернов взглянул на часы. — Они сейчас уже к базе подходят.
От имени советских властей Жичин принес генералу извинения и заверил, что подобные инциденты не повторятся. Генерал распрощался, Жичин вышел проводить его, а вернувшись в кабинет, застал Маргариту Владимировну и Чернова хохочущими.
— Вы только послушайте, Федор Васильевич, как они начальника тюрьмы напугали.
— И слушать не хочу, — строго сказал Жичин. — Добрые люди с немцами воюют, а они в игрушки играют. Ухари нашлись.
— Мы и с немцами воевали, товарищ капитан-лейтенант, французские друзья были довольны, — ответил Чернов.
— В Париже есть советское посольство, и только оно уполномочено вести переговоры с французскими властями. Вас могли всех перестрелять.
— Мы тоже не лыком шиты, за себя и за Советскую Родину постоять умеем.
— Поймите вы, дурьи головы, не тот путь выбрали!
— Поняли, товарищ капитан-лейтенант, потому и отступились. — Чернов глядел Жичину в глаза, улыбался, прося мира и пощады, но в улыбке таилась некая хитринка.
— Ладно, рассказывайте. — Против неведомой хитринки Жичин устоять не мог.
Лейтенант Чернов служил на эсминце, любил его, как свой второй дом, а когда немцы подошли к Севастополю, дом свой, и один и другой, надо было отстаивать на суше. Так решило командование, так думал и сам он.
Доверили ему роту первоклассных матросов, определили позицию, и началась эпопея. В роте у них не давали никаких клятв, не было нужды. Каждый знал свое дело и без суеты исполнял его. Знали и другое: нельзя бросать в беде боевого друга. И не бросали, не было ни одного позорного случая. Единение и товарищество в роте было крепче любого алмаза. Может быть, поэтому Чернов и решился на рейд к тюрьме, когда узнал, что там упрятаны десятки советских граждан. Чужбина, подумалось, никто и передачу не принесет. Как не выручить? Свои же. Начальник тюрьмы заартачился, пришлось припугнуть пулеметами. Посговорчивее стал, пригласил в кабинет. Выпили по чашке кофе — маленькие такие чашки, с наперсток. Потом вызвал помощника, приказал подготовить списки. Тот вышел и долго не появлялся. Глянул Чернов на часы и схватился за голову: пулеметчики вот-вот должны открыть огонь, так сговорились. На ходу объяснил ситуацию, бросился предупредить. Вот тут-то начальник и перетрусил. Бежал за Черновым вприпрыжку, что-то говорил, обещал, а как только пулеметная опасность миновала, извинился и торопливо куда-то исчез.
Едва оба возвратились в кабинет, помощник принес списки. Чернов посмотрел их, ничего толком не понял и попросил вызвать заключенного по фамилии Петров. На Петрове остановился потому, что не было в списке ни Иванова, ни Сидорова. Рыжий воронежский детина Петров то ли ничего не знал о заключенных, то ли не хотел говорить, но посоветовал расспросить Бражникова. Вызвали Бражникова, он долго разглядывал Чернова, озирался по сторонам и, наконец, тихой скороговоркой сказал, что среди советских заключенных порядочных людей мало, три-четыре человека. Остальные же — либо фашистские прихвостни, либо украинские националисты, стрелявшие в спину красноармейцам. Их не только освобождать, их надо сгноить в тюрьме. Он говорил выстраданно, с болью, Чернов поверил ему и показал списки. Бражников выделил пятерых. По его мнению, это были патриоты и за них следовало заступиться. Себя он в пятерке не назвал, было неловко, Чернов упрекнул его, но в душе одобрил, сам поступил бы так же.
Дела у Чернова пошли совсем не по задумке. Перед операцией обмозговывали десятки вариантов, и никому в голову не пришло, что в тюрьме могли быть предатели. Оскорблены его лучшие намерения. Что ему оставалось делать? Отходить со своими назад. Иного пути не было. А что говорить испуганному начальнику? То с пулеметами, а теперь — «извините, пожалуйста»? Ой как несладко было на душе у Чернова.
С деликатностью, на какую был способен, он попросил тюремного шефа указать в списках, кто в чем повинен. В первую очередь он и его боевые друзья хотели бы узнать, за что осуждены Бражников и те пятеро, которые были им названы. Шеф ответил, что это кропотливая работа и вряд ли ее можно сделать раньше, чем в середине следующего дня. Чернова это устраивало, и они условились о встрече на другой день.
Шеф на другой день лишь присутствовал, а разговор шел с приехавшим генералом. Чернов терпеливо выслушал целую лекцию о французском правосудии, любезно лектора поблагодарил и довольно настойчиво поинтересовался возможностью освобождения Бражникова и подсказанной им пятерки. Генерал взял списки, ознакомился с ними и нашел, что обвинения у шестерых указанных лиц не очень серьезны, но об освобождении можно вести речь лишь после пересмотра дел французским судом. Его ведомство в состоянии ускорить этот пересмотр.
Чернов, возможно, действовал бы понапористее, но генерал сказал ему, что в Париж прибыла специальная военная миссия для эвакуации на родину советских граждан и что ему, Чернову, не мешало бы съездить и представиться. Эта счастливая новость так его взбудоражила, что он согласился на ускоренный пересмотр судебных дел шестерых соотечественников и вместе с генералом прикатил в Париж.
— На генеральской машине? — спросил Жичин.
— Что вы! У Саши Черного в личном распоряжении шикарный «мерседес»!
— У кого?
— Это меня хлопцы мои так величают. — Чернов рассмеялся. — Меня зовут Александром, вот они и придумали… Где служили, товарищ капитан-лейтенант? — Чернов, когда рассказывал, то и дело бросал восторженные взгляды на погоны, на кортик.
— На Балтике, — ответил Жичин. — Крейсер «Киров».
— О-о! Слыхали о таком. Как он действовал?
— Неплохо действовал. Труднейший был переход из Таллина в Кронштадт. Прошли достойно. Потом Ленинград, на якоре в Неве. Стрельбы, стрельбы. И по самолетам, и по наземным войскам. Весной сорок второго покалечили нас.
— Сильно?
— Терпимо. И корабль отремонтировали, и меня. Разница в том, что корабль давно в строю, воюет за милую душу, а я вот… На корабль не пустили, признали годным к нестроевой службе! — Слова Жичина нашли отклик и у Маргариты Владимировны, и у Чернова, оба они притихли, пригорюнились. Даже жалко их стало, знал бы, и не говорил. И все же приятно было Жичину, заулыбался он, повеселел. — Утешаю себя мыслью, что возвращение хороших людей на родину тоже не последнее дело.
— Конечно! — воскликнула Маргарита Владимировна. — Я за честь почла, когда мне предложили помочь вам. Гуманнейшее дело.
И Чернов полагал его дело благородным, но, привыкший к действию, лейтенант мыслил еще и сугубо практически. Если отправка в Россию начнется скоро, то он и его сподвижники успеют еще повоевать с немчурой под родными знаменами, и лучше всего вернуться домой не с пустыми руками, а при полном вооружении. Приехал, надел положенную форму и — в бой. Оружие у них проверенное: пулеметы, ружья противотанковые, автоматы. И боезапас приличный.
Идея лейтенанта показалась Жичину заманчивой. Конец войны предрешен, но бои идут, бои кровопролитные. Когда войска вступят в Германию, битва, надо думать, ужесточится и особо будет дорог каждый солдат, каждый пулемет. Они с Комлевым прикидывали: военнопленные, как правило, бойцы опытные, обстрелянные, из них можно сформировать не одно боевое соединение. А чем плохо, если кто-то из них вернется домой с оружием, с боеприпасами?
— Чье у вас оружие? — спросил Жичин.
— Немецкое. Автоматы есть и английские, немного. Остальное все немецкое. Добыты собственными руками.
— В отряде одни русские?
— Не-ет, целый интернационал. Буряты есть, осетины, белорусы. Почти половина французов.
— И подчиняются?
— Еще как! Меня французы и выбрали, в отряде тогда их было большинство. Узнали, что я кадровый командир, проверили в боях и вручили бразды. Сперва переводчика приставили, а когда с языком освоился, стал обходиться сам.
Жичин слушал его, вглядывался в обветренное волевое лицо и все больше проникался к нему симпатией. По душе были и его большие руки, и свободная манера речи.
— Вот вам и Саша Черный! — воскликнул Жичин, повернувшись к Маргарите Владимировне.
— Я думаю, Федор Васильевич, его неверно назвали. Он же Саша Светлый.
Уловив расположение к себе и Жичина и Маргариты Владимировны, Чернов осмелился пошутить:
— Скажите, пожалуйста, товарищ капитан-лейтенант, это не ваш стоит у подъезда черный драндулет?
— Посол выделил в наше распоряжение. Не нравится?
— Эта колымага уйму бензина жрет, а потом… Советский Союз ведь представляете.
— А что делать, если другой нет. Возит, и ладно.
— Хотите, я вам «мерседес» подарю? Новехонький. У нас целых три.
— Как же это вы подарите?
— Пригоню к подъезду, и катайтесь на здоровье. Не стыдно будет в любой штаб поехать.
— На машину, как я понимаю, документ какой-то должен быть.
— Документа нет. Трофейная. Мы же ездим, и хоть бы что.
— Не зна-аю. — Жичин пожал плечами. — Надо, наверное, с послом посоветоваться. Может быть, вы знаете, Маргарита Владимировна?
Маргарита Владимировна тоже не знала, но порекомендовала быть осторожнее. Одно дело партизанский отряд и другое — официальное представительство.
Время было позднее, и Жичин пригласил их к себе в отель ужинать. Чернов отказался, ему предстояла дальняя дорога. Обещал через день появиться вновь.
— А я, пожалуй, поужинала бы, — сказала Маргарита Владимировна. — Давно вкусно не ела.
Комлев и Жичин встретили союзных генералов у подъезда.
— Чем же все-таки мы обязаны такой чести? — спросил американец Баркер, едва успев поздороваться. Два дня назад этот вопрос задавался Жичину в Версале, когда он вручал приглашения. Теперь отвечать должен Комлев, старший по чину.
— Посла интересует проблема военнопленных, — сказал он. — Нас он выспрашивал долго и дотошно, но мы, к сожалению, всего лишь дилетанты. Возможно, профессор захотел послушать мнения более компетентных лиц.
— Какой профессор?
— Ох, извините, пожалуйста, я не сказал вам, что посол и профессор это одно лицо. Перед тем как уйти на дипломатическую службу, он работал в институте, читал лекции студентам.
Посол-профессор поначалу дал волю своей молодой жене. Яркая, элегантная, она с женской непосредственностью посочувствовала нелегкой судьбе генералов. Как ни интересно общество своих коллег, а вдали от семьи, от дома, наверное, и тоскливо и неуютно. Зато, конечно, и утешение есть: весь мир смотрит ныне на военных. Не кто-либо, а они решают сейчас, как будет планета жить дальше.
Лидия Александровна выспросила их о женах, о детях, поинтересовалась именами, возрастом, а узнав, что у того и у другого по куче ребятишек, выказала искреннюю радость. Давно, видимо, генералов никто так участливо не расспрашивал о семейных делах, оба даже слегка смутились.
Жичин невольно сравнивал первую даму посольства с Маргаритой Владимировной и не знал, кому отдать предпочтение — обе были хороши. Лидия Александровна выглядела поэффектнее, посмелее, но уступала, пожалуй, в тонком чутье собеседников, в женской предупредительности. Сказывалось и воспитание, и высокое положение.
За столом бразды правления взял в свои руки посол. Поручив Комлеву разливать вино, он в нескольких словах изобразил обстановку на фронтах, говорящую о близкой победе, отдал дань ее вершителям: здравому смыслу и проницательности Рузвельта, неиссякаемой энергии Черчилля, целеустремленности де Голля. Среди вершителей посол не упомянул Сталина. Жичин сперва недоумевал, а потом понял, что так, пожалуй, и надо: негоже хвастаться своими доблестями, когда о них знает весь мир, пусть говорят другие.
В годы войны царь-тостом была здравица за победу над врагом, и посол не мог отойти от традиции. Особо выделил важность скорой победы с наименьшими жертвами. Генерал Баркер пригубил бокал, а пить не стал. Объяснил, что безоговорочно присоединяется к словам посла, но всю жизнь был убежденным трезвенником, вина никогда не пил и не хотел бы нарушать свой принцип. Резон был серьезный, и его приняли.
Посол и американский генерал завели обстоятельный разговор о военнопленных. Оба как будто сходились на том, что необходима быстрейшая эвакуация. Посла интересовала и моральная сторона дела, и экономическая. Мораль генерал Баркер оставил без особого внимания, зато об экономическом аспекте речь вел охотно.
— Мы воюем с немцами, а немецких пленных у нас мало. В ближайшие месяцы будет, наверное, больше, и мы к этому готовимся, а сейчас преобладают русские, поляки, бельгийцы. Но мы же их в плен не брали! Какая же нам надобность брать на себя солидные расходы по их содержанию?
Генерал начал перечислять лагеря, приводить цифровые выкладки, и стол заскучал. Британский коллега Венэблс шепнул рядом сидевшему Жичину, что он не прочь бы и выпить, если кто-либо составит компанию. Они переглянулись и выпили. Лидия Александровна заметила их союз, заговорщической улыбкой поощрила его. Баркер продолжал рассуждать, а Венэблс и Жичин тихо, едва слышно повели свой разговор. Начал его британец:
— Вчера я получил приглашение на прием по случаю вашего национального праздника. Большой будет прием?
— Да, приглашено несколько сот человек. Будут де Голль, Монтгомери, Эйзенхауэр.
— Солидная трата денег.
— Верно. Но и праздник солидный — годовщина Октябрьской революции. По такому поводу скупиться нельзя.
— Тоже резонно.
Они смолкли, прислушались к рассуждениям Баркера. Тот все еще сокрушался из-за тяжкого бремени, взваленного на американские плечи. У Жичина вспыхнуло желание дать этому сухарю-янки хорошую отповедь, но посол и Комлев были спокойны, и Жичин сдержал себя. Повернулся к британскому коллеге, кивнул на бутылку. Получив согласие, наполнил бокалы. Вновь зашептал Венэблс:
— Скажите, пожалуйста, это приглашение на прием… Оно на одного человека?
— Думаю, что на одного. Исходили, должно быть, из того, что жены у военнослужащих остались дома.
— Резонно.
— Но я все-таки выясню.
В эту минуту заговорил посол. Деликатно, но твердо предупредил: если вести речь о бремени, надо помнить о том, что на плечи советских людей такие легли тяготы и невзгоды, какие ни один народ еще не испытывал. Миллионы убитых и искалеченных, тысячи разрушенных городов и селений…
— Даже представить трудно, каких мы лишились ценностей, — продолжал посол. — Поэтому и ваше бремя мы принимаем близко к сердцу и всячески хотели бы облегчить его. Чем скорее отправим мы пленных, тем меньше будет у вас затрат. Не так ли?
— Конечно, — согласился Баркер.
— Двум офицерам эта задача не по плечу, дело может растянуться на месяцы. Ни вам, ни нам это не к выгоде. На ум пришел вариант, хотелось бы с вами посоветоваться. Мы могли бы довольно быстро отобрать десятка два-три толковых офицеров из числа военнопленных и определить их в помощники Комлеву и Жичину. Группа в таком составе сумела бы многое сделать до приезда специальной миссии из Москвы. Что вы на это скажете?
— Скажу, что это в компетенции советских властей, и ничьей больше, — ответил Баркер. — Двадцать человек, конечно, не два человека, и дело может пойти быстрее.
— Но у нас нечем их кормить. Помещение мы нашли бы, а продукты… Не могли бы вы помочь нам? Солдатскими пайками и бензином? Лагеря разбросаны, концы немалые.
Все взгляды нацелились на генерала, но генерал, опустив глаза, отвечать не спешил. Просьба посла застала его врасплох, и он досадовал на себя за то, что не мог вовремя ухватить логику рассуждений собеседника. То поддакивал послу, соглашался, а теперь… Что теперь делать, как отказывать? Обвел его профессор, а годами, пожалуй, помоложе.
Привстав, генерал отодвинул стул, скрестил на груди руки.
— Боюсь, что ничем не могу помочь, — сказал он сухо. — Не в силах.
Ответ был неожиданный, нелогичный и воспринимался как каприз.
— А кто в силах? — спросил посол. — Генерал Эйзенхауэр?
— Если б эти двадцать офицеров были прикомандированы к нашему штабу официально, не возникло бы никакой проблемы. — Голос генерала смягчился, но легче от этого не стало. — Но они же военнопленные! Мы не можем равнять своих солдат с пленными.
В недоумение пришли все, даже британский коллега Венэблс. «Хорош союзничек, — подумал Жичин. — Генерал, пожалуй, и в самом деле так думает, не лукавит. Лучше бы уж слукавил». Лидии Александровне тоже претила самонадеянная солдатская прямота, но она скрывала это за подчеркнутой любезностью. Комлев насупился, ему было неловко за генерала: хоть и чужеземец, но офицер, да еще высокого ранга. И лишь умудренный опытом посол спокойно, с хитринкой в посмеивающихся глазах оглядел стол, задержал взгляд на британце Венэблсе и, оставшись удовлетворенным своим осмотром, медленно, как бы нехотя пообещал завтра же от имени Советского правительства написать официальное представление генералу Эйзенхауэру. На Баркера это особого впечатления не произвело, он и в политике мыслил солдатскими категориями. Ему важно было суждение собственное, а коль шла война, решающее слово, по его логике, все равно должно быть за военными.
Посол сделал еще одну попытку убедить Баркера. Он повел речь о разнородности военнопленных. Есть пленные фашисты и есть советские пленные, которые с фашистами воевали. Ставить их вровень было бы кощунственно, а между тем в отдельных лагерях пленным фашистам созданы гораздо лучшие условия, чем советским пленным. Эту аморальную дискриминацию невозможно оправдать никакими обстоятельствами. Советский Союз нес и несет до сих пор главную тяжесть войны с фашизмом, генералам это известно лучше, чем кому-либо, и советские люди вправе надеяться на доброе, человечное отношение к себе со стороны союзников. Руководители Соединенных Штатов и Великобритании декларируют одно, а в штабах делается другое. Как это понимать?
Бригадный генерал Венэблс лучше других знал своего американского коллегу и начальника и не рассчитывал на его благосклонность к просьбе советской стороны. Больше того, как только посол логикой своих рассуждений загнал Баркера в угол, ему стало ясно, что иного решения, нежели отказ, от коллеги не дождаться. Потеряв интерес к разговору, Венэблс привлек внимание Жичина и тихохонько изъявил желание выпить за успех дела. Жичин не понял его, но хорошее желание охотно с ним разделил.
Выпив водки, британский генерал зашептал Жичину:
— Мне хотелось бы пригласить на ваш большой прием одну даму… В посольстве, как я понимаю, будет весь парижский свет, а для женщины это такое искушение… Она была бы счастлива…
Обескураженный неуступчивостью Баркера, Жичин сперва заколебался, хотя в кармане у него было несколько свободных приглашений, а потом решил, что негоже русскому офицеру перенимать бессмысленное упрямство, и твердо обещал ему помочь. Венэблс засиял от радости.
Генерал Баркер старательно и сбивчиво объяснял послу ограниченность американских возможностей, а его коллега Венэблс, склонившись к Жичину, едва слышно расхваливал свою даму:
— Это в высшей степени порядочная женщина, я вас непременно познакомлю с ней, и вы убедитесь сами.
Обед близился к концу, и лишь генерал Венэблс догадался воздать хвалу и вкусным блюдам, и любезной хозяйке.
Посол и виду не показал, что остался недоволен обедом. Прощаясь, он лишь дольше и пытливее, чем обычно, вглядывался в американского генерала. Дипломатическая практика до сих пор не сводила его с подобными экземплярами.
Комлев и Жичин вышли проводить генералов. Впереди следовали Баркер и Комлев. У поворота на лестницу Жичин приостановился, достал из кармана приглашение, отпечатанное на особой бумаге, и передал его Венэблсу, сказав, что фамилию гостьи генерал может вписать сам. Венэблс растрогался, крепко пожал ему руку.
— Я еще за столом намеревался сказать вам, что завтра к одиннадцати часам можете прислать кого-нибудь в Версаль за пайками и за талонами на бензин.
Не веря своим ушам, Жичин переспросил генерала. Тот охотно подтвердил свои слова, справился о количестве и подвел итог уговору: тридцать пайков и на две машины бензина. Обрадованный Жичин сам изъявил готовность приехать в Версаль, генерал отсоветовал, но попросил прислать официальную заявку.
Проводив гостей, Комлев и Жичин возвратились к послу и с ходу были втянуты в его разговор с молодой женой. Они вольно, по-семейному сидели за столом, только что оставленным гостями, пили чай.
— Подумать только! — сокрушалась Лидия Александровна. — Высокий, стройный, интеллигентное лицо… Я поначалу едва не влюбилась в него. Присаживайтесь, господа офицеры.
Жичин и Комлев сели.
— Ты, наверное, не обратила внимания на его глаза, — упрекнул ее посол. — А глаза у него пустые, оловянные. Довелись такому командовать в бою, он и советов ничьих не примет, тысячи людей может погубить.
— Что будем делать, Александр Ефремович? — спросил посла Комлев. — Писать представление генералу Эйзенхауэру?
— А если и Эйзенхауэр такой же? — В глазах посла еще играли веселые искорки.
— Не такой, — ответил Комлев.
— Вы с ним встречались?
— Не доводилось, Александр Ефремович, но офицеры союзные в один голос говорят о нем как об умном и талантливом полководце.
— Подумаем, подумаем. Давайте думать вместе. Пайки и бензин… Не мелковато ли для серьезного представления? На днях мне рассказывали о двух британских лагерях, где немецкие пленные содержатся в нормальных помещениях, а наши ютятся в холодных бараках, даже в палатках. Нужны три-четыре факта, но абсолютно точных, проверенных. Это уже вопрос и морали и политики.
— Постараемся представить такие факты, — уныло заверил Комлев.
Жичин порывался рассказать про обещание генерала Венэблса, но поостерегся, не рассказал, подумав, что под хмельком наобещать можно многое.
На другой день с утра Комлев уехал в облюбованный английский лагерь, пригласив с собой капитана Голдберга. На судьбу офицера связи капитан не сетовал, даже был доволен, что мало привлекали к делам, — в Париже он не скучал. При встречах раза два заговаривал о своих забытых обязанностях, но тотчас же и умолкал, едва Жичин или Комлев обращали его слова в шутку. Комлев таил надежду, что в благодарность за вольную парижскую жизнь капитан окажет ему в лагере добрую помощь.
У Жичина были свои заботы. Его больше всего тревожила экспедиция в Версаль, к бригадному генералу Венэблсу. Сдержит британский ловелас слово или найдет благовидный предлог повременить, поволынить, а то и вовсе остановить дело, уподобившись американскому коллеге?
В ожидании капитана Егерева, предупрежденного еще вчера, Жичин зашел к Маргарите Владимировне и поделился с ней своими сомнениями.
— Он был пьян, этот ваш британский лев? — спросила Маргарита Владимировна.
— Нет, англичане напиваются редко. Я сказал бы — слегка выпивши.
— Он, судя по вашему рассказу, помудрее американца и просто-напросто исправляет его ошибку. Кроме того… услуга за услугу. — Она улыбнулась. — Это у них вроде неписаного закона. Думаю, что все будет хорошо.
— Постучите по столу.
Она постучала, Жичин сделал то же самое.
— А отчего он не захотел, чтобы в Версаль ехали вы?
— Ума не приложу. — Жичин развел руками.
— Вы в форме, это заметно, а он, видимо, хочет, чтоб все было тихо.
— Пожалуй.
— Если это так, то лучше послать не московскую машину, на нее будут глазеть. Любую другую.
— Ну, Маргарита Владимировна, вас только в министры…
— Перестаньте, Федор Васильевич. Егерев мужик толковый, но по-английски он с пятого на десятое. Может быть, поехать с ним мне?
— Это было бы великолепно. — В душе Жичин на нее и надеялся, но хотел, чтоб она вызвалась сама.
Вместе с Егеревым из лагеря приехал лейтенант — артиллерист Варткес Айдонян, красивый армянин с грозным взглядом. И тот и другой были отобраны для работы в штабе миссии.
— Ну, Маргарита Владимировна, кого из этих молодцов выбираете для версальской экспедиции? — спросил Жичин.
— Кого выберете, Федор Васильевич, с тем и поеду. Оба как на подбор.
— Хорошо, леди и джентльмены, в Версаль поедет капитан Егерев, а лейтенант Айдонян останется здесь. Будет готовить места для штабного пополнения. Или, может быть, рановато? — Жичин остановил взгляд на Маргарите Владимировне. — Может быть, подождать возвращения из Версаля?
— Не надо ждать, — подбодрила Маргарита Владимировна. — Вопреки вашим суевериям вернемся с полной чашей.
Внизу, в холле, как всегда, была очередь на прием, но Жичин решил сначала посмотреть вместе с Айдоняном помещение и прикинуть, где и как разместить мебель. Пока они ходили и прикидывали, лейтенант Айдонян поведал Жичину о некоем армянском отряде, куда его усиленно зазывали. Как этот отряд возник, лейтенант точно не знал, но догадки были. Во Франции довольно многочисленная армянская община, есть в ней богатые, влиятельные люди. Видимо, кто-то из этой общины задался целью собрать воедино всех пленных армян и облегчить, сколько возможно, их участь. Это самое безобидное его предположение, могли быть и другие замыслы. Идти в этот отряд Айдонян отказался сразу, не хотел никаких преимуществ перед остальными пленными. Вместе воевали, вместе надо идти до конца. Жичин его решение одобрил.
Первой в кабинет вошла молодая женщина, миловидная, элегантно одетая, русская, разумеется. Она не пленная, из России уехала с матерью и братом после революции. Род у нее не знатный, но состоятельный и в России довольно известный. Словом, она внучатая племянница фабриканта Саввы Морозова. Запомнился большой морозовский особняк на Воздвиженке. Она тогда была еще кроха, а в памяти сохранились и покои внутренние, и резная башня.
В Париж прикатили с капиталом, года три жили как люди, надеялись вернуться в Москву, а когда надежды рухнули, матушка сделалась скупой, прижимистой и держала их с братом в черном теле. Выросли в жениха и невесту, а она франка лишнего не давала. Во время кризиса связалась с биржей и фукнула все состояние. Ох уж и позлорадствовали они с братом.
Вскоре она женила на себе простодушного британца и уехала в Лондон. Брала уроки английского и музыки, училась в Оксфорде. Мужу хотелось детей, а ей жалко было молодости. К тому же она и любила его не до смерти. Тихо и спокойно разошлись, вернулась в Париж. Жизнь в Париже, конечно, веселее, но при веселой жизни и годы уходят быстрее. Наступают времена, когда поневоле думается о будущем, а оно как-то не вырисовывается, и тогда становится страшновато, всякие мысли в голову лезут. Прочла в газетах о возвращении военнопленных, и вдруг всколыхнулась в ней Россия, огромная, от края до края, да так, что спасу нет. Со временем, должно быть, пройдет, утихомирится, а пока…
— Эмигрантам в Россию ходу нет? — спросила она.
— Откровенно говоря, не знаю, — ответил Жичин. — Я здесь недавно и занимаюсь только пленными.
— Могут разрешить, — сказала она довольно уверенно. — Русские эмигранты и в отрядах партизанских воевали с бошами, и в одиночку вредили им изрядно. Даже я помогла трех фашистов ухлопать… Но я вот думаю: вернусь в Россию, а что делать там буду?
— Как это что? Можете преподавать, переводами можете заняться. Дел у нас хоть отбавляй.
— Каждый день ходить на службу?
— Наверное.
— А какое будет жалованье?
— Этого сказать не могу, не знаю. Да заработаете себе на жизнь, не беспокойтесь, — Жичин еще принимал ее всерьез.
Она пытливо оглядела его мундир, улыбнулась:
— А скажите на милость, кто-либо из адмиралов русских или генералов мог бы на мне жениться?
— Вполне! — Жичин рассмеялся.
— За генеральской спиной можно бы и переводами заняться, это интересно.
— Но здесь ни генерала русского, ни адмирала… В Союз надо ехать.
— Наверное. Это может затянуться надолго. — Она вновь окинула его взглядом. — Что ж, не буду вам мешать, рада была посмотреть на русского офицера. Не эмигранта, а всамделишного.
— И как нашли?
— Вполне! — Она распрощалась, вышла, и только тогда Жичин услышал тонкий аромат женских духов. Невольно ожили в памяти зимний Ленинград, уральский госпиталь, запершило в горле, и нужны были усилия, чтоб девичье наваждение ушло или хотя бы не мешало работе.
В конце беседы с двумя ходоками из очередного лагеря возвратились из Версаля Маргарита Владимировна и капитан Егерев. Судя по веселым возгласам, доносившимся из коридора, вернулись они не с пустыми руками. Жичин попросил одного из ходоков написать расписку и вручил им деньги.
— Франки не доллары, цена им невелика, но купить кое-что все-таки можно, — сказал он обрадованным просителям. Жичин проводил их и заспешил к Маргарите Владимировне.
Комната ломилась от пакетов и свертков. Их было так много, что Жичин поначалу даже растерялся.
— Выдали на неделю, — сказал Егерев, — а прожить можно месяц.
— Поздравляю! — воскликнул Жичин. — Теперь и вы будете сыты, и с посольством поделимся. Богатство!
— Это вас надо поздравить, Федор Васильевич. Если б не вы, не видать бы нам этого богатства. — Маргарита Владимировна смотрела на него, как на спасителя. — Генерал Венэблс и деловит был, и любезен. Не забыл спросить о вас, да так хорошо, участливо, будто вы первый его друг-товарищ.
Зазвонил телефон, Маргарита Владимировна взяла трубку. Разговор длился не больше минуты.
— Вас просит приехать посол, — сказала она Жичину. — Спешно.
— Теперь и ехать можно, и рассказать все можно! Дорогой капитан Егерев, к вечеру все двадцать человек должны быть здесь. Завтра с утра — за работу.
— Слушаюсь, товарищ капитан-лейтенант.
В кабинет посла Жичин вошел с большим пакетом.
— Что это у вас за подарок?
— Подарок и есть, Александр Ефремович. Американский паек.
— Решили подразнить?
— Получили тридцать пайков, талоны на бензин получили. На целую неделю. Можно пир устраивать: ветчина, сыр, рыбные консервы, пиво и даже соленые орешки к пиву. Чего только нет.
— Как же это так? — Посол от недоумения встал. — Вчера решительно отказали, а сегодня… Что ж у них — семь пятниц на неделе?
— Один решительно отказал, другой твердо обещал. — Жичину пришлось поведать послу всю историю с генералом Венэблсом. Рассказывая, Жичин довольно точно копировал манеру речи британского коллеги, и посол временами улыбался. Дослушав же историю до конца, до возвращения из Версаля специально снаряженной экспедиции, смерил Жичина веселым взглядом и рассмеялся.
— С нравственной стороны эту историю похвальной не назовешь, но облик британских генералов, надо полагать, не наша забота. Пусть голова болит у мистера Черчилля. Как вы думаете?
— Я собираюсь благодарить генерала Венэблса, — ответил Жичин.
— Это, конечно, само собой.
Послу доложили о прибытии делегации армянской общины, и Жичин подумал первым делом о лейтенанте Айдоняне.
— Я догадываюсь, о чем может пойти речь, и пригласил вас на эту беседу специально. — Посол взглянул на часы. У Жичина мелькнула мысль, что между рассказом лейтенанта Айдоняна и предстоящей беседой существует связь, он заикнулся об этом, но посол остановил его: — Они уже две минуты ждут, больше нельзя, ориентируйтесь по разговору. Пошли.
Посол принял делегацию в гостиной. Трое армян, все стройные, поджарые, в костюмах с иголочки, вошли, будто в храм, с медлительной торжественностью. Старший из них, седоволосый крепыш лет шестидесяти, учтиво поклонился, представился и поздравил посла с великими победами Красной Армии. Коротко, в нескольких словах изложил суть дела. Армянская община собрала солидную сумму денег для помощи своим братьям — армянским военнопленным. Эти деньги в любой час могут быть переведены советскому посольству. Община хотела бы получить заверения, что деньги будут израсходованы на продукты, на приличное обмундирование и оружие, В этом обмундировании и с этим оружием армянский батальон мог бы вернуться на родину.
— Батальон? — удивился посол. — Во Франции есть армянский батальон?
— Так в общине называют это подразделение пленных, — ответил армянский голова.
— Как оно возникло? Разве в Красной Армии были армянские соединения? — Посол повернулся к Жичину.
— Не думаю, Александр Ефремович. Полагаю, что это подразделение сформировано кем-то здесь, во Франции.
— С какой целью?
Жичин пожал плечами, а седовласый армянин выслушивал тем временем своих молодых спутников. Выслушал, нахмурился:
— Мои друзья тоже говорят, что батальон сформирован здесь, под Парижем. Придумали это сами пленные, их сейчас более двухсот. А цель, видимо, самая простая: пережить трудности и вернуться домой.
— Если я правильно понимаю, вы хотите, чтоб деньги были израсходованы лишь на военнопленных армянской национальности? — спросил посол.
— Я тоже так понимаю, — ответил седовласый.
— И ни одного франка на русских, на грузин, на украинцев?
— Выходит, так.
Странное впечатление оставил у Жичина армянский предводитель. Дотошность, с какой посол вел беседу, забавляла седовласого, вроде бы даже одобрялась им, хотя он не мог не видеть, что с каждым новым вопросом план общины подтачивался и на глазах тощал. Посол тоже посматривал на него с любопытством: всему вроде бы голова, а на поверку…
— Мы ни одной нации не отдаем предпочтения, — мягко сказал посол. — В этом и принцип наш, и, полагаем, наша сила.
Седовласый армянин не обрадовался ответу, но и не огорчился. Помигивая подслеповатыми глазами, он одинаково спокойно встречал недоуменные взгляды и своих молодых спутников, и посла, думая, казалось, не о существе дела, из-за которого оторвался от забот и приехал сюда, а о том, кто же все-таки его, стреляного воробья, обвел вокруг пальца.
Жичин прервал молчание, рассказав об утренней встрече с лейтенантом Айдоняном. Ни слова не утаивая, повторил ответ лейтенанта своим землякам-армянам: вместе воевали, вместе идти до конца.
— Достойный ответ! — воскликнул посол. — И не чей-нибудь, но брата армянина. Я думаю, мы быстро нашли бы общий язык, когда б армянская община сочла возможным отнестись по-братски ко всем советским военнопленным. Не только к армянам.
— Все теперь прояснилось, все понятно, — спокойно ответил армянский голова. — Я не могу решать единолично, поскольку деньги жертвовал не один я. Но через день-два вам сообщат решение общины.
Так же, как и вошли, армяне торжественно, с почтением удалились.
Едва за ними затворилась дверь, посол вспомнил, что седой армянин — один из богатейших людей Парижа. У него и земельные угодья, и жилые дома, и акции крупных предприятий. Община, надо полагать, и выбрала его в делегацию по той причине, что он самый среди них состоятельный. Выбрали и, должно быть, упрашивали не однажды, так долго упрашивали, что не осталось минуты на совместный анализ плана действий. Деловой человек, он тотчас же углядел бы в плане уязвимые места. А может быть, поэтому и не посвящали его во все подробности? Как бы там ни было, а седой дядюшка Арам устроит своим землякам турецкую баню.
— У меня сложилось впечатление, Александр Ефремович, что сам он уже согласился с нашими условиями, — сказал Жичин.
— После вашего рассказа об армянском лейтенанте и мне подумалось то же самое. Хорошо, что вы с ним подоспели. Одно дело, когда об этом говорим мы, русские, и совсем другое — земляк-офицер. — Посол остановил пытливый взгляд на Жичине. — И пайки продуктовые как нельзя кстати. Из Москвы сообщили о готовности к отправке офицерской миссии вам на смену. Просят совета о маршруте, а мы вместе с маршрутом можем посоветовать изрядное сокращение. Не восемь человек, а четыре-пять. Как полагаете?
— При сносной работе помощников из пленных достаточно трех толковых офицеров, — ответил Жичин.
— Конечно, конечно. — Посол довольно улыбнулся. — Непременно толковых.
За поздним ужином Жичину и Комлеву было о чем поведать друг другу.
Британский лагерь, в котором Комлев провел целый день, мало чем отличался от американских. Такие же сырые бараки, такая же скудная пища. В двух бараках размещались немецкие пленные. Жилось им, пожалуй, не лучше и не хуже, чем русским, но один сведущий человек сугубо доверительно шепнул Комлеву на ухо о лагере неподалеку, где фашисты с первых же дней взяли форменный верх, а британские власти и в ус не дуют. В ближайшие дни Комлев там побывает вместе с капитаном Голдбергом. Кстати, капитан оказался весьма добрым малым, сплошные услуги и ни единой каверзы. Это он настоял на допуске Комлева в немецкие бараки, хотя британский майор, начальник лагеря, противился, ссылаясь на возможные инциденты. Это, он, капитан Голдберг, пока Комлев вел беседы с пленными офицерами, вызнал все подробности о любопытнейшем инциденте между отрядом партизан и регулярными британскими войсками. Разузнал и привел к Комлеву лейтенанта, пожилого русского человека, командовавшего тем отрядом.
Отряд был небольшой — два десятка автоматов, один пулемет. К осени безбожно отощали боезапасы, следовало пополнить их, и разведчики облюбовали фашистский склад в деревушке на отшибе. Когда операция подготовлена, силы рассчитаны, успех приходит вроде бы сам собой. Так случилось и у них: немцы хоть и отбивались по всем правилам, а бой проиграли и отошли. По мысли пожилого земляка-лейтенанта, немцы должны были, следуя своим правилам, попытаться выбить отряд из удобного для обороны хутора. Партизаны подготовились к достойному отпору, а вместо немцев к позиции подошли англичане. Для здравомыслящего лейтенанта это была фантастика, он принял их за переодетых немцев и приказал открыть огонь. Британцы без звука отступили, и тогда лейтенант засомневался. Чем черт не шутит: может быть, и в самом деле англичане? К концу войны можно и порезвиться.
Это предположение, однако, ничуть лейтенанта не обрадовало. С фашистами все было предельно ясно: увидел — стреляй, вновь увидел — вновь стреляй. А тут как быть? С одной стороны, вроде бы союзники, а с другой… Как на них надеяться? На второй фронт отважились с перепугу. Убоялись Красной Армии, а не фашистов. А до войны и вовсе славились как интервенты. Не хочешь, да задумаешься.
Пока думали да гадали, союзнички предложили сдаться, капитулировать. Они даже предположить не могли, что им противостоят русские, а когда узнали — опешили. Откуда могли взяться эти русские? Неужели до Франции дошли? Растерянность, однако продолжалась недолго. Выяснив силы отряда, британцы осмелели.
Прежде чем начать переговоры, рассудительный лейтенант держал совет с отрядом. Нашлись горячие головы, ратовавшие за то, чтоб драться до конца и с немцами и с англичанами — одного поля ягодки. Другие не возражали принять сторону союзников, но предпочитали перейти к американцам, а не к англичанам, которым никто не верил. Лейтенанту понадобилась мобилизация всех своих учительских сил и навыков (до войны он преподавал в школе географию), чтоб доказать неприемлемость этих предложений. После долгих споров пришли к согласию не препятствовать продвижению британских войск.
Ужин затянулся, у Комлева слипались глаза, когда Жичин порадовал его доброй вестью о богатых американских пайках и о вероятности скорого возвращения в Лондон. Подполковник взбодрился, усталости как не бывало. Не удовлетворившись беглым рассказом о сути дела, он требовал одну подробность за другой, и Жичин был вынужден провести его по всем закоулкам этой истории. Комлев слушал, улыбался, изредка покачивал головой, а под конец изрек: незачем им было лететь сюда вдвоем, вполне хватило бы одного флотского умельца. Высокая похвала вырвалась у него на радостях, Жичин это видел, чувствовал, но принять ее все равно не мог и, нахмурившись, явно подыскивал слова для деликатного ответа. Комлев тотчас же все уловил и решил сгладить неловкость дружеским упреком:
— Но как же ты мог умолчать о договоренности с британским генералом? Послу не сказал — ладно. Посол для нас человек новый, к тому же государственный человек, большой начальник. Но мне-то ты мог сказать! Вроде бы друзья-товарищи. Зачем же ты оставил меня в неведении? Я же целые сутки тревожился, ломал голову над новыми подходами, эти пайки мне во сне снились…
— Не был уверен, оттого и молчал, — ответил Жичин. — Зачем раньше срока обнадеживать? Я тоже думал о других путях, пока не увидел эти пайки живьем.
Ужин подошел к концу, но перед тем как расплатиться, Комлев попросил принести по рюмке коньяку.
— Это надо же, какое у тебя терпенье, — сказал он. — Я, пожалуй, не выдержал бы.
— У меня к тебе нижайшая товарищеская просьба, — взмолился Жичин, когда понял, что и упрек обратился в похвалу. — Не хвали меня. Ладно? Никогда не хвали. Не знаю почему, но когда в глаза начинают хвалить, мне всегда видится подвох.
Ноябрьским вечером к пяти часам начали съезжаться гости. Это был первый большой прием после длительного перерыва из-за фашистского нашествия, и в посольстве витал дух русского радушия и праздничной торжественности. Первая дама посольства прошла по залам, окинула хозяйским взглядом столы, осталась довольной. В холле появился посол, она оглядела и его, поправила галстук. Все распоряжения были отданы заранее, и посольский персонал стоял наготове.
В помещении перед холлом, переминаясь с ноги на ногу, толпилась добрая дюжина приглашенных гостей. Они долго причесывались, прихорашивались, а на самом деле по скромности либо из-за невысокого чина никто не отваживался, чтоб его объявили первым. Выручил британский полковник, высокий, поджарый, с рыжеватыми усиками. Едва успев войти, не удостоив никого взглядом, он гордо прошествовал к солидному человеку в черном фраке — глашатаю, в посольском речии «крикуну» — и небрежно вручил приглашение. Следом за ним у двери в холл, держа в руках пригласительные билеты, выстроились цепочкой остальные гости.
— Полковник Крафт! — выкрикнул басовито толстяк глашатай, и прием загудел. Британец пересек холл, остановился, склонив голову, перед первой дамой посольства, пожал протянутую руку ей, потом послу, поздравил с национальным праздником.
— Добро пожаловать! — приветствовал его посол и привычным жестом пригласил следовать к столам. У входа в зал британца встретил Комлев.
Гостей ожидалось много, около тысячи, всех надлежало встретить, не обойти вниманием, а посольский штат исчислялся тремя десятками, поэтому каждая душа была на счету и, согласно табели о рангах, определена на опеку приглашенных. Самые большие хлопоты выпали на долю Жичина и Комлева: на двоих приходилась половина гостей — французские, английские и американские офицеры. Победа над врагом была главным делом союзников, ковали ее прежде всего военные, и этим определялась вся жизнь, включая приемы.
У Жичина кроме союзных офицеров была еще одна забота. На прием ожидался Ромен Роллан, и Николай Дмитриевич настоятельно советовал не упустить редкую возможность увидеть его, а может быть, даже познакомиться и поговорить с ним.
С легкой руки британского полковника гость пошел плотным потоком, и глашатай едва поспевал выкликивать имена. Когда много гостей, искусство хозяев, как объяснили Жичину, состоит в том, чтоб, обменявшись любезностями и выпив рюмку с одним, улучить минуту и познакомить его с другим, имея возможность заняться третьим. На первых порах Жичин так и поступал и все шло вроде бы недурно, а через полчаса генералов поприбавилось, от них одной рюмкой не отделаешься и не с каждым гостем познакомишь. Чем дальше, тем заметнее ощущалась нехватка времени.
Прием ограничен двумя часами, наплыв гостей ко второму часу должен поутихнуть, и тогда, наверное, станет полегче, а теперь требовалось напрячь все силы, все флотское молодечество и выдержать минут двадцать.
Молодой американский генерал затеял с Жичиным любопытный разговор о массированных ударах по врагу русской артиллерии. Жичину этот разговор был весьма интересен: об артиллерии он знал немного, даже о своей, русской, а тут так дельно, с душевной симпатией толковал о ней американец, да еще генерал. Слушать бы да слушать.
Из холла, однако, донесся приглушенный расстоянием и людским гулом, но все еще зычный басок глашатая, возвестившего появление британского фельдмаршала Монтгомери. Для Жичина это был самый главный гость: посол поручил ему персонально опекать фельдмаршала, человека, по рассказам, довольно занятного, колоритного. Британские газеты писали больше о привычках и увлечениях своего фельдмаршала, чем о его доблести или военном искусстве. Жичину это казалось странным: как-никак герой Эль-Аламейна, выигравший нелегкую битву у Роммеля. Из газет Жичин знал, что у Монтгомери страсть к фотографированию, что одним из любимых его занятий в часы досуга было вязание на спицах.
Словоохотливый американец повел речь о своей задумке перенять опыт русских артиллеристов, но немцы, оказывается, ни разу не дали ему этой возможности — отступали без боев. Разве это война? Жичин согласно кивнул ему, а слушать уже не мог. Извинившись и пообещав вернуться, он поспешил навстречу фельдмаршалу и застал его в оживленной беседе с послом. Рядом с высоким послом Монтгомери казался малышкой. Видно, не зря англосаксонская пресса окрестила его сокращенно-уменьшительным именем Монти. Впрочем, подумал Жичин, британские газеты и толстяка Уинстона Черчилля именуют Уинни, рослого генерала Эйзенхауэра — Айком, а президента США Франклина Делано Рузвельта — ФДР, по начальным буквам.
Посол представил фельдмаршалу подошедшего Жичина, добавив при этом, что работает он в Лондоне, а в Париже пребывает временно, в командировке. Монтгомери снизу вверх оглядел русского офицера и, должно быть, остался доволен, потому что сразу же заговорил о своих симпатиях к флоту:
— Мне говорили, что ваш знаменитый полководец Суворов тоже питал слабость к флотской службе и однажды сказал даже, что почел бы за честь быть мичманом в эскадре адмирала Уш… Уш…
— Ушакова, — подсказал Жичин, подумав с улыбкой, не под Суворова ли он рядится. Спросил не без умысла, не приходилось ли фельдмаршалу читать небольшую книжечку Суворова «Наука побеждать».
— Приходилось, и не однажды, — ответил фельдмаршал. — Это наука настоящая.
Глянув на очередь, скопившуюся у входа, Жичин предложил высокому гостю пройти в зал и отметить главный советский праздник. Как бы подтверждая и благословляя приглашение Жичина, посол улыбнулся, широким жестом протянул руки к залу, сказав, что вскорости разыщет фельдмаршала, чтоб кое о чем с ним поговорить.
— Прекрасно! — воскликнул гость. — Я тоже хотел бы вас увидеть. Увидеть и на память сфотографироваться, если не возражаете.
— Буду рад, буду рад, — ответил посол.
Едва британский гость и Жичин появились в зале, в атаку на них ринулся фотограф, видимо, проведавший о слабости фельдмаршала. На ломаном английском он стал слезно просить позволения на два-три снимка.
— Надо, пожалуй, выручить беднягу, как вы думаете? — обернувшись к Жичину, сказал фельдмаршал и тотчас же начал приосаниваться и разворачивать плечи. Фотограф сделал снимки и попросил адреса, по которым можно их выслать. И тот и другой вручили ему визитные карточки.
Знатного гостя заметили, и через минуту перед ним стоял любезный стюард, держа в руках поднос с наполненными рюмками и легкими закусками. Из дюжины разных напитков Монтгомери безошибочно выбрал водку и, поднимая рюмку, попросту, по-домашнему сказал:
— Ну что ж, за вашу революцию! Я человек военный, в революциях разбираюсь плохо, но если ваша революция смогла создать самое мощное государство в Европе, — хвала ей.
— Благодарю вас, сэр, — ответил Жичин. — Я тоже так думаю.
Они чокнулись, выпили.
Жичин не удивился, узнав, что британский фельдмаршал знаком с трудами Суворова — «Науку побеждать» изучают, надо думать, во всех военных академиях мира, — ему не терпелось спросить, что конкретно привлекло внимание Монтгомери. Улучив подходящую минуту, он свой вопрос задал.
Высокий гость ответил не сразу. Вскинув голову, он устремил взгляд в окно, отрешаясь от множества людей, от их многоголосого гула.
— Что ж, ум привлек внимание, смелый, быстрый, задиристый. Храбрость, умение рисковать, редкое понимание солдата. Ваша армия хорошо выполняет его заветы. Без ума и без храбрости такие сражения не выиграть.
Здравые мысли. Фельдмаршал в одну минуту вырос в глазах Жичина. Вроде бы и сам Жичин вырос в своих глазах, только он не мог еще сообразить, по какой причине это произошло.
Жичин осмелел, и теперь ему не давала покоя мысль о том, как сам Монтгомери использует в своей деятельности уроки Суворова. Намеревался узнать об этом, а спросил о делах в Арденнах, где вела бои армия Монтгомери.
— По-разному. — Фельдмаршал нахмурился. — По-разному.
Как понял Жичин, дела в Арденнах шли у англичан неважно. Поначалу у него было намерение поведать для развлечения о жалобе американского генерала-артиллериста на немцев, но после озабоченных слов фельдмаршала это прозвучало бы по крайней мере негостеприимно.
Прием давно набрал силу и уже переваливал за экватор. Гости перезнакомились, освоились и вели тот разговор, который каждому был по душе либо по службе. Слышались разговоры о новых голливудских фильмах, о театральных премьерах и о голодной жизни в Париже, но стержнем едва ли не всех бесед была война, и в первую голову — русские победы на восточном фронте.
Густой, настоявшийся гул, окутанный табачным дымом, нарушался то тут, то там горячими возгласами французов, не давая забывать, что все происходит не где-нибудь, а во Франции, в Париже.
В сутолоке, сквозь плотное скопление гостей к Жичину пробилась Маргарита Владимировна и шепнула с довольной улыбкой, что на приеме появился Ромен Роллан с женой и что они в соседнем зале с Николаем Дмитриевичем. Она так же неожиданно исчезла, как и появилась. От доброй вести Жичин воодушевился и готов был ринуться в соседний зал, но он еще не спросил Монтгомери о боях в Африке, при Эль-Аламейне.
Спросить вроде бы и легко было, и в то же время совсем не просто. Победителю такой вопрос по идее должен бы полюбиться. А вдруг нет? Вдруг ему надоело рассказывать про этот Эль-Аламейн? Да и спрашивать гостя до бесконечности как-то не очень ловко. Он все же спросил. Спросил, тяжко ли было при Эль-Аламейне.
Фельдмаршал вскинул глаза и с легким недоумением оглядел Жичина: его кортик, погоны, орденские ленты.
— Конечно, тяжко, — ответил он, вздохнув. — На войне всегда тяжко. Кто ее только придумал… — Последние слова он произнес тихо, с горечью уставшего человека, и Жичин впервые заметил, что фельдмаршал — старый уже человек, хотя морщин глубоких на лице нет и осанка вроде бы еще молодцеватая.
К ним подошли два генерала — один британский, другой французский, затеяли с фельдмаршалом серьезный разговор о более четком разграничении зон действий союзных войск, и Жичин, воспользовавшись удобным моментом, выскользнул в соседний зал.
В сторонке у окна Жичин углядел веселого, улыбающегося Николая Дмитриевича. На приеме он чувствовал себя едва ли не лучше, чем рыба в воде. Рядом с ним стояли миловидная пожилая дама и худощавый мужчина преклонных лет с красивым одухотворенным лицом. Жичин догадался — Ромен Роллан.
Он подошел и спокойно, по-военному четко, с достоинством поклонился. Николай Дмитриевич представил его именитому писателю и его жене, оказавшейся русской. Пожимая руку, Роллан долго, с откровенным любопытством разглядывал Жичина, а разглядев, доверчиво улыбнулся.
— Что-то я не припомню, — он обернулся к жене, — когда я видел настоящего русского офицера. И видел ли?
— Видел, — подсказала жена. — В Москве на улице и у Горького.
— Возможно. Память стала плохая. Но я о другом. О том, как славно видеть в Париже русского офицера. Настоящего, боевого. Думали, и силы такой не найдется, чтоб остановить Гитлера. Нашлась! Горький не зря говорил: на русской земле найдет гибель любой завоеватель. Он-то уж знал Россию. Горького, надеюсь, читали?
— Конечно. — Жичин улыбнулся.
— А что пришлось по душе?
— Многое. Ранние рассказы, «Дело Артамоновых», пьесы и, конечно же, «Клим Самгин».
— О да! «Клим Самгин» — великий роман. Схвачена суть эгоиста-мещанина. Схвачена и вывернута изнутри. Много развелось на свете Самгиных. И в России, и во Франции, а уж в Германии — не перечесть. Горький — гигант.
Переводившая жена рассказала попутно о самых нежных чувствах Роллана к Горькому. Последние годы Роллан почти каждую полночь настраивал приемник на Москву и слушал Красную площадь, автомобильные гудки, кремлевские куранты. Послушает, вздохнет, вымолвит тихо: «А там похоронен он. Вот с ним и побеседовал».
— Ну, а из французских писателей кого читали? — спросил Роллан, вглядываясь в Жичина. От приятного экзамена Жичин повеселел:
— Многих. Бальзак, Стендаль, Флобер, Мопассан, Гюго, Франс, Роллан.
Роллан прищурился, усмехнулся:
— Если б вы не назвали последнего имени, я сказал бы, что у вас хороший вкус. А что в них больше всего привлекло вас? Все они разные.
— Да, разные. — Жичин задумался. — Но всем свойственна человечность. Я сказал бы — бой за человека.
— Бой за человека… — повторил Роллан. — Это вы хорошо сказали. В этом вся суть. — Он откинулся слегка назад и вновь оглядел Жичина. — А фашистский офицер что в них усмотрел бы? Он наверняка их не читал, а если б прочел, увидел бы одну крамолу. Вот и судите, кто должен победить в этой войне. Рад, очень рад был увидеть вас и познакомиться.
В разговор вмешалась жена, сказав, что им пора прощаться. Роллан пожал руку Жичину, Николаю Дмитриевичу и направился к выходу. Николай Дмитриевич пошел проводить их, а Жичин, исполняя обещание, стал высматривать американского генерала-артиллериста.
Вместо одного генерала высмотрел другого — высоченного де Голля, стоявшего вместе с послом и фельдмаршалом Монтгомери. Неподалеку от них в окружении офицеров улыбался во все стороны генерал Эйзенхауэр. Улыбался рядом с ним и подполковник Комлев. Нечасто встретишь в одном зале такое созвездие именитых генералов. Жичин переводил взгляд с Эйзенхауэра на де Голля, с де Голля на Монтгомери и ловил себя на мысли, что созвездие истинных боевых генералов-полководцев все-таки не здесь. Если б какая-то неведомая сила смогла сейчас доставить сюда маршалов Жукова, Василевского, Конева, Рокоссовского, тогда это было бы созвездие.
Неожиданно на плечо Жичина опустилась чья-то рука. Он оглянулся и встретил сияющий взгляд бригадного генерала Венэблса. Жичин ему обрадовался, доволен был встречей и Венэблс.
— Вот та самая дама, которой вы любезно подарили прекрасный вечер, — сказал британец.
— Мада-ам. — Жичин поклонился. — Это большая радость видеть столь изящную и красивую женщину.
Жичин не лукавил, не льстил молодой женщине. Он в самом деле глядел на нее с восторгом и испытывал истинную радость. Огненный взгляд, длинные черные волосы, тонкая подвижная талия — живая Кармен. Такой он представлял ее себе. А может быть, лишь глянул, и другой Кармен уже не существовало.
Кармен и британский генерал Венэблс с брюшком и изрядными залысинами. Смешной союз, даже если он временный. Жичин глянул на них и едва сдержал улыбку.
— Весьма вам признателен, сэр, за возможность лицезреть вашу даму — она достойна самой высокой похвалы, — благодарю вас также за бензин и пайки, вы нас выручили как истинный союзник и широкий человек.
Генерал слегка усмехнулся, сказал Жичину на ухо:
— Не стоит благодарности, кэптэн, пайки-то американские.
Жичин рассмеялся. «Вот тебе и истинный союзник», — подумал он. И широта… За чужой счет можно быть и широким.
А Кармен ничего не видит, ей хоть бы что. Но вот она стрельнула в Жичина обжигающим взглядом, и британский генерал отошел на третий план.
Прием шел на убыль, гость заметно редел. Первыми прощались и покидали посольство лица самые высокие — генерал де Голль, генерал Эйзенхауэр, фельдмаршал Монтгомери, за ними тянулись рангом пониже. В залах стало просторнее, густой гул ослабел, тосты и возгласы становились слышнее и разборчивее.
Генерала-артиллериста Жичин разыскал в другом зале. Американец был навеселе, окруженный коллегами, и продолжать начатую с ним беседу не было смысла. Из шумного разговора офицера Жичин понял, что генерал тоже живет в гостинице «Риц» и встретиться с ним не составит особого труда, если, разумеется, он согласится. Они довольно легко договорились вместе отобедать в гостиничном ресторане. Жичин собрался покинуть компанию, но генерал настоял выпить еще раз за национальный советский праздник, за великолепный прием.
Залы с каждой минутой пустели, остались, наконец, лишь сотрудники посольства. Александр Ефремович пригласил всех к столу, поздравил с праздником и поблагодарил за четкую, старательную работу на приеме.
По случаю, а может быть, и не по случаю рядом с Жичиным оказалась Маргарита Владимировна. Они чокнулись, выпили. Маргарита Владимировна спросила его мнение о приеме. Жичину большой прием был в диковинку, все ему казалось необычным, интересным, не говоря уже о том, что удалось запросто поговорить с самим Роменом Ролланом, с фельдмаршалом Монтгомери. Когда б еще могла представиться такая возможность? Конечно же, он был доволен. А сожалел об одном: на приеме были Морис Торез, Марсель Кашен, Жак Дюкло, много было интересных людей, а он ни поговорить, ни даже — поглядеть на них как следует не смог.
Множество именитых гостей на приеме, праздничный гул, шумные возгласы взволновали и Маргариту Владимировну. Щеки ее разрумянились, она улыбалась.
После трех-четырех рюмок и бутербродов-малюток у Жичина взыграл волчий аппетит. Он предположил по логике вещей, что Маргарита Владимировна тоже голодна, и пригласил ее на ужин. Она охотно согласилась, и он настоял ехать тотчас же. За добрую идею Комлев назвал Жичина мудрецом.
В ресторане было людно и шумно, как на приеме, так же плыл густой табачный дым над столами, но к дыму примешивался острый запах жареного мяса и душистых специй.
Они заказали добротный ужин, попросили не задерживать и, как часто бывает с русскими людьми, затеяли разговор о делах, будто для такого разговора не было иного времени. Подполковник Комлев тревожился уже о том, как лучше, полнее и подробнее осветить прибывающим преемникам состояние дел с военнопленными. Маргарита Владимировна высказала беспокойство об уточненных списках пленных по каждому лагерю, которые три дня назад подготовлены, но еще не отпечатаны. Жичин повел речь о Париже. Может быть, оттого, что на днях предстояла разлука с ним, а может быть, он захотел предоставить Маргарите Владимировне случай показать себя, хотя и он и Комлев в интеллекте ее не сомневались.
Маргарита Владимировна в один миг оживилась. О Париже она могла слушать или говорить часами. Она знала этот город задолго до приезда сюда. Знала по книгам, картинам, по рассказам живших или бывавших в нем.
Парижу повезло: он воспет и поэтами и живописцами. Елисейские поля, Латинский квартал, Бастилия, Триумфальная арка, собор Парижской богоматери — все, все это знакомо по книгам с детства.
Но повезло и художникам: было что воспевать. Они оказались достойны друг друга — Париж и его певцы.
— Париж — это чудо, — тихо говорила Маргарита Владимировна, и оттого, что речь ее лилась тихо и доверительно, впечатление от ее слов было самым серьезным. — Здесь даже воздух особый. Мне кажется, даже кислород здешний густо настоян на свободе, на раскованности.
Комлева окликнули с длинного углового стола, занятого американскими офицерами, он оглянулся, помахал им рукой, но дело этим не кончилось. Подошел полковник-авиатор, поклонился Маргарите Владимировне и попросил разрешения похитить на несколько минут русского коллегу. Комлев развел руками, виновато улыбнулся, сказал о своем обещании и пошел за полковником.
— Вот мы и одни, милый Федор Васильевич.
— Одни, дорогая Маргарита Владимировна.
Что-то полушутливое послышалось ей в тоне Жичина, она это не приняла, была даже слегка опечалена.
— Мой муж называет меня Рит-Рит. — Это она не иначе как в отместку.
— Простите меня, — сказал он.
Принесли большой аппетитный бифштекс с подрумяненной жареной картошкой, с алыми сочными помидорами.
— Но это же для богатырей! — с удивлением воскликнула Маргарита Владимировна.
— За вечер, может быть, и осилим?
Бифштекс был отменный, и прожарен хорошо, и кровинка сохранилась. Ели они медленно, с удовольствием, то и дело поглядывая друг на друга.
— А звать вас Рит-Рит я все равно не буду, — обронил Жичин.
— Конечно. Это было бы неоригинально.
— Я буду вас звать мадемуазель Ритуш.
— Недурно, браво. Только я давненько уже мадам Ритуш.
Вино тоже было превосходное, не уступало бифштексу. Кисло-сладкое на вкус, с тонким ароматом, который слышался не сразу, а по прошествии времени. Оттого пили его медленно, по глоточку.
— Для меня вы все равно мадемуазель.
— Это хорошо, я рада.
Кое-кто из сидевших в зале был на приеме в посольстве, и Жичину, когда он оборачивался, кивали, помахивали рукой. Когда б не Маргарита Владимировна, внушавшая, несмотря на молодость, невольное почтение, его давно бы перетащили за другой стол. Ему же за другой стол не хотелось.
— В Лондоне мне будет не хватать вас, — вымолвил он.
— Боюсь, со мной будет то же самое в Париже.
Подошел Комлев, смущенно улыбнулся, присел.
— Ой, поглядите! — воскликнула Маргарита Владимировна. — Я весь бифштекс съела! Вот уж не думала.
— Может быть, еще по одному закажем? — спросил Жичин.
— Что вы, что вы! — Она замахала руками. — Я не знаю, смогу ли я с одного-то подняться.
У Комлева был важный разговор с американцами за длинным столом в углу, и он попросил не обижаться на него.
— Обидимся или нет? — спросил Жичин Маргариту Владимировну.
— Наверное, нет. У начальства свои заботы.
— Правильно, — сказал Комлев. — А тебе, Федор, боевое задание: доставить Маргариту Владимировну в целости и сохранности.
Маргарита Владимировна жила на Рю де Гренель, недалеко от посольства, они решили пойти пешком. Вечер был безветренный, теплый, после прокуренного ресторана дышалось легко и вольно. Маргарита Владимировна взяла Жичина под руку, и они не спеша тронулись в путь.
Пока дошли до площади Согласия, встретили не менее дюжины уличных девиц. С мужчинами, если они шли в одиночку, эти девицы обращались более чем бесцеремонно: хватали за руки и тащили за собой. Увидев такую сцену, Жичин рассмеялся.
— Вы не смейтесь, это бич. Со временем, надо полагать, будет лучше, а пока идет война…
— В Лондоне, если девица ведет себя подобным образом, ее арестовывают.
— Это в Лондоне, а здесь… Здесь оккупанты были и нужда крайняя.
Они вышли на площадь Согласия, широкую, просторную, и остановились, чтоб глянуть на нее. Жичин проезжал здесь не раз, но видел ее из машины, а вот так, не спеша, поистине воочию, обозревал впервые. Окутанная полумраком, вечером она смотрелась особенно хорошо. Сказочно выглядела громада Дворца правосудия.
— Вот что значит простор! — Маргарита Владимировна старалась умерить свой восторг, но не получалось. — Сгрудь зодчий эти здания, подожми их друг к другу, урежь площадь — и Дворец правосудия был бы не дворец, и другие здания померкли бы.
— Конечно, — согласился Жичин. — Мне вспомнился Ленинград, и я подумал: если б вокруг Исаакиевского собора не было хорошего пространства, он тоже не смотрелся бы.
На мосту через Сену ощущался холодный ветер, Маргарита Владимировна крепче сжала руку своего провожатого.
— Второй месяц как я в Париже, а посмотреть успела очень мало. Днем одолевают дела, а вечером одна тоже не походишь, могут принять за уличную. Думала с вами побродить, а вы вот уезжаете. — Она на минуту остановилась, заглянула ему в лицо и стала вдруг рассказывать свою жизнь.
Французскому языку она научилась в детстве у бабушки. В школьные и институтские годы вслед за бабушкой зачитывалась французскими романами. Институт иностранных языков избрался сам собой. Много раз влюблялась: и в школе и в институте. Но как быстро влюблялась, так быстро и разочаровывалась. Ни один юноша в душу не запал, многих даже не помнит.
Военных не любила, полагала их невеждами и солдафонами. До тех пор пока не встретила на пути Афанасия Птицына, своего мужа. Они познакомились на студенческом вечере, поначалу ей и имя его не нравилось, и фамилия казалась несерьезной. А когда узнала, что он военный, капитан-танкист, то и совсем от него отвернулась. Потом как-то в разговоре он обронил несколько фраз по-немецки — свободно, с добротным произношением, — и она переменилась: полагала, что владение иностранным языком — первый знак интеллекта. Она растаяла окончательно, выслушав его рассуждения о теории ведения современной войны. Ей стало ясно, что ум у него недюжинный. Теперь и имя устраивало ее, даже редким, оригинальным виделось, а уж фамилия — Птицын — представлялась специально рожденной для полета. Она полюбила капитана Птицына и вышла за него замуж. Четыре года назад родилась у них дочь Маша. Сейчас она в Москве, у бабушки, может быть, и по-французски уже лопочет.
Жичина тоже потянуло на исповедь, и он поделился с ней заветными, с мальчишеских лет, мечтами о кораблях и океанах, о дальних походах, о схватках с коварными врагами. Не утаил он и свои сердечные дела. Рассказал грустную историю об Ольге, погибшей на фронте, доверил сложные отношения с британской девушкой Патрицией.
— Жениться надо на своей, на русской, — твердо сказала Маргарита Владимировна. — Это не в кино сходить и не в ресторан. Хорошо жениться — это на всю жизнь.
Впереди не торопясь шла в обнимку влюбленная парочка. Молодые люди то и дело останавливались и самозабвенно целовались. Маргарита Владимировна делала вид, что не замечает их, Жичин тоже.
— Впрочем, если эта любовь — страсть, тогда, конечно, другое дело, — нехотя поправилась Маргарита Владимировна. — Тогда надо идти до конца. Но такая любовь, наверное, случается не часто.
Они уже шли по знакомой улице Гренель. Здесь было посольство, здесь жила Маргарита Владимировна. Их обогнал странный экипаж: велосипедист катил за собой небольшую самодельную коляску, в которой восседал солидный пассажир. Рикша, да и только.
— Видите, как на хлеб себе зарабатывают, а вы про свой Лондон…
Неожиданно для себя Жичин обнял ее.
— Это глядя на них? — насмешливо спросила она, кивнув на парочку, и звонко рассмеялась. Жичин слегка оторопел, руки его невольно опустились.
У подъезда ее дома пришлось остановиться. Погода на глазах портилась, стало заметно холоднее, моросил мелкий дождь. Жичин распахнул плащ и спрятал ее от дождя.
— Что же я теперь буду делать? — спросила она беспомощно. — Мне ведь не только вы любы. Я чувствовала: вместе с вами нужным делом занимались. Радовалась, как девчонка, когда удавалось хоть чем-нибудь помочь этим несчастным пленным. А теперь?
— Будете заниматься тем же делом.
— Вы так думаете? Откуда вы знаете, кто приедет? Может быть, они и не захотят, чтоб я здесь работала.
— Захотят. Мы подскажем.
— Допустим. А что у них за мысли об этих несчастных? Вдруг они всех пленных за предателей будут принимать? Это и не мудрено, когда изо дня в день твердится: лучше смерть, чем плен.
Дождь утихал, она высвободилась из-под жичинского укрытия, вздохнула:
— Знаю: тебе бы сейчас горячего чая. И согрелся бы, и успокоился. Но звать тебя не буду. Не надо. Я и так расслабилась до самой черты. Иди. — Она подтолкнула его, и он молча пошел в свой отель.
В последние дни Жичин и сам то и дело возвращался к мысли о судьбе военнопленных. По мере того как приближались передача дел и отъезд из Парижа, мысль эта становилась острее, навязчивее. Жичин знал: она не давала покоя Комлеву, молчаливый вопрос о своей судьбе он читал едва ли не в каждой паре глаз своих подопечных пленных. А пленных не дюжина и не сотни — десятки тысяч. Сколько положено сил, чтоб разыскать их, собрать воедино. Воевать приходилось за каждого человека, как же не тревожиться за их судьбу?
А что он сейчас мог сделать? Что мог сделать Комлев? Из реальных возможностей оставалась, пожалуй, одна: настроить на свой лад приехавших из Москвы офицеров. Это может оказаться нелегким делом, они с Комлевым ехали сюда без симпатий к пленным. Более того, полагали предстоявшую работу тяжким бременем. Париж привлекал, а пленные представлялись чистым наказанием. Прошло время, пока они вникли в трагические судьбы этих людей.
Комлев настоял провести операцию в два этапа: сперва интенсивные беседы своими силами, потом, если возникнет надобность, привлечь тяжелую артиллерию — посла. Двух полковников, согласно табели о рангах, Комлев взял на себя, на долю Жичина выпал майор Глушков.
Оба полковника были боевыми офицерами. Войну, как говорил один из них, не прошли, а «проползли». От западных границ до Москвы и до Сталинграда, а потом обратно. Им ничего не надо было доказывать, они оценили ситуацию сразу. А майор Глушков оказался крепким орешком. Жичин старался внушить ему, что они советские граждане, а многие из них достойны самых высоких наград, что в пленении своем они неповинны. Рассказывал ему истинные судьбы этих людей, знакомил с офицерами из числа помощников, которые прекрасно воевали и в рядах Красной Армии, и в партизанских отрядах во Франции. Ничто не помогало. Все доводы разбивались о холодное упрямство. Жичин знал один верный способ: майору надо было приказать. Приказ он выполнил бы.
«Утрясется», — спокойно сказал вновь прибывший полковник Лебедев.
Расставаться с Парижем было грустно. И с городом, и со своими подопечными, и с Маргаритой Владимировной.
— Не печалься, Федор, — успокаивал друга Комлев. — Мы свое дело сделали, совесть перед людьми у нас чиста. Я давно взял себе за правило: что бы ни случалось, надо хорошо, по совести делать свое дело.
Проводить пришли Маргарита Владимировна, Николай Дмитриевич, полковник Лебедев.
— Счастливого пути!
— Счастливо оставаться!
БЛАГОДЕТЕЛЬ
Повесть
— Женюсь! — воскликнул Юрий, влетев в комнату. — Слышишь, Федор, женюсь!
Я слегка оторопел. Открытый и компанейский парень, Юрий до сих пор ни словом не обмолвился о невесте. Даже намека не было.
— Женись на здоровье, — ответил я, не поняв, шутит он или говорит всерьез.
— А тебе ни жарко ни холодно? — спросил он упавшим голосом.
— Жарко, — сказал я. — Могу быть сватом.
Теперь, кажется, в недоумение поставил его я.
— А это не старомодно? — спросил он.
— Жениться?
— Не-ет, сватов посылать. — Он смущенно улыбнулся и потупил взгляд.
Мне стало ясно, что Юрию не до шуток.
— Как же это ты решился? — спросил я.
— Самому не верится. Глянул — и будто гром с неба грянул.
— Ты даже в рифму заговорил.
— Заговоришь. От одних глаз покой потеряешь. Что тебе лесные озера — чистые и какие-то… пугливо-диковатые. Будто едва родились и на мир еще не смотрели. — Он подошел к столу и сел со мной рядом. — А вдобавок представь себе ювелирные черты лица и черные-черные волосы, тронутые сединой.
— Уже портрет, — сказал я. — А чем ее покорил ты?
— Е-если б покорил… А знал бы ты, как она искусство чувствует. Суждения тонкие, точные.
— Как же ты определил?
— Ну-у, Федор…
— Шучу, шучу, не обижайся. Ради красного словца, сам знаешь. Ты бы хоть друзей своих показал ей. Вдруг экзамен не выдержим.
— Потому и не показываю, чтоб от ворот поворот не получить раньше срока. — Юрий вроде бы стал приходить в себя. — Зову прямо на свадьбу.
Мы подружились с Юрием на первом курсе чуть ли не с первой встречи. Мы были одних лет и оба изрядно хватили войны, оба ценили жизнь и юмор. Нельзя сказать, что мы жили душа в душу, бывали меж нами размолвки, и довольно основательные, но всякий раз на помощь нам приходил неистощимый запас фронтового опыта и терпимое отношение к привычкам и слабостям друг друга. Я подсмеивался над его горячностью, он постоянно подвергал остротам мою невозмутимость.
— И скоро ли свадьба? — спросил я.
— В субботу.
— Завтра?
— Представь себе! А что тянуть, когда решено? Мать ее придет, подружка, две мои тетушки да мы с тобой. На большую свадьбу денег надо целый вагон, да и нужна ли она, большая-то? Катюша человек скромный, тихий, я тоже. Ребят с курса приглашать нет смысла, они еще маленькие.
Юрий рассуждал здраво, логично, видно было, что все у него продумано.
— Может быть, даже сын будет, — сказал он. — У нее, видишь ли, сын есть, Максимка. Он сейчас у бабушки в Ленинграде. Шустрый малый. Шустрый и деликатный. В мать пошел деликатностью. Она шагу не может шагнуть без «пожалуйста» да без «спасибо». Будто обязана всему миру.
— А может быть, и обязана…
— Вот, вот… У нее такие же заскоки, как у тебя.
Помимо моей воли слова эти прочно запечатлелись у меня в памяти. Заскоки… Пять лет уже как война кончилась, долго ли еще будут эти заскоки?
— Где же свадьба играется?
— У тетушки моей Анфисы. Там просторно.
У тетушки Анфисы и вправду было просторно. Две больших комнаты с высоченными потолками — две залы, как называла их Анфиса Прокофьевна, — запросто поглотили всю свадебную компанию.
Невесту я узнал сразу, как только вошел в комнату — портрет ее Юрий нарисовал довольно точно. И черные волосы с едва заметной сединой, и совершенно особенные глаза — сама смелость и сама тревога — все было, как говорил Юрий. И только имя… Имя было не ее. Ни Катя, ни Катюша, ни Катерина…
— Вас не так зовут, — сказал я.
— Вас, по-моему, тоже. — Она улыбнулась. — Мы еще поговорим об этом.
Едва мы обменялись этими странными словами, как всех пригласили за стол. Оказалось, ждали только меня. Были хорошие вина, хорошие речи, а я все думал об имени, какое лучше всего подошло бы Катюше-невесте. Меня посадили рядом с ее подругой, милой светловолосой хохотушкой, решившей почему-то, что меня надо непременно развлекать. Она как могла развлекала, а мне становилось все грустнее. Когда меня попросили произнести речь, я мог вымолвить всего два слова.
— Поздравляю, завидую, — сказал я, обращаясь к Юрию.
Жених оценил и мою откровенность, и предельную краткость. Настроение у него было преотличное, он острил, улыбался, целовал дамам ручки, он был счастлив. И Катюша светилась радостью. Через край веселье ее не лилось, она держала его в рамках, но не взаперти. После моих слов в глазах у нее блеснули серебристые искры и через минуту погасли под пристальным взглядом матери. Эффектная женщина, еще молодая, мать Катюши была, пожалуй, единственным человеком, кто не разделял свадебного веселья, а жених не замечал, не хотел этого замечать и, по-моему, на глазах творил ошибку. Теща есть теща, с ней считаются, даже если не хотят.
Моя светлокудрая соседка крикнула «горько!», и тут все заахали, запричитали, коря и себя, и друг друга за то, что соблазнительный этот возглас долго никому не приходил в голову. Стройная, элегантно одетая мать невесты тихо поднялась и вышла в соседнюю комнату. Юрий и Катюша смущенно друг другу улыбались. Я увидел в дверях припудренную мать Катюши и тоже гаркнул «горько!». Это подстегнуло Юрия, и он довольно решительно потянулся к невесте. А может быть, появление тещи прибавило ему злости-смелости. И гостям и Катюше эта смелость пришлась по душе.
Соседка моя Тамара прошептала мне на ухо свое крайнее удивление тем, что Евгения Михайловна, мать Катюши, умная и рассудительная женщина, никак не может взять в толк, что Юрий очень даже подходящая партия для Кати. Что там ни говори, а ведь у нее сын, это тоже нельзя сбрасывать со счету. Да Юрий в любом случае жених завидный. Фронтовик, журналист. Красавцем его, может быть, и не назовешь, да ведь мужчине это и ни к чему. Мужчине мужество нужно, ум нужен, да еще, может быть, веселый характер. Все это у Юрия есть, а что еще нужно?
Между тем, Евгения Михайловна с достоинством, не обращая, однако, излишнего на себя внимания, прошла вдоль стены и села на свое место рядом с дочерью. Не спеша, едва заметно она обвела глазами стол и остановила мягкий пристальный взгляд на мне. Приветливая улыбка тотчас же заставила меня пожалеть о своем поспешном и слишком громком кличе к молодым супругам. Сложной и грустной показалась мне гамма чувств, раскрывшаяся вдруг во взгляде и в неожиданной улыбке этой гордой женщины. Мне увиделась материнская горечь расставания, хотя, сколько я знал, дочь никуда не собиралась уезжать от нее, искреннее сожаление о дочернем выборе и удивление ее слепоте, которой при ее воспитании и жизненном опыте не должно было быть, решительное неприятие новых родственников и их больших высоченных комнат, заставленных безвкусными безделушками, настойчивое желание со всем этим примириться и ясное понимание невозможности сделать это.
Что-то соседка продолжала нашептывать мне, но я уже не слушал ее. Ни о чем никого не спрашивал, я поднялся, завел патефон и поставил первую попавшуюся пластинку. Это было хорошее с четким ритмом танго, и меня на все лады стали расхваливать, будто я и музыку сочинил, и пластинку сработал, и патефон. Подойдя к Евгении Михайловне, я довольно церемонно поклонился и пригласил ее на танец. Церемонность мою она приняла, обрадовалась ей и, слегка откинувшись, подняв голову, с улыбкой положила мне на плечо руку. После первых па я одним глазом заметил радость Катюши и недоумение Юрия.
— Спасибо вам, — тихо сказала Евгения Михайловна. Я скорее почувствовал ее слова, чем услышал.
— Что вы, что вы! — Мне стало стыдно. — Я виноват перед вами, а вы благодарите…
— Кто виноват — время покажет, а сейчас вы меня выручили. Да и танцор вы отменный… Давно я не танцевала с таким партнером.
Танцевал я недурно и прибедняться не стал. Более того, ее похвала раззадорила меня, прибавила и старанья и уменья, а Евгения Михайловна разрумянилась, разулыбалась и совсем стала непохожа на бабушку, даже на самую молодую.
— Если я о чем-либо и попрошу вас в этот вечер, — сказала она при последних аккордах танго, — то разве только о том, чтоб вы пригласили Катю. Страдает она, я знаю, а тут, может быть…
Катю я потом пригласил, испытал истинную радость, станцевав с ней два круга, а прежде чем усадить Евгению Михайловну на ее место, спросил не хитря, кто Кате придумал имя. Она изумленно улыбнулась и сказала, что Катя поведает мне об этом сама.
Какое-то время после рождения — недель восемь или девять — Катя была вовсе не Катя, а Светлана. Это имя выбрала ей мать, и поначалу отец не возражал, а когда вернулся из дальней командировки и увидел черные волосы на голове, решительно запротестовал и, недолго думая, перекрестил ее в Катюшу. Обрадованная его возвращением, мать согласилась, и Светлана надолго стала Катюшей.
Я долго молчал, выслушав эту историю, и молчание мое, я видел, разжигало любопытство Кати. Не вытерпев, она сказала, что мне, видно, и первое ее имя не по душе. Я ответил, что дело не в том, по душе имя или не по душе, важно, чтобы оно подходило человеку.
— Имя похоже на платье, — добавил я. — К лицу оно или не к лицу. Вам, по-моему, не подходит ни Катя, ни Светлана.
— А какое подходит? — Она оживилась.
— Это и есть самое трудное. Смотрю на вас весь вечер и думаю, примеряю… Сейчас я назвал бы вас Ириной, а в детстве… В детстве вы могли быть и Катюшей и Светланой. Про себя я буду звать вас Ириной, ладно?
— Можете даже не только про себя, — ответила она, глядя на меня оторопевшими глазами. — Все это очень странно… Сама я тоже зову себя Ириной. Даже маму однажды просила, а она не решилась, сказала, что хватит с меня двух имен.
— Может быть, и хватит, только ведь оба они не идут вам. Платье на редкость удачное, а вот имя…
— Что же прикажете делать? Имя сменить?
— Может быть, и сменить. Оно ведь на всю жизнь.
Невеста задумалась. Полуприкрытые глаза и блуждающая улыбка говорили об одном: думать ей было приятно.
— Ну и задачу вы мне задали, — сказала она медленно, нараспев, хотя задачи перед ней уже не было, она решилась, а думала лишь о том, как лучше и проще все это сделать.
Как только замолчала музыка, невеста полушутя-полусерьезно попросила благословить ее на подвиг и поставить новую пластинку. Я незамедлительно сделал и то и другое, а когда оторвал взгляд от пластинки, давшей жизнь веселому шумному вальсу, увидел невесту возле Юрия и Евгении Михайловны. Она обняла их и тихо, чтоб не привлекать внимания гостей, что-то горячо доказывала им. Юрий растерянно хлопал ресницами и молчал. Молчала и Евгения Михайловна, загадочно улыбаясь и изредка бросая на меня лукавые взгляды. О чем-то Юрий тревожно спросил невесту, та обрадованно ответила. Короткого ответа ей показалось мало, и она старательно, душевно принялась пояснять свой ответ. В сверкающих ее глазах я видел то мольбу, то явный восторг. Редкие жесты, подкреплявшие самые важные слова, отличались сдержанностью и мягким изяществом. Судя по всему, она просила у них согласия, просила нежно и настойчиво. Не знаю как Юрий, а я не устоял бы.
Невеста наклонялась то к матери, то к жениху, одаривая их то ласковым взглядом, то светлой улыбкой. На лице у Юрия застыла нерешительность. Тогда, глянув на него, заговорила Евгения Михайловна. Речь ее текла плавно, спокойно. По лицу и по скупым движениям трудно было догадаться о смысле ее слов, но стоило мне перевести взгляд на дочь, как сразу же все прояснилось: Евгения Михайловна горой стояла за невесту. И жених, видно было, набирался смелости. Переглянувшись, все трое обменялись улыбками, скрепившими общее согласие. В эту минуту стихла и музыка.
Я поклонился Евгении Михайловне, перевел взгляд на Юрия.
— Прикажете звать к столу?
— Да, Федор, пожалуйста, сделай милость. — Юрий сказал это так, будто решение, о котором он хочет известить мир, принято им давно и единолично.
Я пригласил гостей к столу и, когда все расселись, успокоились, самовольно предоставил слово жениху. Юрий сделал вид, что слово это застало его врасплох, но поднялся, кашлянул и, как завзятый оратор, хорошо поставленным голосом объявил, что его дорогая невеста с нынешнего вечера меняет не только девичью фамилию, но и свое девичье имя. Отныне она не Екатерина Павловна Вожевицкая, а Ирина Павловна Климова. Так будет записано в ее новом паспорте, так теперь надлежит ее и звать.
Невеста расцвела в улыбке, захлопала в ладоши, а гости, кроме меня, приняли это необычное известие сдержанно. Моя соседка Тамара даже запротестовала:
— Как же мне теперь звать-то тебя? Ира? Ириша? То ли дело было Катя, Катенька, Катюша. Разве отвыкнешь?
Встала Евгения Михайловна, высокая, величественная, глянула на меня, на Тамару и перевела взгляд на невесту. Дочь ее тотчас же поднялась. Гости притихли, полагая, что Евгения Михайловна намерена говорить речь, а она по-женски, по-матерински притянула к себе свою единственную.
— Дай-ка я тебя, Иришенька, благословлю, — сказала она тихо и трижды крест-накрест расцеловала дочь.
Теперь в ладоши захлопал я, а за мной Юрий, а потом и все гости.
По моему зову дружно выпили за новобрачную-новоименную, пожелав ей большого счастья.
— Теперь ваша очередь, — сказала мне через стол Ирина.
— Когда буду жениться, — ответил я.
— Не опоздайте. — Она рассмеялась.
Можно и опоздать, подумал я, только не имя новое обрести, на что намекала Ирина, — об этом не могло быть и речи, Федор Жичин до конца дней своих останется Федором Жичиным, — не опоздать бы к выбору своей Ирины.
Все, чему суждено было произойти в этот вечер, произошло, и я, улучив подходящую минуту, начал потихоньку прощаться. Евгения Михайловна пригласила меня бывать у них запросто, она, показалось мне, как никто здесь чувствовала мое состояние.
Вместо Юрия в комнату ко мне подселили юного первокурсника с густой волнистой шевелюрой и, по слухам, с большими связями. Я полагал, что добрые связи, если они порядочные, принципиальные, не порочат человека, а наоборот, даже возвышают, и слухи эти пропускал мимо ушей. Оказалось другое: связи были отцовские, не преступные, но и не очень чистые, и, когда парень предложил мне однажды воспользоваться ими, я решительно отказался.
Неуютно, мне было с новым соседом. Оттого, наверное, и заспешил я с визитом к Вожевицким — Климовым. Вышел на улицу, свернул с Арбата в переулок, где они жили, легко отыскал дом, поднялся на третий этаж и позвонил. Дверь открыл Юрий, державший на руках прелестного, будто с картинки, мальчика лет шести-семи.
— О-о, дядя Федя! — воскликнул Юрий. — Наконец-то пожаловал. В самый раз явился — к чаю. Будем знакомиться: это наш сын Максим, а это — дядя Федя, друг мой и товарищ.
Я протянул мальчику руку, он с силой, на какую был горазд, пожал ее. В прихожую выбежала Ирина и, удивленная, обрадованная, принялась корить меня и совестить.
— Это надо же — месяц, целый месяц не появлялся. И еще другом называется.
— Месяц-то был медовый, — ответил я.
— Вам бы только насмешничать, — отшутилась она.
Рядом с изящным фарфоровым чайником на столе были расставлены тарелки и вазочки с колбасой, сыром, кетовой икрой, домашними котлетами, печеньем, вареньем, вафлями.
— Чем бог послал, — сказала Ирина, усаживая нас за стол.
— Как вам живется? — спросил я. — Надеюсь, лучше, чем до..?
— Конечно, лучше! — ответил Юрий. — Нашел о чем спрашивать…
Ирина взглянула на меня и улыбнулась.
Максим неожиданно попросил у Юрия позволения показать мне корабль. Юрий охотно разрешил да еще подзадорил мальчика: сказал, что я моряк и что неплохо бы поэкзаменовать меня по корабельному делу, чтоб я и на суше не забывал флотскую службу.
— Хочу пожаловаться вам на Юрия, — тихо проговорила Ирина, едва Максимка вышел из комнаты. — Балует парня, во всем ему потакает. Так и испортить недолго. Да уж и портится, прямо на глазах.
— Что вы, что вы, — возразил я. — Мальчик, по-моему, сама прелесть. Так старательно и серьезно руку мне жал. Он настолько хорош, что очень, должно быть, трудно отказать ему в чем-либо.
— В этом все дело! — воскликнул Юрий. — Он только глянет на меня, слова даже не вымолвит, а я уже готов что угодно принести ему в жертву… Неизвестно еще, на ком я женился… — добавил он, помолчав.
— Но все-таки, — Ирина слегка покраснела, — нельзя так. Он не игрушка.
Легкий на помине, влетел в комнату Максим с большим парусным кораблем в руках.
— Вы взаправду моряк? — спросил он, подойдя ко мне. — Военный?
Я ответил. Тогда он подошел еще ближе, поднял корабль почти к самому лицу и с хитрющими блестками в глазах начал меня экзаменовать. Я назвал ему все паруса, показал все мачты и стеньги, объяснил, как и чем надо пользоваться при разных ветрах. Он выслушал меня с таким необыкновенным интересом, какой, наверное, бывает только у детей. Выслушал и остановил на мне лучистый восторженный взгляд. Мне стало даже страшно, и я поспешил сам учинить ему допрос. Для начала я спросил его про клотик, про злополучный клотик — крохотную площадку на самом верху мачты, — куда молодых матросов, пользуясь их неведеньем, посылают для потехи пить чай. Чаепитие на клотике, говорят им, равноценно посвящению в истинные моряки и парень-новичок, налив добрую кружку чая, спешит искать клотик. Один укажет ему на ют, другой на мостик, третий на полубак, причем со всей серьезностью, без самой малой смешинки. Пока он дознается где на самом деле этот клотик, и поймет что его водят за нос, чай, разумеется, остынет и расплескается.
О клотике Максимка, конечно, не слышал и от всей души расхохотался когда я показал ему это поднебесное место на фокмачте, где и птица едва может усесться.
Мальчик вдруг изменился в лице, поднял голову и уставился на меня не моргая.
— Зачем же так шутить? — спросил он медленно, выговаривая каждое слово. — Это же… это же мучительство. — В его больших серых глазах застыло недоумение и укор. Признаться, я уж и не рад был, что затеял этот разговор о клотике.
— Видишь ли, Максим, — начал я тоже медленно, стараясь найти самые нужные слова, — может быть, ты и прав отчасти. Но только отчасти. Чем скорее матрос узнает свой корабль, тем лучше и для корабля и для матроса. Ты согласен?
— Согласен, — буркнул он.
— А теперь скажи, пожалуйста, как сам ты осваивал свой корабль? Кто тебе его подарил?
— Дядя Миша.
— Он моряк?
— Да.
— А кто тебе показал все эти паруса, стеньги, мачты?
— Дядя Миша.
— И ты сразу все запомнил?
— Не-ет, я потом еще сто раз его спрашивал.
— И все узнал, верно?
— Да.
— Вот так и матрос. Говорят ему, рассказывают, а у него в одно ухо влетело, в другое вылетело. А когда сам начнет спрашивать да разглядывать, сразу все и запоминает. Самому надо, самому, понял? А когда труд самому же на пользу, разве это мучительство? Трудно, конечно, и говорить нечего — так он ведь и называется труд. Ну-у?! — Я поднял его и усадил на колени. — Тебе-то все будет проще, если в моряки пойдешь.
— Все мечты о море да о корабле, — не без гордости заметила Ирина. — Чуть ли не с пеленок.
— А вы, дядя Федя, тоже искали этот клотик? — спросил Максим, не обращая внимания на слова матери.
— Конечно! — воскликнул я, обрадовавшись его улыбке. — Мне одной-то чашки чая не хватило, разлил всю по дороге, за другой бегал.
— Вы — как дядя Миша, рассмешите — не остановишь. — И он вновь залился смехом.
— Дядя Миша — у него высшая похвала, — заметил Юрий. — Я такой чести еще не…
— Знаешь, о чем я подумал, Максим? — перебил я Юрия, поспешил перебить, чтоб он хотя бы закончить не смог своей несуразной мысли. — Зря я тебе рассказал про клотик. Ей-богу, зря, надо, чтоб и ты побегал да поискал.
Максимка рассмеялся еще громче и получил упрек матери.
— Иди успокойся, — сказала она, — потом придешь.
Он и из комнаты выбежал, держась за живот и заливаясь смехом.
Юрий помолчал, глядя вниз, поулыбался насмешливо-торжествующе и вскинул на меня глаза, серьезные, озабоченные.
— Ну вот, парню весело, а ему за это фитиль. Разве так делают?
Не хотелось мне становиться на его сторону, хотя кое в чем он, возможно, был и прав.
— Ну какой там фитиль? — возразил я. — Попросила ласково успокоиться, и все дело. Не горько, не обидно. Это, наверное, очень трудно — воспитывать детей, оттого вы и спорите. Мне довелось жить по соседству с хорошей семьей. Муж, жена, двое ребят — добрые мои друзья. Ты, Юрий, знаешь их — Кулагины. Жили мы в гостинице. Шел я как-то к себе и встретил в коридоре Маришу. Стоит у окна, курит и заливается слезами.
«Что случилось?» — спрашиваю.
«Ребят отшлепала, жалко».
«Не шлепала бы».
«Провинились, дай им волю — на руках будут ходить».
«Ну и пусть ходят».
Она смерила меня укоризненным взглядом и изрекла упавшим голосом:
«Хотела бы я знать, как ты будешь обращаться со своими чадами».
Как знать, может быть, она и права.
— Права, права, — подтвердила Ирина. — Иной раз и отшлепать надо. На пользу.
Юрий и ухом не повел, будто Ирина словом не обмолвилась. Он умел это делать, когда хотел, а Ирина, видно, не привыкла к таким манерам и, рассерженная, хмурилась, нервничала.
— А ты, стало быть, как всегда, дипломат. — Юрий сердито хмыкнул, откинулся к спинке стула и, скрестив на груди руки пронзил меня ехидным пристальным взглядом. — И нашим, стало быть, и вашим.
Он был зол и мог натворить глупостей. В других обстоятельствах его слова, наверное, обидели бы меня, теперь же они вызвали озабоченность.
— Ты не прав, — ответил я. — Воспитание детей представляется мне делом неимоверной сложности, а я в нем ничего не смыслю. Оттого, наверное, и не женился до сих пор. О воспитании, по-моему, надо не столько спорить, сколько советоваться. По-доброму, по-дружески, но — советоваться.
После откровенного моего признания злости в глазах у Юрия поубавилось. Мне показалось даже, что его гложет раскаяние. Неожиданно пришла на помощь Ирина, она, конечно, тоже заметила в нем перемену.
— Это в самом деле очень трудно — воспитывать. Чтоб и душевный был, добрый и чтоб храбрости хватило отпор дать, когда придет надобность. — Она решительно уставилась на Юрия, мягкая, доброжелательная, но в любую минуту готовая дать ему бой. — Только вряд ли из парня выйдет толк, если мы каждый раз спорить будем по всякой мелочи и ругаться, да еще при нем самом, при парне.
Юрий вроде бы почувствовал, что стенку нашу не пробить, да у него, пожалуй, и желания не было уже пробивать ее.
— Вам теперь осталось сказать, что дипломатия и в семейной жизни должна занять свое место. — Он явно отступил, но, кажется, не очень жалел об этом.
— И должна, если она от доброго сердца. — Мне приятно было подтвердить его слова.
— Я солдат, — сказал он.
— Иной солдат любому дипломату нос утрет.
— Я расквасить могу, а чтоб утереть…
— Захочешь — сможешь.
Не знаю, по душе ли пришлись ему мои слова, но он смолк, притих и, как мне показалось, смирился. Я распрощался и ушел.
Мы встречались с Юрием едва ли не каждый день, он передавал мне приветы и приглашения от Ирины, от Евгении Михайловны, но о семейной жизни разговора не заводил: видно, не все у них было ладно. Иногда мне хотелось спросить его и об Ирине, и о Максимке, и о Евгении Михайловне, но я удерживал себя. Был уверен: придет время — скажет сам.
Однажды он пришел на лекции сияющий. В перерыве я не выдержал и спросил:
— Не сын ли у тебя родился?
— Не родился еще, но родится! — воскликнул он. — Свой собственный! Ирина с тещей все уши прожужжали мне: приведи да приведи Федора.
— А что ж ты не приведешь?
— Давно привел бы, и не раз, когда б союзника в нем чувствовал. А то ведь он союзник другой стороны.
— Да-а? — спросил я удивленно. — Как же это ты угадал?
— А что: скажешь — нет? — Ему стало неловко.
Шли своим чередом лекции, семинары, дискуссии. Юрий все это время ходил веселый, подтянутый, после занятий спешил домой. Устали зазывать его с собой друзья, отступились. Праведный курс, которым он шел без отклонений, каждый день приносил мне радость… Он и сам был доволен собой, он жил сыном. Любой ушедший час принимался им как единица времени, приближающая его к сыну.
Это непрестанное ожидание, этот терпеливый, уже родительский отсчет времени передались и мне. Я тоже хотел, чтоб у него скорее родился сын.
И он родился. На целый месяц раньше срока. Вес и рост оказались меньше, чем следовало бы, это слегка огорчило Юрия, но волна радости, поднявшаяся из самых глубин сердца, напрочь заглушила минутную горечь. Юрий сиял и от восторга не находил себе места. Едва успевал сесть, как тотчас же вставал, но и устоять не мог ни минуты, начинал ходить, размахивать руками.
Не дождавшись часа, Юрий потащил меня в родильный дом. Пришли рано, ждали вместе с другими папашами. Они тоже были, как Юрий, ненормальные, зато счастливые. По дороге мы накупили Ирине всякой всячины, но добрую половину пришлось оставить при себе — не взяли, сказали, что роженицам в пищу идет не все. От Ирины принесли усталую нежную записку. Она поздравляла Юрия с наследником и не без гордости добавляла, что этот наследник — вылитый отец, хотя совсем еще крошка.
Мне такое бы письмецо, я тоже взлетел бы на седьмое небо. От чужого — и то рад-радешенек, будто самого ласкают да чествуют, праздник на душе.
Нянечка, доставившая записку, дала Юрию совет: выйти на улицу и смотреть в окно на втором этаже рядом с водосточной трубой. Мы этим советом воспользовались незамедлительно. Вышли — и тотчас же в отворенном окошке увидели Ирину. Она была бледная, утомленная, но радостная и гордая. Разведя руками — жаль, мол, что не могу показать сына, — она тихо, счастливо улыбалась. Часть улыбки досталась и мне.
Через две недели праздновали рождение сына. И виновник торжества, нареченный Денисом, и отец его Юрий вели себя тихо, почтенно. Денису это не составляло никаких трудностей — он почти все время спал, — а вот Юрию… Бедный отец едва сдерживал себя, чтоб не запеть, не закричать от восторга, чтоб не пуститься в пляс. И пустился бы и запел бы, когда б не боялся разбудить малыша. Царицей празднества была Ирина, ласковая, щедрая, элегантная. Она все чувствовала, все знала и всем была довольна. С бледного лица не сходила приветливая счастливая улыбка. Она почти ничего не говорила, но этого и не требовалось: счастье заполняло и улыбку ее, и взгляд, и каждое, даже едва заметное движенье.
Я сидел и все время любовался: то маленьким Дениской, смешно почмокивающим во сне губами, то счастливой Ириной и тихим податливым Юрием, то Евгенией Михайловной, сделавшейся вдруг необыкновенно кроткой. Даже хохотушка Тамара, подруга Ирины, была очаровательна.
Малыш почмокал губами и проснулся. Юрий тотчас же встал, осторожно взял его на руки и принес к Ирине — кормить.
— Спасибо, Юра, — сказала с улыбкой Ирина. — Если б ты не был хорошим отцом, из тебя могла бы получиться прекрасная мать.
Умиленный семейной благодатью, я не сразу углядел едва заметную усмешку Евгении Михайловны. Она скосила глаза на Тамару, та тоже улыбнулась. Только теперь я догадался, что они подсмеивались над Юрием, над его отцовским старанием. Вот и пойми их, женщин.
В конце лета перед самым началом занятий ко мне в общежитие пожаловала встревоженная Ирина. На душе у нее, видно, кошки скребли, а она принялась расспрашивать меня о моих каникулах, удалось ли мне позагорать, покупаться.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— Может быть, и случилось, — ответила она, — только зачем же оставлять без внимания мои вопросы? Это на вас непохоже.
Я тотчас же исправил свой промах, благо рассказать мне было что, а в глазах у нее светилось неподдельное любопытство. Летом я был на Волге, у матери, загорал там, купался. Школьные друзья либо на войне погибли, либо разбрелись по белу свету. Ни души не встретил. Тоска одолевать стала день от дня больше и больше. Мать и врача звала, и ребят ко мне молодых подсылала, а тоска-кручина не проходила. Нужна была, видимо, разрядка, глубокая, до самого донышка. И она явилась. Не сразу, не тогда, когда мне хотелось, но пришла.
Сидел я одиноко на пляже, смотрел на волны, на чаек и думал долгую думу о друзьях-товарищах. Мне, конечно, известно было о несметных жертвах войны, и все же я не думал, что они так несметны. Из нашего большого класса уцелело меньше половины. Одни девчонки, да и они почти все несчастны — без мужей, без женихов.
Работяга-буксир натужно тащил вверх по реке большую баржу, груженную новым хлебом.
— Эй, на барже! — крикнул кто-то с берега. — Ворону шуганите с кормы, перегруз — утонете!
Пляж кишел ребятней — и гололобыми подростками, и долговязыми юнцами с прорезающимися усиками, — и никого эта баржа не шевельнула. Меня будто по тревоге подняли, как только она показалась на горизонте. Подошел к реке, постоял, прикинул скорость буксира, свою скорость и — поплыл.
В юности, вопреки самым строгим запретам, мы с жадными глазами подстерегали проходящие суда, чтобы как можно незаметнее подплыть к ним, поглубже нырнуть и лихо, гордо вынырнуть по другую сторону судна. Любителей этих рискованных предприятий находилось не много, но среди волжских парней они никогда не переводились. Оттого и удивился я невозмутимому покою юных своих земляков. Неужели канула в вечность лихая традиция? Это тем паче достойно было удивления, что проходила баржа, посудина без винта и с малой осадкой — самая для ныряльщика безопасная.
Давненько не приходилось мне нырять, но я все же не посрамил свое поколение. Подплыл, набрал в запас побольше воздуха, и, как в былые времена, охваченный юным азартом, нырнул. Было несколько тревожных секунд, и я даже пожалел, что их было маловато. Вынырнул я спокойно метрах в семи от борта, а через пару секунд баржа открыла мне пляж. Поначалу я намеревался доплыть до другого берега и отдохнуть там, как мы обычно делали в юности, но неожиданно для себя заметил на пляже волнение. Люди столпились у кромки берега, что-то кричали, размахивали руками. Несколько человек бросились в воду и плыли ко мне. «Не из-за меня ли?» — подумал я и поплыл им навстречу. Беспокойство на берегу постепенно улеглось, встретившие меня ребята подтвердили мою догадку: тревогу поднял мой заплыв. Мне было не очень ловко выходить на берег, но, когда вышел, почувствовал облегчение: тоска-кручина, терзавшая меня целую неделю, утихла, приглушилась.
Взрослые смотрели на меня с укором, а у ребят, у многих ребят горели глаза. Глянул я в них ненароком и вроде бы понял суть своей душевной перемены.
Рассказ мой Ирина слушала серьезно, участливо. Задумчивость сменялась на ее подвижном чувствительном лице мимолетной улыбкой, тень страха незаметно уступала место откровенной радости. Не часто встречаются такие слушатели. И помолчал бы, и душе своей собственной кое-что приберег бы, да будто за язык тебя тянет такой слушатель. И все же — стоп.
— Что-нибудь с Юрием? — спросил я.
— Да, с Юрием, — ответила она, нахмурившись. — Только об этом, пожалуй, в другой раз.
— Отчего же?
Она долго молчала и все это время по ее лицу плавала растерянность.
— Он устроился на работу, а учиться собрался заочно, — сказала она наконец. — Я была категорически против, он меня не послушался… А сейчас мне кажется… Этот ваш рассказ… Что-то я, наверное, не углядела.
Может быть, и не углядела, подумал я, а учебу бросать все равно не следовало. Заочно — это получебы, не больше. Знать бы его планы заблаговременно, может быть, и не стоило большого труда отговорить его, разубедить. Как ни старался я войти в его положение, понять ход его мыслей, резонных аргументов, объясняющих это странное решение, я не видел. Но я знал его характер.
— Когда он что-то решил, — сказал я, — переиначить его решение трудно.
— Да-а, — согласилась Ирина. — Мне, наверное, не надо было так настойчиво противиться. Сейчас я не стала бы.
— Поговорить с ним? — спросил я.
— Признаться, за этим я и шла. — Она слегка смутилась. — А теперь вот отбой собралась играть. Не надо, не говорите, я сама попытаюсь. С другого конца.
С Юрием мы теперь встречались редко, от случая к случаю. Первое время мне недоставало его. Что ни говори, а парень он умный, заметный. К тому же свой брат, фронтовик. То подденет заковыристо — хоть смейся, хоть плачь, — то в защиту вступится, когда в ней нужда позарез. Я никогда не страшился одиночества, а с годами оно больше и больше становилось потребностью — многое надо было обдумывать и решать самому, только самому, — но это же просто находка, чистейшая удача, когда рядом с тобой верный друг-товарищ, готовый и погоревать с тобой, и порадоваться.
Он высмотрел меня на Арбате возле книжного магазина, перешел улицу, вызвав вдогонку милицейский свисток, и с ходу бросился меня обнимать.
— Из чужих уст слышу, как ты храбрым ныряльщиком заделался… Пропадаешь?
— У меня такое ощущение, что пропадаешь ты, — ответил я. — А потом уста эти, сколько я понимаю, совсем тебе не чужие.
— Верно верно. Это ты ей очень хорошо рассказал. Она хоть ерепениться перестала, а то просто беда…
— А может быть, она права была? Ты не раскаиваешься?
— Что-о ты! Посуди сам. Когда один был, куда еще ни шло. А теперь сы-ын, разве хватит нам стипендии?
— Но ведь…
— Знаю, знаю, — перебил он. — Ирина работает, и при скромной жизни… Не хочу! Зависимости не хочу, понимаешь?
— Можно ведь и подрабатывать, это не так сложно…
— Нет, — отрезал он. — Отец семейства и — бедный студент. Ни в какие ворота. Ирина хоть и хорохорилась, а ведь и у нее пропало бы ко мне уважение. Может быть, не сразу, как у тещи, но пропало бы. Не могу так. Не могу и не хочу.
— Ирина, по-моему, поняла это. Во всяком случае, смирилась.
— Ирина слишком многого хочет…
Мне хотелось услышать, что же она от него хочет, но Юрий на этом и закончил свою исповедь. Что ж, вольному воля, допытываться я не стал. Ирина, должно быть, судила по себе: уж коль соединили свои судьбы в одну, надо и жить одной судьбой, отдавая друг другу все, без остатка. Она охотно, без колебаний следовала этой линии, благо у нее было что отдавать и чем обогатить своего избранника. Он уже и обогатился изрядно: поугомонились в глазах громы и молнии, метавшиеся по любому поводу, смягчились жесты, речь обретала столичную манеру, не говоря уже о проборе в прическе, о галстуках и рубашках. Он, наверное, и сам это чувствовал, а линия у него была видимо все же иная.
— На улице разве разговор? — Он развел руками. — Заходи ко мне там и поговорим. На службу заходи, домой заходи.
— Когда? — спросил я. Мне в самом деле хотелось поговорить с ним.
— Да когда хочешь. Будет свободная минута, и заходи.
Свободных минут у меня было не так много, но все же они были, и навестить Юрия я, конечно, мог. Даже порывался не однажды, и всякий раз меня что-то удерживало. Потом я понял: до визита к Юрию мне надо было повидать Ирину, а случай никак не представлялся. Я уже начал терять надежду, как вдруг…
Перед открытием конференции в Колонном зале на плечо мне мягко опустилась чья-то рука. Оглянулся — Ирина.
— Здра-асте!
— Здра-асте. Рада вас видеть.
— Мечтаю поговорить с вами.
— В перерыве. Ладно.
Юрий тогда был на конференции и, по словам Ирины, вершил дела за сценой. В его ответственность входила протокольно-стенографическая часть. Мы не стали отрывать его от дел и завтракать пошли одни. Я с огорчением узнал, что он до сих пор не сдал государственные экзамены и не шибко спешил сдавать их. Его, оказывается, увлекла административная деятельность, и перспективу свою он видел в ней. Ирина не противилась этой перспективе, полагая, что толковый администратор необходим людям нисколько не меньше, чем творческий работник. Но она хотела, чтоб Юрий непременно сдал экзамены и получил диплом. Не столько для надежности, для подстраховки, сколько для завершения большого и важного дела. Что это за администратор, не умеющий довести дело до конца?
— А что же ему мешает? — спросил я, прикидывая, сколько же лет он учится.
— Лень, — ответила Ирина. — Лень и легкомыслие.
— Неужели легкомыслие? — Я сосчитал: учится он уже десятый год. Сын, должно быть, в школу пошел.
— Конечно, легкомыслие. Я сказала бы даже, безответственность. Что он Дениске скажет, сыну, если он на второй год останется?
— Да-а, ситуация. Он, наверное, все уже перезабыл.
— Память у него преотличная, надо только заново все проштудировать.
— Вот и помогите ему.
— Предлагала не однажды. Он считает ниже своего достоинства заниматься со мной.
— Уже?
— Давно-о. Может быть, вы поговорите с ним? Он и сам может прекрасно подготовиться. Взять отпуск и посидеть как следует.
— Поговорю. Не убежден, выйдет ли из этого толк…
— Выйдет, — перебила Ирина. — У вас известность, а он с известными весьма считается.
— Какая там известность?! — Мне стало неловко. — Два-три приличных репортажа…
— Скромность, конечно, украшает…
— Перестаньте! — Резкий мой тон озадачил ее, с минуту она не могла поднять глаза, а когда подняла да глянула, тотчас же заулыбалась.
— Так хочется жену вашу посмотреть… — сказала она тихо. — Приходите в гости, а?
— Кто вам сказал, что я женат?
— Догадалась. Это не так уж трудно, надо только попристальнее в глаза глянуть. В гости придете? У нас новая квартира.
— Придем, — ответил я. — Придем с удовольствием. Надо только заблаговременно день и час обусловить.
— Пятница. Семь вечера. Устроит? Конец недели, впереди два вольных дня.
— Вполне. Это лучший вариант. Надо только в календарь заглянуть, нет ли каких заседаний.
В фойе у выхода из буфета встретили Юрия. Он был озабочен своими обязанностями, но, видно, хлопотные эти обязанности и позволяли ему чувствовать себя персоной.
— Ты хоть перекусил? — спросила его Ирина.
— Да, перекусил, та-ам. — Он кивнул в сторону президиума.
— Я пригласила в гости семейство Жичиных. Возражений, надеюсь, не будет?
— Ты просто молодец, Ирина. Угадала сокровенное мое желание.
— Старалась. — Ирина улыбнулась. — А еще я нажаловалась Федору на твои ленивые экзамены.
— А вот это уже ложка дегтя…
— Переживешь, — сказала она спокойно. — Я вас покину, мне надо начальство свое увидеть.
— Сто лет тебя не лицезрел! — воскликнул он, когда Ирина ушла. — Читал, радовался, а вот встретиться… Плохо мы живем!.. Суетно, без роздыха.
Он хоть и жаловался, но суетная эта жизнь была ему по нраву. Больше того, думал я, она была его коньком, а может быть, даже призванием. Я деликатно спросил, не нужна ли ему моя помощь в экзаменационных хлопотах. Диплом у меня был с отличием, на память не жаловался, и помощь моя могла принести пользу. Он поблагодарил и слегка усмехнулся.
— Видишь, начальство сколько ходит? — Он обвел глазами просторное фойе. — И со всеми я запросто. Неужели, думаешь, не помогут? Один звонок, и диплом в кармане.
— Что же ты тянешь? — Теперь усмехнулся я. — Сдал экзамены, получил диплом — и гора с плеч. Работай без оглядки.
Юрий помолчал, поулыбался. Прежней уверенности в улыбке я не увидел. Мне даже почудилось сожаление в его глазах. Не раскаивался ли он в своих словах о близости к начальству?
— С оглядкой, видишь ли, старания побольше, так что нет худа без добра. — Он хитровато прищурился. — Но — надоело. Проведу конференцию, разживусь капиталом и без оглядки пойду в атаку на диплом. — Глазами он кого-то уже выискивал, полагая разговор наш оконченным, а меня так и подмывало, не мог я вынести такого испытания.
— Послушай, — сказал я как можно тише, — а нельзя ли без начальства? Самому. Подготовиться и сдать самому. Пусть тройка будет, бог с ней. Лишь бы совесть потом не мучила. По мне, так лучше без диплома, но со спокойной совестью. А то ведь заест, разбойница.
— Да, да, конечно, — торопливо согласился Юрий. — Это я прихвастнул малость, пыльцу в глаза пустил. Тоже, мол, не лыком шиты.
Юрий, извинившись заторопился в свой президиум, а я остался гадать, когда же он был всамделишним Юрием.
В пятницу вечером мы ехали к Климовым. Дражайшая моя половина захотела непременно что-то подарить и Юрию и Ирине. Юрию она выбрала в моей коллекции паркеровскую ручку, а Ирине — бусы, из своей коллекции. По дороге пришлось заехать за цветами. Угомонившись, Раиса принялась расспрашивать меня о чете Климовых: и где работают, и добрые ли они, не лицемерят ли. Я улыбался и старательно молчал.
— Так ничего и не скажешь?
— Нет.
— Хочешь, чтобы я сама постигла?
— Угу.
— А потом рассказала тебе?
— Точно. Как в воду глядела.
— Это тебе нужно?
— Это интересно. Я думаю, это и тебе будет интересно.
— Посмотрим.
Ирина полюбилась Раисе с первого же мгновенья. Улучив минуту, Рая шепнула мне:
— Она поздно родилась. Ей надо было за Блока замуж выходить.
Это, конечно, утонченные, подвижные черты лица Ирины и душевные глаза дали себя знать. Похожие мысли приходили и мне, когда я первый раз увидел Ирину.
— Скажи ей об этом, когда будешь прощаться, — шепнул я Раисе. Она, может быть, и слышала мои слова, но у нее были свои думы.
— За Блока или за тебя, — шепнула она еще тише.
— А вот это ей не говори.
— Бои-ишься?
Раиса с улыбкой, с шуткой-прибауткой преподнесла хозяевам цветы, подарки и помимо своей воли задала тон всему вечеру. Юрий был в восторге от американской ручки и на все лады расхваливал Раю, потому что, по его убеждению, только ей могла прийти в голову блестящая идея с этой ручкой. До сих пор у него не было возможности, а теперь она есть, теперь он запросто утрет нос всему начальству. У Ирины на похвалу моей благоверной ушло меньше слов, зато они были точными. Надев бусы и глянув в зеркало, Ирина нашла их очень милыми, праздничными. Повернувшись к нам, она сказала: «В них соединились щедрость и хороший вкус. Спасибо, Рая. Я не сниму их весь вечер».
— А где ваши наследники? — спросила Рая. Ей уже прискучило слушать похвалы. Наследники оказались за городом, на даче. По уговору Евгения Михайловна должна была их привезти, но, видимо, помешала непогода. В Москве едва покапало, а на западе синела грозная туча.
За столом речь пошла о конференции. Вспомнив о надеждах, какие возлагал на нее Юрий, я поздравил его с успехом. Он поблагодарил, а Ирина глянула на меня с недоумением.
— Треску-учая была конференция. — Она нахмурилась. Ей, наверное, немалых трудов стоили эти слова. — Ни уму ни сердцу.
— А Юрий здесь при чем? — спросил я. — Он вроде бы не выступал.
Ирина промолчала, но про себя, я уверен, подумала: доведись Юрию держать речь, он говорил бы то же самое.
— Вот если бы критики было побольше да поядовитее, тогда и конференция пришлась бы ей по сердцу, — сказал Юрий.
— Неправда, неправда, — решительно возразила Ирина. — Ядовитость я оставила бы для врагов, а для себя… Правда, честность, объективность. Чтоб слова с делом не расходились. Чтоб польза была нам. — Ирина разрумянилась и стала чудо как хороша. Уж не нарочно ли Юрий тормошит ее? Он и на это горазд.
— А как это определить? — спросил, усмехнувшись, Юрий. — Тебе объективным и полезным кажется одно, Рае и Федору — другое, а мне, скажем, третье. Как соединить эти наши разные представления? Что должно руководить нами? Может быть, Раиса Степановна нас рассудит? Она видит нас впервые и, по идее, должна быть беспристрастной.
Теперь я почти наверное мог сказать, что спор этот Юрий затеял не без цели. Вопрос его застал Раису врасплох, но не такой она была человек, чтобы перед кем-либо пасовать. В бытность студенткой она у меня на глазах ставила в тупик видных ученых.
Рая отпила глоток вина, мило всем улыбнулась и сказала, что конференции она не любит из-за пустословия. Собираются сотни людей, деловых, умных, тратится драгоценное время, а пользы кот наплакал — две-три ценных мысли, их и по почте можно было высказать. Даже лучше, если по почте, а то ведь трибуна высокая, атмосфера торжественная — и не скажешь всего, что думаешь. Не располагает. Одно дело в своем кругу, и другое… Не каждый может. А вернее, редко кто может. И не удивительно: у нас этому не учат. Дошли до того, что без бумажки слова единого никто не выговорит. А когда найдутся один-два умельца, скажут человеческое слово, других раззадорят, и, глядишь, задышала конференция, запульсировала румянцем налилась. Так тоже бывает. Знать бы об этом споре, можно было бы и в Колонный зал прорваться, а не видя, не слыша, как судить?
— Это о конференции, — сказал Юрий, как бы завершая разговор. Он оценил слова Раисы, хотя к сердцу принял, наверное, не все. От его глаз не укрылось и молчаливое довольство Ирины. — А как вы смотрите на правду, на объективность?
— Это, конечно, сложнее, — ответила Рая, недовольная тем, что ее не дослушали до конца. — Хотя, может быть, и не так сложно, как видится поначалу. Я пока знаю одно: и правда и объективность в моем сердце.
Для Юрия это был не ответ, но он молчал, терпеливо ожидая, что она скажет дальше. Даже я не подозревал в ней такой прыти. У Ирины бегали в глазах веселые зайчики, она, должно быть, все понимала и всему потихоньку радовалась.
А Раиса, слегка побледнев — это было ей удивительно к лицу — и устремив пристальный взгляд на Юрия, продолжала:
— Высоко над Москвой, равно как и над Уралом, над Сибирью, круглые сутки витает дух справедливости, оберегающий нашу жизнь, ее лицо, ее чистоту. На мое разумение, в природе нет более верного стража, и главную свою заботу я вижу в том, чтоб сердце мое пело на одной с ним волне. Ее не так просто уловить, эту волну. Не всегда просто. Ее надо не только слышать, ее надо чувствовать. Круглые сутки. Вот, пожалуй, и все. — Рая откинулась к спинке стула, допила вино. — В жизни еще не произносила столь длинной и серьезной речи.
— Зато речь! — воскликнула Ирина. — Голосую открыто, двумя руками. Будь моя воля, я напечатала бы ее во всех газетах.
Юрий оказался в затруднительном положении: ему не хотелось Раису огорчать, но и согласиться с ней он не мог. Какое, к дьяволу, сердце, и какая может быть волна, если тебе приказали и ты — кровь из носа — должен это приказание выполнить? Волну начальство должно ловить, и то не всякую. Простому смертному не до этого, ему хотя бы начальство свое чувствовать, высокая волна подождет.
— Глава семьи тоже так думает? — Юрий повернулся ко мне.
— В принципе, — ответил я. — От публикации в газетах, пожалуй, воздержался бы.
Женщины дружно рассмеялись.
— Ну и зря, — сказала Ирина. — Гонорар не помешал бы.
— Бог уж с ним, с гонораром. Боюсь, как бы голова не вскружилась от успеха.
— Это опасность реальная, — подыграла мне Рая. — Я свою голову знаю.
Теперь рассмеялся Юрий.
— Говорят, женщины меньше подвержены этому недугу. И в первую голову, добрые и красивые. Им, должно быть, хватает женского успеха.
— Не скажи-ите, — возразила Раиса. — Если в женщине видят лишь красоту, лишь внешние ее достоинства и не замечают ее ум, ее талант, она чувствует себя оскорбленной. Я знаю таких женщин.
— Я тоже знаю, — медленно произнес Юрий, многозначительно скосив взгляд в сторону Ирины. — С умными-то хлопот не меньше, чем с красивыми.
— Представля-яю, — сказала Раиса. — А уж если красивая да умная — совсем беда.
— Беда и есть. — Юрий, видимо, не уловил иронии в словах Раисы, и, чтоб избавить его от женских каверз, я надумал повернуть разговор в другую сторону.
— А вдруг твоему патриотическому сердцу по нраву придется другая волна? — спросил я. — Или вдруг эту другую ты примешь по ошибке за ту, единственную?
— Я думаю, что этого не случится, — ответила она. — Другие волны для меня не более как шумы, помехи. Ну, а если возникнут сомненья… посоветуюсь со своим мужем или еще с кем, кому верю.
— Стало быть, обмен мнениями ты не исключаешь?
— Не исключаю. Только это должен быть обмен мнениями, а не трескучая конференция. Откровенный, без оглядки, как между самыми близкими людьми.
Теперь в словах Раи не было вроде бы никакой крамолы, и у Юрия отлегло от сердца. Испросив у дам позволения, он закурил и сказал интригующе, что всякая конференция интересна не столько речами с трибуны, сколько кулуарными разговорами. Он, Юрий — это его личная точка зрения, — готов проводить конференции из-за одних этих разговоров. Уйма разных известий, историй, анекдотов. Весь шумный мир перед тобой как в зеркале, успевай только слушать. Один Аркадий Самсоныч — целая кладовая. Где только не бывал, с кем только не встречался. И фашистам недобитым в глаза глядел, и с чопорными премьерами распивал чаи. А на конференции обидели человека. По весу, по авторитету ему, конечно, надо было дать слово в числе первых. Третьим, четвертым, на худой конец пятым. А вспомнили о нем на третьем заседании. Могли и не вспомнить, если б не Юрий. Объяснили это тем, что важные ораторы сознательно распределены по разным заседаниям. Для того, мол, чтоб не затихал интерес к конференции.
— А как же сам он к этому отнесся? — спросила Рая, хорошо знакомая с Аркадием Самсоновичем.
— Сделал вид, что ему все равно, — ответил Юрий.
— А может быть, ему на самом деле все равно?
— Он же не маленький. Между прочим, ты тоже мог бы выступить. — Юрий поднял глаза на меня. — Не помешало бы.
— Была задумка, — ответил я, — да пока собирался, другие повысказали все мои мыслишки. Тот же Аркадий Самсоныч.
— Да-а? Тогда, может быть, и хорошо, что не выступил. Аркадий-то Самсоныч подзагнул малость. Начальству его речь не шибко…
— А тебе? — спросила его Ирина.
— Мне, может быть, и шибко, — ответил он, не глядя на жену, — только мнение мое мало кого интересует.
— Меня интересует, Раю и Федора интересует. Разве это мало?
— Ну, если всех троих, — Юрий улыбнулся, развел руками, — тогда, конечно, не мало.
Раисе стало тяжко, она попросила у Юрия сигарету, закурила, подошла к открытому окну, а хозяйка, оглядев стол, всплеснула руками.
— Батюшки, за спорами да за разговорами ничего не едим. Это не дело.
— Не знаю, кто как, — ответила Рая, — а я лично растягиваю удовольствие. Давненько не видела такого изящного стола. Идите сюда, сейчас дождь хлынет.
Мы подошли, глянули за окно и уже не могли оторвать глаз. Сплошной стеной прямо на нас надвигались низкие кучевые облака. Они на ходу кудрявились, и синие кудри тотчас же оборачивались шлейфами дождя. В этих шлейфах утонул шпиль университета, потом и все массивное здание растворилось в дождевой дымке. Налетел ветер, бросил на нас охапку брызг, мы со смехом отпрянули. Первой взглянула в окно Раиса.
— Гляньте-ка, гляньте! — позвала она нас. — Только что эти облака задевали за крыши, а сейчас их едва самолетом достанешь. Выплеснулись и взмыли. В один миг.
За стол мы вернулись просветленные. Будто нас не дождем окатило, а пронизали насквозь теплыми солнечными лучами. Мы долго смотрели друг на друга и молча улыбались.
— По-моему, самое время отведать салат из крабов, — тихо сказала Ирина. — Я его собственными руками, по собственному рецепту… И никто даже не дотронулся. Каково хозяйке?
Мы съели и салат, и шампиньоны в сметане, и заливного судака. Все было изящно, вкусно.
Заговорили о детях. Ирина пожалела, что мальчишки не приехали и мы не смогли этих озорников увидеть. В другой раз. Ребята растут, вроде бы неплохие, но своенравные.
— Есть в кого, — с улыбкой сказал Юрий.
— Это уж точно, — ответила Ирина, тоже улыбнувшись. — За примером далеко ходить не надо.
Они пикировались, поддразнивали друг друга, но делали это теперь с доброй усмешкой. Надо было этому дождю пораньше нагрянуть, подумал я. Может быть, тогда и спора не было бы.
На прощанье Ирина сыграла нам Шопена. Такая вдруг обрушилась на нас грусть-печаль, что мы невольно замерли на месте. Даже если бы не знать его жизнь, с первых же звуков чувствуешь яснее ясного: несладко приходилось ему вдали от родных мест. Париж, именитое окружение, блеск умов и талантов, а родину ничем не заменишь. Никем и ничем. Перед глазами моими мелькнули собственные мои годы, прожитые в дальних странах, и по спине у меня побежали мурашки. Ностальгия… Вот она, ностальгия, чистая, обнаженная. Бери ее и страдай. И что рядом с этим страданьем мелкие наши неурядицы?
Ирина вскинула голову, и печальные звуки оборвались. Я закрыл глаза, и откуда-то издалека услышал лесной шорох, шелест деревьев, щебетанье птиц. Звуки наплывали, ширились, лесной ручей зажурчал в лощине, по верхушкам деревьев прокатился свежий ветер. И встрепенулось лесное царство, запело, забурлило, встречая новый день, отдавая дань красному солнышку. И пошло оно, светлое, теплое, по лесам и лугам, по полям и перелескам от дома к дому, от села к селу, рассыпая по пути жизнь, лад, радость.
Рая подошла к Ирине и молча обняла ее.
— Это вы меня настроили, — сказал Ирина.
— Я догадалась, спасибо. Большущее спасибо. Разве Шопена с кем-нибудь спутаешь? И тоска и любовь. Из самых глубин. Только сердце, наверное, может объять весь мир, доброе, щедрое сердце.
Ирина и Юрий вышли нас проводить. Ветер стих, на деревьях в свете фонарей лучились крупные дождевые капли. Из глубины зеленого двора доносился запах березовых почек, терпкий, чуть горьковатый, бодрящий. Самый мужской запах, подумал я и, остановившись, вдохнул всей грудью этот первозданный целебный настой. Следом за мной к даровому источнику потянулись Ирина, Раиса, Юрий.
— Под носом кладезь свежести, а мы… — Юрий не договорил, кладезь увлек его.
— А нам химию подавай, — продолжила за него Ирина. — У нас все под носом, оттого, наверное, и беды наши.
Мы распрощались. Ирина и Раиса с первой встречи пришлись друг другу по душе. Расставаясь, они обнялись, как близкие подруги.
Почти всю дорогу ехали молча. Раисе не терпелось излить свои впечатления, но она знала, что жизнь научила меня не спешить с выводами, и до поры до времени держала ворох своих ощущений при себе. Сопоставляла их, перетасовывала, заново переживала. Ждала, пока заговорю я. А мои мысли все это время витали вокруг Раисы. Давно ли была она бедовой уральской девчонкой, воительницей и певуньей, кружившей головы молодым и не очень молодым шахтерам, а сейчас… Сейчас педагог, столичная дама.
— Ты молодец, — сказал я на подходе к дому, когда она уже потеряла надежду выговориться всласть. Поведи я сейчас речь об Ирине или о Юрии, она, может быть, и обиделась бы на меня за долгое молчанье. Но она тотчас же все поняла, почувствовала и благодарно пожала мне локоть.
— Правда? — Она подняла на меня радостные глаза. — Это не утешение?
— Нисколько.
— Ты в самом деле доволен? Мне показалось, я слишком много говорила. Первый раз встретились — и поток слов. Не поток даже — лавина.
— Ты была естественна. От первой минуты до последней.
Мы вошли в подъезд, она поднялась на цыпочки и поцеловала меня. Дома за чаем — зачем-то нам в поздний час понадобился чай — я спросил Раю, кто эти оскорбленные красивые женщины, ее знакомые… Она не дала мне договорить и с ходу назвала Ирину. Разве можно смотреть на нее лишь как на красивую женщину? Она же прелесть, чудо. И умница и талант.
Я согласился с ней и высказал предположение, что она имела в виду не только Ирину.
— Конечно. — Она слегка смутилась. — Я и себя имела в виду. А Юрий твой… мне показалось… как бы, это поточнее… Не пара он Ирине, — сказала она решительно.
— Ты забываешь, что Ирина пришла к нему не одна.
— Ну и что? Разве она хуже стала?
— Не у всякого хватит храбрости взять под свою защиту чужого сына.
— Но это же ее сын! К тому же, как ты говоришь, прекрасный мальчик. На мое разуменье, это ее богатство, и если Юрий не понимает, если ему не дано…
— Не скажи. Ему дано немало… Впрочем, поживем — увидим.
— Вот, вот… — Рая с усмешкой закивала и отодвинула свой чай. — Знаешь, что я тебе скажу, дорогой мой муж? Доброты у тебя излишек. Явный. А кое-кому не хватает. Поделись. Или на худой конец поменяй. Если б тебе удалось выменять немножко твердости, ты не прогадал бы.
— А ты?
Рая долго смеялась, потом ответила без особой уверенности: она, пожалуй, тоже не прогадала бы.
Рая подружилась с Ириной, они частенько встречались — женщины умеют это лучше мужчин, — и о жизни Климовых я узнавал теперь по рассказам жены.
Она была в восторге от сыновей Ирины. Старший, от первого мужа, удивлял своей сообразительностью и прирожденным тактом. Это не мешало ему, а скорее всего даже помогало держаться своего мнения. Он охотно все выслушивал, а поступал обычно так, как бог положил на душу ему самому. Младший же любил спорить. В спорах часто бывал не прав, приходилось уступать, и это нисколько его не огорчало. Матерью оба гордились, к Юрию относились с почтением. Ирина старательно прививала им это почтение, иногда вопреки собственному сердцу. Юрий баловал их: покупал подарки, не обращал внимания на шалости. Поначалу разницы между ними никакой не делал, иной раз даже внимательнее бывал к Максиму, а сейчас переменился, явное предпочтение отдает Дениске. Малышу это вроде бы должно нравиться, но он сын Ирины…
Неделю назад Юрий принес два билета в цирк — больше не было — и захотел пойти с Денисом сам. Малыш помолчал, подумал и решил: в цирк пойдут либо отец с матерью, либо он с Максимом. И так его уговаривали, и эдак — не согласился. Пришлось Юрию довольствоваться ролью провожатого.
Пустяковый как будто случай, а Ирина истерзалась. Неужели Юрий сам не мог сообразить? Семилетнему мальчику ясно, а папаше-фронтовику невдомек? Все семейство поставил в идиотское положение, и цирк был уже не цирк.
Рая спросила Ирину, как бы на месте Юрия поступил первый ее муж. Ирина ответила без охоты и не сразу — не хотелось, видимо, бередить старую рану, — но ответила. Платон, первый ее муж, долго мог судить да рядить про себя, прежде чем жениться. Он в первую голову раздумывал бы над щепетильной проблемой чужого сына: смог бы ли он стать ему хорошим отцом. Но если бы он решился соединить с ними свою судьбу, никаких цирковых номеров не было бы и в помине. Он приложил бы все усилия, чтоб раздобыть четыре билета, а если на худой конец билетов было бы только два, он рассудил бы точь-в-точь, как Дениска. Платон был истинный ученый. Мощный ум, доброе взрослое сердце. Он дорожил временем и никогда не опустился бы до мелких препирательств. Любые низкие помыслы претили ему. Он избегал карьеристов, чуждался интриганов. Ирина не раз говорила ему, что он рановато родился. Так оно, наверное, и было.
Ирине тяжко приходится. Она старается не вспоминать Платона — волей-неволей напрашивается сравнение, а оно не в пользу Юрия, — довольствуется тем, что есть — надо растить детей, это для нее сейчас главное, — но то и дело встречаются друзья Платона, милейшие люди, каждый день перед глазами Максим, похожий на отца, а тут и Рая напомнила о нем своими расспросами. Пока занята на работе, сердце не бунтует, а все вроде бы идет как надо, а как только Платоном растревожит себя, к горлу подступает нервный комок, глаза непрошенно слезами обволакиваются, и такая одолевает тоска, такая жалость охватывает — и к мальчишкам и к себе, — весь белый свет не мил. Надо брать себя в руки, надо жить, а это стоит дьявольских усилий.
Не хочет она возвращаться к прошлому, а Юрий так и подталкивает ее. Неужели он не понимает? Человек клад нашел, ему же тянуться надо до этого клада.
— Я же вот тянусь, — сердито сказала Рая. — Который год тянусь.
Меня разобрал смех, и я спросил, не в тягость ли ей это занятие. Оказалось, нет, не в тягость, хотя подчас и нелегко, очень нелегко. Зато интересно. Это и есть, как она понимает, жить по-человечески. Юрию, может быть, не под силу такая жизнь.
— А ты-то в своем стремлении тянуться, часом, не переусердствовала?
— Возможно, — ответила она. — Зато я знаю радость. Я знаю множество оттенков радости. А твоего Юрия совесть гложет.
В клубе на открытии сезона был объявлен концерт заезжей знаменитости из Парижа. Разгорелись баталии из-за билетов. На первой линии боев были женщины. Не выдержала и Раиса. Она не часто беспокоила меня просьбами, но парижского певца захотела послушать непременно. Робко подала голос за Ирину. Рая пыталась сама подступиться к билетной цитадели, но… ей сделали нехороший намек, она возмутилась и ушла прочь. Я попросил назвать обидчика, чтоб при случае поговорить с ним, она отказалась. Слишком много чести. Она сама ему ответила, и он вскочил как ужаленный, начал извиняться и готов был принести в жертву хоть полдюжины билетов, только она из его мерзких рук не хотела взять ни одного.
Из-за спешной работы я не смог заняться билетами сразу, а когда чуть-чуть подосвободился, с большим трудом раздобыл из начальственного резерва пропуск на два лица. Спросил у жены, с кем бы она предпочла пойти: с Ириной или со мной. Оценив мои добрые намерения, она с минуту колебалась и позвонила Ирине. Очень ей хотелось доставить удовольствие подруге, но та деликатно отказалась, сославшись на неотложные дела.
В клубе встретили знакомых, поговорили о делах, да и концерт был неплохой.
В честь знаменитости был накрыт ужин, к столу позвали и нас.
— Ну вот, — шепнула Раиса, — а ты не хотел идти. — Ей было лестно сидеть за столом с французским певцом и с именитыми моими коллегами.
После двух-трех официальных тостов завязалась добрая беседа. Кто-то спросил гостя о радостях и огорчениях певца. Ответ его был краток: когда хорошо поется и хорошо слушают — радость, если этого нет — несчастье. И все же под натиском любопытных ему пришлось распахнуть себя пошире. Огорчения не обошли его стороной, их было предостаточно — в юности, когда он старательно искал себя. Учился, сменил не одну профессию, а помогла ему родная Бретань, ее песни. Однажды в летний отпуск вдохнул он их всласть и понял: это его судьба. Поначалу пел на вечеринках, потом брал уроки. Большие залы пришли не сразу, а когда пришли, хлынула сплошным потоком радость. На досуге он прикинул: в его залах побывал миллион зрителей, не меньше. Миллион пар глаз из тридцати стран. Разглядеть весь миллион он не смог, но почувствовать… Временами ему кажется, что он ощущает на себе все это множество добрых пытливых человеческих глаз. Они и ласкают его, и будоражат. Этот миллион — главное его богатство.
Знакомый с певцом уже несколько лет, Аркадий Самсонович спросил шутливо, не тревожит ли его иногда этот поток сплошной радости. Француз улыбнулся и сказал, что от добрых знакомых только и жди каверз. Не хотелось ему за веселым столом говорить о тревогах, но, видимо, и в этом есть смысл. Он с ужасом думает о годах, когда возраст отнимет у него залы и лишит этих дорогих ему глаз. Надо, видимо, пока не поздно, вобрать в себя побольше — два миллиона, три — может быть, и легче будет. А коль скоро они еще есть, приветливые, волнующие, покоя не жди.
Он повернул голову и остановил хитровато-вопрощающий взгляд на Аркадии Самсоновиче: того ли ожидал от него колючий русский друг? Аркадий Самсонович заулыбался, закивал и даже похлопал ладонью о ладонь.
В конце стола, скрестив на груди руки, сидел и беспокойно поглядывал по сторонам Юрий Климов. Увлеченный парижским певцом, я только что увидел Юрия и тотчас же подумал об Ирине. Зачем о ней тревожилась Раиса, когда муж запросто мог раздобыть ей пропуск? Неожиданно я поймал на себе веселый женский взгляд и невольно повеселел сам: через кресло от Юрия сидела наша однокурсница Инесса Зубко. На факультете она славилась обилием нарядов, сконструированных и сшитых собственными руками, была заводилой на всех вечеринках. Она хорошо пела, любила танцевать, одно время увлекалась Юрием. Впрочем, увлечения свои она меняла довольно часто. Я не видел ее лет шесть, не знал ее судьбы и, встретив теперь ее взгляд, от души улыбнулся и помахал рукой.
Парижский гость, спев на прощанье песню, заспешил в гостиницу, Аркадий Самсонович и начальство пошли его проводить, а мы остались. Вихрем подлетела к нам Инесса, мы обнялись и облобызались. Я усадил ее рядом, познакомил с Раисой.
— Где же это ты отхватил такую красавицу? — спросила она сразу. — Весь вечер любуюсь.
— В Предуралье, на шахте.
— Вы работали в шахте? — Она подняла на Раису удивленные глаза.
— Два года, — ответила Рая.
— А потом?
— А потом этот товарищ меня похитил.
— Ну-у, Фе-едор… Теперь ясно, отчего ты на нас все пять лет ноль внимания. И так мы к нему подкатывались, и эдак, а он — крепость, Брест. Сколько девчонок по нему сохло — не сосчитать.
— По Юрию, а не по мне.
— По Юрию тоже, но меньше. Хотели через Юрия к тебе подступиться. Знал бы ты, какие я платья девчонкам придумывала, чтобы взор твой привлечь. И на французский лад, и на американский. И только сейчас, сию минуту поняла, — она повела глазами на Раису, — что все эти труды были напрасны.
Инесса явно нам льстила, и я чувствовал, как ко мне тоже явно подступало раздражение. Чтоб не испортить встречу, я спросил Инессу о ее житье-бытье и как будто не ошибся: она охотно заговорила о себе, о сыне, о своем бывшем муже. Замуж она поспешила, приняла очередное увлечение за любовь. Сказался, наверное, и кризис невест. Что ни говори, а женихов-то стоящих по пальцам можно было пересчитать. Прожила она с мужем два года и развелась, не вытерпела его пьяных выходок. А теперь снова невеста. Не та уже, конечно, сын на шее да и годы не юные, но все же невеста. Будет на примете подходящий жених, степенный, с сединой в волосах, неплохо бы вспомнить о ней. Может быть, и склеится жизнь, чем бог не шутит. Жалованье у нее неплохое, характер покладистый. А уж женой она была бы и верной и заботливой.
Проводив вместе с начальством парижского гостя, вернулся к столу Юрий. Скосил глаза на одну сторону, на другую, облегченно улыбнулся и подошел к нам.
— Как вам гость? — весело спросил он. — Не правда ли, очарователен? Утер нос всем нашим эстрадникам. А каков Аркадий Самсонович? Что ни говори, а ведь молодец, умница. Легкая шутка, и гость расшевелился.
Меня не покидало ощущение, что Юрий повторяет чужие слова, поэтому не хотелось ни соглашаться с ним, ни спорить. Раисе же не терпелось ввернуть что-либо об Ирине и, лишь из деликатности сдерживая себя, она помалкивала. Выручила нас Инесса.
— Юрочка, а что на сей счет сказало начальство? — спросила она с милейшей улыбкой, догадавшись, как и я, об источнике его оценок.
— Начальство, как я понял, тоже довольно, — ответил Юрий нехотя. — Когда по-настоящему хорошо, то всем, наверное, хорошо.
— Артист он, конечно, великолепный, — сказала Инесса. — У него все поет, и это спасает. А голосок, по-моему, средненький. У наших эстрадных певцов есть голоса посильнее и поярче.
— Например? — спросил Юрий.
— Ну хотя бы наша Шульженко. Париж на руках бы ее носил. Верно, Федор?
— Пожалуй, — ответил я. — А если бы она еще немножко помоложе была, да…
— Стоп! — перебила меня Инесса. — Ты вечно на шутку все сводишь, а я серьезно.
Но серьезный разговор дальше не шел, она почувствовала это и сама. Слегка огорчившись, она повернулась к Юрию.
— Юрочка, пока ты ходил провожать начальство, я поплакалась им в жилетку и они, Рая и Федор, вроде бы согласились присмотреть мне подходящего женишка. Подтверди им, что я сейчас в жены только и гожусь. А если б ты еще и помог им… — Она неожиданно встала и, ни с кем не простившись, ушла.
Уход Инессы показался мне странным, хотя она и раньше была взбалмошной. У Раисы этот ее номер вызвал недоумение. Один Юрий остался спокойным. Он деловито налил себе коньяку, отыскал на другом конце стола кетовую икру.
— Голодный как волк, — сказал он. — Весь вечер сидел как на иголках.
— Почему? — удивленно спросила Раиса.
— Гость именитый, — ответил он не менее удивленно. — Мало ли что могло случиться, а спрос, как известно, со стрелочника.
Об Инессе он даже не вспомнил. Это было так же странно, как ее исчезновение. Что-то, наверное, за этим таилось.
Евгения Михайловна Вожевицкая долго не теряла надежды на то, что ее дочь Ирина станет Жичиной. Юрия она терпела, полагая его временным постояльцем, но мужем Ирины никогда не признавала. После рождения Дениски надежда ее поугасла, но еще жила, теплилась. Когда же Евгения Михайловна поближе узнала Раису и подружилась с ней, надежде пришел конец. Видная, рассудительная, неуемной энергии женщина стала на глазах сдавать. Потускнели живые глаза, будто их присыпали пеплом, поубавилось стати. В ее сердце не отдавались прежней радостью голоса и улыбки внуков.
— Нет бы порадоваться за Раечку да за Федора, — упрекала ее Ирина. — Совсем ведь изведешь себя.
— За Раечку я рада, и за Федора я рада, — отвечала Евгения Михайловна. — А на тебя вот без слез смотреть не могу.
И надо бы Ирине успокоить мать, да трудно, нечем. Чтоб Евгению Михайловну не расстраивать, Ирина многое таила от нее, держала в себе. Горько это, больно, но что сделаешь? Лучше уж одной перетерпеть. По этой причине она и Раисе не сразу открыла свои терзания: не хватало еще, чтоб другие страдали из-за нее. Но в Раисе всегда светилась готовность помочь хорошему человеку, Ирина это видела, чувствовала и незаметно, неожиданно для самой себя стала делиться всеми сердечными невзгодами. Со временем ей уже казалось, что она обидела бы Раису, если б перестала посвящать ее в свои сокровенные думы. Рая тоже поверяла ей все свои мысли, и я временами опасался, как бы эта предельная откровенность обеим им не повредила. Успокаивала меня всякий раз вера в их деликатность и благородство.
Недавно Ирина почувствовала, что Юрий встречается с другой женщиной. Это было обидное чувство, затронувшее самые уязвимые струны души. Она постаралась избавиться от ревности, благо явных признаков измены не обнаружила: вечерами Юрий не задерживался, денег лишних не тратил. Однако прежнее ощущение вскоре вернулось и с тех пор уже не покидало Ирину. Больше того, день изо дня крепло, становилось явственнее, непреложнее.
Что же ей делать? Ей не нужны ни улики, ни раскаяния. Она полагала для себя унизительным сам разговор с ним об этом. Она, во всяком случае, не начнет его.
Ну а что же все-таки делать? Она просто-напросто не готова к такому испытанию, никогда за всю свою жизнь об этом не думала. Ждать, пока он начнет разговор? Дождаться, повернуться и уйти? А если он не начнет? Или начнет через год, через два? Нет, Ирина решительно не знала, что делать.
Иной раз мне казалось, что Рая может ответить на любой вопрос жизни. Ей это тоже казалось, но, выслушав Ирину, сдрейфила и она. Случись это не с Ириной, а с ней, она, наверное, нашла бы выход, но Ирина — не она, другой человек, другое воспитание. Едва Раиса заикнулась о других мужчинах, Ирина тотчас же ее перебила и поспешила высказать на сложный этот вопрос свою простую точку зрения. Когда бы она не была замужем, она, может быть, и не стала бы возражать против того, чтобы кое-кто из мужчин за ней поухаживал. Мужчины такие были и есть. Но она пока замужем и не может позволить себе такую роскошь. Ее не однажды называли старомодной, слишком щепетильной, но такая уж она уродилась. И не в муже дело, не в его ревности, а в самой себе. Она просто перестала бы себя уважать, это ей страшно. Человек не может жить без уважения к себе, а она должна жить, ей надо растить детей.
Так они ничего путного и не придумали. Раиса осторожно намекнула, что им мог бы помочь я, а мне в чужие семейные дела вмешиваться не хотелось. Однако, когда мы случайно встретились с Юрием в клубе, я вспомнил этот ее намек.
Юрий взял два крепких коктейля, быстрым взглядом оценил зал и направился к столику, за которым допивали кофе две околоклубных девицы. Я последовал за ним, хотя и был слегка озадачен: у окна поблескивал свежей скатертью никем не занятый стол. Юрий уловил мое недоумение и сказал, что стол у окна бережется для начальства. Он, наверное, не ошибся, и все же дело было не только в начальстве. Юрий тотчас же заговорил с девушками, едва мы уселись. Это были студентки, одну из них Юрий знал и, как мне показалось, покровительствовал ей. Девушки вскоре ушли, и Юрий раскрыл мне секрет: оказалось, он помог юной студентке сдать ответственный экзамен. Я усмехнулся: у самого были хвосты, а тут такая прыть.
— Чего не сделаешь для юных и красивых? — Он весело развел руками.
— Смотри, как бы то же самое не сделала Ирина, — сказал я в шутку.
— Ирина? А что Ирина? — Он был удивлен и испуган.
— Юными и красивыми могут быть не только студентки, но и студенты. — Я сделал вид, что не заметил его испуга.
— Да ты что, Федор, шутишь? — Эта мысль, должно быть, никогда не приходила ему в голову. — У нее же двое детей.
— А у тебя?
Понурив голову, Юрий молчал. Мне даже жалко его стало.
— Все это, конечно, шутка, — сказал я. — Ну, а если всерьез, то оба вы — молодые еще люди. Она даже моложе. На нее и юнцы заглядываются, и ровесники, не говоря уж о тех, у кого посеребрились волосы и кто видит ее истинную цену.
Юрий и сам не однажды ловил пристальные мужские взгляды, устремленные на Иру. Было в них удивление ее совершенством, откровенная зависть к нему, к Юрию, но ни разу не бросилась ему в глаза мужская похоть. Что-то в Ирине сдерживало даже циников. Юрий испытывал неизменную гордость от этих взглядов, не задумываясь о том, что в эти минуты чувствовала Ирина.
— Задал ты мне задачу… — сказал он задумчиво.
Мне показалось, что лучше всего сейчас оставить его с этой задачей наедине, и я распростился с ним.
Жизнь день ото дня набирала скорость и неслась так стремительно, будто ей приделали крылья. Время прессовалось на глазах и все чаще отсчитывалось не годами и не месяцами, а сутками, часами. Странное бывало ощущение: минуты иногда и тянулись, а годы — летели.
Убыстренный ритм становился хозяином не только в заводских цехах и служебных кабинетах, но и у домашнего очага. Телевизор внедрил суету в семейную жизнь. Реже и быстротечнее встречались друзья.
Раиса была одной из немногих, кому удавалось и педагогикой своей заниматься, и за домом следить, и друзей повидать. Время только крепило ее дружбу с Ириной. Иной раз, задержавшись у подруги, она начинала оправдываться: Ирине живется нелегко, ей нужны и совет добрый, и обыкновенная отдушина. Я на Раису не обижался: встречи с Ириной и по душе были ей, и шли ей на пользу.
Ирина не заводила больше речи о другой женщине, и сама собой погасла нужда в мучительных раздумьях о том, что ей делать. Однажды Раиса не вытерпела и намекнула подруге, что женское чутье тоже может подвести. Ирина не отвергла ее слова, но и не согласилась с ними. Сказала только, что месяца три у нее уже нет прежнего ощущения. Юрий стал мягче, внимательнее. К вечеру, как в первые годы, забегает к ней на службу, чтобы вместе ехать домой. Давненько он не баловал жену такой заботой. И с сыновьями вел себя ровно, по-мужски. Жизнь в семье Климовых вроде бы потихоньку выравнивалась, и Рая, а вместе с ней и я были этому очень рады.
Одно смущало Ирину: Юрий ни с того ни с сего начал ее ревновать. Взглянет на нее первый встречный мужчина — и взглянет-то из простого любопытства, как на афишу, — а Юрий уже нервничает, мрачнеет. На днях в кинотеатре, в очереди за билетами, едва не подрался с видным пожилым человеком. Мог быть скандал, если б она не вмешалась, а мужчина этот в отцы Ирине годился. Она не против ревности, было даже время, когда самоуверенное спокойствие мужа обижало ее, но всему должна быть мера.
Раису больше всего заинтересовала ревность Юрия, и она спросила, не я ли это постарался. Мне показалось, что в ее словах было не только любопытство. Года три назад, вернувшись из санатория, она поведала мне о своих поклонниках. Она так смешно и живо представила их, что я невольно заулыбался, а ей и нужна была моя улыбка: она, видимо, давно хотела поговорить об этом.
Сколько Раиса себя помнила, мужчины всегда благоволили к ней. Свою власть над ними она чувствовала даже в самом юном возрасте. Ей было лестно, изредка она давала ход этой власти, не задумываясь о последствиях. Однажды ожегшись, стала осмотрительнее. Успех у мужчин она объясняла своей недурной статью и привлекательными чертами лица, доставшимися от родителей. Поскольку собственных заслуг у нее пока не было, она полагала несправедливым пользоваться этим преимуществом и, когда приехала ко мне в Москву, вела себя на редкость просто, скромно, приветливо. Нашлись, однако, люди, посчитавшие ее простоту обыкновенным женским кокетством. Узнав об этом, Раиса была крайне удивлена. Из женского любопытства она попробовала похитрить с ними и пококетничать — это не шибко ей удавалось, — и тотчас же люди стали думать о ней иначе. «Это на Урале можно было играть и притворяться, — сказал почтенный муж ее институтской знакомой, — а в Москве надо быть собой, Москва верит естеству».
Мы посмеялись, позлословили, но радости не испытали. Зато Раиса извлекла себе солидный урок. Она не отказалась от своих прирожденных свойств, но когда приходилось встречать людей с обратным видением — их отчего-то становилось больше и больше, — Раиса помимо своей воли преображалась. В ход шли пустые улыбки, ничего не значащие слова. Теперь она, пожалуй, только со мной, с Ириной да с Аркадием Самсоновичем оставалась прежней Раисой.
— Я невольно сравнивала их с тобой, этих поклонников, — сказала она тогда, сдерживая улыбку. — Небо и земля. Радуйся.
— А если б было наоборот? — спросил я спокойно, слишком, пожалуй, спокойно, и это слегка обидело ее.
— Наоборот пока не было, — ответила она, — и, думаю, не будет.
— А вдруг?
Она, помнится, пристально на меня посмотрела и тихо, с легким укором выговорила:
К этому разговору мы не возвращались целых три года и, возможно, не возвратились бы, если б не вспышка ревности у Юрия. Раисе, я чувствовал, по душе пришлась эта вспышка, и мне ничего не оставалось, как признать свою причастность к ней.
— Ты просто молодец, — сказала она, оживившись. — Юрия твоего будто подменили. Образцовый муж. Не мог ли бы ты нечто подобное внушить себе?
— Чтоб было надежнее?
— И приятнее, — ответила она.
Что ж, придется внушать и себе, а заодно преодолевать новый барьер времени.
Более трех лет, пока я служил в Америке, о жизни Климовых приходилось узнавать лишь из писем Ирины к Раисе. Долгая разлука не притупила их дружбу, а наоборот, разожгла и скрепила. Другую подругу Раиса не могла найти во всей Америке. Они писали друг другу довольно часто, делясь самыми сокровенными думами. Ирина много и охотно рассказывала о сыновьях, а о муже от письма к письму — все меньше и меньше. Юрий по-прежнему оказывал ей все знаки внимания, но она теперь видела в них лишь привычку. Может быть, и милую, но привычку, не более. А в одном из последних писем поведала следующее: у нее с каждым днем крепло ощущение, что Юрий собирал эти знаки внимания, чтобы однажды, в подходящий момент, лавиной обрушить их на нее. Ирина даже в запальчивости не бросала слов на ветер, и это ее письмо повергло нас в уныние, в первую голову — Раису.
Любую незадачу Ирины мы принимали близко к сердцу, как если бы это была наша собственная.
— Ну и гусь этот твой Юрий, — говорила рассерженная Раиса. — Как ты думаешь, может быть, все-таки, другая женщина? Может быть Инесса?
Я пожал плечами, хотя это ощущение преследовало и меня. Сердце у Раисы было прозорливое, я убеждался в этом не однажды, подивился и теперь. Догадку свою она высказала довольно определенно, а я оттого и не делился своим ощущением, что оно было расплывчатым, смутным.
Возвратившись в Москву, Раиса на другой же день навестила Ирину. Сдержанная, немногословная, Ирина на этот раз расчувствовалась и разговорилась.
— У нас что бы ни случилось, мы у себя дома. Свои стены, свой воздух. Дети помогают, мама, друзья. Прошел вчера дождик — и на душе легче. Утром включила приемник — полились волжские мелодии, вспомнила вас с Федором — и сама запела. А вот вы как там, в этой Америке? Речь чужая, облака чужие, вся жизнь чужая. Будто на иной планете. Представить себе не могу, как бы я там обитала. Что мои горести в сравнении с этим?
— Горести твои тоже не шутка, — сказала Раиса. — Мы с Федором…
— Конечно, не шутка, — перебила Ирина. Ей не хотелось ни жалости, ни утешения. — Но я уже спокойна. Все перегорело. Могу расстаться хоть сейчас. Не знаю только, как мальчишки посмотрят на это — главная моя забота.
Раиса почувствовала сердцем: женская разумность обрелась Ириной нелегко, но все же обрелась в неравном противоборстве с эмоциями, и это вселяло надежду на то, что трагедии не будет. Дело теперь в сыновьях. Раиса, пожалуй, только сейчас ощутила взрывную опасность неведомых и непредсказуемых зигзагов детской души. Едва Ирина успела высказать Раисе свою материнскую боль, как в комнату ворвался Дениска, худой долговязый пятиклассник, только что вернувшийся из школы. Увидев Раису, он смущенно поздоровался, поздравил ее с приездом и тотчас же спросил:
— А папа еще не пришел?
— Пока нет, — ответила Ирина. — Он тебе нужен?
— Да. Я хотел ему сказать, что спорил вчера напрасно. Петька этот и в самом деле негодяй… Но и папа был не совсем прав…
— Он скоро придет, вот и объяснитесь. Я думаю, сегодня вы найдете общий язык.
Денис вышел, а подруги, переглянувшись, надолго умолкли. Как тут решишь без сыновей? Хочешь — не хочешь, а их слово будет главным.
— Так поглощен этим спором, что забыл даже поинтересоваться Америкой, — тихо посетовала Ирина. — А ведь то и дело расспрашивал, вместе со мной ждал писем.
Раисе было не до Америки. Ирина готова расстаться с Юрием хоть сейчас. Готов ли Дениска? Не будет у него споров с отцом, не будет вопросов: «Папа дома?», «Папа еще не пришел?» А как мальчишке без вопросов, без мужских споров?
Домой Раиса вернулась удрученной.
В клубе на меня вихрем налетела Инесса. Бросилась на шею, расцеловала.
— Моряк! До сих пор моряк. Как там Америка?
— Живет, плавает, — ответил я.
— По каким же морям-океанам? — Она шагнула назад, еще раз оглядела меня. — Не зря все-таки мы на тебя зарились. Кофейку не выпьем?
Я охотно согласился, и беседа наша пошла на лад. Вспомнили, конечно, альму-матер — это всегда молодит душу, — поговорили о друзьях-товарищах, но про Америку Инесса не забыла.
— По каким же все-таки морям они плавают? — повторила она свой вопрос.
— Морей у них много, — ответил я. — И тихих и бурных.
— Что тебя больше всего удивило?
— На этот раз, пожалуй, разгул секса. Море секса.
Мои слова не произвели на Инессу ни малейшего впечатления. Она спокойно выслушала, улыбнулась едва заметно.
— Одних, поди, женщин голеньких демонстрируют. Какой же это секс? Это полсекса. Нашей сестре и полюбоваться нечем. И здесь бедных женщин обошли.
Я невольно рассмеялся, хотя вовсе не был уверен, что Инесса шутила.
— Не так, что ли? — Она меланхолично усмехнулась. — Куда ни глянь — кругом дискриминация. Предлог, конечно, самый благородный — прекрасный слабый пол, любовь к нему, забота, — а суть все та же: мужик хозяин, баба на подхвате. Что в Америке, что у нас.
— Неужели и ты на подхвате? — спросил я удивленно.
— Всю жизнь! — залпом выпалила Инесса. — Всю-ю жи-изнь — представляешь? В школе была старостой, — вроде бы вла-асть! — а помыкали мною кто хотел. В вузе ходила в комсоргах — тоже как будто не последняя скрипка — одни побегушки, только и слышала нарекания. Выскочила замуж, служить пошла, думала — простор откроется… — Она привычно усмехнулась. — Вместо простора кабала припожаловала. И дома и на службе. О муже я тебе как будто рассказывала. Не приведи бог сидеть дома долгими вечерами и в тревоге, в одинокой тоске ждать своего благоверного. В голове мельтешат самые горькие мысли, одна горше другой, не мысли — сплошная отрава. Долго этих мук не выдержать, можно потерять рассудок. Представь себе: в полночь или заполночь является суженый. Боль поначалу выпустит из своих лап измученное сердце — слава богу, жив, руки-ноги целы, голова на плечах, — потом опять заберет в свои клещи: видеть красивого мужчину, потерявшего человеческий облик, тяжко, а если он и муж, да вроде бы еще любимый, — мучительно, нестерпимо. На глазах рушилось и неведомо куда уплывало самое хрупкое и самое дорогое чувство. Пуще огня боялась, как бы это чувство не обратилось в ненависть и не перешло на ребенка, которого я уже носила и трепетно ощущала. Чтоб избежать этой страшной беды, я решилась на разрыв.
Я не вытерпел и спросил, что сталось с ее бывшем суженым. Ответила она не сразу и не легко. Заставив себя улыбнуться, она отпила глоток пахучего коньяку, для чего-то запила холодным кофе и вымолвила едва слышно, что муж ее бывший давно уже не пьет, стал большим начальником, завел новую семью. Изредка заезжает к сыну, благодарит Инессу за твердость: когда, бы не решительный ее шаг, всколыхнувший все его существо, мог бы окончательно погибнуть.
Глядя в ее удрученные глаза, я подумал, и чем дальше, тем более уверялся, что в то время одного решительного шага с ее стороны было, пожалуй, маловато. Любви бы побольше да терпенья женского. Она угадала мои мысли, в душе, возможно, и сама так полагала, но сейчас, в эту минуту, ей, видимо, не хотелось, чтоб я так думал и она не нашла ничего лучшего, как перевести разговор на стезю служебную.
С первых рабочих шагов ей повезло; так, во всяком случае, ей казалось. Почти все ее материалы с ходу шли в номер и на летучках отмечались в числе лучших. В пеструю редакционную дружину она вроде бы вписалась сразу же, во всяком случае, оба главных начальника твердили ей об этом едва ли не каждый день. Правда, коллеги-ровни с похвалами не торопились, как не спешили распахивать перед ней свои души, хотя были с ней ласковы, приветливы и предупредительны. Почти целый год она терялась в догадках, потом ее осенило: коллеги видели в ней перспективную работницу, начальники же — смазливую молодую женщину.
Со временем Инесса смирилась со своим положением, даже стала откровенно гордиться им. «В жены берут кротких и благодетельных, а в ближайшие подруги…» — не раз говаривала она своему окружению. Да, да, было у нее и окружение, которое не требовало разжевывания, а схватывало все с полуслова. Одна язвительная девица из отдела писем ответила ей на это: «Зато жены вечны, а ближайших подруг меняют…» Инесса, может быть, и обиделась бы, и отомстила бы ей за дерзость, когда бы не чувствовала охлаждения черноусого шефа и когда б собственными глазами дважды или трижды не поймала его совсем недвусмысленные взгляды, устремленные как раз на эту самую голенастую девицу из отдела писем.
Взвесив свои и ее достоинства, не забыв положить на весы изменчивые чувства и решительный характер шефа, Инесса принялась искать себе новое место. И не столько, пожалуй, место, сколько подходящего начальника. Она еще была красива, молодой румянец поигрывал на ее лице, и поиски оказались недолгими.
Новый шеф был постарше и поумереннее, зато очень уж он пришелся по душе сыну Валерке. Добрый, веселый, остроумный, он прибавил к ее жизни естественную улыбку и похвальную привычку думать о жизни, о людях, отыскивая и оберегая в первую голову интересное, талантливое, разумное. Когда она узнала его поближе, то поняла, что с ним не надо было притворяться. Может быть, впервые в своей жизни она узнала, что такое полная внутренняя свобода и надежная защищенность. Лучшего мужа она не могла себе представить, но из-за его больной жены официальный союз с ним был невозможен. Он, конечно, не мог, никак не мог оставить жену, это было против его совести, против всего его существа. Инесса все понимала, жалела, что жизненные обстоятельства складывались не в ее пользу, но изменить что-либо не могла.
В последние месяцы она чувствовала особое внимание Юрия Климова. В студенческие годы она была в него влюблена, а он тогда и не догадывался об этом. В ней и теперь теплится то давнее светлое чувство, что будоражило и окрыляло ее. Когда б не оно, разве бы она прощала Юрию его пьяные выходки? Чтоб не выглядеть мерзко перед женой, он приезжал отсыпаться к ней, к Инессе, и она терпела, мирилась с этим.
Первое чувство, какое она испытала, увидев Ирину Вожевицкую, походило больше всего на зависть. Ей нравились черные волосы Ирины, тронутые поспешной сединой, нравилась глубокая посадка глаз, светлых, лучистых, чем-то постоянно изумленных. Невольно привлекали внимание свобода, естественность и удивительное соответствие речи и жестов.
Знала Инесса, прекрасно знала и свою цену, и цену Ирины. Была достаточно умна, чтоб не обольщаться на свой счет. И все же…
Не так давно, расхвалив Юрию по всем статьям его собственную жену, она не без умысла упрекнула его в элементарном невнимании к Ирине. В ответ она услышала нечто необычное: «Скульптура, памятник. Ты не пробовала жить с памятником?» Немножко позже она узнала, что эти слова принадлежали известному московскому поэту, а в ту минуту она была ошарашена и восхищена. Поняла: кроме изящества, тонкого ума, чувства меры бывает еще изюминка, против которой и стойкому мужчине устоять нелегко. Инесса подумала, что бог не обидел ее этой изюминкой, на нее и уповала, полагая, что зрелый мужчина не может не оценить это достоинство. Она теперь точно знала, что влекло к ней Юрия. Одного не могла понять — почему он медлит, почему ждет чего-то.
Неужели она переоценила свою изюминку?
Вопрос свой она повторила мне дважды, и оба раза я промолчал. Если б дело касалось меня, я, должно быть, ответил бы сразу, хотя говорить неприятные слова да еще красивой женщине-однокашнице никому, конечно, не хочется. Но от меня, как я понимал, ожидался ответ за Юрия, и тут я, разумеется, не мог вымолвить ни слова даже красивой женщине. Нежданно обрушилась на меня незнакомая жизнь вроде бы хорошо знакомой женщины, и я едва поспевал усваивать ее зигзаги. В редкие минуты, когда я мог хоть чуть-чуть поразмыслить, на ум мне приходила Раиса с ее завидным женским чутьем. Она едва глянула на Юрия и на Инессу и сразу же узрела прямехонькую нить, протянувшуюся меж ними. Ей не удалось углядеть, из чего и как эта нить скручена — из хлопка, из шерсти или же из искусственного волокна, входившего в моду, с первого взгляда это, наверное, и не разглядишь, — но она простым глазом обнаружила то, что я не увидел бы и в троекратный бинокль.
Мое молчание Инесса поняла по-своему. Допив остывший кофе, она мило улыбнулась и еще милее повела глазами, напоминая о позднем часе.
На улице посвежело, Инесса крепко взяла меня под руку, и вскоре мы примкнули к очереди за такси. Нам повезло: большая компания молодых людей, стоявшая перед нами, умудрилась вместиться в две машины, подкатившие одна за другой. Не замедлила подойти и третья, наша. Инесса жила неподалеку и почти по пути, и мы условились, что я ее подвезу. На повороте ее изрядно бросило в мою сторону, на мгновенье она всем телом прильнула ко мне — может быть, чуть дольше, чем на мгновенье, — и сразу же отодвинулась. Я, конечно, почувствовал это ее движенье, как, разумеется, и то, первое, хоть оно и длилось самую малость, но взял себя в руки и виду не подал, так было лучше — по крайней мере, для меня.
Это слегка озадачило Инессу, однако не такой она была человек, чтоб сразу же отступать. Не утруждая себя раздумьями, она крепко прижалась к моей руке, склонила на плечо голову. Я слышал ее сердце, оно билось гулко, торопливо.
— Может быть, зайдешь? — спросила она за миг до того, как машина остановилась у ее подъезда. Голос ее был глуховат, прерывист, возможно, поэтому ее слова произвели впечатление.
Да-а, непростую задачу преподнесла мне Инесса на прощанье. Друзья мы давние, час вроде бы еще не поздний, можно бы и заглянуть на минутку. Не было бы никаких хлопот, когда б в машине продолжался откровенный дружеский разговор, начатый в клубе. Но разговору, видимо, пришел конец, и очень жаль, что я не смог определить это заранее. Но и несчастную красивую женщину не хотелось обижать.
На помощь пришла сама Инесса, ее предельная откровенность.
— Я сегодня одна, сынуля мой у бабушки, — сказала она, глядя на меня выжидающе.
Но теперь мне было уже легче.
— Ты хочешь, чтоб мы перестали быть друзьями?
— Так я и знала! — воскликнула Инесса и довольно громко расхохоталась. Ее смех радости мне не доставил, но это, наверное, было лучше, чем вериги самых непредвиденных последствий.
— До встречи, праведник! — Она с трудом уняла свой нервный смех, протянула руку. — Придет время — будешь раскаиваться.
Может быть, и буду, подумал я. Но не теперь, не сейчас.
Пока рядом сидела Инесса, я думал о ней. Не мог не думать. Теперь же глаза мои и мысли обращены были к водителю, юному пареньку с веселым задиристым взглядом. Для Инессы паренек не существовал, она его не замечала, а я все время чувствовал его глаз. Прощаясь, я пожелал ему доброй ночи. Он поблагодарил и, как бы спохватившись, заулыбался:
— Что-о же вы, пассажир? Такой ка-адр!
Раиса приняла мой рассказ о встрече с Инессой спокойно, слишком, пожалуй, спокойно, я даже слегка съязвил по этому поводу.
— Все равно не напугаешь, — ответила она. — Если я хоть что-либо в жизни понимаю, опасаться за тебя нечего. Мне ты, может быть, и изменил бы, а вот себе… себе не изменишь. Тут мы с тобой схожи.
Это она точно сказала. И дело таилось не только в понимании жизни, у нее был особый, прямо-таки всевидящий глаз. Чтобы не возбудить у нее неприязни к незадачливой Инессе, я в своем рассказе сознательно упустил две или три подробности, не менявших существа дела. Раиса не подала виду, но наверняка догадалась о моей хитрости. Возможно, даже оценила.
— Ты судишь о людях по себе, — сказала она ни с того ни с сего, — а они хуже тебя. И хитрость пускается в ход, и лицемерие.
— Какая же у Инессы хитрость? — возразил я. — Вся нараспашку.
— Инесса несчастный человек, — сказала Рая, уходя от прямого ответа.
К концу нашего чаепития позвонила Ирина. Раиса слушала ее озабоченно и почти безмолвно. Что-то серьезное, худое, видать, произошло — Раиса даже в лице изменилась. Утешив подругу тем, что определенность, какой бы она ни оказалась, всегда лучше вязкой неизвестности, она обещала завтра же утром навестить Ирину, чтоб вместе обдумать предстоящие нелегкие шаги.
— Что у них? — спросил я.
— Несчастье, — ответила Рая. — Расходятся. Юрий твой преподобный закатил скандал и исчез.
— Может быть, вернется?
— Ирина не хочет, чтобы он возвращался.
Было уже поздно, завтра нас ждала работа, но сон не шел — судьба Климовых будоражила нас обоих.
— Может быть, и к лучшему, — сказал я. — Помнится, ты давно об этом говорила.
Раиса отодвинула телефон, встала, раскрыла окно.
— Говорить можно все. — Она сокрушенно вздохнула. — А как ребята, Дениска?.. До чего ж все-таки судьба несправедлива… Кто-кто, а Ирина больше всех достойна счастья. Добра, умна, красива. Разве твой Юрий пара ей? Ей, может быть, один ты пара на всем белом свете. — Она подошла к моему креслу, села на подлокотник. — Только разве я тебя отдам? Даже ей, Ирине, не отдам.
На другой день Раиса поведала мне все подробности.
Юрий пришел домой раньше обычного и был отчего-то явно не в духе. Пнул высунувшиеся из калошницы тапочки, хотя они ему не мешали, сердито бросил на диван пиджак, расстегивая рукав рубашки, оторвал пуговицу.
— Бабушка приготовила вкусные котлеты, — сказал наблюдавший за ним Дениска. — Разогреть? Свежие помидоры есть, узбекские. Больши-ие, кра-асные.
— А мать где?
— Мама еще на рабо-оте, — ответил Дениска, удивленный словами отца. — У нее сегодня несколько важных поручений. Да ей еще и законных минут сорок трудиться.
— Тоже мне защитник нашелся, — буркнул недовольный Юрий.
— А отчего бы и нет? Разве не ты меня этому учил?
— Научил на свою голову. — Юрий снял рубаху и швырнул ее на диван, к пиджаку.
В последнее время Денис все меньше и меньше понимал отца. То, что раньше они оба полагали недостойным и недозволенным, сейчас преподносилось отцом как необходимое и закономерное, а доброе и само собой разумеющееся по разным причинам высмеивалось и отвергалось. Денис пытался спорить с ним, доказывать обратное, — нередко его же собственными словами, извлеченными из свежей кладовой памяти, — но все было бесполезно: отец упрямился, не замечая возраставшего упрямства сына. Не понимал сын отца и сегодня, но сейчас он не хотел спора, видел, что отец отчего-то не в себе.
— Я подогрею котлеты, ладно? Очень уж хороши. Поешь и повеселеешь.
— Одному мне, что ли, ужинать?
— Я тоже с тобой поем.
За ужином Денис попробовал заинтересовать отца разговорами о школе, о молоденькой учительнице истории, запросто доказывавшей всему классу, что дважды два не четыре, а пять, и тем самым сразу же снискавшей себе признание и даже почет. Юрий долго молчал, без нужды пережевывал котлету, потом изрек озабоченно:
— Этак она вам всю историю поставит с ног на голову.
— Ну и пусть, — ответил Денис. — Лишь бы интересно было да убедительно. Самое последнее дело, когда учителю веры нет.
— И такие есть учителя?
— Сколько угодно. Хуже всего, когда поначалу веришь, а потом… И больно и обидно. Будто обворовали тебя среди бела дня. И не пустяк какой выкрали, не самописку, не нож перочинный… Словом, хуже не придумаешь.
— Хватит! — Юрий стукнул ладонью по столу. — И здесь поработали на славу.
Сын пожал плечами и молча стал убирать со стола. Что происходит с отцом? Отчего он не хочет понять самых простых вещей? Было время, когда он понимал все на свете. Понимал, чувствовал, и все было как нельзя лучше. Веселые шутки, добрые улыбки, даже лютый мороз не покушался на семейное их тепло. Возможно, у матери с отцом и бывали споры-раздоры, но он, Денис, не ведал о них и не думал. Взрослые люди вроде бы сами должны в своих делах разбираться, ему и собственных забот хватает, школьных, спортивных, успевай только поворачиваться. Но, видно, и ему при случае придется сказать свое слово, в кусты прятаться он не привык. Жаль, что нет дома старшего брата, вдвоем они что-нибудь обязательно придумали бы. А может быть, и хорошо, что его нет дома… Слава богу, мать стала спокойнее, вся его забота о ней, о матери. Отцу, наверное, тоже нелегко, не зря он весь извелся, по каждому пустяку выходит из себя, но он мужчина, ему сам бог велел быть сильнее.
Ни слова больше не сказал сын отцу, опасаясь взбудоражить его. В другой раз Денис вряд ли стал бы так долго играть с отцом в молчанку, но сейчас его тревожило недоброе предчувствие. Он не заметил, как оно вселилось в него, но оно вселилось и, казалось, успело даже обжиться. Взрослые нередко друг другу советовали не испытывать судьбу — он слыхал это не однажды и даже читал недавно в какой-то книге, — не будет шутить с судьбой и он.
Мать задержалась дольше, чем Денис мог предположить. Время ожидания тянулось мучительно, отсчитывалась едва ли не каждая минута — хуже, чем на самом скучном уроке. Хорошо бы сейчас с отцом о чем-нибудь поговорить — о рыбалке, о походе в лес по грибы, он это любил, — но отец, кажется задремал. Может быть, и хорошо, что задремал: он и с рыбалки мог моментально перескочить на свои обиды, которые сын был не в состоянии уразуметь, как ни старался.
Замок в двери щелкнул в ту минуту, когда Денис внимательно разглядывал в шкафу корешки книг, пытаясь отыскать что-нибудь сверхсмешное. Мать вошла усталая, с двумя тяжелыми сумками. Денис кинулся к ней, взял сумки, отнес на кухню. А мать опустилась в кресло и, положив руки на колени, закрыла глаза.
— Замучилась, ма-а?
— Немножко.
— Ничего себе — немножко. Едва дышишь.
— Что-о ты! Женщины — народ живучий. Две минуты — и приду в себя.
В прихожую почти неслышно вошел отец. Мать, конечно, почувствовала его шаги, но глаз не подняла. Денису казалось, что она их и поднять не сможет из-за усталости.
— Может быть, объяснишь столь позднее явление? — спросил отец спокойным ледяным голосом. Часа два назад все в нем клокотало, а тут не дрогнул ни один мускул. Денису это было не по душе, и он насторожился.
— Сейчас, Юрий, — ответила мать, не поднимая глаз. — Дай чуть-чуть отойти.
— Не хватало мне еще любоваться на пьяную жену, — сказал отец.
— А отчего бы и нет? — По лицу матери пробежала едва заметная улыбка. — Я же пьяным мужем любовалась, и не однажды. Теперь полюбуйся ты.
— Этого не будет!
— Правильно, не будет. Оттого не будет, что пьяной я никогда не была и быть не собираюсь. — Мать открыла глаза и устало, с горечью оглядела отца. — Ищешь ссоры?
— С гулящими женщинами ищут не ссор, — ответил отец.
— Это я-то гулящая? — Мать невольно усмехнулась.
— Отец, я прошу тебя взять свои слова назад, — сказал Денис и шагнул к нему — бесстрашно и задиристо. — Взять назад свои мерзкие слова и немедленно извиниться.
Юрий не ожидал такого поворота и поначалу даже оробел. Не мог предположить у сына такой прыти. Оглядел его с головы до ног — вид у сына был немножко смешной, петушиный, но довольно решительный, — и робость сменилась любопытством. Давно ли был пацан хилый, тростиночка, едва державшаяся на ветру, а теперь… Спорт свое дело делает, через год-полтора и не справишься.
— Я требую, отец. — Сын тряхнул головой. — Вспомни, чему ты меня учил.
Юрия охватил гнев. Дерзость сына была, может быть, и понятна, но обидна. «Не иначе, как женское наущенье», — подумал он. Вспомнить же о том, чему сам учил сына, Юрий не захотел.
— Ты говори, да не заговаривайся, клоп. Молоко на губах не обсохло, а уже с требованиями…
— Может быть, и не обсохло… Я не стыжусь, это молоко матери. — Денис едва сдерживал себя. — Ты оскорбил меня, я прощаю тебе, ты мой отец, родителей не выбирают. Но ты оскорбил мою мать, и я прошу, я требую…
— Заткнись, я разговариваю не с тобой.
— Не извинишься?
— Никогда.
Не успело это жестокое слово раствориться в мягком полумраке прихожей, как раздалась хлесткая пощечина. Сын ударил отца. Невероятно, немыслимо!
С минуту по прихожей плыл отзвук пощечины. Это была страшная минута, и длилась она очень долго. Растерялись все, а больше всех, пожалуй, Денис. Он хотя и хорохорился перед отцом, ссылаясь на его поучения давать сдачи и по-мужски платить за оскорбления, а в жизни своей всерьез никого не ударил. Отец был первый: это ли не ужас? Но Денис раньше всех и опомнился.
— Пойдем, мама, разбирать твои тяжелые сумки, — сказал он. — Прости, отец, по-другому я не мог.
Он подошел к матери, помог ей подняться, и они вместе двинулись на кухню.
Юрий же возвратился в комнату, не спеша оделся и тихо вышел.
На кухне тоже было тихо, мать и сын смотрели друг на друга молча. Когда в прихожей едва слышно щелкнул замок, Ирина встала, подошла к сыну и притянула к себе его чубатую голову.
— Все бы, сынок, ничего, — сказала она печально, — да тебя вот жалко. Без отца теперь останешься.
Сын прижался к ней и ответил, что все эти минуты думал не о себе. Сам-то он не пропадет — какой-никакой, а мужчина, — а вот каково ей будет без мужа?
Через час позвонил Юрий и довольно спокойно сообщил, что жить он так больше не может и что на днях намерен подать заявление о разводе.
Ирина ответила согласием.
В суете и в заботах я довольно долго не мог повидать Юрия. А повидать хотелось, тревога за его судьбу не оставляла меня. Издали я раза два мельком видел его, и он вроде бы замечал меня, а встретиться и поговорить не удавалось. Мне даже казалось временами, что он избегал встреч со мной.
Однажды в клубе мы столкнулись лицом к лицу, и деваться ему было некуда.
— Кофейку не хочешь? — спросил я.
— Можно и кофейку, — ответил он.
В клубе он был свой человек, и нам не составило труда заполучить столик в углу на отшибе.
— Судить будешь? — спросил он, трусовато оглядываясь по сторонам.
— Судить? Я похож на судью?
— Может быть, и не похож, — ответил он, успокоившись, — только ведь другого-то судью мне и на дух не надо. Не потерплю. — Он сидел прямо, уже полный важности и достоинства, а слова его — вроде бы даже сердитые и колючие — так и кланялись мне, так и кланялись. Неведомо только зачем. Подыграть? Задобрить? Неужели он забыл, что это бесполезно?
Может быть, и мне ответить ему тем же? Переменился Юрий, заметно переменился. Хитрит, играет, с друзьями это вроде бы ни к чему.
— Сам себя суди, если есть желание, — сказал я. — Кто ж еще осудит строже?
Он поднял на меня пытливые веселые глаза: видно, слова мои пришлись ему по душе.
— В том и вся суть, что нет у меня такого желания. Зачем казнить себя, когда и без суда хорошо?
— Хорошо? Ты уверен?
Спросил я и сразу раскаялся: судить вроде бы отказался, самому Юрию право предоставил, а уже сужу. Разве вопросы мои не суд?
— Может быть, и не уверен, — медленно ответил Юрий, усмехнувшись. — Хорошо, и ладно. Начнешь искать веру — всю радость растеряешь.
— Радость, конечно, лучше бы не терять…
— Знаешь, Федор, ни упрека тебе, ни нотаций… — Он оживился. — Придешь домой вовремя — хорошо, задержался где-либо — тоже не беда. И стол накрыт, и рюмку подадут. Причем с улыбкой, с добрым сердцем. Чем не жизнь? — Ему, видимо, и в самом деле нравилась такая жизнь. Стол, рюмка… Устает, наверное, на своей хлопотной службе. — Понимаешь, без особых причин и задерживаться-то нигде не хочется. Завершил трудовой день и — домой. Отойдешь малость от суеты и беготни, телек посмотришь… И никто с ехидцей не спросит, осилил ли ты Монтеня или Ларошфуко, никто не установит срок, когда тебе прочесть философа Федорова или историка Соловьева… Живут нормальной жизнью, знают свое место.
— Что за место? — спросил я.
— Как тебе сказать… Понимают, что ты мужчина, что приличные деньги пришли в дом, порядок установился…
— А Ирина не понимала?
— Может быть, и понимала… Только у нее другое было на первом плане. Блок, Гегель, Есенин…
— Разве это плохо?
— Совсем неплохо, когда в меру. Представь себе: прихожу усталый, голодный, а она вместо того, чтобы с ужином поспешить, подвывает как раненая волчица:
Я умываюсь, ужина прошу, а она:
Высмеивая Ирину, он тоже подвывал, и лицо его от строки к строке все больше и больше свирепело. Я не выдержал и рассмеялся: видно, она допекла его Блоком.
— Тебе смех, а мне горе горькое. Злому недругу не пожелаю.
— Но теперь это в прошлом…
— Теперь-то в прошлом, а как вспомнишь… — Он сделал вид, что не заметил моей иронии. — Прошлое… оно не сразу отпускает.
Не сразу, это верно, подумал я. Как верно и то, что прошлое прошлому рознь. Позади у Юрия фронт, Ирина, сын. Все предельно честное и порядочное. Кто сможет заменить ему Ирину, эту чистоту и обаяние, трепетность и благородство? Чем же он собирается жить? Рюмка водки и вкусный ужин, пусть даже с приветливой женской улыбкой — не маловато ли для жизни?
— Боюсь, что твое прошлое не скоро тебя отпустит, — сказал я. — Что ни говори, а лучшие годы.
— Я тоже боюсь, — согласился Юрий. — Даже не боюсь, а знаю, чувствую.
— А когда уходил, тоже чувствовал?
— Может быть, и чувствовал, да вгорячах плохо соображал.
Вот он весь Юрий. «Вгорячах плохо соображал». Случись все это сейчас, сию минуту, он поступил бы, разумеется, по-другому. Я мог поручиться своей жизнью: сейчас он из семьи не ушел бы. Не ушел бы, да какой толк говорить сейчас об этом. Задним умом все мы богаты, а исправить уже ничего невозможно.
Когда моя жена поведала мне историю его мерзкого ухода, я был вне себя от ярости. Мне удалось это скрыть, даже проницательная Раиса, кажется, ничего не заметила. Если б в ту минуту подвернулся под горячую руку он, Юрий, я, конечно, не удержался бы и разнес его в пух и в прах. Назвал бы его самыми последними словами и был бы абсолютно прав, потому что вел он себя постыдно, отвратительно. Заранее про себя все решил, подкараулил случай и подло свалил все на Ирину. Не постеснялся даже сына Дениски. Как это неблагородно, не по-мужски. Решил уходить — уходи, но уходи порядочно, не оскорбляя женщину, жену. Да еще какую жену!
Даже сейчас, едва все это вспомнив, я вновь вознегодовал, и успокоить себя стоило немалых усилий. Но сейчас я бранных слов говорить Юрию не буду, они ни к чему. Юрию, пожалуй, даже легче было бы от бранных слов, он мог посчитать их за наказание и за отпущение греха. Ему гораздо тяжелее и полезнее спокойный разговор без брани и без обличительных судейских нот.
Я убедился, что в самом начале взял с ним верный тон, так, очевидно, надо и продолжать.
В дверях показалась встревоженная Инесса. Ей потребовалось одно мгновенье, чтоб проницательным женским чутьем обнаружить нас среди доброй сотни жующих и отхлебывающих и безошибочно, совсем на нас не глядя, направить свои стопы прямехонько к нашему столику. Юрий сидел к двери спиной, ничего этого не видел, а я… А я уже вставал и отодвигал ей кресло за нашим столиком.
— Я через дюжину стен прозрела вас за этим столиком! — воскликнула она с обычной своей рисовкой.
Юрий нахмурился и даже не взглянул на нее.
Веселость ее была напускной. Она, конечно, догадывалась, о чем у нас шла речь, оттого и зоркости прибавилось, и расторопности. Долго таить свою тревогу она не могла, недоставало терпения.
— Что у вас на душе: бог или дьявол? Отвечайте прямо, мужчинам лукавить не пристало.
— Да нет, скрывать нечего. Мы же друзья давние. Речь шла о том, что все мы пленники своего времени. Одни больше, другие меньше. Времени неподвластны разве лишь гении. Не знаю, как вы, а я, к примеру, не могу, никак не могу представить свою судьбу без военных лет. Я был бы не я и без наших студенческих лет. Скажу больше: не вижу себя и без тех лет, которые хорошо ли, худо ли прожиты вместе с Раисой. Ничего этого у нас не отнять, это наше богатство. Выходит, не так уж и плох этот наш плен.
Инесса рванулась что-то сказать, но заметным усилием воли остановила себя. Взгляд ее буравил то Юрия, то меня, в руках слегка подрагивала сигарета. Она и верила нам, и не верила. В глубине ее женской души таилось и не давало покоя подозрение, что за туманным временем и не менее туманным пленом скрывалась самая что ни на есть живая, красивая, с тонким изящным умом Ирина, которой она, Инесса, по собственным словам, не годилась в подметки.
— А у меня богатства немного, — тихо сказала Инесса. — Не сложилось богатство. А если и было что — растеряла.
— Это как посмотреть, — возразил я, хотя Инесса сейчас, пожалуй, не лукавила. Хорошо, что она сдержала себя и обошлась без упреков. — Никогда не поздно обратить потери в богатство.
Инесса встрепенулась. Она ждала таких слов. Не очень в них верила, но ждала.
— Это ты серьезно?
— Конечно.
— А что для этого нужно?
— Мудрость.
— А что нужно, чтоб не терять богатство? — Это спросил Юрий. До сей минуты он мрачно молчал, уставив недобрый взгляд в пустующее кресло. — Тоже мудрость?
— Тоже мудрость, — ответил я спокойно, не обращая внимания на его колючий вид.
— Сокра-ат! — Юрий усмехнулся. — У тебя и лоб сократовский. — Он был раздражен: приход Инессы помешал ему выговориться. — Одно, пожалуй, отличает вас друг от друга: великий грек не был столь наивен.
— Не скажи-и! — возразил я. — На мое разумение, мудрость у этого грека от наивности и пошла. У них же одна праматерь — доброе сердце.
Мои собеседники слушали меня на редкость ладно: усмешка в глазах Юрия исчезла, у Инессы скопилось полсигареты пепла. Слушали они и, как мне казалось, внимали. «Не поздновато ли внимать?» — подумалось мне, но сомненье это я тотчас же отогнал прочь.
— Хитрый человек мудрецом не станет, — продолжал я. — Хитрость идет от ума, от извилин, а мудрость — прямиком от сердца.
— Без хитрости нынче не проживешь, — буркнул Юрий. — Времена такие. — Слова эти он предназначил не столько мне или самому себе, сколько Инессе, чтоб уязвить ее за непрошеное вторжение в мужской разговор, но Инесса ответила на них по-своему.
— Времена здесь ни при чем, — сказала она решительно. — Добрый человек — всегда добрый. А на времена кивают слабые люди. Такие, как мы с тобой, — отбрила она Юрия. — Прав Федор: хитрость не мудрость. Не знаю как кому, а мне, к примеру, смелости надо побольше, чтоб сердце свое слушать. Только сердце. — Последние слова она произносила с глухим придыханием, выделяя их и давая понять Юрию, что относятся они скорее к нему, чем к ней, и что за ответом она в карман не полезет.
Суть была, конечно, не в том, кто из них кому как ответит. Ответ — это слова. Самое главное, надо полагать, — любовь. Если она у них сохранилась. Если она у них была.
Но я все же ждал, я хотел, чтоб мой друг ответил Инессе. Мне это было важно. Молчание, конечно, тоже было ответом: не хотел он, видно, говорить с Инессой ни о сердце, ни о смелости, а если б заговорил начистоту, если б осмелился заговорить начистоту, это была бы речь. Речь едкая, запальчивая, не пощадил бы в ней ни Инессу, ни самого себя. Но Юрий уже давненько, пожалуй, со студенческих времен, речей таких не произносил. Губы у него подрагивали и слегка кривились, в прищуренных глазах таился немалый заряд энергии — мог и речью громовой разразиться. Ну-у-ка. Напра-асно. Раньше силовые заряды тратились на дело, на жизнь, а теперь, похоже, на тормоза. Без добротных тормозов не умолчать бы ему сейчас.
Я уже видел подобные эволюции, видел не однажды, а до корней их докопаться не мог. Может быть, поэтому и смотрел на Юрия с тоскливым любопытством. Не без тревоги следила за ним Инесса.
— Слова, слова… — произнес он хриповатым голосом. — Что в них толку? Слова — одно, жизнь — другое.
— Это точно! — шумно поддержала его Инесса, смягчая свои слова о смелости и о сердце. Глянув одним глазом на меня, добавила с хитроватой усмешкой. — Про себя сказал. Это его каждодневный принцип. Не припоминаю случая, чтоб Юра сдержал свое слово.
Юрий улыбнулся. Свою необязательность он, видимо, не считал большим грехом, а Инесса, зная это, подыграла ему. Одно, пожалуй, Юрию невдомек: эта его улыбка свела на нет всю тираду о слове и жизни. А впрочем, всерьез ли была эта тирада? Не очередные ли словеса?
Интерес мой и к Юрию и к Инессе слабел с каждой минутой. Без особой надобности был им, конечно, и я. Ну, учились вместе, ну, дружили… Это когда все происходило? В какую эру? Дороги давно разошлись, не знаешь даже, о чем говорить…
Инесса вдруг уставилась на Юрия. Спокойная улыбка обозначилась на ее лице и придала ему таинственную мудрую мягкость.
— А ведь ты, Юрочка, не любишь меня, — сказала она тихо, как бы между прочим. — И не любил никогда. — В тихом голосе и в прямом, готовом ко всему взгляде пряталась такая безысходная тоска, что Юрий вздрогнул и отвел глаза. — Угадала?
— О таких вещах на публике не говорят, — буркнул он недовольно.
— Это ты Федора, что ли, за публику принял? Молчи-ишь? Да Федор, если хочешь знать, ближе к нам, чем мы сами, он — наша совесть.
Мне было неловко, я подыскивал слова, чтоб обратить ее пыл в шутку, однако остановил ее Юрий и то ненадолго. Он высказал сомнение: была ли к нему любовь у нее, у Инессы? Это ее оскорбило, но она старалась не подать виду.
— Была, Юрочка, была, — ответила она медленно, нараспев, как бы растягивая давнее свое чувство. — Не первая любовь, не пылкая, но была. Еще в университете, в святые наши годы. И ты, Юрочка, прекрасно это знаешь.
Она отпила еще глоток, раскурила сигарету. И то ли от глотка этого, то ли от едкого табачного дыма глаза ее повлажнели, затуманились.
— Была и первая любовь, — сказала она, глядя куда-то вдаль, поверх наших голов, будто там, за окном, увидела вдруг ту любовь и несказанно про себя обрадовалась. — В те же годы, только пораньше. До чего же хорошо было, бог ты мой! И всего надо-то было — увидеть его хоть издали. Увидишь и счастлива целый день. А уж если перемолвиться удавалось или ответную улыбку заполучить — на седьмом небе витала. И университет-то из-за него полюбила. — Сделав глубокую затяжку, она встретила взгляд Юрия, усмехнулась. — Что уставился, Юрочка? Америку открываю? Любовь, если хочешь знать, всегда Америка. А хорошая она или плохая — зависит от открывателя.
Юрий озадаченно смотрел на нее и молчал. Он не понимал, какая Инессе была надобность выкладывать на стол весь этот свой нервный пыл. Не мог понять, как ни тщился, не видел логики. Это забавляло ее и подбадривало.
— Может быть, тебе имя назвать?
— Мне не нужно, — поспешно ответил Юрий. — Может быть, Федору?
— Федору, я думаю, тоже не нужно. Ни к чему. — Она повернулась ко мне и одарила такой мудрой улыбкой, что все мои не очень лестные мысли о ней мгновенно улетучились. В этой улыбке мне отчетливо увиделись давняя боль неразделенного чувства и горькая обида на незадавшуюся жизнь, глубочайшее недовольство собой и безоговорочная, поистине материнская забота о ближних, не в последнюю очередь о Юрии и о моей собственной персоне.
— Спасибо за урок, — сказал я, склонив голову.
— Какой уро-ок? Что ты, Федор? — Она, должно быть, не подозревала, что доброта ее и есть самый лучший урок на свете.
Уже несколько недель Раису не на шутку тревожил Вадик Дулин. До поры до времени этот подросток был парень как парень — в меру усидчивый, в меру озорной, и никому он не доставлял особых хлопот. Даже веселая его фамилия оставалась незамеченной. Но года полтора назад его мать перешла на работу в театральную кассу, с этого все и началось. Стоило Вадику снять трубку и сказать матери два-три добрых слова, и весь класс обеспечивался билетами в любой театр. Первое время услугами Вадика пользовались его одноклассники, потом нашли к нему подход и другие, даже учителя. Раиса сразу учуяла недоброе и сразу же высказала коллегам свою озабоченность. Словам ее не вняли, обратили в шутку, а теперь каялись и поедом себя ели.
Ничем не выделявшийся Вадик становился день ото дня заметнее и важнее. В дневнике теперь красовались лишь пятерки да четверки. За билеты ему доставали импортные джинсы, редкие свитера, туфли на высоких каблуках, кожаные куртки.
Забот у Раисы было много, и она, может быть, отступилась бы от Вадика, когда б дело касалось его одного. Но в билетную историю была втянута почти вся школа и — самое страшное — почти вся школа уже полагала это обычным явлением.
Все в Раисе взбунтовалось.
— Ты только подумай! — возмущалась она. — Этак мы скоро бизнесу будем учить ребятишек. Прямо с первого класса, а то и с детского сада. Говорим о новой морали, а сами поощряем дремучую старину, гнусную и ядовитую. Не башмаки калечим и не парты — юные души. Чистые, нетронутые.
Раиса глянула мне в глаза, чтоб уяснить, не надоела ли ее запальчивая речь, а уяснив, продолжала:
— Он ведь что удумал, этот юный балбес? Приглянулась ему девочка из девятого «А». Хорошенькая, активистка комсомольская. Люба Троянова. Приглянулась и — подавай ему Любушку. Он ее в театр пригласил, она отказалась. На именины к приятелю позвал — тоже не пошла. Оскорбился Вадим Дулин и затаил гнев. Ладно бы еще на одну Любу, а то на всю школу. В театры теперь из школы не ходит ни одна душа. Каково? Правда ведь хорошо? Я лично очень рада. Жду не дождусь следующего шага.
— От Вадика?
— От школы. Вадик сделал все, что мог, а вот школа… Как ты думаешь, будут Любу уговаривать или нет?
— Любу? — Я не понял вопроса. — А что ее уговаривать?
— Чтоб в театр с ним пошла или на вечеринку.
Я от души рассмеялся и подумал, что Раиса год от года становится язвительней. Хочешь — не хочешь, а придется поразмыслить о причинах такой эволюции.
— Ты не смейся, — остановила меня Раиса. — Этот Вадик на дружка твоего похож, на Юрия. Потому я и рассказываю тебе эту историю со всеми подробностями. И Юрий твой, и Вадик видят лишь то, что дают сами. Видят и чтят. И совсем не замечают, не хотят замечать то, что дают им, что они ничтоже сумняшеся гребут себе. Юрий твой и десятой доли не возвратил Ирине. Если б не она, не светлая ее голова и не душа ее тонкая да нежная, он так и остался бы пень пнем. Даже Инесса по женской доброте своей дает ему несравненно больше, чем он ей. Вадика-то, наверное, можно еще наставить на путь истинный, а вот Юрия…
— Ты, должно быть, что-то уже придумала? — спросил я.
Раиса глянула на меня и заулыбалась, засияла.
— Неужели проняло? Правда ведь ужасная история?
— История, конечно, недобрая, но ты уходишь от ответа.
— Не торопи меня, — взмолилась Раиса. — Ты же знаешь, я все равно тебе скажу, дай только срок. А сейчас боюсь. Боюсь, как бы не сглазить.
Я рассказал ей о своей встрече с Юрием и с Инессой. Слушала она с любопытством, не останавливая меня, ни о чем не спрашивая, а когда дослушала до конца, изрекла, облегченно вздохнув:
— Я рада, что у тебя открылись глаза.
— Ты думаешь, они были закрыты?
Спорить она не стала, лишь снисходительно улыбнулась.
— Попомни мое слово, — сказала она. — Инесса скоро прогонит его, и правильно поступит. Она хоть и добрая, но решительная. Ее только прежнее чувство удерживает. Это не надолго.
Раиса была недовольна моим рассказом. Вернее сказать, моей ролью в тройственной беседе. Когда б я и Юрию и Инессе сказал все напрямик, без обиняков, Рая посчитала бы это правильным и наверняка назвала бы меня молодцом. Могла бы еще добавить: «Вот это по-нашему, по-пролетарски». Умная и чуткая моя супруга упускала из виду одно важное обстоятельство — мои годы. С одной стороны, было, конечно, приятно, что молодая жена не замечала немалых моих лет, а с другой…
С другой же стороны, она должна была бы уже понимать, что годы, меняя человека, взваливают на его плечи нелегкий груз дополнительных обязанностей. То, что человек может сказать или сделать в двадцать лет, оказывается совершенно неприемлемым в сорок и тем более в пятьдесят. Двадцатилетнему многое прощается: незнание, легкомыслие, вспыльчивость. От пятидесятилетних ждут спокойных мудрых решений. Не хорошо, не натурально, когда двадцатилетний юноша изображает из себя зрелого мужа, но еще хуже, когда пятидесятилетний рядится в тогу юного. Это и смешно и грустно.
А может быть, Раиса не хочет видеть этой моей эволюции? Может быть, ей больше по душе молодая бравада, юная безалаберность, чем пожилая, в годах, мудрость?
Не-ет, не должно вроде бы, не тот случай. Раиса, если мне не изменяет память, всегда стремилась к логичекой четкости, к определенности. Такой уж у нее ум, насиловать его не надо.
Бог ты мой, при чем тут ум? Сердце всегда было мудрее ума. Пусть идет так, как идет.
Раиса оказалась провидицей: все пошло так, как она предрекла. Как я узнал позднее, ничего удивительного в этом не было — ход событий рьяно подталкивался самой Раисой.
Женское чутье подсказало ей, что хитреца и упрямца Вадика Дулина может переупрямить лишь та, чьей симпатии он ищет. Однако подвигнуть на это Любу Троянову было совсем не просто.
— Что я должна делать? — спросила Люба нервным недовольным голосом.
— Ну, в театр пойти, в Третьяковку…
— С ним? Я уже сказала ему, что с делягами никуда не хожу. Не рушить же мне слово из-за этого ловкача.
— Рушить ничего не надо, — успокоила ее Раиса. — В этом весь смысл. Надо, чтобы он распрощался со своим ловкачеством. Раз и навсегда. Твердое условие поставить.
Это условие не противоречило жизненным устоям Любы, но особого желания тотчас же ринуться в баталию не вызвало. Она повела речь даже о том, что следовало бы первым делом спросить ее, не тошно ли ей будет это поручение. Раиса немедленно согласилась и осторожно, деликатно подвела ее к мысли о том, что Вадик Дулин, если бы не его дельцовские ухватки, парень хоть куда: стройный, смелый, смышленый. На вкус Раисы девочки полагались безоговорочно, и Люба умолкла. А чтоб уж совсем избавить девушку от сомнений, Раиса выложила последний свой довод: ради спасения человека можно и роль сыграть.
— Боюсь, Раиса Степановна, роль эта не для меня, — ответила девушка. — Не актриса я, мне бы самое себя сыграть, не сфальшивить, столько кругом фальши.
— Я думаю, что тебе это не грозит, фундамент у тебя крепкий. И парню поможешь, и себя выявишь с лучшей стороны.
Фундамент у Любы и в самом деле был крепкий. Прочность его в первую же встречу испытал на себе Вадик Дулин. По чьей-то подсказке он подошел к Любе и пригласил ее в музей на выставку итальянской живописи. Его уверили, что она запляшет от радости.
— О-о! — воскликнула Люба. — Это моя мечта, а ты, Дулин, — змий-искуситель. Зачем ты меня приглашаешь, когда мы обо всем с тобой уже говорили? Ты же сам китайскую стену воздвиг между нами.
— Это ты все еще билеты склоняешь? Не надоело? — Он скривился в усмешке, картинно вздохнул, но усмешка его тотчас же натолкнулась на плотную завесу протеста в глазах Любы. В них не было ни гнева, ни обиды, зато светилось душевное превосходство. «Ты можешь кривиться, можешь паясничать, — говорили ее глаза, — а правда все равно не твоя. Смышленому парню это надо бы понимать. Да ты и понимаешь, конечно…» — Уж вечность целую в руках ни держал эти билеты! — воскликнул Вадик.
— Соскучился?
— Не очень.
— А совсем бросить не собираешься?
Не скоро Люба дождалась ответа. Вадик вздыхал, хмурился, морщил лоб, поглядывал исподлобья на Любу.
— Можно и бросить, — вымолвил наконец Вадик, — совсем бросить, если б было ради чего. Ради большой цели. — Он остановил пристальный взгляд на Любе. — А так… в суетной жизни… Зачем терять выгоду? Нынче без хитрости трудновато, а дальше, говорят, будет еще труднее. Для чего жертва?
— А разве душа твоя, ее благородство и совершенство не стоит жертвы?
— Да ведь и душа нужна не сама по себе, а для чего-то. Для того, к примеру, — ты только не смейся, — чтоб посвятить ее Прекрасной Даме. — Он так нежно и преданно Любе улыбнулся, что ее взяла оторопь. Никто еще и никогда ей так не улыбался, никто не говорил ей таких слов. Ей не надо было спрашивать, какой Прекрасной Даме мог он посвятить свою душу — все было написано на его лице, все сказано глазами.
— Ты погоди… ты меня не сбивай… — тихо отозвалась девушка. — Я говорю не о Даме, а о твоем достоинстве…
— А если это одно и то же? Зачем оно мне, это достоинство, без нужды — без цели?
Он говорил то, что думал, она это видела, испытывая неведомую до сих пор скованность и особую ответственность за каждое свое слово.
— В таком случае, — ответила она, — ты тем более должен думать о своем благородстве. Приучать себя к порядочности во всем, даже в мелочах. Приучишь, и себя будешь по-другому ощущать, и весь мир вокруг.
— Может быть, ты и права, — сказал он. — Одно мне интересно узнать: это ты сама все придумала или вычитала где-нибудь?
— Не знаю, может быть, и вычитала. Только я и сама так думаю.
— И поступаешь так же?
— Не всегда. К сожалению, не всегда.
Разговор шел на школьном дворе у распустившегося вяза, неподалеку стояла большая скамейка, сплошь облепленная ребятишками. В другое время они на эту скамейку не обратили бы внимания, а сейчас теснились, жались друг к другу и во все глаза глядели на Любу и на Вадика, стараясь либо услышать, либо по движению губ и по жестам определить, о чем велся этот таинственный и любопытнейший разговор. Из окна учительской за Любой и Вадиком пристально наблюдала Раиса Степановна.
— Если я правильно понял тебя, — тихо сказал Вадик, — завтра мы идем на выставку…
— А где ты взял билеты?
— Матушка купила.
— Где?
— Должно быть, на Волхонке.
— А ты не допускаешь мысль, что она их выменяла?
— Не исключаю, — ответил Вадик. — Я не спрашивал.
— Ты все-таки спроси, а завтра решим.
На выставку они пошли. Узнав, что никаких обменных операций не было, что билеты куплены другом семейства Дулиных, Люба согласилась, а когда пришли в музей и глянула лишь на одну, на первую картину, она воспылала благодарностью к Вадику и крепко сжала ему локоть.
Потом была вторая картина, третья, двенадцатая — одна пронзительнее другой. За плечами старого монаха с желтым восковым лицом виделась длинная и знойная, как экватор, жизнь. Он уже начал уставать от нее, томиться, когда вдруг понял, что жизнь прожита, прожита совсем не так, как надо. На закате лет он вроде бы понял ее смысл и предназначение, но, увы, было уже поздно, не осталось сил, чтоб начать все заново.
В пылком развеселом юноше угадывался и бесшабашный гуляка, и недюжинный мыслитель, творец. Какой совершит он выбор? Куда его выведет судьба? Ему, однако, ничего еще не страшно, у него все впереди. Пусть побудет такой, какой есть.
А вдохновенный оратор уже сделал свой выбор. Не сейчас — раньше. Он уже успел оценить этот выбор. Да-а, у него есть вера, есть пыл, он до конца дней своих и словом и делом будет жечь сердца людей. Он весь светится этой борьбой и излучает ее.
Молодая женщина-экскурсовод рассказывала о школах итальянских живописцев, о традициях, а Люба не могла оторвать взгляд от портрета оратора. Вадик тоже не остался к нему равнодушным. Подавшись чуть-чуть назад и вновь оглядев знаменитый портрет, он шепнул Любе:
— А где, скажи, взять такой пыл, мощь такую, напор?
Люба подняла на него глаза, улыбнулась.
— Вот здесь. — Она дотронулась до его сердца.
— Только здесь?
— Ну-у, у другого же не займешь?
— Да-a? Это надо же, а я собирался…
— Тогда попробуй. — Люба тихо рассмеялась, и в этом ее смехе Вадику послышалась такая дивная и желанная музыка, о которой он мечтал больше года.
Об их походе на выставку поведала мне обрадованная Раиса. Я не вытерпел и спросил, откуда ей известны столь лирические подробности их встреч. Она обрадовалась еще больше.
— А что? Не верится?
— Отчего же? Могло быть и так, — ответил я.
— Правда ведь — хорошо? Это мне Люба рассказала. Сама-то я почти и не прибавила ничего. За них я теперь спокойна, с Любой и Вадик человеком будет. А вот с дружком твоим Юрием нелады. — Раиса нахмурилась, подошла ко мне, села на подлокотник кресла. — Инесса его выпроводила. Вчера.
— И где же он теперь? — спросил я.
— Подал заявление на квартиру, а пока перебрался в общежитие.
И хмурый вид, и голос с горчинкой — все у Раисы соответствовало минуте, печальной минуте из печальной истории Юрия, но я чувствовал, я знал безошибочно, что она потакала такой развязке, и это было мне неприятно. Пусть Юрий не прав, пусть последние его поступки не отличались ни рыцарством, ни благородством, но он же не враг, не преступник. Что ни говори, а человек войну прошел, и не как-нибудь, а с отличием, ордена и медали на груди. Не однажды смотрел в глаза смерти, два тяжелых ранения пережил — это не шутка. Что-то, наверное, и простить можно, войти в положение. Мы же люди, добра забывать не должны, а то ведь этак любого можно выпроводить. Затосковал я от этого известия. Я затосковал, а Раиса моя, похоже, радовалась. Странно.
— Не казнись. Твоей вины решительно нет ни в чем.
Очень странно. Первый раз за всю нашу жизнь моя жена рассуждала странно.
Два года спустя мы встретились с Юрием в поликлинике. Оба обрадовались, обнялись.
— Неправильно живем! — сокрушенно воскликнул Юрий. — Нескладно. Вместе учились, вроде бы друзья, а не видимся по нескольку лет. Не знаю, как ты, а я вспоминаю тебя то и дело.
— Да я ведь тоже тебя вспоминаю.
— Ну-у, ты вспоминаешь совсем по-другому.
— Как это по-другому?
— Да ведь тебе Раиса Степановна не даст вспомнить, как надо-то. — Он сказал это добродушно, с мягкой улыбкой, а меня его слова задели за живое. Я тотчас же подумал: оттого, может быть, и задели, что Юрий не совсем уж не прав.
— Я не обидел тебя? — спросил он с тревогой в голосе.
— Нет, нет, — ответил я. — Никакой обиды.
Он все же остановил на мне испытующий взгляд и повел торопливую речь о том, что у меня, возможно, и нет особой нужды видеться с ним, а вот он, Юрий Климов, в последнее время испытывает самую крайнюю необходимость хотя бы изредка перемолвиться со мной.
— На кого-то надо равнение держать, — добавил он. — На тебя да вот на нее, на Капитолину Андреевну. — Он кивнул на подходившую к нам женщину средних лет, стройную, ладную, чем-то озабоченную. Юрий встал, следом за ним поднялся я.
— Вы не знакомы. Я хотел бы представить вас друг другу. Это мой древний товарищ — однокурсник Федор Жичин, а это моя жена — Капитолина Андреевна Климова. Прошу любить и жаловать.
— Очень рад, Капитолина Андреевна. — Я поклонился, она протянула мне руку. Вблизи жена Юрия была еще милее, женственнее. Дай бог, чтоб сладилось у них. Сладилось да слюбилось. — Не обижает вас ваш благоверный?
Она улыбнулась, подняла глаза на Юрия.
— Подожди, не отвечай, — остановил ее Юрий. — Я только Бориса приведу.
Капитолина Андреевна не успела еще произнести ни одного слова, как Юрий вновь был на месте, а рядом с ним стоял худой отрок с глазами Иисуса Христа.
— Это наш сын Борис, — представил его Юрий.
Услышав это, я приуныл. Минуту назад у меня появилась надежда: сладится — слюбится. Теперь я чувствовал, как эта надежда зашаталась. Опять чужой сын, опять ставка на благодарность.
Капитолина Андреевна что-то мне отвечала, а я не слышал ее, я просил судьбу дать мне случай ошибиться.
ЛОМТИК ХЛЕБА
Рассказ
Димку Неверова Жичин не видел четверть века, а узнал сразу же, как только услышал в трубке его голос. Да, звонил он, давний товарищ-однокашник, один из всего их выпуска получивший чин контр-адмирала. Он служил в другом городе, в Москву приехал по делам и звал Жичина отужинать с ним в гостинице.
Жичин был удивлен и обрадован. Сказал ему решительно: в гостинице можно встретиться в другой раз, а сейчас он должен приехать к нему, Жичину. Взять такси и немедленно приехать — в конце концов гостем в Москве был он, а не Жичин. Неверов охотно согласился.
Положив трубку, Жичин уличил себя: втайне он гордился, что собственной персоной контр-адмирал к нему жалует. Чинопочитание, которое Жичин не одобрял в других, оказалось не чуждо ему самому, и это тем более заслуживало осуждения, что в давние те годы, когда они были вместе, Жичин Неверова не очень-то жаловал. Пожалуй, больше других был ему поперек горла: изводил его насмешками.
Бывало и по-другому. Нередко Жичин восхищался им и откровенно ему завидовал. Он был отчаянно храбр. Когда над человеком свистит бомба и он знает, что через миг может проститься с жизнью, голова его сама собой втягивается в плечи, и выглядит он ой как небраво. По-иному вел себя Неверов. Поглощенный делом, он поднимал голову и, морщась от досады, всматривался в небо, как человек, которому просто мешают заниматься делом. Глядя на него, не позволяли себе распускаться и все окружающие.
Каков он теперь? Жичин пытался представить Неверова в адмиральском мундире, ему удалось это сразу. Осанка у Неверова и в училище была адмиральской.
Вскоре явился Неверов. Он оглядел Жичина с головы до ног, решительно шагнул к нему, и они обнялись.
…На балконе они вновь почувствовали себя юными, как четверть века назад. Дом у пруда на пригорке, на семи ветрах, выложенный светло-серой плиткой, длинный и высоченный, вполне мог сойти за крейсер, где оба они служили. Сам же балкон на пятнадцатом этаже с перилами-леерами был как бы корабельным мостиком. В целой Москве вряд ли можно сыскать другое более флотское место. Еще немного фантазии — и большой, живописный адмирал в золотых погонах и галунах, сидевший перед Жичиным в кресле, обратился в молоденького лейтенанта на сигнальном мостике…
…Воздушная тревога! Мелькают голубые воротники матросов, несущихся на свои боевые посты, в ушах стоит тысяченогий топот по металлическим трапам. Минутная тишина, и с юта доносится нарастающий гул «юнкерсов». Нужно держать себя в узде, потому что сейчас-то и требуется самая спокойная, самая четкая и самая трудная работа. Десятки распоряжений получаются, десятки распоряжений отдаются, а головы сами собой, будто чужие, поворачиваются в ту сторону, откуда идут самолеты, тяжело груженные бомбами. В бинокле они до жути отчетливы, особенно головной. Тупорылый хищник шел точно на цель и вел за собой остальную армаду.
«Нагло идут, — спокойно говорит Неверов, и Жичин чувствует, как это спокойствие передается и ему. — Хотя у головного штанишки уже мокрые».
«Юнкерсы» все идут. Уже без бинокля, невооруженным глазом отчетливо видны их жирные туши с горбинкой на спине — чужие, недобрые силуэты.
Головной самолет резко срывается в пике. С нарастающим воем он идет почти отвесно на корабль, на родной крейсер, прямо на Жичина, глядя в упор единственным, как у циклопа, оком лобового стекла.
Загрохотали скорострельные пушки с кормы. С носа в упор падающему бомбардировщику, прямо в его рыло с долгим, надежным постоянством ударили крупнокалиберные зенитные пулеметы. И смерть — сама смерть! — не выдержала такой встречной ярости.
Свернуть в сторону «юнкерс» все же успел, но маневр был уже напрасен, гибель настигла его до того. Самолет разом вспыхнул черно-красным огнем и, круто завалившись на одно крыло, показав на момент свое брюхо, тяжело рухнул в Неву.
После боя они жадно курили и молчали. О том, что каждый из них пережил, не подобало говорить тогда. Это должно было хранить в памяти долгие годы, подобно тому, как долгие годы в подвалах выдерживают вино, чтобы потом оно себя обнаружило во всей своей силе.
…Всех друзей — и здравствующих и тех, кто сложил голову, — всех они вспомнили. Их, друзей, было немало.
…На крейсере за их столом в кают-компании сидел лейтенант Дмитрий Голубев, редкой души человек, к тому же еще весельчак. Даже во сне его не покидала улыбка. Его шутки летели с поста на пост, из кубрика в кубрик, а следом за ними, как свежесть после июльского дождя, надолго устанавливалась бодрость.
Митя Голубев и погиб из-за своего золотого сердца. Погиб на чужой земле, когда в дверь уже стучалась победа. Он шел с двумя матросами по набережной чужого города, только что занятого советскими войсками, и разглядел в мутных балтийских волнах недалеко от берега тонувшего человека. Он тут же бросился в море — раздумывать было некогда — и скорыми саженками поплыл на помощь. Пуля настигла его в минуту, когда он вытолкнул на берег перепуганного немецкого мальчугана. Митя упал в воду и больше не встал. Ни один дикарь не поднял бы руку на человека, спасавшего жизнь ребенка. Но тут стрелял фашист…
Потом они вспомнили блокаду, не могли не вспомнить. Тяжело было в те дни, а вспоминалось без труда, охотно. Вернее, это Жичину вспоминалось охотно. Неверов же только поглядывал на него да слушал. На память приходили бомбежки, артиллерийские обстрелы, страх и радость победы над страхом. Это были мгновения, минуты, иногда часы. И все же это были эпизоды. Одно лихо длилось целую зиму — голод.
В сравнении с цивильным людом моряки жили сносно: на корабле было тепло, была вода, табак, хлеба выдавали по триста граммов на день. Правда, хлеб этот лишь назывался хлебом. Муки в него клали ровно столько, сколько требовалось фиолетово-зеленой массе древесной коры и гнилой картошки придать форму каравая. Но и такой хлеб был великой радостью.
Однажды в зимние сумерки, во время командирской учебы, друзья-лейтенанты усердно делали вид, что поглощены занятиями, а мысли их оставались в райкоме комсомола, где они пробыли целое утро и вернулись на корабль лишь к началу учебы. Перед ними неотвязно стояли два изможденных малыша, оба лет четырех-пяти, которых привела девушка-воспитательница. Детсад собирались эвакуировать, как только спадут морозы, но ребятишки нуждались в поддержке сейчас, иначе эвакуация могла не потребоваться.
Едва в занятиях выдалась пауза, лейтенант Голубев попросил разрешения сказать несколько слов. Детям надо было помочь во что бы то ни стало, и выход он видел единственный: передать им часть пайка из командирской кают-компании. Он так сказал: двухсот граммов хлеба ему хватит, чтобы поддержать в себе силы, необходимые для исполнения боевых обязанностей. С ним первым согласился лейтенант Неверов, хотя в райкоме он не был и изможденных детей не видел. Жичин тоже высказался за самую быструю подмогу детям. Потом и остальные командиры присоединили свою готовность помочь ребятишкам. На другой день малышам в детсаде стало полегче, а корабельным командирам, как и следовало ожидать, заметно потуже.
Им подавали на стол четыре ломтика хлеба — по одному на человека. Иногда вестовой ошибался и разрезал хлеб на пять, а то и на шесть ломтиков: сказывалась довоенная привычка резать потоньше, поизящней. Лучше бы, конечно, он этого не делал. К прорве жгучих проблем его оплошность прибавляла еще одну: кому брать лишний ломтик? Сытому человеку этой проблемы не понять. Но они-то знали, чем мог обернуться крошечный ломтик, допусти любой из них хоть малейшую несправедливость. Они непременно ее допустили бы, если б хоть раз позволили себе прикоснуться к этому злосчастному ломтику. Они никогда об этом не говорили, но всякий раз по молчаливому согласию оставляли его нетронутым, хотя любой из них готов был проглотить не одну дюжину таких ломтиков. Сейчас, четверть века спустя, было приятно вспомнить об этом: все-таки они были молодцы.
Неверов слушал молча. Что ж, эпопея не из легких, можно понять. Жичин до сих пор не мог без гнева смотреть на шалопаев, которым ничего не стоит выбросить не ломтик — каравай.
— Да, — медленно выдохнул Неверов. — Эпопея. — Он скосил глаза на кухню, где стучала тарелками Раиса, побарабанил пальцами по столу. — Есть что вспомнить. Чести офицерской не уронили. А со мной, представь себе, случился тогда казус… Сам не ожидал, да вот случилось…
И Неверов рассказал, как однажды, продрогший на вахте, он пришел в кают-компанию, сел за стол — друзей за столом еще не было, — и не заметил, как проглотил этот злосчастный ломтик. Потом пришли они. Всем подали какую-то похлебку. С похлебкой, глядя на них, он отправил в рот еще ломтик. Когда съел — спохватился.
— Надо бы тогда же и сказать, а я… Не будь тебя, может, и сказал бы. Да пуще огня насмешек твоих боялся. В училище куда ни шло, а тут — офицер русского флота. Казус, а четверть века из головы не выходит.
Глубокие морщинки прорезали лоб Неверова.
— Год назад в адмиралы произвели. Не скрою: рад был радешенек. На сто персон банкет закатил. Все шло хорошо. Потянулся за хлебом — маленькие ломтики были, как на крейсере, и вдруг вспомнилось… И сегодня вот… В министерстве важное дело сделал, птицей летел в гостиницу, а сел за стол — те же ломтики…
На дворе разыгрался ветер. Он потрогал верхушки деревьев за прудом, спустился в лощину и с разбега кинулся в воду. С балкона было слышно, как поднятые им волны шлепались о гладкий бетонный берег.
— Мне пора, — сказал, вставая, Неверов. — Едва успею добраться до аэропорта.
Жичин вышел проводить его. Прощаясь, Неверов пожалел, что их встреча не произошла лет двадцать назад.
Жичин вернулся домой. Раиса встретила его улыбкой.
— Никак не уразумею, зачем он приходил.
Толочь в ступе воду Жичину не хотелось — не то у него было состояние, — и он ответил кратко:
— Грех с души снять хотел, вот и приехал.
— Из-за ломтика? — спросила Раиса. Ей, наверное, трудно было понять это.
— Ломтик, ломтик… — проворчал Жичин. — И ломтик тоже. А больше из-за норова своего.
Зазвонил телефон. Жичин снял трубку и услышал голос Неверова. Он спросил, не хотел ли бы Жичин вернуться на флот, и предложил ему свою помощь, если у друга-однокурсника появится такое желание.
Путь Неверову предстоял дальний, и Жичин от души пожелал ему столько раз счастливо приземлиться, сколько раз он взлетит.