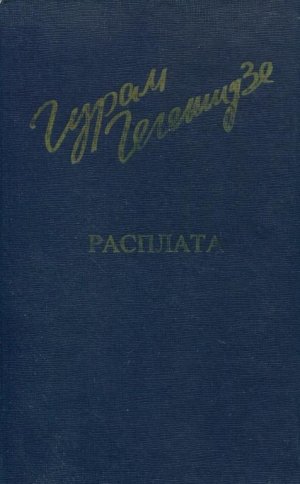
ГОСТЬ
Роман
Слово может выразить лишь то, что находится на поверхности, но то, что погружено в глубины человеческой души, остается нераскрытым навечно. Чувство, вызванное воспоминанием о прошлом, невозможно передать во всей полноте с помощью слов. И наши мысли, мелькающие с быстротой молнии, крутящиеся и сменяющие друг друга, невозможно выразить исчерпывающе, так же как невозможно передать то воздействие, которое природа оказывает на человека, любовь, печаль, страх, муку, ожидание и множество иных чувств. Наслаждаясь или ужасаясь, мы пытаемся передать свое состояние словами, но разве о том мы говорим, что переживаем на самом деле! Сколько своеобразных, тонких нюансов остается за пределами слов.
Слово не в силах объять всего, что вмещает в себя жизнь. А то, что мы успеваем схватить, осилить, — настолько незначительно по сравнению с тем, что остается в сокровенных недрах души невысказанным, необъяснимым, непередаваемым, неприкосновенным! Хотя и сказано, что вначале было слово, однако совершенно ясно — слово не охватывает жизни, оно только часть ее, и мы в состоянии воссоздать в словах лишь частичный, можно сказать, односторонний образ действительности, который есть только модель настоящей жизни. Более или менее явственно, до определенного предела зримая сторона нашего бытия еще как-то поддается выражению с помощью слов, но не та, глубоко скрытая, которая, возможно, и является главной. Движение души, необычайное состояние ее в определенный миг, заключенное в круг слов, — что́ оно по сравнению с тем, о чем в действительности хотелось сказать! Тут мы бессильны. Наиболее важное и значительное поневоле остается в нас, мы едва приподнимаем завесу над нашей душой, над осознанной нами самими сферой духа, но даже то, что мы знаем о себе, не является абсолютной истиной. У каждого творца невысказанным остается гораздо больше, нежели удалось сказать, а если некоторые из них благодаря своей гениальности смогли вторгнуться в сферы души, окутанные тайной, и пролить свет на многие, до сей поры неизвестные явления, это вовсе не означает, что еще больше не осталось все равно невысказанным. По мнению одного индийского мудреца, все, происходящее в нас, куда глубже, нежели переданное словами. Ни музыка, ни краски не в силах целиком охватить и выявить суть человеческой души.
Слово бессильно передать то, что испытывает человек, когда с Мтацминды смотрит на Тбилиси. Словно на ладони, лежит перед ним знакомое пространство, и в этом пространстве город раскрывает свое сердце. Как близок каждый дом, как тесно сплотились красные кровли, островерхие купола! Переплетенные друг с другом узкие улочки и сквозные широкие проспекты создают удивительную гармонию. Неповторимой самобытностью дышит каждый район. Сверкает на солнце Кура, стиснутая гранитными стенами. Вон и вокзал, где сейчас на путях стоят поезда, скоро они умчатся, увозя в чужие края аромат этого города. Отсюда не видно людей, они будто исчезли. В сознание врезался лишь город, как картина, как единое творение, нечто духовно неделимое, и тебе вдруг представляется, что ты вознесен на невиданную высоту, откуда только величайшее доступно взору. Мельчает и исчезает все расчлененное, обособленное, хрупкое, включая и самого человека, и ты вдруг чувствуешь — город превратился в одно существо и воспринимается как живой организм, одолеваемый грандиозными страстями. Каждый район и каждое здание имеют свою душу, и эти неведомые, неуловимые души, слившиеся в одну и являющие свое единство лишь отсюда, влекут невероятно — будь ты приезжим или коренным тбилисцем. Тебя завораживает та неожиданная таинственность, которую ты не ощущал, пока не посмотрел на Тбилиси с Мтацминды; захватывает и влечет в свои недра прошлое города и его настоящее, постигнутое с исключительной ясностью, ибо если ты уроженец Тбилиси, его дитя, то твоя собственная история, твое нынешнее лицо начинаются с основания этого города и предопределены его судьбой.
Вот ты стоишь и сверху глядишь на Тбилиси. Сколько лет ты отсутствовал, но за это время не изменилась душа города. Конечно, построено множество новых домов, появилось много новых районов, многие старинные здания и мосты снесены или реставрированы, переделаны, но ты чувствуешь — город не изменялся, потому что внешние перемены не могут исказить душу так, чтобы нельзя было узнать того вечного, единственного и неповторимого, что незримо витает вне этих зданий и стен. Там, на улицах и в домах, людская масса непрестанно видоизменяется: одни навсегда покидают этот город, другие только что прибывают сюда, но этот круговорот не меняет ничего, потому что все, кто в данную минуту находятся здесь, живут духом этого города, насыщаются им, невольно становясь его частицей, составным элементом его, хотя, возможно, и сами этого не осознают.
Смотришь на безграничные просторы, открывающиеся с высоты. Вдали в лазурной синеве кавказского неба вырисовывается вершина Казбека, непорочно белая и чистая. Прямо перед тобой высится гора Махата, правее — грустная Табори и Шавнабада — отроги Триалетского хребта. Слева колышутся в мареве волнистые хребты Внутренней Картли. Самолеты пролетают над городом. Смотришь на все это и чувствуешь: ты — частица этого города — внезапно отделился от него, обособился, глядишь ему прямо в глаза и держишься с ним на равных. Высота, на которую ты поднялся, наделила тебя таким правом. На время ты избавлен и от рабских оков этого города, и от внутренней легкости, которая в первые минуты — когда ты взглянул с этой высоты на необозримые просторы — овладела тобой, но взамен что-то тяжкое и глубокое, словно мудрость, поглотило тебя. Поэтому и открылось сейчас перед тобой истинное лицо города, ты ощутил его суть, и тебе уже не хочется возвращаться назад, вниз, где — ты это понимаешь — снова растворишься в толпе, цельный — превратишься в частицу, а сам город, этот любимый и мучительный город, от которого ты давно сбежал, но к которому прикован навечно, на чьей почве возрос саженцем, тоже потеряет свою целостность, распадется на многолюдные улицы и площади, по которым трудно ходить, раздробится на здания всевозможных цветов и стилей, обернется зелеными скверами, просторными набережными, отданными непрерывному шумному потоку машин, концертными залами и театрами, освещенными прелестью тбилисских красавиц, стадионами, оглушенными воплями болельщиков, пустыми, пропахшими ладаном церквами, переполненным транспортом, станциями метро, большими магазинами, ломящимися от хлеба, вина и мяса, ресторанами, пестрыми, суетливыми, говорливыми базарами, жаркими серными банями и тихими скорбными кладбищами.
Поэтому ты завидуешь тем, кто обрел покой на склонах Мтацминды[1], кто вечным сном почил здесь.
Медленно спускаешься вниз по тропинке. Сколько лет не был ты в этом городе, но сразу узнал его, едва взглянул на него сверху. Нашел почти таким же, каким оставил, обрывистые склоны так же покрыты цветущим миндалем и сиренью. Чем ниже сходишь ты, тем сильнее шум города, и растут, увеличиваются предметы… Ты видишь — по подъему Бараташвили тащатся в гору красные трамваи, слышишь гул автомобилей. Где-то далеко, у Арсенала, всползает на пригорок поезд, и до Мтацминды докатывается гудок электровоза и перестук колес. Ты уже различаешь людей, идущих по улице, и твое отношение к ним меняется так же, как меняется перед тобой город — ристалище человеческих страстей и судеб. Из открытого, беззвучно скользящего вагончика фуникулера любопытные пассажиры поглядывают на тебя, бредущего пешком, и улыбаются, а ты медленно сходишь вниз, чтобы слиться с городом и снова стать его частью.
Рассвет едва наступил, как я проснулся. Лежал я в передней комнате, окна, выходящие на улицу, и балконная дверь были открыты. До меня доносилось шарканье дворницкой метлы. По какой-то из близлежащих улиц проехала поливальная машина, омывая асфальт водой. Я слышал стук шагов раннего прохожего, куда-то явно спешившего. Под балконом громко переговаривались и звякали пустыми банками цавкисские мацонщики[2], мешая досыпать, вероятно, не одному мне. Лучи восходящего где-то далеко за городом солнца окрашивали верхние стекла окон в рубиновый цвет. В комнате было прохладно, но стоял какой-то странный, характерный для городских квартир тяжелый запах мебели, и я, привыкший за долгие годы к свежему воздуху, теперь ощущал его особенно остро. Давно не ночевал я тут. В квартире никого не было. Двоюродный брат вручил мне вчера ключи и укатил в командировку. Я лежал, и одиночество было мне приятно. Собственно, к одиночеству я привык давно. Всю жизнь я был одинок и никогда не чувствовал поддержки. Родителей своих я не помнил. Сначала рос у деда, потом у тетки. Бедняжка не отличалась отзывчивостью, она так и не стала моим другом. Наши отношения не выходили за рамки той чисто инстинктивной, неосознанной любви, которая зиждется на кровном родстве и которой человек наделен от природы. Наши отношения не превратились в духовное явление, в ту морально-этическую обязанность, которые опираются на взаимное понимание и уважение и с течением времени не только вообще перестают нуждаться в узах родства и крови, но, вытекая из этого инстинктивного союза, перерастают в благородную и возвышенную духовную связь. Все это, разумеется, имело свои причины. Я уже сказал, что родителей своих не помню и воспитывался у деда. В то время тетя находилась в Сибири. Она была молодая, очень красивая женщина. Вернувшись, она вышла замуж, но детей у нее не было. Много позже я узнал, что она перенесла какую-то болезнь, сделавшую ее бесплодной. Наверное, поэтому она и усыновила меня. В то время я уже учился в школе. Мне было все равно с кем жить — с дедом или с теткой. Тетя любила меня, я тоже любил ее, но все равно не смог привыкнуть к новой семье, ибо знал, что я сирота, подкидыш, тоскующий по материнской ласке. И муж тети не пришелся мне по душе, я не сумел ужиться с ним. Ощущение сиротства не покидало меня, и в отроческие годы я болезненно переживал свое одиночество. Но то время давно прошло, и кроме того, что я свыкся с этим обстоятельством, в некоторые периоды оно даже даровало мне определенную свободу, что следует признать скорее благом, нежели бедой. «Семейные узы и чувство долга часто сковывают человека», — говаривал Важа, один из моих друзей. У него была необычайно внимательная, заботливая и нежная мать, и, боясь огорчить ее, Важа тяжело переживал каждый свой проступок, в такие-то минуты я и слышал от него эти слова. Странный человек был Важа. Сейчас, вспоминая о нем, я совершенно спокоен, но на первых порах, особенно в первые дни после его гибели, стоило кому-то упомянуть о нем, как я становился сам не свой.
…Полная свобода тоже нехороша. От нее человек черствеет. Он непременно должен быть связан любовью к другим, чувством долга, чтобы сохранить человеческий облик, Любовь, обращенная лишь на себя, в счет не идет. Ты должен отдавать сам, не ожидая даров. Только бескорыстие облагораживает. Ничего подобного я не испытал в прошлом, чувство долга было незнакомо мне, и, вероятно, поэтому, несмотря на некоторую внутреннюю свободу, я страдал от одиночества. Когда ты ответствен только перед самим собой, ты безнадежно одинок, и твоя свобода не стоит и ломаного гроша. Эту истину я особенно отчетливо ощутил в студенческие годы, в один из ненастных ноябрьских вечеров. Тогда я увлекался альпинизмом. Голодный и измерзшийся, возвращался я с гор. Всю дорогу, пока добирались на открытой машине до Тбилиси, я подгонял время, предвкушая, как явлюсь домой, переоденусь во все чистое, согреюсь и отдохну, Войдя в подъезд и мысленно уже отдыхая в теплой комнате, жизнерадостно взбежал я по лестнице и наткнулся на запертую дверь, Соседи сказали, что тетя отправилась к подруге на день рождения и забыла оставить ключи. Мне стало горько до слез, оттого что я мчался сюда со всех ног, тогда как никто меня не ждал. Уезжая, помнится, я обещал вернуться через неделю, и именно сегодня исполнилась неделя, но тетка забыла об этом, хотя помнила о чужом дне рождения, потому что там ее ждали развлечения и удовольствие, а дожидаться моего возвращения было, безусловно, не столь приятно. Такая забывчивость не была для меня неожиданной, но в тот вечер почему-то мне стало особенно больно. Я ощутил себя круглым сиротой, не нужным никому на свете, и позавидовал тем, кто может твердо надеяться на близких. Конечно, я мог переждать у соседей, скоротать время за разговорами, но я валился с ног от усталости, мне хотелось отдохнуть, и, что самое главное, я весь день так ждал этой минуты, сладкой минуты возвращения домой, что сгоряча бросил рюкзак у соседей и в той грязной робе, которую так мечтал, наконец, скинуть, вышел на улицу голодный, измотанный, без копейки денег. В тот год рано похолодало, осень выдалась морозной, по ночам лужи подергивались льдом. До двух ночи слонялся я по улицам, чувствуя себя в родном городе бесприютным и чужим. Родной город только тогда по-настоящему родной, когда у тебя есть дом, собственное гнездо, пристанище, в противном случае он такой же чужой, как та женщина, которую ты любишь, но которая не любит тебя. Я не знаю, что тогда расстроило меня, теткина ли, честно говоря, вполне простительная невнимательность или тщетность моего ожидания, моих надежд. Возможно, и то, и другое. Но в ту ночь, бродя по улицам, я не задумывался над этим. Я видел прохожих, у каждого из которых — как представлялось мне — были цель и дела. Возле театров и кино толпился праздный люд, денежный, жизнерадостный народ проводил время в ресторанах и столовых, кафе и винных подвальчиках. Торопясь домой или в гости, подбегали горожане к автобусам и троллейбусам. Бог знает, что было на сердце у каждого, какие заботы тревожили окружающих, но мне казалось, что во всем городе не сыщешь ни одного такого обездоленного, как я. Да, законченным эгоистом был я в те годы, никого на свете не любил больше собственной персоны, ни о ком не заботился, а когда человек не печется ни о ком, кроме самого себя, любое затруднение представляется ему непомерно тяжким.
Я слонялся до двух ночи. Видел, как пустеют улицы. Наконец, жизнь на них замерла. Бодрствовали только дежурные милиционеры да сторожа подле магазинов. Холод прохватывал меня до костей, глаза слипались от усталости. Медленно поплелся я к дому. В наших окнах — темнота. Ждут ли меня? Конечно, нет, иначе бы не потушили свет. Я повернул обратно. Бродячая собака обогнала меня и скрылась в темном тупике. Где-то заливался милицейский свисток. Тускло светились витрины. Я пересек пустынную площадь и направился в Чугурети[3], там на одной из глухих улочек жил мой приятель Бежан Джабадари. В трехэтажном, допотопном, построенном еще дедом Бежана доме у моего приятеля была комнатушка на третьем этаже с балконом на улицу. Он жил один, и к нему смело можно было заявиться даже в этот поздний час. Я шел вдоль трамвайной линии, посреди улицы, остановился на мосту, оперся о перила и уставился на воду. Свет фонарей, переливаясь, отражался в запруженной реке.
почему-то вспомнилось мне и вдруг почудилось, будто кто-то нашептал мне эти слова, будто донеслись они из темного и глухого сада, который прежде звался Мадатовским островом.
Неподвижно стоял я, внимая тишине спящего города. Дома по безлюдным сейчас берегам смахивали в темноте на нежилые и воспринимались как немые свидетели многих веков, так же, как и безмолвная, мерцающая Кура. Сколько людей спускались к ее берегам, чтобы развеять мрачные мысли, приходили с настоящей бедой? И внезапно я устыдился своего детского каприза и обидчивости. О чем горевать мне, ведь многим приходилось и потуже моего! В конце концов, чем плохо мое положение? Ведь я мог вернуться домой хоть сию минуту. Мог, разумеется, но в то же время и не мог, потому что это представлялось мне малодушием, уступкой, хотя я и тогда понимал, что другого выхода у меня нет. У меня недостало ни силы, ни решимости оставить дом, учебу и начать новую жизнь. Все это было бессмысленным детским бунтом, обреченным с самого же начала. Вернувшись домой, я бы выспался, отдохнул, встал позже, принял душ, позавтракал, и нынешний каприз или обида улетучилась бы сами собой, но какой смысл возвращаться, когда никто не ждет тебя? Тогда в моих глазах это больше походило на насильственное вторжение. Поэтому я не вернулся и ночевал у Бежана Джабадари.
Кое-как я уснул одетым возле окна на раскладушке без матраца, укрывшись старым пальто Бежана, у моего приятеля не оказалось лишней постели. Всю ночь я слышал, как тоскливо шелестят под ветром бессильные ветви росшей под окном старой высокой акации. Всю ночь безутешно жаловались оставшиеся на улице деревья, а утром, когда я проснулся, вернее, очнулся от неприятной полудремы, все тело ныло и ломило кости. Бежан ушел уже на службу. В комнатушке царил страшный беспорядок. Около двери стояла черная от сажи, едко пахнущая керосинка. На полках беспорядочно громоздились книги, которые Бежан усердно скупал, не читая, впрочем, ни одной. Посреди стола на обрывке газеты возвышался закопченный чайник в окружении огрызков хлеба, немытых чашек и блюдец с остатками желтоватой заварки. В одном углу валялись старая обувь и грязные носки. На стене в рамке висел портрет родителей Бежана. Они спокойно, без всякого сочувствия или недовольства взирали на беспорядочный быт своего отпрыска. В то далекое время, когда они сидели перед фотографом, им и в голову не приходило, что их сын будет жить так безалаберно, лишенный заботы и внимания. Если бы они могли это предвидеть, то, возможно, не спешили бы умирать или, во всяком случае, потеряли бы охоту фотографироваться! Конечно, во всем этом беспорядке виноват сам Бежан с его беспечным и сумбурным нравом, но даже незначительные забота и внимание не повредили бы этому оставленному на произвол судьбы человеку, привили бы ему чувство долга и ответственности, наверняка сделали бы его более прилежным и в быту, и на службе.
Я не мог притронуться к огрызкам хлеба и колбасы, валявшимся на столе. Запер дверь, спрятал ключ в условленное место и вышел на улицу. До полудня я бродил бесцельно. Заходил в книжные магазины и рассматривал книги. Подолгу простаивал у афиш и был так словоохотлив и любезен со знакомыми, которые попадались мне, что никто не догадывался о моем дурном настроении… В полдень я зашел к своему другу Вахтангу, попросил у него немного денег и спальный мешок. На вопрос, зачем он мне, беспечно ответил, что сговорился с друзьями об экскурсии в Зедазени. Вахтангу в ту же минуту загорелось поехать с нами, но я дал понять, что его присутствие будет для моей компании нежелательным. Я знал, что мои слова обидят такого самолюбивого человека, каким был Вахтанг, хотя он ни в коем случае не подаст виду. Так оно и случилось. Он молча вынес спальный мешок, вручил мне деньги и уже не только не интересовался моей поездкой, но и вообще не проронил об этом ни слова. Мать Вахтанга накормила нас обедом, мы выпили по бутылке превосходного кахетинского, и, уходя из этого дома, я пребывал в странном настроении. Мне захотелось уехать куда глаза глядят, покинуть этот город, найти тихое, укромное местечко, где никто не потревожит меня, лечь на траву и слушать легкий шорох листьев в лесу, пение птиц и дыхание ветерка. «Чем тащить этот мешок к Бежану, махну-ка куда-нибудь», — решил я и отправился на вокзал. Подоспел я как раз вовремя. На первом пути стояла боржомская электричка. Я поднялся в пустой вагон, бросил мешок в тамбур и расположился на нем. Соседний путь занимал длинный зеленый состав, а из-за вокзальной стены доносились шум города и звонки трамваев. До тех пор, пока поезд не тронулся, я наблюдал в открытую дверь за толпой на перроне, за продавщицей пирожков в белом халате, за пассажирами, которые мимо меня проходили в пустой вагон, вскидывали на железные полки багаж и рассаживались. День был ветреный, и наверное, поэтому все глядели мрачно. Потом поезд медленно тронулся, прополз под Нахаловским мостом, и знакомые места побежали перед глазами; я видел железнодорожные склады с бесчисленными контейнерами, ящиками, строительным материалом — железом, досками, цементом и кирпичом… В Дидубе поезд ненадолго остановился. Высокие тополя на Дигомском поле гнулись от сильного ветра… Когда электричка снова двинулась, я стал смотреть на холмы за Курой, пятнистые, словно шкура жирафа. Лениво текла река, почти такого же цвета, как земля, деревья и рассыпавшиеся по склонам лачуги. Цвета ящерицы было и само небо, но постепенно темная синева сгущалась и заволакивала окрестность. В Мцхета уже тускло мигали фонари. Когда поезд остановился и я вышел из вагона, было почти темно. За железной дорогой поднимались высокие, лесистые холмы. Пустым перроном прошелся я до ларька, купил сигарет, распечатал пачку и с наслаждением затянулся. Я не услышал, как отошел поезд, так бесшумно и незаметно он скрылся. Вой ветра заглушал все звуки. Наверное, именно ветер разогнал всех, вокруг не было ни души. Мне приятно было стоять на этой пустынной платформе, все казалось задумчивым и затаившимся. На рельсы опустилась мгла. Я мог отправиться, куда захочу, и внезапно ощутил полную свободу и полное одиночество.
В тот миг я чувствовал ответственность только перед самим собой, и мне казалось, что ничто на свете меня не волнует. Я вскинул на плечи спальный мешок и зашагал по шпалам. Пыльные, пустые товарные вагоны стояли на боковой ветке. Я миновал их и в темноте пошел по главному пути. Я ступал по шпалам и прислушивался невольно к царившей вокруг тишине. Ветер стих, рассудок мой сразу прояснился, хотя хмель еще не выветрился. Некоторое время спустя я прошел мимо пустой землянки, вырытой в склоне; где-то вдалеке брехали собаки. Я быстро миновал это место и вскоре остался один на один с ночью, только поблескивающие рельсы напоминали мне о существовании людей. Неожиданно мелькнула мысль — умри я сейчас, случись со мной что-нибудь, исчезни я, потеряйся, кто узнает о моей смерти, о моем исчезновении? Наверно, никто, должно быть, очень скоро все обо мне забудут. Кто знает меня? Что я совершил такого, чтобы люди заметили мое исчезновение и опечалились? Кто я, неужто совершеннейшее ничтожество, которое не оставит по себе даже памяти?
Странная грусть охватила меня, но я грустил не о себе, мне было жаль людей вообще, которые, трезво понимая, что рано или поздно исчезнет даже память о них, все равно яростно цепляются за жизнь… Потом я наткнулся на тропинку, ведущую к лесу, вошел в темную лощину и начал подниматься по склону. Когда я одолел изрядный подъем, внизу по рельсам с грохотом пронесся пассажирский поезд, и, оглянувшись на грохот, я увидел, как мелькают во тьме освещенные окна вагонов. Я замечал людей за окнами, хотя не мог разглядеть их лиц. На единый миг ворвались они в поле моего зрения и тут же пропали. Потом грохот оборвался, наступила тишина. Вот так же стремительно промелькнет и наша жизнь перед взором Кого-то — огромного и непознаваемого — и исчезнет навечно, не повторится более никогда, как тот миг, когда я с тропинки видел пассажиров. А те приедут в большой город, рассеются по улицам, разойдутся в разные стороны, каждый — в соответствии со своим местом и назначением. Растворятся в толпе, смешаются с другими людьми, прибывшими в этот город еще раньше, и все они — конкретно своеобразные, самобытные — объединятся, превратятся в целую, единую массу, которая зовется населением города. Путешествие закончено, и все вернулись на свои места.
Я продолжил свой путь. Тропинка поднималась все выше. Пахло лесом и сырой землей. Я вошел в темный тоннель, образованный спутанными в вышине ветвями деревьев, ступал по мшистым, осклизлым кочкам и слышал, как где-то сочилась вода. В чаще кричал сыч. Я вышел из ущелья на безлесый склон и обрадовался открывшемуся простору. Ветер угомонился, было тепло, окрестность замерла в лунном свете. По темному небу мыльными пузырями скользили белые облака. Я словно дивился всему этому, существующему вне человека, девственному, независимому от человеческой воли. Мне хорошо было одному, но странное предчувствие подсказывало, что это одиночество было мне нужно не само по себе, а для какой-то неясной пока еще цели. Как будто в каком-то уголке души какая-то часть моего существа настойчиво хотела понять мои чувства, ощущения, страсти, мое одиночество.
На спуске я заметил на тропке следы скота и снова ощутил близость человека. Где скот, там и человек, чей незримый дух — я чувствовал это — не покидал меня даже в минуты одиночества. Тропинка снова поползла в гору, и я шагал по ней, опустив голову, пока не остановился на повороте и не присел на землю отдохнуть. Я еще не устал, но и спешить было некуда. Достал сигарету, закурил. Внизу темнел густой, черный лес. Облака вышивали по небу причудливые узоры. Я почувствовал — кто-то стоит за спиной и настойчиво на меня смотрит. Я так явственно ощущал этот взгляд, что быстро оглянулся, но никого не было. В неприятном напряжении я продолжал курить. Лица покойников всплывали из тумана сознания. Я видел родителей Бежана, которые, словно сойдя с фотографии, стояли передо мной недвижно и безмолвно. Я видел лицо моего любимого дяди Арчила, который сейчас не казался мне родным и близким, как раньше, всегда готовым меня защитить, но выглядел чужим, холодным и опасным, хотелось оттолкнуть его. Я видел лес, сверху глядел на высокие макушки деревьев прибрежной рощи, но бесплотные образы не исчезали, они хороводили передо мной на фоне леса. И снова ощутил я чей-то настойчивый взгляд за спиной. Я почти знал, что кто-то стоит совсем близко, как призрак, белеющий во тьме, сложив на груди руки, недвижимый, холодный, и следит за мной, подстерегает. Я не выдержал и обернулся еще раз. Никого. Но мне показалось, будто что-то белое и впрямь мелькнуло во мраке среди деревьев и скрылось. И мне стало горько, что никто не видел меня, никто не знал, где я, а мне хотелось, чтобы все знали, о чем я думаю и что переживаю сейчас в лесу, в полном одиночестве. Лес таинственно шелестел, словно какие-то люди перешептывались, прячась под деревьями в кустах, словно какая-то огромная тварь зевала в глубине леса.
Я встал, двинулся дальше и вскоре набрел на развалины церкви. Раскатал спальный мешок, набрал хворосту и решил развести костер. Изрядно намучившись, я разжег огонь, но с первым его пламенем все вокруг погрузилось в непроглядный мрак, и мне показалось, что из темноты доносится чье-то дыхание, что за мной опять следит кто-то, притаившийся в развалинах. Я никак не мог успокоиться, напряженное ожидание не оставляло меня, и я пожалел, что пришел сюда. Несколько раз я громко кашлянул, и мне послышалось, будто кто-то передразнил меня. Сидя у костра, заключенный в круг света, я ощущал себя отличной мишенью. Наконец, чтобы стряхнуть наваждение, я встал и спустился к роднику. Ровное привычное журчание несколько успокоило меня, я напился холодной воды и вернулся наверх. Огонь освещал вход в колокольню, остальное терялось во тьме. Я не знал причину своей непонятной тревоги. Это выяснилось лишь на следующий день.
Заснул я с трудом, и всю ночь мне мерещилось, будто кто-то крадется ко мне. Я просыпался, вертелся, несколько раз приподнимался, вглядываясь в темноту, потом ложился и старался уснуть. Так между сном и явью кое-как дотянул до утра. И вот, когда я окончательно проснулся, открыл глаза, то увидел в мутной рассветной дымке косматого, низкорослого, совершенно голого человека, который стоял в двух шагах от меня, опираясь на палку, и молча на меня смотрел. Я вздрогнул, от страха лишившись дара речи, и, прежде чем что-то предпринять, приподнялся в спальном мешке.
Внезапно не по сезону экипированный незнакомец повернулся, бесшумно, как зверь, кинулся прочь и пропал за деревьями. Меня прошиб холодный пот, каждый нерв мелко дрожал, и я никак не мог сообразить, что же все это значит? Столкнулся я с действительностью или оказался во власти невероятной галлюцинации? Я мигом скатал спальный мешок, подхватил его и припустился вниз. «Нет сил справиться, лучше отступить», — мысленно оправдывался я, хотя мое бегство нисколько не унижало меня. Небо постепенно бледнело, все вокруг выглядело донельзя обыденным — на склоне паслись коровы. Одна из них была белой. Я заметил трех мужчин, поднимающихся по тропинке, и решил подождать их. Сердце мое продолжало бурно колотиться, я даже тогда не мог успокоиться, когда убедился, что эта троица — реальные люди из плоти и крови. Меня настораживали их хмурые взгляды, я боялся стать свидетелем еще каких-нибудь чудес. Когда мужчины приблизились, я поздоровался с ними. Я назвался любителем старины и рассказал им о ночном происшествии. Мужчины оживились и стали расспрашивать, в какую именно сторону убежало голое привидение. Я показал. Тут они объяснили, что мне попался немой слабоумный пастух, который несколько месяцев назад окончательно спятил, а позавчера сбежал из больницы и объявился здесь, в знакомых местах, где всю жизнь пас коров. Они шли ловить его.
— А людей он не трогает? — спросил я.
— Кто знает, что у дурака на уме? — ответили мне.
Я распрощался с этими достойными людьми и теперь уже уверенней пошел по тропинке, начиная понимать, что моя ночная тревога была результатом интуиции, каким-то образом уловившей близость несчастного пастуха.
Я поднялся с кровати и приступил к зарядке. Спорт я любил с детства, многое мне давалось легко, хотя звезд с неба я не хватал. Одно время, уже на последнем курсе университета, я забросил тренировки и пристрастился к вину. Результат не замедлил сказаться — совсем еще молодой человек, я сделался вялым, начало пошаливать сердце, появилось чувство подавленности. Организм, приученный к определенному спортивному режиму, не выдержал его резкого нарушения и стал сдавать. Откровенно говоря, я никогда не был выдающимся спортсменом, но средние способности обычного любителя обнаруживал почти во всех видах спорта. Особенно увлек меня альпинизм — спорт весьма интересный. Нигде истинное лицо человека не проявляется столь отчетливо, как в альпинистской экспедиции. Всех своих друзей я изучил в горах. Единственный, кто не менялся, и в горах и в долине оставаясь самим собой, был Важа. Остальные с увеличением высоты претерпевали удивительнейшие метаморфозы. Энергичный и талантливый в обычной жизни Каха в горах становился вялым, пассивным, терялся в трудных ситуациях, боялся взять на себя ответственность и сделать решающий шаг, словно уповая на случай, который сам все определит. Щедрый Парнаоз в горах проявлял чрезмерную любовь к собственной персоне и мелочность, старался занять в палатке местечко получше, урвать кусок побольше, обеспечить себя элементарным комфортом, возможным в подобной обстановке. Тактичный и воспитанный Вахтанг становился капризным, вспыльчивым, нетерпеливым. Лично я, каким сокровищем бывал в городе, таким же оказывался и в горах, видимо, поэтому и забросил альпинизм раньше всех своих друзей. Мне недоставало физической силы, упорства и иных качеств характера, необходимых истому альпинисту. Я не мог жертвовать всей своей энергией этому увлечению, а без того ничего путного не получалось. В любом деле я сторонник умеренности, именно умеренность считаю исходной точкой существования. Это я понимал еще в те годы, когда увлекался альпинизмом, но для усвоения мудрости нужны время и опыт, поэтому лишь за последние годы я окончательно уверовал, что для человека моего характера и душевного склада необходимо придерживаться только и только золотой середины. Вот почему там, в глухой деревушке, где я обитал несколько последних лет, я отказался от выпивки и настолько привык к утренней гимнастике, что она превратилась в каждодневную потребность; нормальная физическая нагрузка укрепила мое здоровье, и сейчас я чувствовал себя бодрей и энергичней, чем в те годы, когда был моложе и вел довольно беспорядочную жизнь.
Окончив зарядку, я в трусах побродил по комнате. На улице еще царила тишина, вероятно, потому, что день был воскресный. Косые лучи солнца мягким бархатом стлались по полу. Я оделся, запер дверь, спрятал ключ в условленное место и вышел из дому. От политого асфальта веяло приятной прохладой. Перед гастрономом торговали молоком, и чуть свет поднявшиеся домохозяйки запасались провизией к завтраку. Я шел от Сололак к Ортачала[5] по пустынной улице Лермонтова. Из открытых окон какого-то дома доносились звуки радио — передавали утреннюю гимнастику. «Руки — в стороны, глубокий вдох», — вещал диктор под аккомпанемент рояля. Напротив керосиновой лавки у магазина «Грузинский хлеб» топтались пожилые, по-домашнему одетые женщины, глухо ропща, что магазин до сих пор не открывают. В подвале, где находилась хашная, все столики уже заняли любители острой чесночной похлебки. Я дошел до того места, где по преданию когда-то жил Лермонтов. Помню, как, вернувшись из России, тетя подарила мне поэмы Лермонтова «Демон» и «Мцыри». Она купила их где-то на Северном Кавказе, в поезде, по дороге домой. На обложке был изображен юный автор в мундире русской армии, но в кавказской бурке на одном плече. Из-за этой бурки и небольших усиков Лермонтов представлялся мне грузином, хотя удивляла русская фамилия и то, что он писал по-русски. Подросши, я с увлечением читал эти поэмы, которые воспринимались мной как грузинские, ибо в них действительно многое было чисто грузинским, взять хотя бы одно заглавие «Мцыри»[6], а там еще упоминались мцхетский Джвари, Арагва и Кура; сами истории, легшие в основу поэм, самый дух, пронизывающий творчество Лермонтова, были знакомы мне задолго до того, как я прочел эти вещи, а когда я познакомился с ними, то принял как иллюстрацию грузинской действительности и сразу понял их и полюбил. В те годы я плохо знал русский язык, но слабое знание языка не мешало моему увлечению и привязанности. Лермонтов заставил меня полюбить Пушкина. С наслаждением читал я «Путешествие в Арзрум», особенно те места, где описывался старый Тифлис, Тифлис Александра Чавчавадзе, зятем которого был, как известно, русский поэт Грибоедов, Тифлис Лопиана, Григола Орбелиани, Николоза Бараташвили, и тогдашний Тбилиси, мой любимый город, стал немыслим без Пушкина, Лермонтова, Грибоедова так же, как был немыслим без Бараташвили, Орбелиани, Чавчавадзе и многих других. Тем более, что в детстве, да и потом тоже, меня часто останавливали на улице приезжие: «А где здесь могила Грибоедова?»
Я прошел Хлебную площадь. Медленно пробуждался, начинал шевелиться город. Вот здесь, где сейчас гудят машины, во время оно находился Шуабазари[7]. Пустой троллейбус въезжает на подъем. Перед синагогой, как обычно, толпятся рано поднявшиеся евреи. Внезапно мне открывается Метехи. На фоне красноватого неба величественно всплывает вверх серый храм. Скалы, река и вся округа окрашены коричневато-зеленоватым цветом, точно таким же, каким с высоты осеняет их Метехи. Я пересек улицу и вышел к мосту. Полюбовался переливающейся гладью Куры, потом городом, разбросанным по холмам. Вот Рике, Чугурети, Авлабар, Элна. Слева — Мтацминда и Сололаки… Причудливые дома, балконы, черепичные кровли. Оконные стекла сверкают на утреннем солнце. Яркая пестрота и сияние. Ясное небо, кроткое и голубое, ни одному художнику не по силам передать тот дух, которым веет от всего вокруг, которым дышит гористое пространство… Мне вспомнились Голубая мечеть с пестрым куполом, некогда стоявшая на этом месте, галдящая татарская площадь — Шайтан-Базар…
Я был совсем маленьким, когда дядя Арчил привел меня однажды к мечети и позволил заглянуть внутрь через узкую дверь. В мечети стояла полутьма, пол устилали персидские ковры, и мне почему-то было очень страшно переступить порог… Я помню узкий мост и постоянную толпу на нем. К нише с мощами святого Або подходили молящиеся в черных одеждах, прилепляли свечи к стене и истово молились. Дядя Арчил рассказывал, что раньше в Метехи была тюрьма, где царское правительство расстреливало борцов за свободу. Я не понимал тогда, что такое расстрел, но по сей день помню кошмар, снившийся мне после нашей прогулки, — на парнишку, значительно старше меня, набросились какие-то усатые люди в белых кителях и сапогах, втащили его в огромный зал с широкими окнами и высоченным потолком, полный народу, — зал этот чем-то походил на помещение банка, — открыли дверь комнатушки, узкой, как лифт, и втолкнули в нее свою жертву. И вдруг снизу, как змеи, выползли длинные, блестящие стальные стрелы и пронзили парнишку насквозь. До сих пор не могу забыть я выражение лица героя моего детского сна, совершенно спокойное и отрешенное.
Я стоял на мосту, глядя по сторонам. Вон на том месте был караван-сарай, сюда подходили караваны верблюдов с заморскими товарами. Где-то здесь шнырял и зашибал копейку Соломон Исакич Меджгануашвили[8]. Я не застал того времени, но дух его все же отметил меня, и страсти многострадального Соломона Исакича, может быть, составляли какую-то частицу моих страстей, незаметно для меня самого… Сколько раз кутил я, бывало, в ресторане на первом этаже караван-сарая, выходившего к Куре! Когда же я был там в последний раз? Да, перед самым отъездом из Тбилиси мы славно посидели в этом ресторане с Шалвой Дидимамишвили. Шалва — единственный сын известного музыканта и общественного деятеля конца прошлого и начала нынешнего века, когда-то и сам слыл выдающимся музыкантом. Еще до моего рождения он дирижировал симфоническим оркестром, но, когда мы познакомились, он давно сошел с круга, и невозможно было поверить, что этот законченный алкоголик некогда интересовался чем-то, кроме выпивки. И все равно было заметно, что он получил блестящее образование и обладал исключительно острым умом, Больше всего меня занимал вопрос, отчего спился этот талантливый и образованный человек? Как-то в доме одного моего приятеля меня познакомили с сестрой Шалвы, тоже музыкантшей, скрипачкой, если не ошибаюсь. Я сказал ей, что дружу с ее братом. «Что же поделывает мой бывший брат?» — спросила меня эта пожилая дама… Большое удовольствие доставляло мне общение с Шалвой. Он был прекрасным собеседником. Никогда не клянчил на выпивку, как большинство пропойц. Когда у него водились деньги, непременно расплачивался за всех, но деньги, к сожалению, водились у него крайне редко. Однажды, часов в двенадцать ночи, он встретил меня на Вере, будучи весьма под хмельком:
— Чем угостить вас, милый брат? — с апломбом спросил он, хотя был старше меня минимум лет на тридцать, худой, высокий, облысевший, с опухшим от пьянки лицом.
Я ответил, что уже поздно.
— Не имеет значения! Мне хочется пригласить вас, подождите минуточку, сейчас я раздобуду деньги!
И Шалва повел меня к дому одного из своих друзей, известного композитора. Я обождал его на улице, испытывая неловкость, но что прикажете делать? Очень скоро Шалва вернулся с пустыми руками. Старый композитор встретил его, лежа в постели, сослался на недомогание, чему Шалва, разумеется, не поверил, и заявил, что посреди ночи не может вставать из-за каких-то денег… Недели две спустя, прогуливаясь по проспекту, Шалва столкнулся с композитором.
— Я думаю, дражайший, ты не сетуешь на меня, что той ночью я не смог ссудить тебя деньгами? — спросил он у Шалвы.
— Стоит ли?.. — холодно ответил мой друг. — Ты, Сосо, такой сквалыга, что жалеешь расходовать даже собственный талант и потому кропаешь бездарные песенки…
Это воспоминание развеселило меня. Неподалеку на мосту стояли торговцы живой рыбой. Один из них, тучный, одноногий, на костылях, говорил второму, худому и тщедушному, в приплюснутом картузе, столь любимом тбилисскими кинто[9]:
— Было время, когда я овцами промышлял…
Дальнейшего я не слышал, потому что повернулся и двинулся к серным баням.
Серные бани для меня были блаженством несказанным! Меня влекло не столько купание, сколько возможность подышать ароматом старого Тбилиси, который уже уходил в небытие, постепенно выветривался, но здесь еще сохранялся. Сегодняшний Тбилиси мне в тысячу раз дороже прежнего, пестрого, безалаберного города, но все-таки интересно прикоснуться к прошлому. Терщики и гардеробщики хорошо знали меня и всегда старались оказать особое внимание. Сколько раз, бывало, после мытья мы выпивали вместе. Моего приятеля терщика, по прозванию Красавчик Гогия, особенно поражало, что я, образованный человек, так лихо пью. А я никак не мог понять, за что прозвали Красавчиком этого приземистого, пузатого, рыжеволосого усача. Растянувшись на лавке, я любил слушать о его похождениях. Красавчик тер меня шерстяной рукавицей И рассказывал, как в бытность свою шофером ездил по дорогам Болниси и Дманиси, как однажды по пьяному делу попал в аварию, за что и угодил в тюрьму. Оттуда его отконвоировали в колонию. Там он влюбился в восемнадцатилетнюю девушку, жившую неподалеку от зоны. Влюбился, да кто отдаст дочь за арестанта?! К тому же, добавлял Гогия, девушка была из хорошей семьи, однако и она полюбила его и дала согласие связать с ним свою жизнь. На беду, Красавчика Гогию перевели в другую колонию вместе с его закадычным корешем, болнисским татарином. Если верить Гогии, татарин был крепким малым, верным и преданным другом. Когда того освободили, Гогия поручил ему отвезти возлюбленной письмо, в котором сообщал, что скоро выйдет на свободу, пусть она только ждет. В один прекрасный день татарин заявился в колонию, свиделся с нашим героем и объявил: «Твоя девушка вышла замуж». В отчаянии Гогия схватил табурет, собираясь проломить голову плохому вестнику, но татарин сгреб его, поцеловал: «Она похищена, Гоги-джан, тебя ждет!» Через полгода Красавчик отбыл свой срок, сыграл свадьбу, а потом устроился в баню терщиком — садиться за руль ему запретили, а другого ремесла он не знал…
Помню сороковины по отцу Гогии. Красавчик в знак особого почтения пригласил меня на поминки на Петропавловское кладбище…
Стояла ранняя весна. Яркая зелень одела цветущие на кладбище деревья. Густые облака затянули небо, солнце не проглядывало, но все равно было тепло, и беспрерывно щебетали, ворковали невидимые среди ветвей птицы. С незнакомым чувством разглядывал я утопающие в зелени надгробья и читал эпитафии. На одном — только два слова: «Сказка кончилась», на другом — «Прохожий, помни: я дома, ты в гостях». Сколько судеб погребено под этими камнями, сколько трагедий, сколько боли! Сколько ожиданий и надежд оборвалось здесь! У могилы отца Гогии толпился мастеровой люд: друзья, близкие, соседи, знакомые. Грустно тянули мелодию дудукисты[10] Глахо Захарова. Рыдали дудуки, вдохновенно пел тонким голосом Глахо:
Какой-то странный сплин овладевал мной. Я смотрел, как на краю небосвода сливались облака и белые вершины гор, на темно-синюю — такой она бывает только ранней весной — даль, и мне казалось, будто я навечно прощаюсь с чем-то необычайно дорогим. Что было этим необычайно дорогим, я не знал, но, возможно, им был сегодняшний день, на диво мирный, грустный, неповторимый. Сквозь стенания дудуки доносились до меня обрывки негромкой, степенной беседы:
— Харпухский борец Дуб-Кола, тот, которого отравили, погребен на этом кладбище. Мне в ту пору лет десять набежало. Как сейчас помню, крохотным был этот погост, а нынче, гляди, как разросся.
— Здесь и поэт похоронен, Терентий Гранели[11]…
— Говорят, и Никала[12] тут покоится, — переговаривались двое.
А двое других:
— …шулаверсккй Баграт, оказывается, сказал: Глахо — соловей Грузии…
— Что ты, молодой, знаешь? Кто такой Глахо? В мое время знаменитые дудукисты жили на Рике… Однажды там пировал Вано Сараджишвили[13], и Зубиашвили сказал ему: «Хорошо еще, Вано-джан, что ты не занялся нашим ремеслом, а то бы всех клиентов у нас отбил». Соловьем Грузии был Вано…
…Баня только что открылась. Посетителей было немного. Я прошел в общее отделение. Незнакомый гардеробщик, совсем еще молодой человек, встретил меня.
— А где Иосиф и Датико? — поинтересовался я.
— Во вторую смену работают.
Не было ни Красавчика Гогии, ни телетского Вано, которого несколько лет назад мучил ишиас, и врачи запрещали ему работать в бане. Из знакомых терщиков промелькнул только чокнутый Степа. Смешной человек был Степа, он все время хвастался, что служил офицером в армии, заведовал магазином, не глядите, говорит, что я терщик, было время… Я редко мылся у Степы, хотя у него была одна хорошая привычка — окончив мыть, он непременно встречал вас в дверях мыльной и окатывал двумя ведрами теплой воды, что было весьма и весьма приятно. Степа то ли узнал меня, то ли нет, улыбнулся бессмысленно. Я залез в бассейн. Вода была горяча. Полежав немного, я вышел и растянулся на лавке. Надо мной, в центре круглого, сводчатого потолка, сквозь узкое, похожее на дымоход, оконце голубело утреннее небо. А вечерами, когда горячий пар заполнял тесноватое помещение, не только неба, лица рядом стоящего человека не разобрать. Голые фигуры походили на призраки, скользящие в тумане, словно в чистилище или ином подобном месте. Тускло мерцал электрический свет, слышался глухой гул и плеск воды, потные банщики сбивались с ног, сознание мутилось, в душе что-то таяло, расплывалось, причудливые образы и обрывки мыслей без всякой связи всплывали на поверхность сознания.
Зимой обычно я посещал баню по вечерам. Любил поплескаться в горячей воде, попариться, когда на улице дождь, холод, мрак. В бане я думал о всякой всячине. Мысленно представлял себе выжженные солнцем окрестности Болниси и Дманиси, татарские кладбища, с первого взгляда похожие на россыпи белых камней посреди степи; вспоминались холмы, сплошь покрытые отарами, татарские овчарки и запах овец. Овечий запах напоминал о вкусной еде — о шипящих на угольях шашлыках, о зелени, о холодном вине; о маленьких белых духанах у дороги, в которых всегда царит особая тишина и уют, Я жалел, что никогда не был пастухом, не заворачивался в пахучий тулуп, не проводил ночи под открытым небом, не сиживал у костра в окружении верных овчарок…
Иногда мне представлялись пастухи в лохматых папахах и черноглазые татарки в широких пестрых платьях. Странное вожделение будили во мне эти женщины иного племени, мне хотелось уединиться с одной из них, снять с нее шаль, похожую на чадру, и провести с нею ночь в какой-нибудь тесной и грязной землянке посреди этой скудной, похожей на пустыню, степи. Может показаться смешным, но я подчас завидовал Красавчику Гогии, который до аварии на своей машине объездил эти районы вдоль и поперек, временами мне хотелось оказаться на его месте.
Часто я думал о восхождениях, о горах. Как отрадно, вернувшись из похода, усталым, разбитым, обросшим щетиной, нежиться в горячей воде, которая из каждого сустава, каждого мускула вытягивает усталость, ломоту и боль; вылезаешь из воды легкий и беззаботный, словно вторично родившийся на свет. Банный пар напоминает горный туман в непогоду, только этот не обдает тебя ледяными иглами, а обволакивает теплом и ласкает.
Но после гибели моего лучшего друга Важа меня иногда коробил вид голых людей, неподвижно лежащих на лавках. Они напоминали мне трупы в морге.
Когда мы привезли тело Важа в Тбилиси и внесли его в больничный морг, я впервые увидел такое скопление голых покойников. И тела, вытянувшиеся на полках, почему-то напомнили мне о бане. Кто знает, может быть, кого-то из этих людей я видел лежащими на лавке в мыльной и даже задевал их, проходя мимо?..
Лежать наскучило, и я снова спрыгнул в бассейн с горячей водой. Стал смотреть на весело балагурящих в ожидании клиентов терщиков, на тощего старика, который, стоя под душем напротив, старательно мыл голову.
…С Важа мы подружились в горах. Когда человек близок тебе, ты уже не помнишь, когда познакомился с ним и полюбил его. Тебе кажется, будто ты всегда знал и любил его. Было время, когда я не представлял себе жизни без Важа, но человек мирится со всем, хотя бы внешне. Важа был обаятельный юноша, стойкий, непоколебимый, прямой, с безграничной, почти фатальной верой в себя. В нем было много донкихотства, что часто раздражало окружающих. Иногда ему изменяло чувство меры, он переставал считаться с реальностью, что казалось удивительным для такого разумного и одаренного парня, и в такие минуты он, не задумываясь, неудержимо отдавался собственным страстям и прихотям. Кто знает, может быть, это пренебрежение действительностью, вместе с множеством других обстоятельств, и явилось одной из причин его гибели, неким перстом судьбы, недаром говорят: то, что невозможно согнуть, ломается. Лично я — сторонник золотой середины, и в последние годы уже не понимаю тех людей, которые играют с судьбой, бросают ей вызов, соперничают с неведомой силой, направляющей жизнь, о чьей сущности и природе мы слишком мало знаем и которая действует независимо от наших желаний и воли. Что говорить, подобная дерзость и отвага, на первый взгляд, весьма привлекательны — как прекрасное проявление человеческого достоинства и независимости, но назвать такое поведение благоразумным никак нельзя. Лично я уже не способен, как когда-то Важа, отдаваться безудержному веселью. Жизнь преподала мне много уроков и развеяла множество иллюзий. А вот когда мой друг входил в раж, можно было подумать, что вулкан извергает из своих недр весь запас веселья; Важа словно забывал, — а в подобные моменты, очевидно, так оно и было, — что радость в любую минуту может обернуться печалью. Такова была его натура, и кто может сказать, почему он был именно таким?
Столь же глубоко захватывала его скорбь, если, конечно, это была истинная скорбь, а не надуманная, мимолетная хандра. Внешне он оставался прежним, держался так, будто ничего не случилось, расправив плечи, вольно, словно арабский иноходец; гордое и энергичное выражение не сходило с его лица. Но стоило присмотреться повнимательней, как становилась явной затаенная тоска и боль, сквозившая в его теплых светло-карих глазах, лукавые искры уже не вспыхивали в них. Он вырос в семье, где обнаружить слабость считалось невероятным позором для мужчины. Помню, когда схоронили его мать, мы вдвоем возвращались с Кукийского кладбища по узким, петляющим улочкам. Перед нами амфитеатром раскрывался город. Четко вырисовывались гора Удзо, Цхнети и застроенные домишками склоны Мтацминды, небо было натянуто над городом, как голубой нежнейший шелк, и думалось: какое отношение имеет смерть ко всему этому? Мы возвращались с кладбища, за всю дорогу не проронив ни слова. А потом, когда мы подошли к его дому, когда снова смешались с народом, мой друг повел себя как ни в чем не бывало, смеялся, если кто-то отпускал шутку, сам иногда шутил, не хмурился, не подчеркивал свою скорбь, не выставлял ее; он молча переживал безмерное горе, терзавшее его, — мать была для него всем на свете… Я был свидетелем того глубокого молчания, в которое он погрузился, выйдя с кладбища, когда ему не хотелось никого видеть, но он понимал, что от горя и от людей никуда не скроешься, и, войдя в дом, старался, чтобы никто не заметил его скорби.
Впрочем, я видел Важа и иным. Например, в те дни, когда зарезали нашего друга Цотне, красивого, благороднейшего и во всех отношениях достойного молодого человека. Его смерть потрясла меня. Неужели можно умереть в таком возрасте? — наивно поражался я. Зато Важа держался так, будто ничего не произошло. Во время панихид он стоял во дворе, в том самом, где провел вместе с Цотне столько прекрасных дней, и с иронией, близкой к презрению, поглядывал на тех парней, которые чересчур наглядно демонстрировали свою скорбь, словно не веря им. Его нарочитое спокойствие, возможно, было своеобразной реакцией на всеобщие охи и ахи. Так или иначе, чтобы почувствовать себя оскорбленным, вовсе не обязательно получить явное оскорбление, иногда достаточно просто взгляда. Именно такой уничтожающий взгляд был у Важа, и, когда мы с ним оказывались с глазу на глаз, я почему-то не решался заговорить о Цотне, стыдясь слов, словно слезливого нытья. Отмалчивался и Важа, не упоминал даже имени Цотне, а накануне похорон в доме у Вахтанга заставил меня за столом хохотать над какой-то безделицей. Он сам громко смеялся и при этом так требовательно смотрел, словно принуждал и меня хохотать, внушая мне свою волю с помощью неведомых магнетических сил. Я чувствовал, что его показная беспечность была фальшью, слабостью, детским легкомыслием. Видимо, Важа хотелось показать всем, какая он сильная личность. Безусловно, он был сильной личностью, но в данном случае вел себя фальшиво. По совершенно непонятным причинам естественное проявление горя почему-то казалось ему слабостью. Может быть, это происходило с ним от растерянности. Во всяком случае, в тот вечер он производил самое неприятное впечатление. Мы с Вахтангом чувствовали это, раздражались, и внутреннее, затаенное раздражение не позволяло нам отстать от него, признать его силу, в данном случае фальшивую, и мы заходились от смеха, хотя лично мне было не до веселья, тоска камнем лежала на сердце, однако я чувствовал, будто меня насильно заставляют хохотать. На самом же деле все это лишний раз подтверждало нашу мальчишескую беспомощность, ибо душевно стойкие люди не обманывают себя, не маскируются, но прямо в глаза смотрят несчастью и испытаниям.
Помню, как в комнату вошла мать Вахтанга и возмутилась, увидев нас в таком состоянии:
— Не стыдно вам? У вас друг умер, а вы хохочете!
— А чем ему поможет наше молчанье? — вызывающе бросил Важа.
Зато весь следующий день он не выходил из комнаты, где покоился Цотне. Молча сидел в углу. Мне это тоже показалось лишним: вчера ни разу не заглянул сюда, сегодня не выходит…
Помню полнейшую кладбищенскую тишину. Пронизывающий ноябрьский ветер, не утихая ни на минуту, гнал пыль, пригибал к земле молодую елочку, одиноко росшую на соседней могиле. У края разверстой ямы стоял гроб Цотне. Цотне был единственным сыном… Мы не могли поднять глаз на застывших от горя, обессилевших, безутешных родителей. У них уже не осталось сил ни плакать, ни соображать. Словно окаменев, стояли они, покинутые богом, отвергнутые жизнью. Стояли рядом, как две тени, не издавая ни звука. Не отрываясь, смотрели на изменившееся лицо сына. Ветер трепал их волосы, кидал пыль в лицо. Стояли они, словно химеры, существующие и одновременно не существующие, кто мог сказать им что-нибудь, произнести хоть слово, когда сами они молчали? Уничтоженные, раздавленные, безвинно наказанные, порвавшие все связи с жизнью, стояли они на краю могилы и в последний раз видели свое дитя. Была абсолютная тишина. Родные и друзья молча подходили к Цотне и прощались, целуя его в лоб. Вот подошел Важа, склонился, поцеловал мертвого друга, выпрямился и вдруг, закрыв лицо руками, взвыл в голос. Тот, от кого меньше всего можно было ожидать этого, рыдал, как беспомощный ребенок, и, глядя на него, многие не могли удержать слез…
Таков был Важа… Необычайно одаренный от природы, он был первым среди сверстников и в учебе, и в работе, и в спорте, обладал сверхъестественным чутьем, которое, к сожалению, редко обманывало его, но помогала ли ему эта безошибочная интуиция в реальной жизни, сказать не берусь, потому что он ясно чувствовал приближение смерти и не смог ничего сделать.
В первый, раз, когда Важа завел разговор о смерти, я подумал, что ему хочется поразить меня и позабавиться. Это случилось за год до его гибели. Помню, стояла весна, я в то время жил в Окроканах. Важа очень нравилось там, и он иногда оставался у меня…
В полночь последний пустой вагончик фуникулера поднял нас на Мтацминду. Моросил дождь, холодало, даль заволокло туманом, мокрый асфальт поблескивал в неясном свете редких фонарей. Пустынно и безлюдно было кругом. Когда мы свернули на тропинку, ведущую в Окроканы, стало совсем темно. Далеко внизу, в ночном сумраке, затихал город. Земля скользила под ногой, тропинку обступали деревья и кусты рододендрона. Стояла тишина, и откуда-то издалека доносился собачий лай.
— Жить мне осталось не больше пяти лет, — говорил Важа. — Когда мне исполнится тридцать, я либо умру, либо застрелюсь, либо сопьюсь. Я предчувствую, что за тем пределом у меня не останется ни энергии, ни жизненных сил. Поэтому до тридцати я должен успеть все, успеть выложиться целиком, чтобы имя мое осталось. Потом уже или сил не хватит или что-нибудь приключится. Я это ясно предчувствую…
Голос его звучал как-то особенно печально. Никогда не видел я его в таком настроении, и все-таки мне не верилось, что он искренен, даже в эту минуту чепуху городит от нечего делать, подумал я. Мне трудно было представить, как может молодой, полный жизни человек ограничивать свое существование столь малым сроком. Все вокруг было объято сном и тишиной, на проселочной дороге нас облаяли собаки. Словно тени, долго плутали мы во тьме, насилу разыскав свой дом. Утром, когда мы проснулись, дождь все еще лил. Мы лежали и, помнится, о многом переговорили друг с другом. Потом пешком отправились в Тбилиси. Стоял конец апреля. Воздух был прохладен и чист. Из травы высовывали головки маки и ромашки. В сторону Коджори плыл молочный туман, стлался по горам, словно посиневшим от холода. Мы зашли в пантеон. На длинной скамье у могилы Бараташвили сидели две старушки и распевали псалмы. Если не ошибаюсь, была пасха. Потом я забыл этот день и не вспоминал слова Важа, его тогдашнее настроение, пока год спустя Каха не рассказал мне, что перед тем как отправиться в горы, Важа и с ним заводил тот же странный разговор.
— Я чувствую, что скоро умру, — говорил он ему, — и очень боюсь смерти, но не хочу, чтобы случилось иначе, потому что тогда выходит, будто у меня нет чутья, интуиции и все, что я чувствовал, думал и делал, было ошибкой…
В этих словах звучит невыразимая обреченность, фантастический вызов судьбе, и я до сих пор не пойму, как подобное настроение могло возникнуть у человека от мира сего.
Через два месяца Важа и в самом деле погиб в горах. Собираясь в экспедицию, он был весел, как обычно, и, пожалуй, беспечен, но выказывал странную заботу о близких, словно предчувствуя, что уже не вернется к ним, хотя в глубине души, наверно, не верил в такой исход, но на всякий случай предупреждал друзей, как поступить, если с ним что-то случится. Знай он определенно, что погибнет, он бы, разумеется, отказался от восхождения, но интуиции невозможно довериться именно потому, что она ни на что конкретное, за что можно ухватиться, — ни на знания, ни на опыт не опирается, и мы находимся в полном неведении — оправдается наше предчувствие или нет. Ведь очень часто то, чего мы ждали, не случается.
Правда, интуиция иногда открывает нам глаза на такие явления, которые, если рассуждать логически, никак невозможно предугадать, но чаще всего она — дар напрасный, мы не в силах совладать с нею, она выскальзывает из рук, как та птичка, которую, мнилось, мы уже заманили в силки и поймали. Счастливы те люди, если они вообще существуют, для которых предчувствие столь же ясно, как промелькнувшая в голове четко оформленная мысль.
Интуиция — туманная мысль, странное знание, которое не зависит ни от каких причин и не поддается контролю, — думал я, выходя из бани. Я чувствовал себя великолепно — легкий, чистый. Пять лет не был я в серной бане и сейчас ощущал удивительный покой во всем теле — Степа превосходно справился со своим делом. И когда, завернувшись в простыню, я отдыхал на лавке в предбаннике, перед моими глазами снова возник Важа. Вот у кого действительно были все предпосылки, чтобы стать выдающимся деятелем, только жизни для этого ему было отпущено недостаточно. Зачем же природа щедро наделила его блестящими способностями и прочими достоинствами, если не собиралась доводить начатое до конца? Зачем возводила фундамент строения, которое намеревалась разрушить так скоро? Эти вопросы, как прочие наивные суждения такого рода, не выходили из рамок элементарной логики, но так как жизнь неоднократно убеждает нас, что если не подавляющее большинство явлений, то, во всяком случае, значительная их часть развивается вовсе не по тем абсолютным законам, которые мы знаем и к которым приспособились, то удовлетворительного ответа на свои вопросы я не нашел.
Едва я вышел на улицу, как внимание мое переключилось на проснувшийся город, и мысли смешались. Окончательно рассвело, и вставало настоящее тбилисское утро. Перед баней в только что политом скверике сидели старики, занятые нехитрым развлечением — мирно беседовали и перебирали четки. Я пока не решил, куда идти. Это был мой второй день в родном городе после пятилетней разлуки. Медленно двигался я по улице. Горожане покупали свежие газеты в киоске. На дверях книжного магазина висел замок, зато гастроном уже работал. Рабочие в синих халатах катили по тротуару порожние пивные бочки и втаскивали их в кузов грузовика. На стене дома рядом с гастрономом висела афиша, приглашавшая на концерт курдского ансамбля песни и пляски. Руководительница ансамбля Сусик Смо была весьма пышнотелой особой. Афишу украшал только ее портрет. Фамилия одного из артистов была выделена жирным шрифтом — Шалико Сиабандов[14]. Я расхохотался, прочитав эту странную фамилию. Уходя от афиши, я старался представить себе внешность Шалико Сиабандова, потому что проникся искренней симпатией к этому не известному мне артисту. Выйдя к бывшей Татарской площади, я все еще был в прекрасном расположении духа и продолжал посмеиваться. Время близилось к девяти. Город ожил. В троллейбусах заметно прибавилось пассажиров, и машины катили почти беспрерывным потоком. Бросилась в глаза миловидная девушка, сидящая за рулем автомобиля, что несколько удивило меня, отвыкшего от городской жизни. На миг мне представилось, что все здесь исключительно интересно и привлекательно проводят время, чего мне, увы, уже не видать, но я сразу сообразил, что будничная жизнь во многом отлична от того первого впечатления, которое производит на нас новая обстановка. Я вспомнил, что когда-то прекрасно ощущал внутренний ритм Тбилиси, однако сейчас некоторые вещи воспринимал так, будто впервые попал в этот город, а у той девушки, возможно, в самом деле очень интересная жизнь, но приходить к такому выводу, основываясь только на том, что она сидит за рулем собственного автомобиля, разумеется, очень глупо. В свое время я повидал множество мужчин и женщин, не знавших недостатка ни в машине, ни во многом другом, но жить, как они, даже со всем недоступным для меня комфортом, я бы сейчас не желал, хотя, наверно, не отказался бы от этого раньше, когда мне казалось, что я явился в этот мир срывать плоды наслаждений. Но тогда я был другим человеком. Теперь я уже не тот. Я давно потерял интерес к вещам. Я долго жил на лоне природы, а там человек по-иному воспринимает бытие. Вечерней порой ты выходишь за околицу и спешишь к уединенному нагому холму. Здесь старое сельское кладбище. Печальнее дерево олэ глядит на выщербленные ветром могильные камни. Присядешь на такой камень, поглядишь на лесистые горы, на желтеющие по склонам хлебные нивы, посреди которых возвышается колок столетних сосен, а солнце тем временем медленно клонится к западу. Закатный свет озаряет ущелье, и ты видишь пространство, словно подергивающееся золой, и в этой загадочной безмолвной неподвижности ощущаешь вечность вселенной, и суетность благ земных становится ясной для тебя. Неожиданно ты обретаешь стремление к умеренности, к сдержанности, как в преуспеянии, так и в неудачах, как в радости, так и в горе; тебя уже не прельщает богатство, хотя ты прекрасно сознаешь порочность бедности. Все это исчезает из твоих желаний, и тебе хочется постигнуть одно — для чего ты кратким мигом явлен в сем вечном мире?..
Тем временем я поравнялся с аптекой. Мне вспомнился юноша, когда-то давно выскочивший из этой двери: я видел его меньше минуты, но запомнил на всю жизнь. Держа в руках кислородную подушку, он, всхлипывая, куда-то бежал в холодную, зимнюю ночь. Наверное, здесь поблизости, в душной комнате одного из этих старых домов, у него умирал кто-то близкий. Возможно, это была его мать…
Однажды морозным зимним днем — мне тогда не было и десяти лет — возвращался я из школы. Свернув на свою улицу, я увидел толпу у ворот одного из домов. Подходя к воротам, я заглянул в низкое окно первого этажа. Посреди комнаты лежала покойница — молодая женщина в белом платье. Гроб утопал в цветах. На стульях вдоль стены сидели женщины в черном, а вокруг стола беззаботно бегала девочка лет четырех-пяти с бантом а волосах. Я почему-то сразу понял, что умерла мать этой крошки, и сердце мое сжалось от боли, на глаза набежали слезы сострадания. Что станет с ней без матери? — подумал я, и внезапно мне стало жалко самого себя. Мне представилось, что эта женщина — моя мать, а девочка — моя младшая сестренка, которая не понимает ужаса происходящего. Я же чувствовал себя так, будто в самом деле навеки прощался с родной матерью. Я ощутил самым неподдельным образом смерть, хотя в данном случае она не касалась меня. Я не помнил свою мать, но, вернувшись домой, плакал именно по ней. Скорее всего, я оплакивал собственное сиротство и понятие «мама», существующее во мне само по себе, независимо от кого-либо, а моя родная мать в тот миг представляла собой только и только воплощенный символ этого понятия…
Я зашел в парикмахерскую.
…Чем дольше человек живет, тем реже он чему-то удивляется, никогда больше не бывает он таким непосредственным и искренним, каким был в детстве. Несмотря на это, с необъяснимым прозрением он заранее ощущает порой приближающуюся опасность или несчастье близкого человека…
Я взглянул в зеркало. Один из парикмахеров проворно вскочил и придвинул мне кресло. Из репродуктора лилась камерная музыка. Парикмахер усердно брил меня, а я думал о Мери. Любил я ее или нет? Конечно, по-своему любил, но не настолько, чтобы не мочь жить без нее. Сейчас я вспомнил о ней потому, что в ту пору, когда мы встречались, я обычно думал о ней в парикмахерской, и постепенно это превратилось в своего рода условный рефлекс. После бритья каждый мужчина, если он не безнадежный урод, так или иначе хорошеет. Вот почему в те годы после бритья я старался встретиться с Мери и понравиться ей. Конечно, это происходило бессознательно, но было именно так. Тогда я брился всего два раза в неделю и в такой день обязательно спешил к Мери. Мы познакомились, когда я учился на последнем курсе института, а Мери — двумя курсами ниже. Она приехала из Сухуми и снимала комнатушку на первом этаже старого дома по Коджорской улице. Вечерами я, бывало, стучался к ней в окно. Отодвигалась занавеска, выглядывала Мери, улыбалась и тихонько отворяла дверь. Я на цыпочках крался общим коридором и оказывался у Мери. В комнате за стенкой обитала чета старичков. Никогда, за исключением единственного раза, не видел я, чтобы они покинули свою обитель. Когда я поднимался по улице, первым меня встречало их окно, потом окно Мери. Оба были забраны снаружи одинаковыми железными решетками. По вечерам окно стариков горело теплым светом — посреди комнаты висел старинный красный абажур, и, если шторы не были опущены, я видел, как старички сидели за столом и пили чай. По-моему, они чаевничали с утра до ночи. Стол у них постоянно бывал накрыт, в любое время дня, видимо, убирать они ленились. На столе стоял блестящий никелированный чайник, чашки с блюдцами, тарелки, крохотные розетки, хлеб, масло и банки с вареньем. Остаток своих дней старички мирно проводили за чаепитием. Никогда я не слышал их голосов, никогда не встречал их в темноватом общем коридоре. Несмотря на это, Мери с опаской проводила меня в свою комнату. Ей не хотелось, чтобы соседи узнали, что я прихожу к ней, а иногда остаюсь и на ночь…
Ночь выдалась холодная. Немного подвыпив, я пришел к Мери. Мы лежали на тахте. В полночь она разбудила меня. В комнате было темно, но свет уличного фонаря за окном позволял различать предметы.
— Вставай, одевайся! — встревоженно тормошила меня Мери.
— Что случилось?
— Мама приехала!
Ее мать жила в Сухуми.
Создалось глупейшее положение. В окно не вылезешь — снаружи решетка, в дверях мы наверняка столкнемся.
— Где она? — бессмысленно спросил я.
— Постучала в окно, позвала меня, сейчас, наверное, у двери дожидается.
С улицы долетел истошный кошачий визг, и снова все смолкло. Я растерянно присел на тахте. Мери накинула халат, босиком, на цыпочках подбежала к окну, приподняла занавеску, вглядываясь в темноту. На улице никого не было. Мери отворила дверь и осторожно вышла в коридор. Я, как идиот, сидел на постели, не зная, что делать. Если Мери впустит мать, я все равно не успею одеться. Как прикажете беседовать с незнакомой женщиной, которая найдет меня голого в комнате своей дочери? Не скажешь же, как в известном анекдоте, что ждешь троллейбуса! Я снова лег, натянул на голову одеяло и замер в ожидании неприятных минут. Немного погодя, Мери тихонько проскользнула в комнату, скинула халат и юркнула ко мне.
— Никого нет, мне померещилось, — облегченно вздохнула она.
На следующее утро мы вместе вышли из дому. Мери побежала на лекции, а я, еще не пришедший в себя после гибели Важа, целые дни проводил на улице. В полдень я стоял с приятелями на проспекте Руставели возле «Вод Лагидзе». К нам приблизилась незнакомая девушка, отозвала меня в сторону и спросила мое имя. Я с удовольствием последовал за ней, предвкушая нечто приятное. Вполне вероятно, что я кому-то нравлюсь, думал я, и сейчас произойдет знакомство, мало ли на свете отважных девушек? Но когда незнакомка убедилась, что я именно тот, кто ей нужен, она сказала:
— Тархудж, бегите к Мери. Она утром получила телеграмму из Сухуми, умерла ее мать… Целый день ищу вас, насилу нашла…
Преувеличенно любезная улыбка разом сошла с моего лица. Я даже не поинтересовался, откуда знает меня эта девушка, занял у ребят денег на такси и помчался на Коджорскую. Девушка поехала со мной. Мери рыдала, калачиком свернувшись на тахте. Кроме матери, близких у нее не было. Брат жил где-то в России и годами не наведывался. Мне искренне стало жаль Мери. Старички — любители чая — вышли из своей комнаты и тщетно пытались успокоить бедняжку. Увидев меня, она бросилась мне на шею и разрыдалась еще горше. Горе настолько потрясло ее, что она уже не стеснялась ни стариков, ни подруги, которая, вероятно, и без того догадывалась о наших отношениях. Весь день я не отходил от Мери, вечером посадил ее в поезд, а несколько дней спустя, вернувшись в Тбилиси, она рассказала мне, что мать ее умерла именно в то время, когда она в полночь услышала ее зов…
В ту ночь Мери уловила некий сигнал, как однажды случилось со мной в лесу перед встречей с сумасшедшим пастухом. Животные тоже улавливают подобные сигналы и, как утверждают сведущие люди, понимают их значение, особенно перед стихийными бедствиями. А мы, к сожалению, не понимаем. Мы смутно ощущаем что-то, но о том, что же нас ждет, не имеем представления. Однако если мы обратимся к жизнеописанию людей древности, то увидим, какую огромную роль играли сны и прочие неведомые нам предзнаменования в их деятельности, решениях и даже судьбе, которую они якобы умели предсказывать с помощью этих предзнаменований. В наше время такая способность, если она в самом деле существовала когда-то, утеряна человеком, из-за чего он, несмотря на огромный технический и материальный прогресс, в некоторых обстоятельствах выглядит более слабым, нежели древние люди, более близкие к природе и естеству. Я не знаю, насколько верно все это, но смутное предчувствие Мери (или некий сигнал, расшифровать который никто не мог, конечно, если не считать это простым совпадением) сбылось, но ничего не изменилось: что должно было случиться — случилось.
Мне было приятно в парикмахерской. Я сидел в мягком кресле, вдыхал запах одеколона, радуясь горячему компрессу, щелканью ножниц, разговорам мастеров, даже старым газетам, журналам и домино, разложенным на маленьком столике в зале ожидания. В парикмахерскую ввалился чернявый детина, видимо успевший в такую рань изрядно приложиться к бутылке. Не успел он войти, как прицепился к одному из мастеров. Мой мастер к этому времени уже закончил бритье и перед тем, как смазать мне кожу кремом и освежить одеколоном, вышел помыть руки. Я наклонился к зеркалу, внимательно рассматривая собственное лицо, и остался доволен тем, как был выбрит. Интересно, что сейчас поделывает Мери? В Тбилиси ли она? Может, замуж вышла? Я снова откинулся на спинку кресла. Мой мастер задерживался. В зеркале я увидел, что недавно вошедший клиент теперь привязался к нему. Я повернул голову.
— Чего уставился? — зарычал на меня детина.
— Будет, Рудик, уймись! — урезонивал его мой парикмахер.
Я молча отвернулся. Мне совершенно не хотелось ввязываться в склоку. Но Рудик, видимо, счел мое молчание за трусость и нахально приблизился ко мне, отмахиваясь от парикмахера, который тянул его назад.
— Тебе чего надо? — гаркнул Рудик, встав надо мной.
— Ничего, любезный, будь здоров, — через силу улыбнулся я и, взглянув в зеркало, увидел, что в лице моем нет ни кровинки. Я весь напрягся от неприятного предчувствия. Было ясно, что нынешнее утро будет у меня отравлено. Сразу пропало то настроение, которое заставляло меня любить все в родном городе, где я не был столько лет. Рудик, видимо, совсем обнаглел от моего мирного тона.
— Поднимайся, выйдем потолкуем!
— Иди отсюда, пока цел!
— Вставай, чего дрейфишь! — Рудик хлопнул меня по плечу с такой злобой, будто я вызывал в нем непреодолимое отвращение, хотя он впервые видел меня и я ничем не обижал его.
— Тебе говорят, встань! — заревел он, матерно выругавшись.
Тут и меня затрясло от ненависти и отвращения. Я ненавидел его как мерзкого гада, которого так и тянет раздавить ногой. Ненавидел его беспричинную злобу. Сорвав с груди простыню, я вскочил с кресла, разбросал в стороны суетящихся между нами парикмахеров и изо всей силы, со всей ненавистью, внезапно и неожиданно во мне скопившейся, размахнулся, ударил Рудика в лицо и свалил его на пол. И в тот же миг я почувствовал, как встрепенулся во мне затаившийся до поры кровожадный зверь, разом убив все благородное, привлекательное, человеческое, разумное, вырвался на свободу. И когда Рудик, пытаясь встать, поднял голову, я с величайшим наслаждением, с нетерпением, близким к радости, так безжалостно ударил его ногой в лицо, что он без чувств растянулся на полу.
Взвинченный, вышел я из парикмахерской. Я настолько озверел, что, не повисни на мне парикмахеры, я бы убил Рудика. Я шел по улице, и меня продолжала колотить нервная дрожь. Я ничего не видел и не замечал вокруг. Город уже втянул меня в свой водоворот, лишний раз напомнив, что наряду с добром в нем существует и зло. Я миновал сад, где некогда собирались ортачальские игроки в кости, и свернул на Сионскую улицу. «Какой черт припер этого проклятого Рудика в парикмахерскую?» — продолжал я злиться, подходя к Сионскому собору. «Вошел я в дом твой и преклонился пред святым храмом твоим», — прочел я надпись над входом. Заглянул внутрь, оттуда тянуло ладаном и прохладой. В сумеречной глубине мерцали лампады. Я спустился по ступеням и вошел в храм. Сколько лет не был я здесь? Последний раз я зашел сюда в пасхальную ночь, какие-то пьяные пустили тогда ракету, переполошив весь народ, собравшийся в храме, и чуть не сорвали службу. Сейчас здесь было тихо, сияли золоченые оклады икон. Я сразу успокоился, как будто целиком отделился от суматошного города. Я слышал, что в старину никто пальцем не смел тронуть преступника, если тот укрывался в храме. Поистине в неповторимой простоте грузинских церквей есть что-то необычайно спокойное, величавое, бесконечно возвышающее надо всем мелочным и преходящим. Я сел на длинную скамью. Мимо меня прошелестела монахиня в широком черном одеянии и заговорила с другой пожилой монашкой, продающей свечи. Душа моя отдыхала, а прошедшая монахиня напомнила мне о молодом иноке Абро. Когда-то, много лет назад, он и я, пьяные вдрызг, постучались в дверь Сионской колокольни, и монахиня, похожая на эту, отворила нам. Передо мной возник образ Абро. Когда он улыбался, лицо его приобретало крайне бессмысленное выражение. Фанатично преданный вере, он ничего не смыслил в учении Христа, не следовал ни одному из его заветов. Он был суеверен, более привержен церковному ритуалу, нежели истинному богу, поэтому вера его выражалась только в любви к церкви, впрочем, иначе и не могло быть, потому что Абро был не вполне нормален. Интересно, как сложилась его судьба?
Именно здесь, в Сионе, мы познакомились с Абро. Было лето, мы с Вахтангом только что вернулись из альпинистского лагеря, помылись в серной бане, потом посидели в столовой, выпили. Когда мы под хмельком покинули столовую, на улице было жарко. От нечего делать мы завернули в Сионский храм, и приятная прохлада освежила нас. Вахтанг накупил свечей и затеплил их почти перед каждой иконой. Наш нетрезвый вид бросался в глаза, отчего мы и привлекли внимание священника. Пожилой, весьма почтенный священнослужитель, звали его, как выяснилось, отец Пахом, разговорился с нами. Вахтанг сразу заявил, что больше всего на свете любит ходить в церковь. «Что может быть приятней церкви, — как бы ни пекло на улице, здесь всегда прохладно. Нет, лучшего места, чем церковь, летом не найдешь. Между прочим, я и Библию читал, и по моему скромному мнению, более интересной книги человечеством не создано». От этих слов отец Пахом растаял и проникся к нам явной симпатией. Как раз тогда я и заметил Абро. Свежевыбритый, в обычном костюме, переминался он рядом с отцом Пахомом и глупо скалил зубы, прислушиваясь к нашему разговору. Было видно, что он принимает нас за своих единомышленников. Я сразу понял это и с улыбкой спросил:
— Ты любишь бога?
— Я — его создание, как мне не любить его? — слегка заикаясь, ответил он, истово осенил себя крестным знамением и возвел очи к куполу.
Я обнял его — он был мал ростом, приблизил губы к самому уху:
— Будь другом, скажи, как больше любишь, в шейку или?..
Вахтанг тут же пребольно ткнул меня локтем и сверкнул глазами:
— Перестань сейчас же!
Он не выносил подобных шуток и, наверное, был прав.
Отец Пахом ознакомил нас с иконами. На одной из них был изображен высокий столб, окруженный толпой. Священник объяснил, что здесь писано то место в Мцхета, на котором позднее воздвигли храм «Столпа животворящего» — Светицховели. Затем он перевел разговор на хитон Христа, напомнив, что часть его хранится в Грузии, хотя некоторые страны это оспаривают.
— Подумаешь, рубаха Христа? Какой от нее толк? — безапелляционно заявил Вахтанг.
По мнению отца Пахома, эта реликвия имела большое значение для грузин, и он бы желал, чтобы приоритет в этом вопросе остался за нашей любимой родиной. Но Вахтангом снова овладел дух противоречия:
— Сегодня истинное христианство и патриотизм абсолютно несовместимы. Для Христа все едино, ибо «нет ни мужчин, ни женщин, но все вы — одно», — упрямо доказывал он, — поэтому не все ли равно, где хранится рубаха Христа. Сегодня главное — возлюбить ближнего, как самого себя…
Отец Пахом улыбнулся и не стал спорить. Он, разумеется, понимал, что мой друг пьян.
Легко рассуждать о любви к ближнему, когда никого конкретно не имеешь в виду, но попробуй возлюби такого типа, как Рудик. Лежачего не бьют, тем более не стоило пинать его ногами, но где найти силы, чтобы удержать вырвавшегося из клетки зверя? Я корил себя за вспыльчивость и несдержанность. В храм вошел представительный седобородый старик. Он купил свечи, зажег одну, укрепил в подсвечнике и, перекрестившись, приложился к иконе. Я сидел на скамье, наблюдая за богомольцем. Теперь он направился к другой иконе. Интересно, о чем так горячо молит бога этот удивительно симпатичный старец? Видимо, верит, что его молитва не пропадет втуне. Наверное, божество для него не объективный закон, а субъективное переживание. Он наверняка убежден, что бог внемлет ему, что между ними есть что-то общее. Как видно, в человеке жива вера, что существует некая высшая истина, правда, добро, благодать, свобода и поступки каждого, его связь с жизнью и отношение к ней, а порой и судьба зависят от этой веры. Человек считает, что имеет право на эту веру, право требовать от провидения добра, свободы и справедливости, и именно этим — ощущением в себе этого права, как и волей, воображением, способностью анализировать, разумом — отличается он от животного и представляется уже не продуктом эволюции обезьяны, но совершенно особым, самобытным духовным явлением, сотворенным высшей силой. Именно поэтому религиозный человек верит в бога, ему кажется, что между ним и богом есть что-то общее, что он сын небесного отца, вера в которого возвышает его над скотом и всем скотским вообще. Поэтому так горячо, с такой надеждой молится старик. И тем не менее в каждом человеке сидит зверь, в одних больше, в других меньше. Сколько раз я сам бывал жестоким и бессердечным по отношению к самым любимым людям? Сколько боли причинял я им? Я не мог совладать с собой, укротить в душе свирепого зверя, а затем, когда сознание возвращалось ко мне и я снова приобретал человеческий облик, — ненавидел самого себя. Кто и как сотрет боль, остающуюся в душе, когда зверь унимается и ты снова становишься человеком?
Это, наверное, потому, что человек состоит из божественного и животного одновременно. Можно сказать, что он — мост между тем и другим. Естественно, в одних преобладает божественное, в других низменное, животное. Но и в самом божественном человеке, есть что-то животное, а в самом животном иногда вдруг обнаруживается божественное.
Я отвел глаза от молящегося старика и посмотрел на распятого Иисуса, распростершего руки над алтарем. И он злился на фарисеев, а злость ведь от животного. Божественное — это, прежде всего, мудрость, как же могла злоба найти место в его душе? Мудрость спокойна, хладнокровна, снисходительна, уверенна — что вытекает из знания всех причин, а всезнающий не может возмущаться.
Старик кончил молиться, подошел к монахиням и завел разговор. Та, что открывала дверь нам с Абро, была гораздо моложе… Помню, как-то в марте возвращался я домой за полночь. Моросил мелкий дождик, было свежо. Какой-то мужчина в шляпе, с запущенной, как в трауре, бородой, шатаясь, брел посредине улицы. Боясь, как бы его не сшибла машина, я вышел на проезжую часть, собираясь отвести его на тротуар, приблизился и вдруг узнал Абро. Он тоже узнал меня, обрадованно повис на моей руке и все старался вспомнить мое имя. Я напомнил ему. Он хоть и был вдребезги пьян, но, как выяснилось, не забыл Вахтанга и спросил, еле ворочая языком: как твой друг? Я взял его под руку и отвел на тротуар. По мокрому асфальту растекались блестки цветных неоновых вывесок. Молчание безлюдных улиц и ночная прохлада навевали приятное чувство покоя. «Провожу-ка его, — подумал я, — как бы с ним чего не приключилось».
— О, как я рад видеть тебя, — то и дело останавливался Абро и прижимал руку к сердцу, — пойдем ко мне, я тебя вином угощу…
Убедившись, что я согласен, он так обрадовался, что неожиданно нагнулся и припал губами к моей руке. Тут я впервые ощутил, как он силен — я еле вырвал руку. А когда уводил его с дороги, обхватив под мышками, он показался мне легким и тщедушным. Я принялся отчитывать его. Тогда он повис у меня на шее, намереваясь облобызать меня своими мокрыми губами, я насилу вырвался. Немного погодя я спросил его — зачем он отпустил бороду? «Собираюсь в семинарию, — ответил он, — хочу принять сан». Всю дорогу он нес какую-то околесицу, и я не понимал, потому что толком не слушал. Когда мы подошли к Сионскому собору, Абро приостановился.
— Вот в этой колокольне я живу, там — кельи, — прошептал он. — Поднимись ко мне, выпьем вина, прошу тебя, не бросай меня одного, я боюсь, боюсь, Тархудж, не бросай меня, переночуй со мной…
Движимый любопытством, я последовал за ним. Осторожно сошли мы по ступенькам во двор. Спотыкаясь на каждом шагу, он вел меня к колокольне. Темнота и тишина окружали нас. Почему-то мне вспомнились похороны католикоса Мелхиседека. Тогда на этой колокольне монотонно гудел колокол, народ заполнил двор, улицу, балконы и крыши ближайших домов. Мы с другом тоже стояли на крыше, откуда прекрасно был виден двор Сиона. Какая-то женщина, видимо нищенка, странно дергалась, припав к стене храма. Я не мог понять, что с ней — падучая или религиозный экстаз. Высшие духовные чины в парадном облачении вынесли гроб с католикосом. Кадя ладаном, обнесли его вокруг храма и снова занесли внутрь. Вскоре после этого народ разошелся. Церемониал смахивал больше на представление, наверное, поэтому и собралось столько зрителей.
Сейчас здесь было тихо, темно и пусто. Абро постучал, и в ту же минуту дверь отворилась, словно за ней ждали его стука. Пьяное бормотание Абро означало, что он приглашает меня войти. В глаза мне бросилось недовольное, холодное, неженское лицо монахини со свечкой, больше похожее на восковую маску, чем на человеческий лик. Затем это лицо куда-то исчезло; скрипя затворилась дверь, и мы оказались в непроглядной тьме. Я понятия не имел, где мы находимся, Откуда-то сверху донесся голос Абро, он звал меня к себе. Я двинулся, чувствуя на ощупь, что подошел к узкому проходу, и ударился ногой о ступеньку. Куда делась монахиня? Как ни пьян был Абро, он ловко поднимался наверх. Согнувшись, я нащупывал ступеньки, медленно поднимаясь, стиснутый в этом мрачном лабиринте. У меня создалось ощущение, будто я находился под землей и сейчас пробирался к свету. Послышалось щелканье замка или запора. Видимо, мы подошли к келье Абро. Я остановился, дверь со скрипом отворилась. Абро бесшумно куда-то вошел, зажег свечу, и я увидел узкую келью, где едва умещались топчан, небольшой столик и табуретка. На стене — иконы, на столе — куски хлеба и огрызки колбасы, на полу — батарея пустых бутылок. В узком оконце — темнота, потолок низкий — невозможно разогнуться.
— Тархудж, дай тебе бог всего, садись, не бросай меня, переночуй тут, — дрожащим голосом просил Абро.
— Где я тут переночую?
— На этом топчане оба поместимся, никуда тебя не отпущу, Тархудж, боюсь я! — истерично, словно бездарный актеришка, причитал он; сейчас особенно бросалось в глаза, что у него не все дома. А тут еще в душу закралось неприятное подозрение, и я пристально посмотрел на Абро. А он перебирал пустые бутылки, сливая остатки в огромную жестяную кружку, которую затем преподнес мне, умоляюще глядя в глаза. И жалок, и омерзителен был он.
— Пей, прошу тебя, если уважаешь меня, выпей, прошу!
— Сначала ты выпей.
— Будь здоров, Тархудж! Нынче так устрою тебя… — торопливо бормотал он, — никуда не отпущу, на топчане оба уместимся… Живи многие лета со своими близкими!
Он не выпил, только пригубил вино и снова протянул мне грязную кружку, противно причмокивая мокрыми губами.
— Будь здоров, Абро, всего тебе наилучшего, — меня чуть не вырвало, едва я поднес кружку ко рту.
Абро вскочил и принялся упрашивать меня:
— Выпей до дна, умоляю, выпей!..
— Не хочу, ты же знаешь, я тороплюсь, домой пора.
Абро будто совсем рехнулся от моих слов, затрясся в каком-то странном нетерпении:
— Никуда тебя не отпущу, умоляю, выпей только этот стакан!
Я встал, поставил на столик нетронутую кружку и прикрикнул на него:
— Ну, будет паясничать, ложись, спи!
Абро сразу сник. Как-то безнадежно поглядел на меня и прошептал:
— Тархудж, не оставляй меня одного…
Когда я спустился по лестнице в абсолютной тьме, та же монашенка встретила меня внизу. Быстро распахнула дверь и, едва я переступил порог, проворно захлопнула ее. Помню, как приятен был свежий воздух. Я вздохнул полной грудью, а они остались там, в своем чудно́м логове.
Аромат ладана и бледное мерцание свечей окончательно успокоили меня. Некоторое время спустя в церковь вошли парень и девушка, они остановились в дверях, кинули застенчивый взгляд на монахинь, заметили и меня. Закинув ногу на ногу, я сидел на длинной скамье. Эти двое, видимо, впервые были здесь, они не походили на тбилисцев. Робко вошли в храм и стали рассматривать почти совсем стершиеся надписи на мраморных плитах.
Переходя от одного погребенья к другому, они внимательно разглядывали родовые надгробья Джамбакур-Орбелиани, и стук их каблуков четко разносился по храму. Из узкой дверцы рядом с алтарем вышел чернобородый священник — ражий детина с массивным крестом на груди, носить который, на мой взгляд, требовало немалых сил; шурша длинной рясой, подошел к старухе, торгующей свечами, что-то буркнул ей и покинул храм. Немного погодя поднялся и я — пора, и так засиделся. Я раздал всю мелочь нищим, усыпавшим паперть, и вышел на улицу.
После мирного, отрадного полумрака собора раскаленная солнцем улица внезапной волной накатила на меня, закружила и вовлекла в свой водоворот: я почувствовал, что снова слился с городом, снова стал неделимой его частью. То настроение, которое снизошло на меня в храме, развеялось сразу же, как только я очутился на улице, увидел дома, машины, прохожих. По всему было заметно, что сегодня воскресенье — прохожие выглядели спокойными и беззаботными, никто никуда не спешил, и по сравнению с буднями на улице было значительно тише. Я свернул направо. Во дворе Сиона дети гоняли мяч, в глубине двора на балконах хозяйки проветривали одеяла и постельное белье. Сионская колокольня выглядела просто и буднично, в ней не было сейчас ничего таинственного, как в ту ночь, когда Абро привел меня к себе. В конце улицы я заметил чернобородого богатыря-священника, при мне покинувшего храм. Он стоял на краю тротуара, пытаясь поймать машину. Один из автомобилей, едущих в Ортачала, притормозил на противоположной стороне улицы, и чернявый водитель, высунувшись из окна, крикнул:
— Куда надо, батюшка?
— В Сабуртало! — ангельским голосом ответствовал тот.
Шофер заколебался, потом сказал, что ему не по пути и он спешит.
— Катись… твою мать! — смачно выругался вслед священник и тут же свистнул другой машине — ссиу!
Я прошел мимо батюшки — любителя сквернословия и направился к Анчисхати.
Я очень любил район Анчисхати с его запутанными, как лабиринт, улочками. Человеку нездешнему ничего не стоило тут заблудиться. Да что там нездешнему, я сам порой не знал, куда меня выведет тот или иной переулок. Я любил эти узкие улицы, тесные дворики, длинные балконы, винтовые лестницы. По этим камням бегал когда-то маленький Тато Бараташвили[15]. Может быть, я обожал этот район еще и потому, что Бараташвили с детства был близок и дорог мне, близка его личная жизнь, его безответная любовь; а эти дивные, старинные дома, наверное, и при нем стояли здесь, на резных, деревянных, нависших над улицей балконах таким же солнечным утром сиживали княгини в чихти-копи[16], бог весть о чем беседуя через улицу с соседями, устроившимися на балконе противоположного дома. Я шел, и до меня как будто доносился грустный напев, сопровождаемый звуками каманчи или тари:
Я словно слышал веселый смех юных князей в куладжах[18], которые съехались к друзьям или близким провести время за картами, развлечься, обменяться новостями. Я слышал цоканье подков по булыжной мостовой, скрип немазаных колес фаэтонов, и такое чувство овладевало мной, будто я ждал, что вот-вот на моих глазах оживет старая картина, навсегда стертая безжалостным временем, и я наконец воочию увижу то, что прежде было открыто лишь внутреннему взору.
Несмотря на изрядную отдаленность, для меня вовсе не была чуждой жизнь молодежи эпохи Бараташвили, их взаимоотношения, любовь к женщинам, потому что и они были тбилисскими юношами, хотя после них утекло много воды, многое исчезло или изменилось в корне, я ощущал — что-то незримое и невыразимое осталось прежним, не изменилось, ибо на этом свете многое повторяется, многое претерпевает только внешние изменения. Я чуял аромат прошлого здесь, в этом старинном околотке, по узкой улочке которого я сейчас шел, и мне встречались нагруженные провизией женщины, возвращающиеся с крытого рынка; а на балконах, где некогда красовались знатные и надменные княгини, растрепанные домохозяйки стирали белье или готовили обед на газовых плитах, дети сломя голову носились по лестницам, шумели во двориках и на улице, из открытого окна на весь квартал громовыми раскатами обрушивалась джазовая мелодия. Но все же это был квартал Бараташвили, это место было ареной его душевных терзаний, и, хотя я сейчас видел парочку у дерева на краю тротуара — длинноногая девушка в коротком сарафане и широкоплечий юноша с челкой на лбу заговорщицки шептались о чем-то, временами стараясь громким смехом скрыть смущение, я чувствовал — Бараташвили здесь, здесь витает его душа…
Каждому возрасту свойственны свои особые признаки. Было время, и меня знобило от нетерпеливого волнения, когда я спешил на именины к какой-нибудь знакомой девушке, и волнение мое, наверное, было сродни тому, которое испытывали сверстники Бараташвили в салонах своих приятельниц. Таких салонов, как известно, тогда было немало. А именины, на которые знакомые девушки приглашали меня и моих друзей, представляли лишь разновидность тех старинных салонов. Разумеется, наши сборища были лишены богатства и блеска, характерных для прошлого века, и мы сами были воспитаны не так, как завсегдатаи этих салонов, но и здесь раздавался звон гитары, звучали песни и слышался звонкий, волнующий смех принаряженных девушек. И здесь кто-то кому-то нравился, и приятное возбуждение, которое всегда сопровождает подобные события, не покидало нас. Помню, с каким сердечным трепетом ожидали мы вечера, того мига, когда соберемся вместе и увидим ту, единственную, встречи с которой ждали с нетерпеливым волнением, и казалось, что жизнь без нее не имеет смысла. И именины ничего не стоили, если ее не было там. Но если она приходила и улыбалась тебе, говорила что-то приятное и подающее надежду, разрешала проводить ее до дому — не чуя под собой ног, ты возвращался по темным опустевшим улицам, и не было на свете человека счастливее, и это счастье заряжало тебя жизнерадостностью на многие дни вперед, преображало, делало более смелым и веселым, чем ты был до сих пор. В такие минуты ты чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе. Но если тебя обходили взглядом, не было в мире человека несчастнее тебя, и отчаянье твое нельзя описать никакими словами. Как можно назвать подобное состояние? Наверно, все-таки любовью. Хотя, любовь слишком сложное чувство, чтобы его можно было выразить одним словом. Она не представляет из себя нечто цельное, но состоит из множества переживаний, объединяемых почему-то одним словом. Главное, что подразумевается под ним, под этим словом, за которым стоит множество эмоций, друг с другом не схожих. А юношеская любовь больше похожа на неизбежное сумасшествие, ставшее равнодушным законом, обязательным, как корь…
Мне вспомнился Сумбат — парень с нашей улицы, его нелепая любовь, если выходки и состояние Сумбата в тот период позволительно назвать любовью.
Этот круглый краснощекий толстяк был старше меня года на три, на четыре. Отец его, мастеровой человек, хотел, чтобы сын пошел по его стопам, и Сумбат рано оставил школу. Среди сверстников он слыл блатным, и большинство боялись его, но я, к счастью, не принадлежал к их числу. Может быть, поэтому Сумбат сдружился со мной, и одно время я был соучастником многих его проделок. Он больше, как говорится, глотничал, но ни в чем плохом не был замешан. Впоследствии он стал официантом и, если я заглядывал к нему в ресторанчик, старался всячески приветить меня. В студенческие годы я не однажды кутил у него в долг. Когда я напоминал ему о давнишней любви, он только застенчиво усмехался. К тому времени он уже остепенился, обзавелся семьей, а его отроческая любовь смахивала на настоящее умопомрачение. Тенью ходил он по пятам за одной очень красивой девочкой по имени Лейла, не решаясь заговорить с ней. Все были обеспокоены этим неотвязным преследованием — Лейла, родители Лейлы, родственники, соседи, учителя, так как Сумбат, стараясь покорить сердце своей избранницы, ничего лучше не мог придумать, как заставлял нас камнями бить стекла Лейлиного класса. Когда же кончались уроки, вся школа знала, что сейчас на улице Лейлу поджидает Сумбат со своей бандой. И точно. Члены этой банды старались подкараулить Лейлу одну, и тогда скакали вокруг нее, кривлялись, выбивали из рук портфель, выдергивали из кос ленточки, а Сумбат, подбоченившись, горделиво стоял в стороне и с удовольствием наблюдал за этой кутерьмой. Куда бы ни шла Лейла, в кино, в театр, к подруге или к родственникам, Сумбат зловещей тенью издали следовал за ней. Опасаясь Сумбата, родители никуда не отпускали девочку одну. Больше года продолжалось это бессмысленное преследование. Но здесь же надо сказать, что такое поведение прославило Сумбата на весь район. Почти все знали его, и уж каждый слышал об этой истории. Многих потешало любовное неистовство этого подростка; родители и соседи Лейлы, потеряв терпение, на все лады грозили Сумбату, но ничего не помогало.
Однажды, окруженная гикающими и вопящими дружками Сумбата, Лейла возвращалась с урока музыки. Почему-то в тот день она была одна, обычно ее сопровождали мать или бабушка. В руках она держала нотную папку. Сумбат, подбоченившись, следовал за ней в отдалении, любуясь, как скачут и носятся вокруг испуганной девочки его подручные. И вдруг отчаявшаяся Лейла не выдержала, повернулась, подбежала прямо к Сумбату и дерзко спросила:
— Скажите, что вам надо от меня?
От неожиданности Сумбат лишился дара речи и с трудом смог выдавить:
— Познакомиться хочу.
— Извольте! Меня зовут Лейла, это вам прекрасно известно. Вы, как я знаю, Сумбат. Вот мы и познакомились, я буду с вами здороваться, только прошу, перестаньте ходить за мной!
Так они познакомились, но…
Помню, в один ветреный воскресный день Сумбат прикатил на чьем-то разболтанном пикапе. Это было сразу после войны, Сумбат позвал меня и Резо, одного из наших приятелей, мы втроем сели в машину и помчались к Пескам. Как сегодня помню, какой дикий ветер дул в тот день. Уже забылось, ранняя ли весна стояла на дворе или зима была на исходе. Когда мы очутились в Песках, ветер здесь поднимал тучи пыли, в воздухе реяли обрывки бумаги, где-то вышибло стекло и осколки посыпались на тротуар. Окажись тут кто-нибудь, наделали бы они беды. Сумбат остановил машину у полуразвалившегося, заброшенного дома в грязном узком тупичке, выскочил из кабины и скрылся во дворе. Я последовал за ним. Замусоренный, темный и тесный дворик, пропахший сыростью и зловонием уборной, походил на катакомбы. В подвале галдели и стирали белье курдянки в широких пестрых юбках. Пар от мыльной воды клубами поднимался вверх. Помню, как по шаткой лестнице взобрались мы на второй этаж и там, на балконе, столкнулись с горбатой старухой в черном, подметающей пол. У этой беззубой, шамкающей бабки было такое неприглядное, морщинистое лицо, что, взлети она на наших глазах к небу, оседлав веник и полыхнув подолом черного платья, я бы совершенно не удивился. Сумбат спросил у нее, дома ли дед Але.
На его голос из тесной, затхлой комнатенки вышел дед Але в сопровождении еще одного старика.
— Ну, пошли! — деловито скомандовал им Сумбат, потирая от удовольствия руки.
Старики, видимо, с нетерпением ожидали Сумбата. Они быстро принарядились, нахлобучили на макушки синие картузы из тех, в которых раньше щеголяли кинто, один вытащил из комнаты доли[19], второй сунул под мышку дудуки, и мы спустились по лестнице. Сумбат устроился рядом с шофером, остальные разместились в кузове пикапа, и мы понеслись.
Куда?
К дому Лейлы!
Машина остановилась на улице против Лейлиного дома, Сумбат прилепил музыкантам на лоб по красненькой тридцатке и попросил:
— А ну, сыграйте «Любовные страдания»!
Надвинув кепку на нос, он пригладил молоденькие усики и горделиво откинулся на капот. Раздались дробь доли и стон дудуки. Весь квартал сбежался к нам — взрослые, дети… Поднялся неописуемый галдеж, кто-то распахнул окно, кто-то отдернул занавески, веселые, ухмыляющиеся лица таращились на нас из каждого окна. Невольно оказавшись в центре внимания, я чувствовал себя неловко. Время от времени Сумбат выхватывал из кармана красные тридцатки, пришлепывал их на лоб музыкантам и заказывал:
— А ну, лихачи!
Где он достал столько денег, я не понимаю по сей день.
Затем он снова подбоченивался и, откинувшись на капот, не сводил самодовольного взора с окон Лейлы. Но оттуда никто не выглянул…
Потом Лейла переселилась от нас, и Сумбат постепенно забыл ее. Но когда у него умерла мать, он все ждал, что в эти горчайшие для него дни вот-вот откроется дверь, войдет Лейла и выразит ему соболезнование. После каждой панихиды он спрашивал у меня:
— Не пришла?
— Нет, Сумбат. Наверное, не знает.
— Эх, мама, мамочка, — плакал Сумбат, — как я буду без тебя!..
Прошли годы, Сумбат женился и, как я уже говорил, взялся за выгодное ремесло — устроился официантом. Когда я напоминал ему о Лейле, он смущенно хмыкал и удивленно разводил руками:
— Ва, как я любил ее, да?
Но любил ли он? Было ли это любовью?
Очень трудно подыскать точное название взаимному влечению мужчины и женщины. Душевное расположение и физическое вожделение первоначально так тесно переплетены, что невозможно понять, что движет человеком, что первично: животный ли инстинкт, неосознанное практическое желание наладить свой быт или бескорыстное стремление к прекрасному? А может быть, вовсе не стоит прибегать к высокопарным рассуждениям, так как подобное влечение есть форма бытия, его неотъемлемое свойство, непреложный закон, которому следует всякое живое существо; это — вечное стремление друг к другу двух противоположных начал, рождающее нечто новое, продолжающее их, и разговор о прекрасном тут ни при чем?
В период моей дружбы с Сумбатом и я пережил примерно такое же безумие. Помню, как у меня из головы не выходила одна наша соседка с четвертого этажа. Эта сдобная смуглая особа, которую звали на французский манер — Жанной, была лет на пятнадцать старше меня. Вечерами нашу соседку частенько навещали мужчины, и тогда из ее квартиры по всему этажу разносились песни, смех и шум. А иногда, бывало, устанавливалась неожиданная тишина. Сколько раз, дождавшись темноты, я поднимался на четвертый этаж и прохаживался по галерее, пытаясь заглянуть в щель между шторами. Мне было нестерпимо интересно узнать — что же там происходит. Иногда, когда мы с ребятами играли во дворе, Жанна сама подзывала меня и посылала в магазин то за хлебом, то за вином, то за чем-нибудь еще. Охотно выполнив поручение и вернувшись с покупками, я с огромнейшим любопытством разглядывал ее жилье. Квартира Жанны состояла из двух комнат. Первая, в которую вы попадали из длинной общей галереи, была широкой и просторной. Посреди этой комнаты стоял стол, окруженный венскими стульями; у одной стены — тахта, накрытая паласом, и множество фотографий над ней; у второй — шкаф, вешалка около входной двери и швейная машинка у окна, в окно виднелись черепичная крыша соседнего дома и макушки деревьев в соседнем дворе. Вторая комната была поменьше, всю ее занимали широкая кровать да туалетный столик. Чего только не было на нем — всевозможные флакончики с духами и лаками, баночки с кремами и помадой, отчего здесь никогда не выветривался стойкий запах парикмахерской, гребенки, ножницы и большое круглое зеркало. Иногда Жанна в моем присутствии присаживалась к зеркалу, распахивала халатик, выпячивала крупные груди и снимала чулки, обнажая белые, крепкие ноги. Она почему-то ни капли не стеснялась меня, хотя я давно уже не был ребенком. Глядя в зеркало, она распускала волосы и расчесывала их гребнем. Я пожирал ее глазами, лицо мое пылало, колени подкашивались, все тело сотрясала лихорадочная дрожь, но оторваться я не мог. Она же с улыбкой взглядывала на меня, лукавые огоньки вспыхивали в глазах, и спокойно, ласково спрашивала:
— Тархудж, не хочешь освежиться? Если хочешь, дорогой, водичка в графине…
Во рту у меня пересыхало, руки тряслись, и, выходя из комнаты Жанны, я бывал совершенно разбит и изнеможен, словно после долгой болезни. Уже не помню, сколько продолжалась моя мука, помню, как она закончилась…
Была студеная зимняя ночь…
В тот день я получил двойку. Кроме того, на перемене сцепился с одноклассником и во время потасовки вышиб стекло книжного шкафа. А к концу занятий, как по вызову, в школу заявилась моя тетка, и от классной руководительницы узнала о моих грехах. Вы уделяете мальчику мало внимания, сказала учительница тете, и ее, по-моему, эти слова допекли больше, чем все мои проказы. Поэтому, вернувшись домой, я получил увесистую оплеуху и был выставлен за дверь:
— Убирайся, чтоб мои глаза тебя не видели!
Я очутился на улице. Целый день прошлялся голодный. Потом поднялся на Мтацминду и с пантеона долго смотрел на Тбилиси. Душа моя ныла — сколько домов в огромном городе, а мне негде приткнуться! Холод пробирал до костей, но податься было некуда. Церковь святого Давида заперта. Забраться на колокольню и как-нибудь устроиться там? Нет, ничего не получится. Окоченев от сидения, я начинал ходить по пантеону и рассматривать могилы. Вот Важа, вот Илья, вот Акакий[20], вот Бараташвили. Подолгу простаивал я у могил этих гигантов, забыв о своей беде, но согреться все равно не мог. И мертвые и живые отступились от меня.
Наконец, совсем стемнело. Я уже боялся оставаться на кладбище. Внизу, в городе, замерцали огоньки, я стал спускаться по склону, оставшийся без крова над головой, без цели. Где провести эту холодную ночь? Пойти на вокзал и устроиться в тепле где-нибудь на скамейке в зале ожидания? Наверняка привяжется милиционер и сведет в отделение. Может, забраться в поезд да махнуть в другой город? А кому я нужен в чужом краю, кто там ждет меня? На такой подвиг у меня не хватит смелости. К тому же настала ночь, и с темнотой я терял последнюю решительность. Лучше бы совсем не родиться, думал я; будь жив дядя Арчил, у меня была бы хоть какая надежда. Я брел вниз по Мтацминдской улице, по пути заглядывая в освещенные окна нижних этажей. В одних домах члены семьи, усевшись вокруг стола, пили горячий чай. В других — мужчины, уютно устроившись под абажуром, читали газеты. В третьих — женщины стелили постели. В одиночестве плелся я по темной улице, и горбившиеся от стужи прохожие не обращали на меня никакого внимания. Потом мне повстречался знакомый парнишка и спросил, куда я иду. Я ответил, что иду домой, и поинтересовался, куда он направляется в столь поздний час. Оказалось, что он был у дяди и теперь тоже возвращается домой. Некоторое время мы шли вместе. Хочешь, завтра в кино сходим, предложил он, новую картину привезли. Завтрашний день для меня был окутан туманом. Не знаю, ответил я. Потом мы расстались. Он и вправду побежал домой, и я искренне позавидовал ему! Совершенно механически, безо всякого умысла с моей стороны, ноги принесли меня к дому. Сдерживая сердцебиение, остановился я у ворот. Неужели никто не хватился меня, неужели никого не беспокоит, где я пропадаю ночью? Все было тихо. Внезапно я почувствовал, что сломлен и побежден, мне хотелось разреветься, слезы навернулись на глаза. Я ждал, что появится кто-нибудь — тетка, теткин муж, сосед и заберет меня домой, явиться самому не хватало смелости и не позволяла гордость. Но вокруг не было ни души. Я открыл парадное и поднялся на четвертый этаж. Узким темным коридором, из которого годами не выветривался тяжелый, застойный запах, прошел я на общую галерею — опять никого. Не лезть же на чердак? Там вполне можно было переночевать, но я боялся крыс. Сколько раз я видел, как они шныряют по чердаку. В Жанниной комнате горел свет, но было тихо, видимо, сегодня она никого не принимала. Я оперся о перила и, перегнувшись, поглядел вниз, на наши окна. Мне хотелось узнать, что делается дома, но в коридоре было темно, а комнаты отсюда не видно. Тут я совсем отчаялся. Из соседнего двора донесся пронзительный женский крик…
Неожиданно за моей спиной распахнулась дверь, и я испуганно обернулся. На пороге в теплом халате и в красивых турецких шлепанцах стояла Жанна.
— Тархудж? — удивилась она. — Что ты тут делаешь?
— Ничего.
— Почему ты гуляешь так поздно?
Совершенно неожиданно для себя, не знаю уж, сознательно или нет, с какой такой надеждой я вдруг выложил всю правду:
— Меня из дому выгнали.
Жанна рассмеялась:
— Из дому выгнали?
Она вышла на балкон, огляделась. Приблизилась ко мне, положила на мое плечо руку и выглянула во двор.
— Кто-нибудь видел, как ты поднимался?
— Нет.
— Тогда я позову твою тетю и скажу, что ты здесь.
В ее бойком ласковом голосе мне чудилось сочувствие, рождавшее некое подобие надежды. В глубине души я вовсе не был против, чтобы она позвала тетку, но Жанна не стала никого звать:
— Ну и мороз, заходи в комнату.
В комнате было жарко. Топилась печь, и меня, натаскавшегося по холоду, сразу бросило в жар. Жанна стащила с меня пальто и повесила на вешалку. Уши у меня горели, представляю, какие они были красные.
— Где это ты так промерз? — спросила Жанна. — Проходи, садись к печке.
Она усадила меня на тахту и сама опустилась рядом. Я не знал, как долго будет продолжаться мое блаженство. Не знал, скоро ли меня выставят за дверь, на мороз и ветер, и поэтому сидел в полной растерянности. От холода и усталости ныли все суставы. Жанна взяла мои ладони в свои хорошенькие ручки, мяла их, растирала, затем сунула под мышки, невольно прижавшись ко мне грудью.
— Хоть руки тебе отогрею, закоченел совсем, — проговорила она с улыбкой.
Ее дыхание, прикосновение теплого, душистого тела еще большим жаром обдавали меня. От голода, тепла и близости посторонней женщины кружилась голова. Прижав локтями мои ладони к своему телу, она все допытывалась: за что меня выгнали из дому. Но мне было не до разговоров, лицо мое пылало, силы оставляли меня. А Жанна говорила что-то ласковое, ее лицо было рядом с моим, произнося слова, она дышала на меня запахом зубной пасты. Я видел черный пушок на верхней губе Жанны, видел, как порхают ее подкрашенные ресницы, мне хотелось отстраниться, отодвинуться от нее, но я сидел в оцепенении, словно завороженный удавом кролик.
— Есть хочешь? — спросила она.
Я только кивнул. Отпустив мои руки, она встала, открыла шкаф и принялась доставать посуду. При этом она, ласково улыбаясь, продолжала разговаривать со мной, и странное, почти материнское тепло ее голоса манило меня, притягивало к этой чужой женщине, которая сейчас заботилась обо мне.
— Ты хороший парень, Тархудж, только очень распущенный… К тому же я замечаю, что ты любишь девочек…
Это было совершеннейшей выдумкой.
— Будь я на месте твоей тети, я бы, знаешь, что сделала? …Высекла тебя хорошенько и заперла бы дома. Брось Сумбата и его дружков, они тебя до добра не доведут. Разве они ровня тебе? Ты из порядочной семьи. Я потому учу тебя, что в матери тебе гожусь. Сколько лет было бы сейчас твоей матери?
— Сорок.
— А мне двадцать девять. Ну, если не в матери, так в старшие сестры, поэтому запомни, что я говорю — негоже гоняться за девочками…
Я не понимал, при чем тут девочки? Правда, в ту пору я водился с Сумбатом, но в глубине души всегда посмеивался над его поступками. Я был убежден, что никогда не стану делать того, что делает Сумбат. Я даже представить себе не мог, как это я начну нахально приставать на улице к девушкам… С удовольствием прихлебывал я сладкий чай, рот у меня был набит хлебом с маслом, и я не мог ответить ничего вразумительного. Насытившись, я избавился от противного головокружения, почувствовал себя значительно лучше.
— Коньяку выпьешь? — предложила Жанна, наполняя рюмку коричневатой жидкостью.
Мне случалось пробовать вино, но коньяк и водку — никогда, поэтому я отказался. Тогда Жанна выпила сама, встала из-за стола и принялась убирать посуду. Я снова пересел на тахту и протянул ноги к кафельной печи. Жанна унесла посуду, подошла к печке и долго, с лукавой улыбкой глядела на меня.
— А теперь одевайся. Провожу тебя, помирю с тетей.
Я поднялся медленно и нехотя.
— Не надо меня провожать, сам дойду, — сказал я.
— А не обманешь? В самом деле пойдешь?
Домой я не собирался, но и подумать о том, что снова окажусь на улице, было страшно. Я окончательно пал духом. Если бы Жанна пошла со мной — другое дело, но заявиться домой один я не мог.
— Ну, я пошел, — буркнул я и направился к вешалке.
— Я бы тебя проводила, да холодно, лень выходить, — зевнула Жанна.
Я снял с вешалки пальто. Подойдя к двери, Жанна пристально взглянула мне в лицо. Она была выше меня почти на голову. Та же лукавая, пытливая улыбка не сходила с ее губ, а я почему-то упорно глядел в пол.
— Знаешь что, Тархудж? По глазам ведь вижу, что ты врешь, — сказала она наконец. — Не похоже, чтобы ты отправился домой. Давай переночуй тут, а утром я сама сведу тебя к тете.
Она открыла шкаф, достала одеяло и подушку и постелила мне на тахте. Спать в чужой квартире было как-то непривычно. Жанна зажгла ночник и выключила люстру. Смутный зеленоватый свет падал на пол и на застеленную тахту. Комната сразу преобразилась, даже стены приобрели иную окраску. Я почувствовал себя совершенно чужим здесь и с грустью вспомнил о своей кровати, но стоило Жанне сказать, чтоб я раздевался и ложился, как я моментально подчинился, сбросил верхнюю одежду и нырнул под одеяло. Каменное напряжение сковало меня, и я понимал, что не смогу заснуть. Жанна надежно заперла входную дверь, пожелала мне спокойной ночи и удалилась в свою комнату.
Я слышал, как она снимала халат, чулки, слышал щелканье резинок и таинственный шорох белья. Слышал, как она причесывает волосы. Лежа с открытыми глазами, я глядел в потолок. Потом Жанна снова вышла из своей комнаты в короткой, прозрачной комбинации, открывавшей голые ноги, руки и грудь. Ее черные волосы разметались по плечам. Она босиком подбежала к шкафу и приоткрыла дверцу.
— Мне надо переодеть рубашку, зажмурься, чертенок, не смей подглядывать, — кокетливо приказала она.
Разумеется, я не закрыл глаза и видел, как она скинула тонкую, прозрачную комбинацию и осталась нагишом. Меня затрясло, как малярийного, зубы стучали. Потом я услышал совершенно спокойный, твердый голос Жанны — без тени волнения, но зато насмешливый:
— Тебе не холодно?
Я не ответил. Жанна приблизилась к тахте. Теперь на ней была длинная белая ночная рубашка, но я по-прежнему видел ее совсем раздетой, воспринимал, как обнаженную, и еле сдерживал себя, чтобы не кинуться на нее. Вместе с нестерпимым желанием я ощущал непреодолимый страх.
— Хочешь, вторым одеялом накрою?
— Нет, — еле вымолвил я и не узнал собственного голоса.
— Ты так дрожишь, я уж подумала, что тебе холодно, — засмеялась Жанна, потрепала меня по голове, выключила ночник, сказала еще раз: — Спи! — и ушла.
Я прислушивался к скрипу кровати в соседней комнате и не находил себе места. Затем все смолкло. Стояла полнейшая, до звона в ушах тишина. Я не ощущал ни времени, ни пространства, ни предметов. Я лежал не двигаясь, и в комнате раздавался только стук моего сердца. У меня было такое чувство, будто, кроме этой комнаты, ничего на свете не существует. Потом, выждав довольно долгое время, я осторожно спустил ноги на пол. Тахта скрипнула. До меня донеслось слабое покашливание Жанны. Не спит, подумал я. Ноги были как ватные. Я шагнул к Жанниной комнате, но тут же вернулся и закутался в одеяло. Мне чудилось, что стук моего сердца слышен во всем доме. Воздуху не хватало. Затаив дыхание, я лежал одеревеневший, напряженный, не в силах успокоиться, не находя себе места. Я снова встал, какая-то неистовая, доселе неведомая страсть тянула меня, терзала, и я не понимал, что делаю, куда несут меня ноги. На ощупь прошел я мимо печки, нашарил косяк двери, и в это время снова раздался скрип кровати. У меня чуть не разорвалось сердце, я решил вернуться, но все-таки пошел вперед и уже не помню как, весь дрожа, присел на кровать Жанны. Она встрепенулась, отпрянула к стене, но мне почему-то показалось, что она ждала меня, и отодвинулась к стене не от испуга, а чтобы освободить мне место.
— Что такое? Что тебе здесь нужно? — строго и торопливо выпалила она, но тут что-то сгребло меня, швырнуло куда-то с молниеносной быстротой, и до сознания смутно донесся страстный шепот женщины:
— Постой, я никуда не денусь…
На следующее утро, еще до свету, не спавший, изнуренный и разочарованный, спускался я по лестнице, успев возненавидеть и эту жаркую комнату, и пышную ее хозяйку. «Ты мой птенчик, мой маленький петушок, но ко мне больше не приходи, хорошо?» — вспоминались мне последние слова Жанны. Хоть она и произнесла их как можно нежнее, я ощущал в них страшную фальшь, как будто этой фальшивой нежностью она пыталась загладить преступление или уродство, и я твердо знал, что никогда больше не поднимусь к ней: настолько влекущим, но в то же время жутким и унизительным представлялось мне то, что я испытал нынешней ночью. «И это все? Из-за этого безумствуют люди?» — разочарованно думал я, сходя вниз по ступенькам.
Я миновал квартал Анчисхати и продолжал вспоминать свое детство.
После той ночи я уже никогда не поднимался на четвертый этаж. Всячески избегал Жанну, и она не обращала на меня внимания. Увлеченный своими друзьями и делами, я презирал девчонок, а когда ребята заводили разговоры о любви, я с презрительной усмешкой думал: «Эх, сосунки, что вы понимаете в женщинах?» На самом деле, считал я, они совсем не так привлекательны, как кажутся издалека. Уверовав в эту истину, я потерял охоту знакомиться и сближаться с девушками. Но минуло время, я забыл причину своего разочарования. Снова захотелось испытать то, от чего одно время воротило с души и что снова представлялось желанным, мое временное отвращение растаяло мартовским снегом, испарилось; самозабвенное стремление к женщине снова взбаламутило меня и с еще большей силой и на сей раз совершенно по-иному вспыхнуло во мне.
По всей вероятности, в душе подростка сначала пробуждается чувство, и только после этого появляется предмет, на который оно должно быть направлено. Не предмет вызывает чувство, но существующее до него чувство выбирает объект твоего увлечения. Поэтому в ранней юности так часто меняются объекты, на которые направлено твое чувство, даруемое тебе природой, а вовсе не той женщиной, в которую, как тебе кажется, ты влюблен. На самом же деле ты был влюблен и до ее появления. Первично состояние твоей души, а не личность, которая представляется тебе причиной этого состояния. Личности в любую минуту могут заменить одна другую, но сознание того, что ты должен непременно любить в определенный период — постоянно, неизменно и цельно. Только случай или самовнушение направляют твое чувство к определенной женщине. Но это еще ничего не значит. То, что в какой-то момент мы выбрали одну женщину, только и только ее, и, кроме нее, не желаем никакой другой, является чистой случайностью, самовнушением и больше ничем. В этом меня убедил собственный опыт или, вернее, Софико, которую я прекрасно знал и до памятного концерта…
А на тот концерт мы пошли вместе совершенно случайно. В один прекрасный день — тогда я, кажется, уже учился в университете — ко мне забежал Вахтанг, принес билеты на концерт и предупредил, что с нами пойдет Софико. Эту девушку двумя-тремя годами младше меня я знал с детства. Ее родители и родители Вахтанга дружили домами, и я часто сталкивался с ней то у Вахтанга, то на улице, вежливо здоровался — и не больше. Она жила своей жизнью, которая меня нисколько не интересовала, я — своей. Только и было, что однажды — в то время я заканчивал школу — после дневного сеанса в кино я увидел, что к Софико и ее подруге пристает какой-то парень, и, когда он изрядно надоел им, я вмешался и как следует поколотил нахала. Вот и все. Этим исчерпывались наши отношения. Разумеется, я ничего не имел против, чтобы Софико пошла с нами на концерт.
И мы пошли. В фойе было полно народу, преимущественно молодежи. Опьяняющий аромат духов носился в воздухе, ослепительно сверкали люстры, звонко смеясь, горделиво прохаживались женщины, демонстрируя, как я заметил, свои наряды, словно сейчас ожидался конкурс мод, а не концерт. Около нас останавливались знакомые, спрашивали о чем-то, вступали в разговоры. Некоторые заглядывались на Софико, и я вдруг заметил, что наша Софико уже не ребенок…
Вахтанг отстал от нас, поглощенный беседой. Софико взяла меня под руку, и мы вместе прошли в зал. И внезапно я понял, что Софико превратилась в прелестную, изящную девушку, и подивился, как можно было до сих пор этого не замечать…
Все оборачивались, провожали нас взглядами, и неожиданная гордость переполняла меня, гордость от того, что эта красавица шла со мной под руку и в данную минуту принадлежала мне. Назойливые взгляды посторонних не раздражали, напротив, льстили моему самолюбию, я сиял от гордости, и до меня не сразу дошло, что радоваться, собственно, нечему. Кем была для меня Софико? Никем. Как ни горько, но пришлось признать, что она вовсе не принадлежала мне и самодовольство мое не имело никаких оснований. Это сознание омрачало мою радость, хотелось сию же минуту покорить Софико, не отпускать от себя, не уступать никому, чтобы упоение, только что испытанное мной и высоко возносящее меня в собственных глазах, не исчезало никогда, сохранялось подольше, приобрело почву и оправдание. Странное тепло согревало меня, и, опускаясь в кресло рядом с Софико, я убедился, что она совершенно преобразилась в моих глазах: я был безумно влюблен.
С того вечера начались мои мучения. После концерта, едва мы проводили Софико до дому, Вахтанг открыл мне свое сердце. Он сказал, что любит Софико.
— Софико прекрасная девушка, — почему-то совершенно спокойно согласился я.
— Правда, она необычайная, ты чувствуешь это, Тархудж?
— Чувствую.
— Знаешь, как я счастлив?!
— Поздравляю тебя, мне кажется, она тоже неравнодушна к тебе!
Спокойно внимал я восторженной исповеди моего друга. Потом он отправился домой, и я остался один. Мне было как-то не по себе. «Глупости! Я должен выбросить ее из головы!» — твердо решил я, но в ту же ночь убедился, что далеко не все зависело от моего чистосердечного желания, во всяком случае, забыть эту девушку я не мог. Не мог забыть гордость и блаженство, которые испытал в концертном зале, сидя рядом с Софико, Но любовь друга накладывала запрет на эту радость, а поскольку я был единственным, кто знал сердечную тайну Вахтанга, мне каждый день приходилось выслушивать его восторженные излияния, ободрять его, внушать ему надежду, и я всеми силами старался изгнать из сердца образ Софико. Но чем чаще я думал об этом, тем труднее становилось сопротивляться чувству, и, встречая Софико, я бледнел, будто у меня заходилось сердце. А в ту пору, по милости Вахтанга, я очень часто встречался с ней, она привыкла ко мне, и иногда мне казалось, что мое общество доставляет ей большее удовольствие, чем общество Вахтанга, но подобные мысли я пресекал тут же. Софико же не догадывалась ни о моей, ни о Вахтанговой тайне. Она была вольна и свободна, так, по крайней мере, казалось мне. Мы часто гуляли вместе, и я старался вовсю расхваливать своего друга, находил у него всевозможные превосходные качества, в которых судьба отказала мне, и когда Софико соглашалась, когда мне удавалось убедить ее, что Вахтанг во всех отношениях лучше меня, мне становилось не по себе. И все-таки я был предателем, мне, видимо, на роду было написано стать невольным предателем. И именно тогда, когда я, наконец, твердо решил не встречаться с Софико, она пригласила меня на день рождения. Разумеется, я не собирался идти, но Вахтанг зашел за мной и насильно потащил с собой. Начни я чересчур упираться, у него могли возникнуть подозрения, поэтому мне пришлось покориться. Уже не помню, что происходило на дне рождения. Помню только, что расходились мы весьма навеселе. Софико прощалась с подругами на лестнице, обнимая и целуя их. Удивительно нежной выглядела она в этот миг со своими слегка прищуренными глазами. Подвыпивший и беспричинно веселый, спускался я, окруженный друзьями, по лестнице. И вдруг Софико неожиданно окликнула меня:
— Тархудж, погоди!
Я остановился. Она пробежала несколько ступенек, обняла меня и поцеловала в щеку:
— Спасибо, что пришел!
Я вдруг почувствовал себя невероятно счастливым, я понял, что без памяти люблю Софико, и с этим чувством ничего не поделать, не было человека счастливее меня. Умышленно отстал я от компании, мне хотелось побыть одному. Блаженной тишиной и темнотой встретил меня садик на Вере. Я растянулся на длинной скамье под старой чинарой, закинул руки за голову и уставился в небо. Мне казалось, что я нахожусь в дремучем лесу совершенно один, и одиночество радовало меня. Было холодно. Пар изо рта походил на табачный дым. Но я не курил. Я лежал молча, глядя на мерцающие в бесконечной вышине над городом звезды. «Спасибо, господи! — повторял я в душе. — Спасибо за то, что ты одарил меня любовью к Софико!» Я не до конца понимал, за что благодарил бога, ведь ничего особенного не произошло. Но я ощущал безграничное счастье и за него благодарил весь мир, который сейчас был таким дорогим и добрым ко мне. Я был счастлив не от того, что кто-то любил меня, но от того, что любил сам! Холодный шелест густых деревьев согревал сердце. Бродячая собака, прибежавшая откуда-то, обнюхавшая меня и усевшаяся неподалеку на землю, казалась мне родным существом. Подмораживало, но я распахнул ворот. Счастье не умещалось в груди, я будто намеревался преодолеть неведомую грань, будто робко стоял у врат чего-то непознаваемого, взволнованный неожиданным открытием и внутренне трепещущий. Блаженный туман окружал меня, и я, не противясь, отдался этому туману, растворился в нем, а на рассвете меня разбудил дворник.
В ту ночь я окончательно убедился, что люблю Софико. Но почему я полюбил ее? Ведь раньше, на протяжении многих лет, я не обращал на нее ни малейшего внимания. Наверное, я полюбил ее потому, что, когда во мне внезапно пробудилось желание любви, милостью необъяснимого случая Софико оказалась рядом, и мое только что возникшее, пока еще внеобъектное чувство помимо моей воли устремилось к ней. Конечно, Софико всегда нравилась мне, но сейчас я уверен, что повстречайся мне в тот момент и в той же ситуации другая девушка, я бы не влюбился в Софико.
А любить ее было бессмысленно. Я не мог признаться ей в своей любви. В моем представлении она принадлежала другому; мне же оставалось только мучиться. Но я стойко сносил свои муки. Я все усерднее тщился выбросить Софико из сердца, заставить себя поверить, что ошибаюсь, что не люблю ее, что она ничего для меня не значит — напрасно… Никто больше не интересовал меня, ни на кого не обращал я внимания. Иногда я сознательно сближался с какой-нибудь доступной женщиной, чтобы снова вызвать в себе то отвращение, к которому меня приобщила когда-то Жанна и которое я затем перенес на всех женщин. Но когда я проводил ночь с такой женщиной, наутро я ненавидел самого себя, еще больше — свою недостойную подругу, и снова мечтал о Софико, которая рисовалась мне чуть ли не святой, так высоко возносил я ее. Я не мог представить, что можно целовать и обнимать ее, одурев от страсти. Да и страсти-то не было, всякая физическая близость казалась мне грязью, словно Софико была небесным, а не земным созданием. Однако один бог ведает, не руководило ли мной такое же нестерпимое желание, которое некогда толкнуло меня к Жанне, только глубоко запрятанное, подавленное, нарочно завуалированное, переплавленное и преображенное в недрах сознания?
Самое удивительное, что я не пытался ничего изменить. Кроме Софико, я ни о ком не думал и никого не желал. Ко всему же еще подмешивалась надежда, что все вдруг само собой изменится к лучшему, хотя я не представлял, что должно случиться, как может измениться мое состояние, которое я усердно скрывал от всех. Время между тем шло, я привык к своей безответной любви так же, как хронический больной привыкает к неотвязному недугу. Мое молчание, вечное притворство и полнейшая бездеятельность действовали на нервы, иногда хотелось разом оборвать всю эту неясность, и, хотя я сознавал неразумность своего желания, мне все-таки хотелось, чтобы Софико узнала правду.
Однажды…
Это случилось вскоре после гибели Важа.
…Была осень. Я сидел в ресторане на Нарикале и пил, любуясь вечерним, по-осеннему пестрым и грустным садом, багряными, желтыми и зелеными тонами. «Суета сует, все суета», — неотвязно вертелось в голове, и я неожиданно встал из-за стола. Друзья с удивлением воззрились на меня:
— Ты куда?
— Через час вернусь.
— Пойти с тобой? — предложил Вахтанг.
Насмешливо улыбнувшись, я наклонился и поцеловал его.
— За здоровье того предателя, который не заслуживает смерти, — как заправский гуляка провозгласил я, опорожнил стакан и пошел прочь.
Я уже не помню, как оказался у дома Софико. Хмель одолевал меня все больше. Я вытер пот с лица, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Послышалось шарканье шагов, дверь отворила домработница.
— Софико дома?
Софико была дома. Она лежала на диване и при свете бра читала книгу. В голубом платье с высоким глухим воротом она казалась легкой и воздушной, как весенний туман, подернувший на заре синие горы. Лицо ее выражало какое-то смутное ожидание. В тонкой, еще не оформившейся фигуре, казалось, не было ничего женского, но нежнейшая женственность незримой аурой окружала все ее существо.
— Тархудж? — с ласковой улыбкой приподнялась она и указала на стул рядом с диваном. — Ты пьян?
Она всегда встречала меня приветливо и ласково. Я сел на стул и долгим взглядом посмотрел ей в лицо. И снова, в который раз, почувствовал, как поразительно дорога она мне. Дорога и близка, далека и недоступна. Я начал говорить. Я почти шептал; пересыхал рот, но я не останавливался, словно боясь, что меня перебьют, не выслушав до конца. Я сказал все, что хотел сказать, все, что столько времени таил в душе, все, что запруженной рекой рвалось наружу, грозя прорвать плотину и погубить меня. Я чувствовал, как открылись шлюзы, представив водовороту выход, и я постепенно становился все более и более свободным, пустым, опустошенным, курил сигарету за сигаретой и говорил, говорил, говорил… Я говорил, что безгранично, больше самого себя люблю ее и у меня уже нет больше сил молчать и выносить эту муку. Я говорил, что не ищу сочувствия, не желаю его, поэтому мы должны расстаться, стать чужими, пусть отныне она не считает меня своим другом, а я постараюсь как-нибудь забыть ее, так лучше для нас обоих, другого выхода нет, да я и не могу по-другому…
Подобные слова наверняка приятны каждой женщине, но даже отблеска радости не заметил я на лице Софико, она не отводила от меня растерянных и удивленных глаз, в которых блестели слезы. Но бог знает, были это слезы печали или затаенной гордости? Может быть, мой поступок не казался ей таким преступлением, каким считал его я сам? В те годы я был юн и наивен, еще не понимал, что не существует такой женщины, которой не льстило бы объяснение в любви, от кого и в какой форме оно бы ни исходило.
— Я считаю тебя своим лучшим другом, все это так неожиданно…
— Знаю! — перебил я. — Знаю, но что делать? Ты должна простить меня, что я невольно перешагнул эту грань… Я сознаю, что я виноват…
— Нет, ты не виноват!
Конечно, виноват, но она должна простить меня… Нам надо расстаться…
— Если ты настаиваешь, хорошо, пусть будет так… Мне это будет очень тяжело, но…
— И мне тоже, но…
Я поднялся.
— Наклонись, я что-то скажу тебе.
Я нагнулся. Она обхватила меня за шею и прижалась к моей щеке. И ощутив прикосновение ее теплого, душистого лица, я чуть было не забыл про Вахтанга, чьим поверенным в сердечных делах был долгое время, дружба с которым накладывала запрет на любовь к этой девушке, и внезапно мне открылось, что из-за всего этого я давно уже не люблю Вахтанга так, как прежде…
Потом я слонялся по улицам, не зная, куда деваться от пронзительного ощущения одиночества и пустоты. Высохла даже та лужица, что оставалась от ломящегося в плотину грозного водоворота, все было кончено. Рухнули дома, повалились деревья, город уподобился пустыне. И в этой пустыне был я один. Брел, пошатываясь, хотел плакать и не мог. Было поздно — объяснение мое, видимо, затянулось, — редко попадались прохожие. Я даже не вспомнил об оставленных в ресторане друзьях. Иная жизнь ждала меня отныне. Душа скорбела, но в то же время я замечал, что чему-то, как ни странно, радовался. Мне самому не верилось, удивлялся этой радости, смешанной с грустью. Меня явно радовало, что я наконец-то избавился от тяжкого бремени, столь долго меня угнетавшего. В конечном итоге я выложил все, на что не мог прежде решиться. Именно это доставляло радость, и в то же время сердце мое разрывалось от горя. Я потерял надежду, что впереди меня ждут свет и счастье. Нетвердой походкой брел я по улице. Никогда еще не ощущал я себя таким беспомощным.
Не помню, долго ли носило меня по улицам — отупевшего, потерявшего надежду, одурманенного. Только вдруг я заметил своего друга Парнаоза, еще более пьяного, чем я.
— Аух! — как сумасшедший завопил он. — Здорово, Тархудж!
— Будь здрав, Парнаоз! — живо откликнулся я и сразу пришел в себя.
Мы обнялись.
— Вы, кажется, где-то кутили, юноша! — патетически провозгласил Парнаоз, оглядывая меня с головы до ног.
— И вы тоже не выглядите голодным и жаждущим!
— Ха-ха-ха-ха! — закатился мой веселый приятель. — Когда в полночь встречаются две благородные личности, это дело необходимо отметить! — воскликнул он.
— Непременно! — поддержал я.
— Тогда — вперед! — Парнаоз простер руку, и полчаса спустя мы уже были в Ортачала, сидели на застекленной веранде старого дома Парнаоза и тешились вином.
Наутро я проснулся очень рано. Голубоватый свет заливал веранду. Со сна я сначала не сообразил, где нахожусь. Постепенно узнал тесную комнатушку Парнаоза. Услышал храп — одетый Парнаоз спал, растянувшись на тахте. Стол был завален неприбранной посудой и пустыми бутылками. Я припоминал, как заявился сюда среди ночи, как пил, пел и хохотал. Вспомнил свое взвинченное веселье. Затем вспомнилась Софико, ее полутемная комната, где я высказал все, где без утайки открыл душу и сразу обрел удивительную свободу. Необычайные легкость и радость окрыляли меня. Я был горд, что пересилил себя, избавился от рабского ярма, так долго тяготевшего надо мной, как будто разом разорвал цепи и освободился. На редкость привлекательным представлялось мне будущее в то утро.
Нечто подобное пережил я, когда умерла моя тетя. У нее случилось кровоизлияние в мозг, и три дня бедняжка находилась в беспамятстве. За эти три дня я не сомкнул глаз, не проглотил и куска хлеба. Как ненормальный носился я то за врачами, то в аптеку, словно утопающий хватаясь за любую соломинку в надежде спасти тетю. И вот однажды вечером, когда я бегом возвращался домой с лекарствами, на лестнице меня остановил один из наших родственников:
— Мужайся, Тархудж, тетя скончалась…
И первое, что вместе с пронзительной душевной болью испытал я в это мгновение, было облегчение, даже что-то вроде радости, оттого что мучительное ожидание закончилось. Видимо, самое невыносимое в жизни — это неопределенность…
С того дня я перестал мечтать о Софико и окончательно избавился от своего наваждения. Думается, это удалось мне потому, что к тому времени страсть моя исчерпала себя, и хотя Софико оставалась такой же, ничуть не изменилась, чувств моих как не бывало. Конечно, первична — страсть, независимое ни от кого желание любить. Будь это не так, нам не удалось бы забыть одну женщину и увлечься другой. Но поскольку нам удается это сделать, значит, любовь к женщине отнюдь не бескорыстна. В таком случае можно ли такое чувство называть любовью?
Каждому ясно, что бескорыстная любовь не требует взаимности. Истинной любовью следует называть только такое чувство, когда ты готов отдавать, жертвовать всем, ничего не требуя взамен. Такова любовь каждого нормального родителя к детям. Родители ведь никогда не забывают о своих чадах. Такова примерно любовь каждого великодушного человека к ближним, к родине, к миру. Но кто способен столь же бескорыстно относиться к женщине? Как бы ты ни сходил с ума, не добившись взаимности, в конце концов охладеешь к той, без которой не представлял себе жизни; так что же такое эта неистовая страсть, облачаемая почему-то в покровы красоты, но сама по себе отнюдь не прекрасная, а просто неизбежная? Помимо восхитительного, сколько унизительного, лживого, мелочного и даже смешного обнаруживается в отношениях мужчины и женщины? Кто знает, может, некоторые оттого и стараются представить эти отношения в самом радужном и привлекательном свете? Ведь всякое стремление к красоте в принципе основывается на уродстве. Но мы старательно закрываем глаза на этот факт. А то, что лишает нас покоя, — просто-напросто грубый и неизбежный закон, и мы — носители этого закона с рождения, как, впрочем, и носители смерти, которая в нас изначальна. А стремлению к красоте мы обучаемся потом. Ибо прекрасное — так или иначе продукт определенной культуры, а не отвлеченное, независимое понятие.
Многое человеку дано заведомо, многое он чувствует и знает еще до того, как испытает сам. Я помню, как пережил в детстве воображаемую смерть матери, когда однажды, возвращаясь из школы, увидел через зарешеченное окно первого этажа молодую покойницу, лежавшую посреди комнаты, и маленькую девочку с бантом в волосах. Та смерть не касалась меня, но, поскольку смерть как таковая была во мне, я проникся ею, перенес ее на свою мать и пришел в ужас. Одно время я столь же отчетливо переживал безнадежную любовь Бараташвили к Екатерине Чавчавадзе, и я мучился вместе с Тато, и я любил некую свою Екатерину Чавчавадзе, не зная еще, кому в моей жизни отведется ее роль, в чьем образе воплотится этот символ. Но все-таки муки неразделенной любви я испытал прежде, чем мне в действительности пришлось изведать это далеко не приятное чувство…
…Между тем улицы Анчисхати остались позади, и я вышел к набережной. Свежий запах воды обдал меня, запруженная Кура отливала зеленоватым, мшистым цветом. Я оперся на парапет и уставился в воду. Из-под моста показался катер, поднявший волну. Короткие волны одна за другой зашлепали о гранитные стены набережной. На палубе катера стояли двое молодых людей. На том берегу реки виднелись очертания Чугурети, за ними, на скале, — Авлабар и Элиа, а еще выше, за железной дорогой, — Арсенальная гора… Горбатые улочки, пересекающиеся друг с другом, причудливые, скособоченные дома…
Я продолжил путь и, идя сквером, смотрел снизу на проносящиеся по белокаменному мосту трамваи и машины. В школьные годы, удрав с уроков, мы часто собирались в этом сквере и играли в чехарду. Сейчас я с удовольствием вспоминал прогулянные уроки, волнующее ощущение свободы и риска, которым охвачен каждый прогульщик. Из этого сквера прекрасно видна Мтацминда. А Мтацминду я любил больше всех районов Тбилиси…
Может быть, и в этой любви был повинен Бараташвили. Мтацминда и Бараташвили с самого начала представлялись мне неразрывным понятием. Я почему-то всегда гордился тем, что сто лет назад Бараташвили учился в той же школе, в стенах которой и я провел часть своей жизни. Опершись спиной о гранитный парапет, я загляделся на Мтацминду. Я видел и белый храм святого Давида, и верхнюю станцию фуникулеров, и маленькие, со спичечный коробок, вагончики, и сверкающую телевизионную антенну, стрелой вонзившуюся в ярко-голубое небо. А во времена Бараташвили отсюда можно было видеть один лишь храм…
Школа, по правде говоря, не оставила по себе счастливых воспоминаний, но сейчас, после стольких лет, я с какой-то сладкой грустью ощутил то весеннее, расслабляющее тепло, когда после уроков мы, галдя, карабкались вверх по крутой тропинке Мтацминды, а вокруг источали благоухание белый миндаль, расцветшая сирень и акация; покрытые густой зеленью склоны и размытые, глинистые обрывы были прекрасны, как во сне. Внизу бурлил и бушевал, никак не мог угомониться огромный город, но какая поразительная тишина стояла в пантеоне. Тишина и прохлада! Откуда-то доносились журчание сочившегося из скалы родника, шелест листвы, пенье дроздов, а на одном из деревьев неустанно свиристела невидимая пичужка — чжж, чжж, чжж… Воздух пропах сладковатым ароматом кладбищенских ирисов, и я подолгу простаивал здесь в одиночестве, отрешенный от городского шума и суеты, вслушиваясь в дивную мелодию:
Сейчас здесь не чувствовалось ни таинственности, ни пустынности, но эта грустная песнь души, это глубокое, скорбное чувство все равно целиком были моими. Я в задумчивости замирал у могилы своего старшего товарища по школе; мне не довелось встретиться с ним, но казалось, я давно знаю его и всем существом привязан к нему. Это была настоящая любовь — бескорыстная, возвышенная и прекрасная. Ничего подобного не испытывал я ни к кому на свете, и завидовал Тато за эту чистую любовь, за то чувство, которое сам к нему питал. Как мне хотелось, чтобы кто-нибудь, когда-нибудь с такой же силой полюбил меня! Погруженный в раздумья, стоял я у могилы, и в эти минуты Тато был во мне, а моем существе, которое как бы раздваивалось — одна, невидимая часть его отторгалась, от другой, видимой, и, оторвавшись от материальной сущности, от законов, времени и пространства, существовала, только тем настроением, которым был охвачен маленький Тархудж Гурамишвили, беспомощный, слабый, мечтательный, не нужный никому на свете.
Стоял Тархудж у могилы своего гениального однокашника и представлял себя «Сиротливой душой»[22]. Он никого не понимал и не доверял никому. Он не знал, с кого брать пример. Родителей не помнил, не знал родительской любви и ласки. Детство его прошло в одиночестве. Он был чужим для всех, словно незваным явился в этот суровый мир, заранее побежденный эгоизмом и черствостью. Он был предоставлен самому себе. Целыми днями пропадал на улице, водился с уличными ребятами, дрался вместе с ними, сквернословил, но все-таки он отличался от них, все-таки был человеком иного склада, ибо любил стоять у могилы своего гениального товарища по школе, задумчивый и печальный, но все равно счастливый той любовью, которую испытывал к Бараташвили.
Солнце стояло высоко над городом. Я почувствовал голод. С утра бродил я по знакомым улицам, и маковой росинки не было у меня во рту. Медленно ступал я по дорожкам только что политого сквера, стараясь не испачкать обувь. Кирпичная крошка, которой были посыпаны аллеи, окрашивала воду в кроваво-красный цвет. Длинные скамьи по краям аллеи и каменные ступеньки лестницы, ведущей из сквера к мосту, были мокры. Сгорбленный старик садовник в изрядно намокшем синем халате, подтянув к кустам длинный резиновый шланг, мощной струей промывал листву. Он был небольшого росточка, с сильными, привычными к труду руками. С политых деревьев струилась вода, в воздухе пахло свежестью, как после дождя.
Я вышел на улицу, и огромная машина «Молоко» пронеслась перед самым моим носом. Грохоча и звеня, прокатил по мосту над набережной трамвай. На этом месте, где сейчас стоял я, когда-то протекал рукав Куры. Может быть, отсюда черпали воду водоносы, когда в Тбилиси не было водопровода. Потом русло засыпали, провели тут улицу, а старый мост остался. Я бегом пересек дорогу, чтобы не угодить под машины, мчащиеся на бешеной скорости, и направился к базару. Вдоль противоположной стороны улицы тянулись корты, где уже тренировались теннисисты. На девушках были короткие, как у балерин, юбочки, и, проходя мимо, я с удовольствием поглядывал на их стройные ноги. Потом я свернул к базару, и меня сразу обдало его гомоном. Ступив на базарную площадь, я едва не столкнулся с Шалвой Дидимамишвили. От радости и удивления я чуть было не окликнул его, но вовремя заметил, что он еле держится на ногах. Уважаемый Шалва уже успел где-то наклюкаться, и в таком состоянии не стоило встречаться с ним. Я шмыгнул за чьи-то спины, чтобы он не заметил меня, и слышал, как мой старый приятель внушительно убеждал своего высокого и небритого спутника с густыми черными волосами:
— Серый волк? А как же… знаю!
Остального я не расслышал. Они были крепко пьяны, и Шалва, и его друг. Столкнись я с ним лицом к лицу, он, возможно, и не признал бы меня. Выждав, когда они пройдут мимо, и ощутив себя в безопасности, я затесался в толпу и уже смелее стал наблюдать за ними. Спотыкаясь, плелись они по копошащейся площади, оглушенной зазывными криками цыганок: «Ваниль, ваниль, синька, рейтузы!», треском грузовых мотороллеров, гудками автомашин… Они останавливались и опять о чем-то спорили, может быть, снова о сером волке? Пошатываясь, брели сквозь пеструю толпу дальше, явно держа путь к новой закусочной…
Странным показалось мне, что в первый же день приезда я столкнулся с Шалвой. Он был все такой же. Как видно, за пять прошедших лет ничто не изменилось в его жизни. Останови я его давеча, он, верно, ни капли не удивился бы, уверенный, что видел меня последний раз пять дней тому назад, а может быть, попросил бы денег на выпивку. Но самым удивительным было то, что именно сегодня, когда Шалва несколько раз возникал в моей памяти, я повстречался с ним. Часто случалось так, что мне снился кто-то совершенно посторонний, а назавтра я непременно сталкивался с ним на улице, или где-нибудь возникал о нем разговор, и я сразу вспоминал свой сон.
На базар я не зашел.
Я любил этот базар, здесь иногда мы встречались с Мери. Мы бродили вдоль длинных прилавков, ломившихся под грудами фруктов и овощей, овеянных всевозможными ароматами, натыкались на других покупателей, которые в свою очередь толкали нас, внимали разноголосому гомону, покупали что приглянется и поднимались к Мери на Коджорскую улицу, в маленькую комнату, где нам так нравилось бывать вместе. В ту пору это было для меня главным и об остальном я не думал…
Это была рослая, смуглая, несколько худощавая девушка с черными, как у Жанны, глазами и чуть заметным пушком на верхней губе. Не подвернись она мне тогда, может быть, и Софико не забылась бы так легко. Одна женщина помогает забыть другую, другая — третью, и хотя говорят, что ту, которую любил больше всех, никогда не забудешь, но я в это не верю. Само слово «любил» подразумевает, что все в прошлом, что ты уже не любишь, что тебе до нее нет никакого дела. Новые заботы, появляющиеся у нас со временем, гасят и ту страсть, которая, возможно, была самой большой и сильной за всю нашу жизнь. Некоторые хватаются за какое-нибудь дело, чтобы понравиться возлюбленной, доказать ей что-то, но потом избранное дело захватывает человека, подчиняет себе, иногда он добивается цели, уже не помня, почему взялся за него, потому что с течением времени погасло чувство, давшее толчок его деятельности.
…Я свернул в узкий, но тем не менее людный переулок, где вдоль стен выстроились точильщики со своими станками.
…С Шалвой меня познакомил Вахтанг. Было время, когда Дидимамишвили дружил с его отцом. Сейчас трудно представить, как могли дружить такие разные люди, но, наверное, когда-то они мало отличались друг от друга по своему общественному положению… Пять лет назад и я не отличался от своих друзей и принадлежал к их кругу. Потом родной город опостылел мне, хотя сейчас, когда я снова оказался на его улицах, окруженный только воспоминаниями, былая любовь к нему вспыхнула с новой силой.
Переулок вывел меня на улицу Бараташвили. Перед мануфактурным магазином продавец в белом халате торговал газированной водой. Я выпил стакан. У тротуара стояло несколько машин. В булочную входили и выходили женщины. Допив стакан, я подошел к газетному киоску, посмотрел, что там есть, купил несколько газет. Киоскер предложил мне свежий номер иллюстрированного журнала. Я не собирался покупать никаких журналов, но седой киоскер был так любезен, что я не мог отказаться. Свернув газеты и журнал, я сунул их под мышку, пересек улицу и вошел в закусочную. У стойки тщедушный, худой старикашка в картузе, изрядно подвыпивший, ругался с буфетчиком в белом халате. У буфетчика была совершенно разбойничья рожа, да и сам он смахивал на буйвола.
— Хватит, пей и проваливай! — презрительно бросил он пьяненькому старику и взглянул на меня.
— Ты знаешь, что я с тобой сделаю?! — надтреснутым, петушиным голосом закричал старик, замахнулся на буфетчика, но не смог дотянуться до него через прилавок. — Ты что о себе воображаешь?!
Буфетчик только ухмыльнулся. Я не мог понять, почему скандалит старик.
Он забрал свой стакан и бутылку пива, смешно ковыляя, отошел к окну и остановился у высокого столика, едва доставая до круглой мраморной столешницы и бормоча что-то под нос. Думаю, что он продолжал ругать буфетчика.
— Сумасшедший какой-то, и чего прицепился, — проворчал буйвол в белом халате и снова взглянул на меня. — Чего желаете?
Я сделал заказ, встал у стола и развернул газету. Интересного ничего не было. Скоро буфетчик вышел из-за стойки и расставил передо мной тарелки с закусками. Я свернул газеты, отложил их и принялся за еду. Сквозь широкую витрину виднелась улица. Противоположная сторона ее была освещена солнцем. Проехал троллейбус. Какая-то точка в пространстве приковала мой взгляд…
…Раньше по этой улице ходил трамвай. После уроков мы часто приходили сюда и соревновались между собой в прыжках с подножки. Вспрыгнуть на площадку и соскочить на полном ходу считалось геройством. Двери у тогдашних трамваев не закрывались, и многие стали жертвами этого бессмысленного спорта. Именно так погиб Тенгиз, паренек из нашего квартала, единственный сын у родителей. Вспрыгивая на подножку, он поскользнулся и угодил под колеса трамвая на полном ходу. Славный был мальчик, тихий, воспитанный, года на два моложе меня. Все, бывало, ходил в английских брючках до колен и в гольфах. Учился играть на скрипке, из-за которой немало издевок перенес от местного хулиганья. Однажды у него отняли скрипку, а он, бледный, стоит и плачет. Я как раз возвращался из школы. Что, спрашиваю, плачешь? Рафик, отвечает, вырвал скрипку и не отдает. А Рафик с дружками стоят неподалеку и потешаются. Этот Рафик считался в нашем квартале отпетым типом, одно время даже сидел за воровство в детской колонии. Он был старше меня года на три, а в нашем возрасте такая разница имела большое значение. Отдай скрипку, довольно спокойно сказал я. А ты чего лезешь? — услышал в ответ. Я сунул портфель Тенгизу и медленно приблизился к Рафику, замирая от собственной храбрости, — верни скрипку, говорю я ему. А он мне: проваливай, за своим носом смотри! Пошли, говорю, посчитаемся! Я же сожру тебя, засмеялся Рафик. Тут я не удержался и выругался. Поглядите на этого сопляка, — с этими словами Рафик ударил меня в лицо.
— Ах, так! — прохрипел я и сбросил школьный форменный китель. Сердце мое готово было выпрыгнуть из груди от волнения и злости. Сразу же вокруг нас образовался круг, и мы сшиблись. Первый удар получился у меня как нельзя лучше — Рафик стукнулся головой о стену. Осмелев, я стал колотить его изо всех сил. Но он поддел мне под дых и повалил на мостовую. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Я перемазался в пыли и крови. Рафик бил меня лицом о булыжник, и я чувствовал, как текла кровь из разбитой брови, носа и губ. В отчаянье я полз к стене, чтобы хоть как-нибудь вывернуться из его когтей. Потом с большим трудом я высвободил одну руку, стиснул его лицо и что было силы вдавил в стену. А сам все всползал наверх, по стене, выбираясь из-под него и не разжимая пальцев. Полщеки ободрал ему о кирпичную стену.
— Пусти… твою мать, хватит! — завопил он.
Нас растащили, я поднялся, еле переводя дыхание. А Рафик даже встать не мог. Он сидел у стены, зажав грязными руками ободранную щеку и выл от невыносимой боли.
— Где скрипка? — спросил я.
Ее тут же принесли и отдали хозяину. Губы, нос, надбровья, все лицо у меня налилось синевой. Одежда была в грязи и крови. Помнится, боль не давала мне уснуть всю ночь, и я начал потихоньку скулить. Скулил я, должно быть, долго — проснулся теткин муж. Как ненормальный, вылетел он из своей спальни, вырос надо мной с перекошенным от злости лицом и с размаху закатил мне оплеуху. «Он, видно, никогда не образумится», — орал он, и бедная моя тетка, побаивавшаяся супруга, поддакивала ему:
— Прямо не знаю, что с ним делать, с ума он меня сведет, настоящий бандит вырос!..
Что поделаешь! Война только что закончилась, нервы у всех были расшатаны. И муж моей тетки немало пережил. Он был ученым, и научная работа, видимо, изрядно изматывала его. Да и я вращался не в лучшем кругу, многие из моих тогдашних приятелей плохо кончили. Кому тогда было дело до меня и моих сверстников?
Не приходится спорить, культурное воспитание и среда, окружающие подростка, имеют большое значение, но столь же очевидно, что в формировании человека решающую роль играют все-таки врожденные качества и наклонности, которые затем, под влиянием окружения, оформляются в определенный характер. Будь это не так, многие выдающиеся личности остались бы заурядными обывателями, единокровными отпрысками той среды, где родились и воспитались. И мне, видимо, не суждено было оставаться в прежней компании. Даже в ту пору, когда я водил дружбу с этими сбившимися с дороги парнями, в глубине души я осуждал их. Правда, мы старались во всем подражать друг другу, но я чувствовал, что поступки наши далеко не похвальны. Может быть, это и спасло меня. То, что было заложено во мне с рождения и временно заглушалось, все равно взяло верх и стало моей нынешней натурой. Каждый человек наделен душевным сосудом, вмещающим знания и истины соответственно своим размерам. Плохие внешние условия могут оставить этот сосуд пустым, но как бы мы ни старались выдрессировать человека, он не в силах перешагнуть границы своих заранее определенных возможностей…
А несчастный Тенгиз погиб вскоре после той драки. Помню, за день до его похорон тетка послала меня в магазин, и, возвращаясь обратно, я увидел машину, из которой вытащили белый гроб и занесли в подъезд, где жил бедный Тенгиз. Мерзкая погода стояла в те дни. Грязной простыней повисло над городом небо. Дома хмурились, повсюду преобладал серый цвет. Было холодно. Не помню уже, какой был месяц, помню только холод и колючий ветер, пронизывающий до костей. Помню веснушчатое лицо Тенгиза в гробу, белое, как миткаль, противный запах увядших цветов и страдальческие лица его родителей. Именно в те дни я простудился, заболел и целых десять дней провалялся в постели. Помню приступы безысходной тоски, накатывавшей на меня во время болезни. Я все принимал близко к сердцу и часто плакал без всякой причины. Наконец, я выздоровел, но каждый раз, проходя мимо дома Тенгиза, я видел печальное лицо своего несчастного друга, и в итоге возненавидел этот дом. По вечерам, когда на улице никого не было, я особенно боялся его, боялся, что мне сейчас померещится покойный Тенгиз. А в их парадном с той поры и вовсе ноги моей не было.
Мне кажется, еще раньше и именно на этой улице я впервые увидел жертву трамвая. Конечно, это случилось здесь, у самого въезда на старый мост. Тогда я был совсем маленьким — дело происходило до войны, и случай этот запомнился мне, вероятно, потому, что тогда я в первый раз сидел на коленях у деда рядом с шофером. А сидеть рядом с шофером было в ту пору моей самой заветной мечтой, отсюда прекрасно обозревалась вся дорога, интересно было смотреть, как шофер крутил баранку, вертел разные ручки и машина покорно подчинялась его воле. Меня все это увлекало и радовало безмерно. Для меня не существовало более уважаемых и храбрых людей, чем шоферы. Часто выкатывал я на наш старинный, длиннющий балкон свой маленький трехколесный велосипед, переворачивал его вверх колесами, подтаскивал низенькую скамеечку, усаживался и часами крутил переднее колесо, воображая его рулем автомобиля и подражая движениям дедовского шофера, и урчал, словно мотор — «грр-гррр, пипипи!» Но дед всегда сажал меня сзади, а сам устраивался рядом с шофером. Только один раз посчастливилось мне попасть на переднее сиденье, наверное, поэтому-то и запомнился мне суетящийся перед трамваем народ. Кто-то, крича, подбежал к нашей «эмке», но я не понимал, о чем они говорили с дедом. Потом к машине бегом поднесли юношу с размозженной ступней. У него были очень густые волосы. Именно тогда, повернувшись, дед подхватил меня и перенес к себе. Помню, как странно я чувствовал себя на дедовских коленях, а на моем обычном месте сидели незнакомые мужчины. На одной ноге у юноши был ботинок, а из второй, голой и искалеченной, текла кровь. Ему было не больше двадцати лет. Не помню, что говорили мужчины, помню только искаженное болью красивое лицо парня и его плач: «Что я скажу матери, вайме, что я скажу матери?!» Я хорошо понимал его — боится, что мать заругает, наверное, поэтому и запомнил его слова. Окровавленная нога не пугала меня: настолько велика была радость сидеть рядом с шофером, что затмила все остальные чувства. Машина летела. Куда? Уже не помню, должно быть, в больницу. Как мы довезли юношу, чем все это кончилось, совершенно вылетело из памяти. Не могу вспомнить и то, куда возил меня дед на своей старой «эмке», память сохранила только отдельные места, разрозненные куски ландшафта — скудные, выжженные холмы где-то за городом и зеленоватую или бурую воду Куры, название которой, само слово «Мтквари»[23] звучало для меня зловеще, потому что один из соседских ребят — я не знал его, во всяком случае, сейчас не могу припомнить, — купаясь, утонул в Куре, кажется, около Мцхета, и, когда взрослые со скорбными лицами говорили об этом, слово «Мтквари» объединялось в моем сознании со словом «мквдари» — покойник, и я сжимался от страха. Взрослым часто приходится слышать о подобных вещах, и поэтому они довольно легко их переваривают, но в незащищенной душе ребенка все ужасное оставляет глубокий, неизгладимый след. Смерть для него — мистическая, сверхъестественная тайна, а всякие ужасы, хотя бы та же смерть, теряют свою мистическую оболочку только тогда, когда человек входит в возраст, все теснее привязывается к земле, все больше и больше к ней приближается, пока сам не обращается в землю. Но при чем тут это?
Да!
…Дедушка иногда сажал меня в машину — машина, разумеется, была служебная, о частных тогда и не слыхивали — и катал по городу, желая доставить мне удовольствие, но не могу сказать, что эти прогулки оставили приятное воспоминание. Во-первых, меня утомляла тряска и, кроме того, — и это главное — я мечтал сидеть рядом с шофером, а это заманчивое место всегда занимал мой дед. Поэтому всю дорогу я простаивал, опершись о спинку переднего сиденья и не сводя глаз с дороги и водителя. Дед казался мне суровым и скупым на слова. Такое представление сложилось у меня оттого, что взрослые, тетка и все близкие, держались с ним почтительно. Что же удивительного, что я побаивался этого седовласого, тщательно выбритого, худощавого и прямого старика с короткими усами, который всегда был серьезен, вечно читал нотации и не любил играть с детьми? Я не решался попроситься на переднее сиденье, а сам он ни о чем не догадывался. Оттого наши прогулки и не оставили по себе доброй памяти, хотя я никогда не отказывался от них. Тогда я не любил деда, и только потом до меня дошло, как он был привязан ко мне. Будь это не так, что могло заставить старого человека проводить все свободное время в тряской машине в бесцельных поездках по улицам? Неужели ему самому, не меньше, чем ребенку, доставляло удовольствие кататься на машине? Ведь машины тогда были в диковинку. Помню, как на нашу улицу въезжала одноконная линейка с бочкой и колокольчик керосинщика оглушал и будоражил весь квартал. Но не думаю. Скорее всего, дед делал это исключительно из любви ко мне, однако у него не находилось для меня ласкового слова, и поэтому, когда он умер, я особенно на огорчился…
Тогда я был уже большим. Хмуро и замкнуто держались люди, только что перенесшие войну. Но мне все-таки запомнились плач тети и приглушенные всхлипывания ее мужа. Впервые видел я плачущего мужчину, и удивлению моему не было границ.
Дед жил неподалеку от нас с бабушкой, своей второй женой. Они сошлись задолго до моего рождения, а до тех пор дед много лет вдовствовал. У бабушки не ладилось с грузинским — ее отец был морским офицером в довольно высоком чине, и она долго жила в России. Молодость ее прошла в Петербурге.
— Когда мы жили в Петербурге, квинтэссенция грузинского общества часто собиралась у нас и кушала лобио, — с удовольствием вспоминала бабушка.
На следующий день после смерти деда меня послали к ним с каким-то поручением. Помню, как, замирая, вступил я в их двор и осторожно поднялся по лестнице. Увидел, что дверь открыта, робко вошел в коридор.
— Это ты, Тархудж? — вышла из комнаты бабушка. Она была низенькая, круглая, толстая, совершеннейший антипод деда.
Я украдкой бросил взгляд в комнату, в центре ее стоял огромный гроб, в изголовье возвышалась пальма с широкими листьями, обычно находившаяся в коридоре. Вся мебель, кроме длинного, сейчас завешенного простыней трюмо у стены, была вынесена. Непривычной была пустота этой комнаты. В другое время там нельзя было пройти, не задев какой-нибудь вещи. Затаив дыхание, растерянно стоял я в дверях, и до меня доносилось монотонное тиканье стенных часов. Вынесенные в коридор вместе с другими вещами, они стояли на каком-то сундуке. Несколько дней назад эти часы висели в комнате между кроватями деда и бабушки.
— Видишь? Ушел от нас Симон, царство ему небесное, — почему-то улыбнувшись, сказала бабушка.
Я подумал, что она, наверное, не особенно убивается по деду. Мне не раз приходилось слышать, как тетка осуждала ее, верно, поэтому-то и родилась такая мысль. Бабушка усадила меня за стол, налила мне чаю, но я не притронулся к чашке, а она, грызя сахар, с удовольствием прихлебывала свой чай. Я глядел в окно на голое дерево. На его ветвях, заляпанных серым птичьим пометом, расселись воробьи. Во дворе открыли кран, журчала вода. На длинном общем балконе против нашего окна пылко спорили о чем-то две женщины. Я смотрел на них и слышал причмокивания бабушки. Я не испытывал никакого сострадания к деду. В те дни я вообще не переживал ничего, кроме собственного одиночества. Тетка моя недавно приехала, и я еще не привык к ней. Лишенный заботы и внимания, я был на диво безразличен и равнодушен. Единственный человек, которого я горячо любил, был Арчил, но и того уже не было в живых.
Потом пришли какие-то грубые, неуклюжие дядьки и стали о чем-то говорить с бабушкой, они прошли в комнату. Я тоже встал и отошел к двери. Уже не знаю, зачем, они сняли крышку гроба, и я увидел дедушку — он лежал голый, придавленный огромной глыбой льда, съежившийся и, как показалось мне, недовольный. И в ту минуту я не ощущал ничего, кроме отвращения… В день похорон, когда гроб сносили по лестнице, один из соседей поднял меня на руки, чтобы я еще раз взглянул на деда. Желтый, неподвижный, отрешенный и, как всегда, строгий лежал он в гробу в своем неизменном черном костюме и галстуке. Когда вынесли гроб, народ заплакал, и я тоже неожиданно разревелся, но не от жалости к деду, а от неведомого и непонятного страха, овладевшего мной при виде плачущих людей. Это был неожиданный, минутный, панический страх, потому что, некоторое время спустя, когда мы провожали гроб на кладбище, я совершенно спокойно шел за ним. Множество людей следовало за процессией, видимо, многие любили моего деда, но я тогда не любил его.
Позднее, когда я вырос, понял, что он был очень добрым человеком, свидетелем и очевидцем многих событий, он долго жил в Европе, великолепно знал иностранные языки, владел и эсперанто, которому намеревался обучить меня, но не успел. Этим искусственным языком он овладел в Голландии, в стране, где взрослые и дети ездят на велосипедах, а тротуары моют горячей мыльной водой. Я помню фотографии с видами голландских городов, которые бабушка частенько показывала мне. Любил дед и искусство, особенно оперу, а всем операм предпочитал почему-то «Самсона и Далилу», которую тогда ставили на сцене нашего оперного театра. Он был страстным поклонником Фатьмы Мухтаровой, с большим успехом выступавшей в роли Далилы. Он покупал билет за несколько дней до представления, непременно в партер: собираясь в театр, особенно тщательно брился, смазывал волосы бриллиантином, надевал белоснежную крахмальную манишку, завязывал галстук, облачался в смокинг, из нагрудного кармашка которого выглядывал уголок белого платка, брал в руку тросточку с круглой ручкой и не спеша, в праздничном настроении, шествовал в театр. Смерть Вано Сараджишвили он воспринял как личную трагедию. Жил он в то время на проспекте Руставели, по которому еще ходил трамвай, делавший круг на бывшей Ереванской площади перед караван-сараем, где была извозчичья стоянка. В своей комнате между дорогих, привезенных из-за границы картин, он повесил увеличенную фотографию Вано Сараджишвили. На этом снимке Вано был в круглой меховой шапке, которая не могла скрыть его буйных вьющихся кудрей, одну руку он заложил в карман пальто, другую держал за пазухой. В свободное время дед любил, опираясь о подоконник, глядеть на гуляющих по проспекту, на женщин в длинных платьях, в беретах или широкополых шляпах, на почтенных мужей в длинных пестрых галстуках и в гамашах на остроносых туфлях, каждый, как правило, держал в руке трость; на твердо и внушительно чеканящих, шаг самоуверенных чекистов в зеленых суконных гимнастерках, перетянутых портупеями, с маузером на боку, в блестящих желтых кожаных крагах, стягивающих голени, на рабочих в синих блузах, которые собирались у биржи труда. Иногда кто-нибудь из знакомых, завидев деда с улицы, вежливо снимал шляпу:
— Добрый день, Симон! Как поживаете?
— Весьма благодарен, все в порядке! Как ваши дела?
— Благодарю вас, превосходно! Как вам в субботу показался Кумсиашвили в партии Абессалома?
— Он был великолепен, просто великолепен!
Иногда он усаживался в плетеное кресло-качалку и, покачиваясь, читал Ги де Мопассана. Из русских писателей он отдавал предпочтение Тургеневу, из грузинских, после Руставели, — Александру Казбеги и Акакию Церетели. Помимо оперы и литературы любил он и спорт. Иногда целый день проводил на ипподроме в Дидубе, а прославленный жокей того времени Хаиндрава был его другом. Это увлечение обходилось деду в копеечку, потому что тогда частенько играли на пари, и ему не всегда везло, хотя немногие могли сравниться с ним в знании чистокровных лошадей. Он, как рассказывали, окинет взглядом какого-нибудь красавца рысака, заглянет в программу и скажет: «Мне его происхождение не нравится», — и не ошибется — тот красавец рысак непременно приплетется к финишу последним. Однажды какой-то пастух привел с гор трехлетнего жеребца по кличе Последыш — жеребенок при рождении осиротел, и пастух вскормил его коровьим молоком — и попросил, чтобы его допустили к соревнованиям. После долгих препирательств разрешение было дано, и Последыш уверенно выиграл забег. Вот тогда-то впервые и опростоволосился мой дед, заявивший перед стартом: «Последыш придет последним».
Дома у него хранились всевозможные журналы и книги, посвященные верховой езде. По сей день прекрасно помню один фотоальбом. С каким восторгом разглядывал я великолепных лошадей на его вощеных страницах, часами любовался их грациозными стойками, удлиненными, изящными мордами, навостренными, короткими, как листья лавра, ушами, чуткими ноздрями, умными, милыми глазами. Мне не надоедало бесконечно листать этот альбом. Между прочим, в этом же альбоме были портреты маршалов верхом на породистых иноходцах — симпатичного Климента Ворошилова с небольшими усиками и Семена Буденного с длинными айсорскими усами… Когда в моду вошел футбол, дед заделался страстным болельщиком и до войны не пропускал ни одного матча. Обычно он приходил на стадион задолго до начала и сидел либо на восточной трибуне, наслаждаясь видом Табори, склонами Мтацминды, зеленой Удзо, либо на западной, откуда были видны макушка древней липы за стенами стадиона, Худадовский лес, серые откосы Нахаловки, застроенные лачугами. Когда начинался матч, ему доставляло удовольствие смотреть на зеленое поле, на красный мяч, который иногда взвивался под самые голубые небеса, на пестрые майки футболистов, на веселое мелькание красных, белых, желтых и зеленых пятен. После окончания матча, когда людское море растекалось, подступая к выходам, он думал о том, многие ли из этого моря будут живы через сорок — пятьдесят лет…
Спорт был подлинной страстью и Арчила, брата моей матери, младшего сына деда. Мой любимый дядя был, оказывается, универсальным спортсменом — футболистом, боксером, пловцом, гимнастом. Помню, когда мы жили вместе, в одном углу комнаты постоянно лежали его бутсы и гетры, а на стене висели большие круглые боксерские перчатки. Каждое утро голый по пояс выходил он на балкон, где висели кольца, и долго упражнялся. Повиснет, бывало, вниз головой и вытянет к потолку ноги. Он был высокий и сильный, с крепкими, как железо, мускулами. Бывало, присядет передо мной на корточки, сожмет руку и даст потрогать бицепсы. Я удивлялся их твердости, а он серьезна внушал мне, что и у меня будут такие же, если я стану хорошо есть. После этого я уже не капризничал за обедом и все поглядывал на дядю, мне хотелось, чтобы он заметил, с каким аппетитом я уничтожаю все, что дают. И Арчил подбадривал меня: «Давай, давай, молодец!» Густые каштановые волосы он стриг коротко, такая прическа тогда называлась «боксом». Усов он не носил. А как заразительно смеялся мой дядя! Часто, бывало, схватит меня под мышки и ну подкидывать к потолку, все выше, выше, выше, и, хохоча, ловит у самого пола. Сердце мое замирает от страха, но я радостно кричу — «еще, еще!» Ему не надоедало играть со мной. Он был единственным, кого я по-настоящему любил в детстве. Я почти не расставался с ним, и ему тоже не надоедало быть со мной. По утрам, если ему не удавалось тайком от меня ускользнуть на лекции, я не отпускал его, и бывали случаи, когда он вынужден был брать меня с собой. Смутно, как сон, вспоминаются огромное здание, коридоры, заполненные людьми, — вероятно, это был институт, просторная аудитория, где какие-то девушки тормошили меня, целовали, усаживали с собой. Я с удовольствием устраивался на коленях какой-нибудь красивой тети, которой в то время, наверно, было не больше двадцати — двадцати двух лет, и сидел спокойно, при условии, если Арчил находился рядом. Наконец устанавливалась тишина, все внимали преподавателю. Некоторое время и я сидел, присмирев, а потом засыпал, и дяде часто приходилось относить меня домой на руках. Я всегда гордился Арчилом, понимая, что он выделяется среди всех мужеством, силой и жизнелюбием. Он и одежду предпочитал свободную и широкую. Все уважали его, и мне казалось, что каждый в нашем городе знает моего дядю, высокого, сильного, стремительного. Любое дело спорилось в его руках, он водил машину и мотоцикл, мог натереть пол, разобрать и починить утюг или стенные часы, и я всегда радовался, когда он брался за какое-нибудь дело и успешно справлялся с ним… Ему исполнилось двадцать три, когда началась война. Помню, как он вошел в комнату в военной форме, остриженный под машинку. Громко скрипели новенькие сапоги. Приятно пахла защитная гимнастерка. Пока Арчил с серьезным лицом беседовал о чем-то с опечаленными родными, я надел его фуражку и побежал к зеркалу. Я радовался и гордился, что мой дядя идет на войну… В том же году он погиб. Потом умер и дедушка…
До гибели Арчила дед никогда не жаловался на здоровье. Каждое лето ездил отдыхать в Боржоми. Жил в санатории с колоннами, увитыми декоративным плющом. В Боржоми дед ходил во всем белом — белые пиджак и брюки, белые туфли, белая соломенная шляпа и галстук, какая бы ни была жара — галстука он не снимал. На курорте он только и делал, что пил минеральную воду да фотографировался со знакомыми. Потом, набравшись сил, возвращался в Тбилиси и с головой уходил в работу. Как говорили, он был замечательным экономистом, большим знатоком своего дела. Он умел превосходно рассказывать, но тогда я ничего этого не знал…
Подросши, я очень горевал, что дед умер так рано. Он, правда, был уже в годах, но что ему стоило прожить еще с десяток лет! Если бы Арчил не погиб, может, дед прожил и десять лет, и того больше. Сколько бы я узнал от него, сколько интереснейших историй унес он с собой в могилу! И бедная моя бабушка скончалась вскоре после смерти мужа. Правда, не она родила мою мать и Арчила, но любила она Арчила, как родного, и гибель его явилась для нее огромным горем. Добрая и милая старушка была моя бабушка. Вечно стряпала какие-то сладости и очень любила чай. У нее, как и у соседей Мери, стол был постоянно накрыт, и раз по десять на дню, если не чаще, она садилась чаевничать. А если не пила чай, то раскладывала пасьянс. У нее была замечательная посуда, особенно мне нравился старинный чайный сервиз — чашки и блюдца с тонким рисунком, хранившиеся в изящном японском шкафчике. Я до сих пор помню запах той комнаты и огромную трубу граммофона, стоявшего в углу. Смутно припоминается — вечер, играет граммофон; на столе, отодвинутом к стене, чай, печенье и сладости. У нас гости, танцуют. Кажется, Арчил учит их новому танцу. Я совсем маленький, и мне не нравится, что мужчины и женщины кружатся в обнимку. Один что-то говорит во время танца смуглой, коротко остриженной партнерше. Эта женщина запомнилась мне, потому что громче всех хохотала. В комнате слышится звонкий смех женщин, басовитый хохот мужчин: иногда танцующие налетают на мебель. А я, надутый и недовольный, сижу в углу, рядом с дедом; положив ладонь на мою голову, дедушка задумчиво наблюдает за молодежью. Я был настолько мал, что совсем не помню лиц наших гостей, но одна пара, танцевавшая около нас, навечно врезалась в память: женщина стройная и красивая, мужчина с длинными светлыми волосами, в сером пиджаке и галстуке. Они медленно кружились и улыбались мне. И я до сих пор помню то удовольствие, которое испытывал, глядя на них. Потом они остановились, женщина подошла и взяла меня на руки. Никогда потом: я не видел лица, обращенного на меня с такой любовью; она прижала меня к груди — помню теплый, родной залах, исходящий от нее, — поцеловала, приласкала, унесла в соседнюю комнату. Там было темно. Женщина раздела меня, укрыла одеялом и, напевая, присела на край постели. Я лежал, затаив дыхание и притворяясь спящим. Потом к моему лбу прикоснулась жесткая щека мужчины. Я открыл глаза. Это был тот самый мужчина со светлыми волосами. Глядя на меня, он рассмеялся. Я снова лег и замер. Женщина напевала колыбельную. Потом я заснул. Конечно, это были мои родители, но, к сожалению, кроме этого смутного воспоминания, ничего больше не осталось в памяти…
Я закусывал, стоя за высоким столиком, и смотрел на улицу сквозь широкую витрину. Мой неподвижный взгляд ничего не замечал, и когда я, наконец, очнулся, когда призрачные, непоследовательные, разрозненные картины детства канули в бездонный колодец забвения, развеялись и погасли, я заметил за соседним столиком двух парней, которые потягивали пиво и балагурили с тем самым опустившимся, беззубым, шамкающим стариком, что сипло ругался с буфетчиком, когда я вошел сюда. Я не заметил, когда они появились и успели разговориться со старым пьяницей. Сбив картуз на затылок и держа в руке полную кружку пива, которым, видимо, угостили его ребята, тот снова поносил буфетчика:
— Ты, аферист, думаешь, я не знаю тебя? Вот пожалуюсь, в тюрьме сгниешь, халтурщик несчастный!
— Заткнись, не то на улицу выставлю! — рявкнул вышедший из себя буфетчик, багровый от злости, но при этом язвительно улыбавшийся.
— По роже видать, что ты за птица! — по-петушиному выкрикнул пьяница. — Внешняя форма человека, черты лица, выражение глаз определяют внутреннюю сущность! — в эти слова он вложил весь свой апломб и, совершенно удовлетворенный, небрежно бросил: — Ги де Мопассан!
Буфетчик только за голову схватился — что за наказание! — а юноши, посмеиваясь, подзуживали старика:
— Молодец, дядя, молодец!
— Гляди, какой образованный! — удивился один из них, не в силах удержаться от хохота. Он был довольно высок ростом, ширококостый, большеголовый и круглолицый, с белокурым, пышным чубом. Второй был пониже, тоже светлый, с более жидкими волосами.
— Ты любишь Мопассана? — спросил он.
— Ва?!
Старик допил свое пиво, но тот, что пониже, снова налил ему.
— Сколько тебе лет, дядя?
— Семьдесят три!
— Молодчага, никогда столько не дашь! Разве заметно, Джурха? — спросил низкий своего чубатого друга.
— Я думал, от силы пятьдесят, — поддакнул Джурха, глядя сверху на тщедушного старика. Похвала пришлась тому по душе, он приосанился было, но в этом положении продержался недолго — потерял равновесие и покачнулся.
Юноши принесли еще три бутылки пива, их, видимо, забавляла беседа со стариком.
— Что, Гурам, не угостить ли его водкой? — подмигнул Джурха другу.
— Не надо, его сразу развезет.
— Ты Галактиона Табидзе знаешь, а? — спросил старик у Джурхи.
— Нет, — притворно удивился тот, — это кто такой?
— Хе-хе, — насмешливо и горделиво хмыкнул старик, — Галактион Табидзе, Шалва Дадиани… — он перечислил еще несколько известных имен. — Это были великие люди.
— А ты Тициана Табидзе знаешь? — в свою очередь задал вопрос Джурха.
— Того, что с гвоздикой ходил?
— Смотри-ка, знает! — вероятно, незаметно для самого себя Джурха подражал говору пьяницы.
— Знаю!.. Но это другое… У Галактиона была борода…
Я покончил с едой, но выходить на улицу не хотелось. Тот, который был пониже ростом и которого звали Гурамом — он стоял спиной ко мне, — снова спросил старика.
— Ты тбилисец?
— Ваа?! — старик опешил. — А как же! Я и родился тут, отец мой был фабрикант. Я во второй гимназии учился… Отец долбил — учись! Да я дурак был — не слушался!
— Как твоя фамилия, дядюшка?
— Аваков. Гео. «Бедный Гео» зовут меня.
— У твоего отца небось много денег было, — сказал Джурха.
— Было… Потом он разорился…
— Поэтому ты начал пить?
— Да, начал… — старик закручинился. Он был уже заметно пьян. С трудом держался на ногах. Помятым и отечным от пьянки лицом, слюнявым, перекошенным ртом он напоминал мне Шалву Дидимамишвили. — Начал, когда парня потерял…
— Парня потерял? — не понял Джурха.
— Да. Сына. Десять лет ему было…
— Как же так?
— Откуда мне знать? Судьба, — нехотя и равнодушно отвечал старик, — пошел в школу и не вернулся, пропал… Найти так и не смогли. Царство ему небесное. Давно это было, до войны…
Наступила тишина. По лицам ребят было заметно, что у них пропало желание зубоскалить, они как-то сразу посерьезнели.
Я подошел к стойке, расплатился и вышел на улицу, оставив на столике свои газеты. Было жарко. На Колхозной площади стояли автобусы, и народу, как говорится, яблоку негде упасть. Тут же толкались мастеровые — столяры, маляры, стекольщики… Я пересек площадь и медленно двинулся по подъему.
Мне было ясно, отчего запил этот горемыка. Потеряв сына, он не мог справиться с горем и налег на вино, чтобы обрести забвение. Ему хотелось притупить тяжкую, грызущую душу, безысходную тоску, избавиться от нее, забыться, и с помощью вина он постепенно достиг своего. Тем временем он пристрастился к вину, и когда достиг цели, когда заглушил горе — причину, толкавшую его к алкоголю, этот несчастный старик, тогда еще не бывший стариком, втянулся в пьянство, ставшее непреодолимой потребностью, которая в дальнейшем переросла в страсть, уже независимо от первоначальной, причины, и сейчас, на закате жизни, он выглядел опустившимся и жалким, потому что кроме выпивки ничто на свете не заботило и не тяготило его. Говорят, человек ко всему приспосабливается, но это не совсем верно. Состояние человека, на которого свалилось большое несчастье, часто представляется совершенно невыносимым, особенно тем, кто не пережил ничего подобного, кто думает, что лично он не вынес бы такого горя; им на удивление люди, попавшие в беду, превозмогают свое несчастье, продолжают жить, не бегут от действительности, но хотя подобная стойкость с первого взгляда представляется окружающим невероятной, можно ли назвать это приспособлением? О каком приспособлении может идти речь, когда человек душевно сломлен, раздавлен, потерял веру и надежду, а какая жизнь без надежды? Разве Гео Аваков приспособился к боли? Правда, физически он устоял, сердце его не разорвалось, но устоять не значит приспособиться. И горе требует своего таланта. Способность горевать зависит от характера человека, а не от причины горя. Один и тот же факт разные люди переживают по-разному. Один легко сносит удары судьбы, другого они сгибают навсегда. Хотя причина несчастья в обоих случаях одна. Гео Аваков, вероятно, всю жизнь носил в душе затаенный протест и не желал смотреть в глаза действительности. Он не признавал ее. А с помощью алкоголя он ухитрился вообще не замечать действительности: пропитанный отравой, существовал в мире, искусственно созданном этой отравой. Некоторым это может показаться слабостью, но не торопитесь осуждать, кто знает, может быть, мы имеем дело с глубиной чувств? Может быть, те, кто легко забывает свалившееся на них несчастье, просто поверхностные люди? Одно неоспоримо ясно, только фанатики и эгоисты особенно равнодушны к чужой смерти. Может быть, фанатизм и эгоизм прикажете считать силой?
На свете, вероятно, нет ничего омерзительнее фанатизма. Эгоизм можно хоронить в душе, скрывая его от окружающих, фанатизм же — активен, его душит жажда деятельности, ему хочется развернуться, распространиться, быть всеобъемлющим и единственным. Часто, желая похвалить человека, говорят, что он фанатично влюблен в свое дело. Это неудачное выражение. Меня лично приводят в содрогание фанатично влюбленные в свое дело личности, которые, кроме собственной цели, ничего не видят в жизни. Всякое разнообразие выводит их из себя, они, как в прокрустово ложе, пытаются втиснуть каждого человека и каждое явление в одну-единственную форму. Такие люди ненавидят всякую мысль, отличную от их мысли, не желают прислушиваться ни к каким доводам, что само по себе равносильно ненависти к свободе, ее отрицанию и ограничивает представление о разнообразии жизни. А жизнь интересна и привлекательна именно своим многообразием. Представляю, на что бы походила жизнь, будь все однообразным и однотипным. Безусловно, на смерть! Как можно не чувствовать этого? В мире ничто не стоит на месте. Он ежесекундно меняется, все развивается и движется, и движение это многолико — от простейшего к сложному, от низшего к высшему и наоборот, вместе с движением вперед существует и движение назад, от сложнейшего к простому, от высшего к низшему, и в этом движении, в этом круговороте иногда все повторяется, возвращаясь к однажды уже пройденным формам. Естественно, что и мнения о различных явлениях не могут быть абсолютными для всех времен и всех обстоятельств. Когда мы во что-то верим и убеждены, что сегодня это действительно так, мы, видимо, не должны забывать, что в другое время и при других обстоятельствах та же мысль может оказаться ошибочной. Если не допускать этого и упрямо цепляться за навязчивую идею, далеко не уйдешь. И, если завтра окажется ошибочным то, за что ты сегодня стоял горой, нужно без колебаний отказаться от вчерашнего, отвергнуть, отбросить. Это не беспринципность: признание собственного заблуждения помогает избавиться от него.
В самом деле, нет ничего омерзительнее фанатизма. До сегодняшнего дня не могу забыть я того типа, которого мы с Кахой однажды встретили на море. Давно это было, в студенческие годы. Лето мы провели в Сванети, в альпинистском лагере. После восхождения мы с Кахой решили недельки две отдохнуть у моря. До чего приятно было покинуть горы, из тесных ущелий выйти в бескрайний, открытый простор. Все казалось необычайным — и море, и стоящие вряд вдоль дороги эвкалипты, и акации, и темные кипарисы, проплывавшие за стеклом автобуса. Мы сняли комнату у одного колхозника-рачинца в небольшой, тихой и укромной деревеньке. За окном низкого одноэтажного дома, не смолкая, шелестели листвой инжир и мимоза. Посреди двора, в тени веерообразных листьев пальмы прятались гортензии и белые лилии. Обвитые лианами кедры, сосны и ели стрелами взмывали в небо. В воздухе стоял дивный аромат, настоянный на запахе сосен, эвкалиптов и магнолий, живительным бальзамом вливался в тело, проникал в поры растрескавшейся от мороза кожи, ласкал усталые, задубевшие от долгого напряжения мускулы и суставы. Мы с Кахой вставали чуть свет и по тропинке шли к морю. Росистое поле, заросшее репейником и осотом, искрилось на солнце.
Необозримое голубое море было прозрачным и спокойным. Мелкие волны бесшумно набегали на блестящую, пеструю гальку. Мы скидывали одежду и подолгу плескались в чистейшей воде. Потом, мокрые, выходили на берег, и обнаженные тела наши покрывались гусиной кожей от утренней прохлады. Мы ложились на теплый песок и глядели на плоскую, сверкающую поверхность моря. Иногда я скучал по Софико. Праздность вызывала желание мечтать, и я не сдерживал своей фантазии. Я все время думал о Софико, мне хотелось, чтобы она была со мной. Мечта была слаще реальности, но и реальность казалась мне сладкой, потому что позволяла мечтать, и, отдавшись грезам, я забывал снег и холод гор, вкус консервов, неуклюжесть альпинистской робы, волглую неуютность брезентовой палатки. Я не вспоминал ни о мокрых веревках, ни о тяжести кованых ботинок с кошками, ни о пудовом грузе набитого до отказа рюкзака, от которого болят плечи, и даже когда сбросишь его, долго не можешь приноровиться ходить нормальным и свободным шагом. Но сейчас, когда все это осталось в прошлом, мы подолгу лениво дремали на песке. Иногда далеко в море появлялся белый сейнер, и мы молча следили за ним. Если он приближался к берегу и бросал якорь в тихой бухте, мы с Кахой подплывали к нему, хватались за трап, спущенный с палубы, и отдыхали в воде. Потом снова плыли к берегу. Я лежал на спине, глядя в необъятное небо. Таким же необъятным было и море, на поверхности которого мы плавали, как две щепки, и странная радость оттого, что в этой безбрежности существую и я, не оставляла меня…
Никакие заботы не тяготили нас, мы были вольны и счастливы. Удивительно легко и беспечно протекали наши дни здесь, на пустынном берегу моря. Нас не пугала неожиданная облачность, потому что непогода не могла омрачить наш отдых. Довольные беззаботностью и радостным ощущением безопасности, мы уже не вглядывались вокруг с тем напряжением, как бывало в горах, где приходилось рассчитывать каждый шаг, брать на заметку малейшее изменение погоды, ветра, температуры. После гор наша жизнь потекла вяло и неторопливо, но, не будь в этой жизни ежедневных радостных мелочей, она бы и ломаного гроша не стоила.
Купание доставляло нам неописуемое блаженство. От полуденного зноя мы укрывались в тени прибрежных сосен, а вечерами подолгу наблюдали за закатом солнца. Допоздна не уходили мы от воды. Голубоватая дымка затягивала прогалы между соснами, прозрачное море словно исчезало. А ночами, когда лимонная луна глядела с небосвода и серебристый свет озарял погруженную во мрак землю, море совсем успокаивалось и смолкало. Но я все-таки улавливал его дыхание, удивительное и таинственное ощущение вечности, свойственное горам, присутствовало и здесь, и всю ночь, лежа у открытого окна, даже во сне чувствовал я его дуновение, доносившееся до меня вместе с глухим плеском волн, ароматом теплого воздуха и посвистом полуночной птицы.
Мы великолепно отдыхали с неделю, а потом погода изменилась. Началась страшная жара. Неистово пекло раскаленное солнце, и зеленый лес на горах издали казался фиолетовым. Ветер гнал белогривые волны из глубины моря, и они яростно лизали песчаный берег. На следующий день ударил дождь. О купании нечего было и думать. Море волновалось все больше и больше, от его голубизны и кротости не осталось и следа. Мутные, коричневые валы вскидывались у берега на дыбы, рушились с оглушительным грохотом, рвались вперед, словно стремились завладеть лишним вершком земли, отхватить его у суши, утащить за собой, и со злым шипением уползали вспять. А на смену им вздымались новые валы и опять обрушивались на безлюдный берег. Мы, бывало, постоим немного на берегу, потом возвращаемся домой и целыми днями просиживаем в своей комнатушке. Часто заглядывал к нам тринадцатилетний хозяйский сын Гигла и наивными вопросами развлекал нас:
— Скоро распогодится, Гигла?
— Имэ[24], откуда я знаю?
Мы, разумеется, были удручены непогодой, но Гигле казалось лишним ободрять нас. У этого мальчугана были густые каштановые волосы, стройное, красивое, загорелое тело. Он был добр и услужлив. Каждый день снабжал нас старыми газетами и журналами из сельской библиотеки. Отец его работал в колхозе трактористом, мать собирала чай. Когда стояла хорошая погода, Гигла иногда сопровождал нас к морю и плавал вместе с нами. Он прекрасно плавал саженками. Иногда Каха собирал деревенских ребят и устраивал на берегу борцовские турниры. Нашим палаваном[25], разумеется, всегда оказывался Гигла. По дороге домой Каха показывал ему приемы чидаобы[26], и Гигла старательно повторял их. С той поры, как зарядили дожди, он целыми днями не отходил от нас, выкладывал из брошенных у стены рюкзаков альпинистское снаряжение и спрашивал:
— Имэ, а это для чего?
Каха разматывал свернутый репшнур и, смеясь, объяснял:
— Это нужно, чтобы связать Очопинтре[27]. Мы Очопинтре ловим.
— Имэ! А кто такой Очопинтре?
Скучно тянулись ненастные дни. Потеряв надежду, что распогодится, мы уже подумывали вернуться в Тбилиси, но тут случилось нечто такое, что незаживающей болью навсегда осталось в наших сердцах. Гигла утонул…
В тот злополучный день дождь прекратился, хотя море волновалось по-прежнему. Деревенские ребята играли на берегу. С криком они преследовали убегающую волну, и тут же улепетывали назад от нового грозного вала. И вот несчастный Гигла споткнулся о камень, упал и не успел встать… Море, как гигантское чудовище, накрыло его и утащило в своей ненасытной пасти…
Все село было поражено ужасом. Страшное зрелище представляли сбежавшиеся на берег воющие люди. Неистовые причитания и плач заглушали рокот волн. Женщины с исцарапанными лицами удерживали мать погибшего, которая порывалась броситься в море, будто надеялась спасти сына, вырвать его у безжалостной, беспощадной стихии. Наш хозяин, отец Гиглы, мужественный, богатырски сложенный мужчина, впав в беспамятство от отчаянья и бессилья, валялся на песке. А море бушевало и шипело, и не верилось, что где-то там, в глубине, в этой мутной, разъяренной стихии находился несчастный мальчик. Молча, словно бесчувственный, пораженно застыл я на берегу, и та надежда, которая еще теплилась в душе, когда я услышал о случившемся и сломя голову помчался сюда, теперь исчезла без следа. И Каха был бледен, плечи его бессильно повисли, у меня в груди застрял холодный ком, я бессмысленно вглядывался в море, которое сейчас ни капли не любил, а длинные волны бесконечно катились и катились издалека, с монотонным грохотом обрушиваясь на берег.
Ночь мы кое-как пересидели у соседей и чуть свет снова были на берегу. Тело мое ломило от бессонницы. Моросил мелкий дождик. Занимался серый, непогожий день. Море было все такое же мутное и неспокойное. Низкие черные тучи сливались вдали с морем и небом. Все село собралось на берегу, особенно много было мужчин. Они громко, деловито переговаривались и курили. Мы затесались в толпу. Некоторые говорили, что надо переждать, покуда не уймется море, до тех пор, мол, ничего не сделаешь, в такой шторм на лодке не выйдешь. Другие предлагали разойтись по берегу, может быть, море выбросит труп. Каха попросил использовать и нас, и полчаса спустя мы с Кахой и еще одним местным парнем, нашим ровесником, шагали по песчаному берегу. Скоро деревенька осталась позади, потянулись пустыри. Альпинистские куртки плохо спасали от дождя, а на нашем спутнике и вовсе скоро не осталось сухой нитки. Ноги вязли в пропитанном водой песке. Мы с трудом продвигались вперед, внимательно вглядываясь в однообразное море и бесконечный берег. От возможности неожиданной находки мне заранее становилось не по себе, но все-таки хотелось найти то, что вчера еще было веселым, жизнерадостным ребенком, а сейчас бездыханное находилось где-то в морских волнах. «Если бы мы вчера не пустили его, если бы он заболел», — думалось мне, но безысходность и заключалась в том, что он был здоров и ничто не помешало ему своими ногами пойти навстречу смерти. Долго, не произнося ни слова, тащились мы вдоль берега, уйдя в собственные думы, и, наконец, уткнулись в высокий забор.
— Тут рыбхоз, — сказал наш спутник, — обойдем.
За забором виднелись опрокинутые баркасы, лодки и развешанные на веревках сети.
— Зачем обходить, может быть, его где-то здесь выбросило? — возразил Каха и перелез через забор.
Мы последовали за ним. Не успели мы пройти и сорока шагов, как какой-то мужчина, крича и размахивая руками, кинулся к нам, а подбежав, резко, как часовой, гаркнул:
— Назад! Сейчас же назад!
Каха попытался объяснить ему, зачем мы здесь, но мужчина ничего не желал слушать:
— Нельзя! — как заведенный повторял он, словно был не живым существом, а какой-то машиной.
У него были холодные, серые глазки и маленький острый нос, из-под шапки выбивались мокрые кудельки бесцветных волос. Каха еще пытался что-то объяснить ему, но:
— Приказано никого не пускать! — перебил моего друга остроносый.
— Плевал я на ваши приказы! — обозлился Каха. — Ребенок утонул, мы его ищем…
— Меня это не касается! Пусть тонет.
— Как это — тонет?! — поразился Каха.
— Вот так! Сейчас же очистите территорию!
И тут Каха изо всей силы ударил его в лицо, свалил на песок, набросился на него и вцепился в горло. Мне кажется, он бы задушил его, не окажись мы тут.
Этот сторож не знал Гиглу и, разумеется, нельзя было требовать, чтобы он наравне с нами переживал случившееся. Но он настолько равнодушно относился к чужой жизни, настолько был послушен приказу, что ничего другого знать не хотел. Что бы случилось, если бы мы прошли по территории хозяйства, а он проводил бы нас или помог чем-нибудь? Но нет! Для него не существовало ничего, кроме приказа, а приказ гласил: на территорию хозяйства вход посторонним воспрещен, и выполнение этого распоряжения представлялось ему самым святым долгом — вот и вся загадка. Ни шага в сторону. Он был жалким рабом жалкого приказа. Обстоятельства, приведшие нас сюда, делали бессмысленным суть этого приказа, мы же не на прогулку и не мешаться пришли сюда? Но маленький фанатик не хотел да и не мог этого понять. Поэтому он был зол и в те минуты отвратителен своей злостью и равнодушием.
Таких мелких фанатиков с горем пополам еще можно вытерпеть, но что прикажете делать с крупными? Гораздо страшнее был батони Коте, с которым я познакомился у Кахи, вернее, в доме его отца. Родители Кахи были в разводе, и мой друг никогда не жил со своим отцом. Откровенно говоря, пока не умерла мать Кахи, они почти не встречались. После смерти матери отец, вероятно, помогал Кахе, который остался один, но Каха никогда не рассказывал об этом. Близких у него не было, а прожить на стипендию не так-то легко. В то время отец Кахи уже находился в отставке, не знаю только, по возрасту или по другой какой причине. Каха не любил распространяться об отцовских делах. Мать Кахи происходила из аристократической семьи и в свое время считалась одной из первых красавиц в Тбилиси. Отец Кахи безумно влюбился в нее, но получил твердый отказ. Тогда, как рассказывают так называемые злые языки — я лично много раз слышал эту историю, — отец Кахи обнаружил за молодыми братьями неприступной красавицы какие-то серьезные грехи, и дело кончилось тем, что мать Кахи вышла замуж за этого человека, чтобы выручить угодивших в тюрьму братьев. Однако братьев она не спасла и вскоре после рождения сына развелась с мужем. Мы с Кахой никогда не разговаривали на эту тему. Я подозреваю, что мой друг недолюбливал своего отца, хотя, тем не менее, изредка навещал его. Однажды он зазвал и меня. Мы вошли в большую, просторную квартиру. Это было здание тридцатых годов в так называемом конструктивистском стиле. У отца Кахи оказался гость. Они пили вино. Хозяин дома заметно обрадовался нашему приходу, сердечно встретил, радушно пригласил в светлую столовую, на одной стене которой висел портрет Сталина, на другой — Серго Орджоникидзе. Портреты были довоенные, Сталин в простом френче с улыбкой раскуривал трубку. Отец Кахи, несмотря на возраст, выглядел довольно бодро, хотя и несколько надменно, и лично на меня произвел приятное впечатление. Каха совершенно не походил на него, что сразу подметил друг Кахиного отца батони Коте, когда Каху представили ему:
— Вон, как вымахал твой молодец, Гайоз, но от тебя ничего нет — вылитая мать.
На что ни Каха, ни его отец не ответили. Седовласый батони Коте восседал за столом с таким же, как у отца Кахи, самоуверенным выражением, сверкая, как ястреб, глазами навыкате. Отец Кахи представил ему и меня:
— Знаешь, кто это? — и упомянул имя моего деда.
Мы встретились впервые, и было удивительно, откуда он знает меня.
— А-а, знаю, знаю, — пожал мне руку Коте, залезая взглядом прямо в глаза. — Ты, сынок, помнишь своего отца?
Отца я совершенно не помнил.
— Твой отец, сынок, не отличался умом…
Действительно, я не помнил отца, почти ничего не знал о нем, но эта фраза задела меня. Наступила неловкая тишина. Я заметил, как побледнел мой друг, ноздри его раздувались, что случалось с ним в минуту сильного волнения или когда ему бывало очень стыдно.
— Вы знали отца Тархуджа? — холодно спросил он.
— Как не знать, — хмыкнул батони Коте, снова поворачивая ко мне багровое лицо, — соседями были, как не знать…
— Садитесь, чего вы стоите? — указал на стулья отец Кахи.
Мы присели. Мне почему-то казалось, что мы помешали этим людям, перебили их теплую беседу. Они как будто испытывали неудобство от нашего вторжения, и мы были скованы, чувствовали себя неуютно. Некоторое время все молчали.
— Угощайтесь, — предложили нам.
Мы что-то положили себе на тарелки.
— Мдаа, — постучал пальцами по столу хозяин и поглядел в окно.
И снова неловкая пауза.
— Не выпить ли нам за здоровье этих юношей, Гайоз?
— Непременно, непременно! — встрепенулся Кахин отец и наполнил стаканы. Почему-то он казался мне утомленным, то радушие, с которым он встретил нас, совершенно не соответствовало апатии, овладевшей им за столом. Он приподнял чайный стакан и коротко пожелал:
— Будьте здоровы, ребята, долгой вам жизни и счастья!
Батони Коте был куда энергичней. Мне думается, он принадлежал к числу тех людей, которым внутренний зуд и нарушенное душевное равновесие не позволяют находиться в состоянии покоя, заставляют вечно искать какое-нибудь новое дело, которому они могли бы самозабвенно служить, проводить некие мероприятия, долженствующие переделать мир. Эти люди верят, что смогут горы своротить и преобразовать вечные законы жизни. Он так стремительно схватил стакан и с таким азартом начал тост, что я подумал — вот и нашел себе новое занятие.
— Будьте здоровы, молодежь! Желаю вам счастья, успеха. Будущее принадлежит вам, — провозгласил Коте, чокнулся с Кахой, потом — со мной и, глядя мне прямо в глаза, назидательно произнес: — Ты должен быть лучше своего отца.
— Каким же был мой отец?
Возможно, задавая вопрос, я тешил себя подсознательной надеждой узнать что-нибудь об отце от постороннего, беспристрастного человека и так волновался в ожидании ответа, что вынужден был поставить стакан.
— Он немного интеллигентничал, — незамедлительно последовал ответ.
— Интеллигентничал?
— Да, да, интеллигентничал, — с неуместным раздражением буркнул батони Коте и снова буквально залез мне в глаза. Изумленный, я мотнул головой, невольно переводя взгляд на батони Гайоза, отца Кахи, словно от него ожидая вразумительного толкования. На его лице не дрогнул ни один мускул.
— Что вы называете интеллигентничаньем? — спросил тем временем Каха. Голос его мне не понравился, было заметно, что он нервничает.
— Его отец позволял себе пить за здоровье царей! — грозные нотки звенели в голосе батони Коте. Мой отец явно чем-то насолил ему, вот он и бесится, — мне стало неприятно от этой мысли, и я смешался. Но Каха не полез за словом в карман:
— За царицу Тамар и я бы с удовольствием выпил!
— Вот-вот! — ядовито усмехнулся батони Коте. — Не советую вам пить за здоровье царей, молодой человек! — подчеркнутое «молодой человек» прозвучало, как «сукин сын».
— Смотря, за каких царей!
— И вам не стыдно такое говорить?
— Это вам должно быть стыдно! — Каха вскочил.
— Каха! — одернул его отец.
— Поосторожней, молодой человек! — бросил батони Коте. — За такие вот рассуждения я написал на его отца куда следует. Не думайте, что я разучился писать.
— Каха, у этого человека лучшие намерения! — воскликнул отец моего друга, вскочил и, положив руку на плечо сына, пытался усадить его, но Каха отшвырнул ногой стул и почти закричал:
— Плевать мне на его намерения. Человека судят по делам, а не по намерениям…
— Молодой человек, я вам советую…
Остановить Каху было уже невозможно.
— Будь у тебя хотя бы спинной мозг, я бы тебе сказал кое-что, да не стоит на тебя тратить слов, ты только плевка заслуживаешь, мразь… — Он плюнул в лицо этому далеко не молодому человеку и вылетел из комнаты, грохнув дверью. Редко доводилось мне видеть столь взбешенного и злобного человека, каким был в тот вечер друг отца Кахи.
Задумчиво дымя сигаретой, я шагал по проспекту Руставели. Стоял прекрасный солнечный день. Передо мной оживало мое собственное прошлое: те люди, что некогда окружали меня, снова были со мной; и многое, до сей поры казавшееся забытым, внезапно выступало из мрака забвения, обретая ту же форму и цвет, которыми обладало когда-то в действительности…
У Кашветской церкви я уступил дорогу троллейбусу, лениво ползущему на подъем. В окне троллейбуса кто-то замахал рукой, и мне показалось, что это приветствие адресовано мне. Поблизости и в самом деле никого не было, но, когда я переходил улицу, гадая, кому махали из окна, мимо меня промчался здоровенный детина и успел на ходу вскочить в троллейбус, уже отошедший от остановки. Видимо, это махали ему. Я вошел в сквер и присел на скамью. Рядом со мной сидел старик в очках и читал газету. Неподалеку от нас праздный фотограф разговаривал с какими-то людьми. И тут мне вспомнилось, что в этом сквере любил отдыхать дядя Илико…
Он жил бобылем, насколько я помню, ни друзей, ни родных у него не было. И умер он скоропостижно, некому было даже прикрыть ему глаза. Соседи хватились только на третий день, взломали дверь и проникли в комнату. Они же в складчину похоронили его. Все имущество старика, богатая библиотека и коллекция картин отошли к государству. Кроме соседей, ни один человек не пришел проводить его в последний путь. Я прекрасно помню, как неделю спустя у одного из соседей Илико шофера Андро скончался тесть, и однажды вечером, перед началом панихиды, когда соседи и родственники, беседуя, толпились во дворе, с улицы появился худосочный старикашка в картузе с длинным козырьком и приблизился к собравшимся:
— Извиняюсь, батоно, не скажете ли, где проживает Илико?
— Вон в той квартире, — вежливо ответил Андро, указывая на опечатанную дверь.
Я и Вахтанг находились тут же.
— Вы не знаете, он дома? — спросил старикашка.
— Нет, милейший, вот уже неделя, как он гостит на том свете, — все так же любезно ответил Андро.
— Что вы говорите? — вздрогнул знакомый Илико.
— Да, милейший, неделю назад он собрал свои бренные пожитки.
— Ох! — запричитал старикашка. — Не скажете, как это случилось?
— Он внезапно ушел от нас, — ответил Андро, бывший под мухой.
Старик был убит. Он поминутно встряхивал головой, а все вокруг молча смотрели на него. Растерянный и пораженный, топтался он на месте, явно не собираясь уходить. Было видно, что эта новость глубоко потрясла его.
— Если у вас неотложное дело, — успокоил его Андро, — завтра в пять вечера и мой тесть отправляется в царство небесное, вы можете поручить ему, он непременно передаст…
Вспомнив этот эпизод, я и сейчас не смог удержаться от улыбки. И ясно представил Илико, часто сиживавшего в этом сквере на солнышке и глядевшего на оживленных маклеров, собиравшихся здесь каждый день.
Илико я знал через Вахтанга…
С Вахтангом мы дружили с детства. Одно время, когда мы учились в школе, он жил по соседству с нами. У них была отличная квартира, и, хотя потом они переехали в еще лучшую — они получили просторную и современно оборудованную квартиру, — мне больше нравилась старая, с длинной, широкой галереей, откуда, как на ладони, открывался Тбилиси, дома по ту сторону Куры, амфитеатром поднимающиеся по склонам, Арсенал, так называемая «Красная горка», Сванетский квартал, Кукия, лысая Махата. Вечерами, когда на город опускалась темнота, мириады огоньков мерцали на всем пространстве от Навтлуги и Шавсопели до окраин Нахаловки, и не было ничего отраднее, чем вид ночного города с этой галереи.
Тогда они жили на третьем этаже. Вход был с парадного, а галерея выходила на маленький дворик, в конце которого находился небольшой палисадник, выращенный жившим на первом этаже старым пенсионером дядей Илико. Низкий штакетник, покрашенный зеленой краской, огораживал садик, а в центре его, в беседке, увитой виноградом, стоял столик, на котором в воскресные дни дядя Илико играл с соседями в нарды. Когда-то весь дом принадлежал отцу Илико, их семья занимала тогда весь верхний этаж, где теперь жила семья Вахтанга. Илико был бобылем, жены и детей у него никогда не было, ему вполне хватало тех двух комнат с маленькой верандой на первом этаже отцовского дома, в которых он обитал сейчас, тем более, что рядом, в тесной комнатушке ютилось многочисленное семейство Андро. Надо сказать, что сам Андро, большой пьяница и бузотер, нисколько не заботился о расширении своего жилья.
Летом легко одетый Илико старательно ухаживал за своими цветами, то поливал их, то просто копался в земле.
Вечерами, если его не беспокоил шум, он подолгу сидел за столиком в виноградной беседке, обложившись газетами, книгами и журналами, и читал. Но стоило показаться хмельному Андро, что случалось весьма часто, он запирался в своей квартире и продолжал читать при свете ночника.
— Выходи, Илико, выходи, старина, выпьем! — орал на весь двор Андро. — На что тебе эти книги, вылазь, проведем время!
Но Илико не отзывался. Потом жена и многочисленное потомство затаскивали упирающегося Андро домой. Некоторое время слышался его хриплый баритон:
— «Как хотелось, чтоб сынок мой стал зеленщиком!»[28]
Наконец, все смолкало.
А Илико сидел в своей темной комнате и читал при свете ночника. В обеих комнатах висели старинные, позолоченные люстры, но они никогда не зажигались в целях экономии электроэнергии. От родителей Вахтанга я слышал о весьма значительном состоянии и невообразимой скупости этого купеческого сына, чему, впрочем, верилось с трудом — из года в год Илико не снимал одну и ту же одежду. Зимой его гардероб состоял из теплой меховой шапки, изрядно послужившей хозяину, глухого, синего, несколько выцветшего кителя и потертого драпового пальто с меховым воротником; летом все это сменялось белым, чесучовым, опять-таки застегнутым до самого подбородка кителем и белой соломенной шляпой. Только обувь не менялась — круглый год он ходил в одних и тех же черных ботинках с высокими голенищами, ботинки эти почему-то не снашивались. Кто знает, может быть, у него хранилось несколько пар одинаково потертых и стоптанных, и он по очереди надевал их? Еду он готовил сам, частенько, выходя во двор, я видел его хлопочущим у керосинки. Смело можно было сказать, что старик был прекрасной хозяйкой — в его квартире все сверкало чистотой. И сам он был до крайности аккуратен — чисто выбритый, пропитанный одеколоном. Я не переносил этот запах, может быть, он и явился одной из причин, из-за которой я недолюбливал Илико, хотя он всегда бывал изысканно вежлив и внимателен и любил беседовать с нами. Он, бывало, частенько втягивал нас с Вахтангом в разговор, донимая весьма странными вопросами, десятки раз переспрашивая одно и то же, хотя не был туг на ухо. То ли он не запоминал наши ответы, то ли тут крылась иная какая причина, я не знаю, но эта привычка переспрашивать надоедала и утомляла меня. Снимет очки — неприятные красные полосы выделяются на переносице и на висках — и ну расспрашивать, кем были мои родители, есть ли у меня братья или сестры, как я учусь, как веду себя в школе, люблю ли Вахтанга, может быть, у меня и девочка есть?
На такие щекотливые вопросы я, разумеется, отвечал с большой неохотой.
— Лично у меня нет друзей и возлюбленной не было. Мои друзья и возлюбленные — книги и картины, — гордо заявлял он и тут же приглашал нас к себе.
Действительно, у него было множество книг, ровнехонько стоявших на высоких полках, а стены комнат увешаны картинами в дорогих рамах. Старинная мебель. И почему-то швейная машинка. Комнаты хранили какой-то специфический запах, непонятно какой, то ли излишней чистоты, то ли мастики, которой натирают полы, то ли сырости. А может быть, так пахла еда, которую он готовил на веранде.
Разинув рты, мы разглядывали книги, картины, мебель, швейную машинку и сотни безделушек, расставленных по полкам и на столе.
— Моя любимейшая страна — Италия! Флоренция, Венеция, вечный город Рим, — вдохновенно перечислял дядя Илико. — Самая дорогая для меня эпоха человеческой истории — Ренессанс — кватроченто! — эпоха Возрождения… Вы, разумеется, слышали о Ренессансе?
Мы молчали.
— Вы не слышали о Боккаччо? — насмешливая улыбка кривила его губы.
— Боккаччо?
— Да, Боккаччо! Неужели вы не читали «Декамерон»? В вашем возрасте каждый подросток с увлечением читает «Декамерон». Там такое описано, что… — Илико хмыкал. — Если желаете, я одолжу вам…
— Я читал «Декамерон», — говорю я.
— Правда? — сразу оживлялся Илико.
— Да.
— Ну и как?
— Что — как?
— Как понравилось?
— Ничего.
— И ты читал, Вахтанг?
Вахтанг, краснея, кивал. В детстве мой друг был чувствителен и застенчив. Он всегда чувствовал себя виноватым перед дядей Илико за то, что они жили в его бывшей квартире, в той самой, где прошло детство старика, и которая, вероятно, была дорога ему по сей день.
— Замечательная книга «Декамерон», не так ли? — не отставал от нас старик, словно ему необходимо было знать наше мнение об этом всемирно известном произведении.
— Да, — коротко отвечал Вахтанг.
— Эта книга создана в эпоху Возрождения. А теперь, пожалуйте сюда, юноши, как вам нравится эта обнаженная женщина? — Илико подводил нас к одной из картин, глядя на нее со странным выражением. Не могу понять, какие чувства обуревали его в тот миг — восхищение, отвращение, страсть или нечто иное?..
— Она называется «Рождение Венеры». И эта величайшая картина принадлежит эпохе Возрождения.
Нам было крайне неловко, что человек его возраста беседует с нами о «Декамероне» и показывает картины с голыми женщинами. Мы умышленно делали вид, будто нас интересует не «Венера», а другая, висящая рядом картина, на которой уходила вдаль открытая колоннада, и две женщины в долгополых одеяниях стояли рядом — одна с длинными крыльями за плечами чуть склонилась к другой.
— Что это? — спрашивал я, словно в самом деле интересовался этой картиной, а сам исподтишка продолжал коситься на голую Венеру. Мне было стыдно в присутствии старшего пялить глаза на нагое женское тело, пусть нарисованное, и я изо всех сил старался скрыть жгучий интерес, будто вовсе не замечал ее.
— О, это величайшее творение фра Анжелико! «Благовещенье»!
Несколько минут мы молча разглядывали «Благовещенье», после чего дядя Илико продолжал:
— Разве только Леонардо, Рафаэль, Ботичелли и Микеланджело творили в эпоху Ренессанса? Нет, мои дорогие! Это было время титанов. Все творцы тех веков были гениями! — тут я замечал, что Илико обращается вовсе не к нам, а в странном экстазе возражает неведомому собеседнику, вероятно, тому, который где-то и когда-то не разделял этой истины. — Эпоха Ренессанса породила — вот! — автора-этой картины фра Анжелико, Карпаччо, вот фрагмент одной из его фресок, прелесть, не правда ли?
И продолжал сыпать именами:
— Пьеро ди Сано, Пьеро делла Франческа, Донателло, Филиппо Брунеллески, разве назовешь всех?
Илико извлекал из шкафа пудовый альбом и стремительно — у него дрожали пальцы — распахивал его:
— Взгляните на этот храм. Чем он уступает собору святого Петра?
Лично я не имел ни малейшего представления о соборе святого Петра, но увлеченный Илико не замечал ничего вокруг:
— Это Санта-Мария дель Фьоре, построенная Брунеллески во Флоренции. Взгляните на ее купол! Ах, юноши! Разве не величественно?
— Величественно, — киваем мы.
— Некоторые из наших соотечественников мнят, будто грузинские зодчие не имели себе равных. Это смехотворно, юноши, смешон и плачевен подобный самообман. Если бы это касалось только архитектуры — еще ничего, но…
— Разве наша архитектура плоха? — недоумевали мы.
— Кто это сказал? Прекрасна, великолепна, но… — Илико дрожащими пальцами продолжал листать альбом, и голос у него менялся. — А дворец Дожей плох? Или эта падающая башня? Хе-хе, юноши! Нашему народу присущ один серьезный недостаток: каждый пыжится представить себя таким, каким он не был и не будет никогда. Трус корчит из себя героя, нищий — миллионера, бестолочь мнит себя гениальностью, и этому несть конца. Некоторые видят в этом аристократизм духа, но я не сторонник подобного мнения, сие весьма попахивает плебейской спесью. Вот и получается, мои дорогие, что у нас отсутствует истинное представление о самих себе, мы вечно шарахаемся от необоснованного оптимизма к крайнему скептицизму. Мы или чересчур беспечны или излишне разочарованы, или превозносим себя сверх всякой меры или совершенно пренебрегаем собственными талантом и способностями. Не можем найти золотую середину в оценке собственной персоны. Мы, юноши, лишены чувства меры! Мы все — беспечный, поверхностный народ, неглубокий и переимчивый, показной блеск слепит нас и застит все остальное. Появись среди нас двое-трое истинно великих человека, мы не поймем и не оценим их. Хе-хе…
Затаив дыхание, ловили мы каждое слово одержимого старика. Смысл его высказываний не доходил до нас, многочисленные иностранные, итальянские имена, которыми он строчил как из пулемета, сбивали нас с толку, но Илико это мало волновало.
— Да, мои дорогие! Немало ценностей создано нашим народом, но и другими создано не меньше. Каждая нация вносит лепту в сокровищницу мировой культуры, соответственно собственным способностям, одни больше, другие меньше… Если наши предки первыми начали обрабатывать руду, мы вправе гордиться этим, но разве у других меньше поводов для гордости? Хе-хе, юноши… Нам надо еще научиться ценить себя, не переоценивать, мои дорогие, а именно ценить, ценить по заслугам.
И Илико снова тащил нас к картинам.
— Книги и искусство лучше всякой возлюбленной! — провозглашал он. — Взгляните на эту картину! Перед вами Мона Лиза Джоконда, жена некоего толстосума, сама по себе она ничего не представляла, — лицо Илико презрительно кривилось. — Что может представлять из себя женщина? Ничтожество ей имя, как сказал Шекспир, — тут он снова вперял в нас пристальный взгляд, недоверчивый, враждебный. — Я ни во что не ставлю тех, кто бегает за девчонками. Истинно духовная дружба возможна только между мужчинами, не так ли?
В комнате стояла тишина, и в этой тишине его голос звучал угрожающе:
— И у гениального Микеланджело Буонаротти был задушевный друг, некто Томазо Кавалиери, которому тот посвятил стихи, воспламененные этой любовью. О такой любви говорит Платон в своем «Пире». Да! Я полюбил вас, потому что вижу в вас друзей по духу и хочу стать вашим духовным наставником в этой дружбе. Если ваше поведение не разочарует меня, может быть, и я посвящу вам стихи, все зависит от вас. Мне хочется, чтобы вы чаще заходили ко мне, так как я надеюсь, что дружба со мной выведет вас обоих на верный путь и вы не станете увиваться вокруг какой-нибудь дурочки. Не правда ли, друзья?
Мы согласно кивали; слова его все больше пугали нас; как загипнотизированные, не решаясь раскрыть рот, стояли мы среди этой гнетущей обстановки, а он продолжал проповедовать:
— Женщина — ничтожество! Но взгляните на этот портрет! Кто такая Мона Лиза Джоконда? Ничтожество. Жена безвестного купчика. И вот, гений художника вдохнул в нее бессмертную душу, и ничтожество превратил в бессмертие. Автор этой картины — мой духовный наставник.
После таких признаний Илико влюбленным взором окидывал свои полки с книгами, картины и тонким вкрадчивым голосом, сохраняя на лице странную свою улыбку, приступал к основному. Улыбка его — тут я теряюсь, что она выражала, насмешку или застенчивость? Во всяком случае она не была ни ясной, ни определенной, а любая неопределенность рождает в нас если не страх, то подсознательные опасения или недоверчивость.
— Человек должен заботиться только о духовной дружбе, да, юноши, да! Книги и картины — вот мои духовные друзья, я берегу их, как зеницу ока. За всю свою жизнь я и шагу не сделал из Тбилиси, но с помощью книг и картин познал весь мир, особенно Италию периода Ренессанса. Этого я достиг потому, что не забивал себе голову мыслями о женщинах. Женщина — посредник дьявола! — внезапно заключал он.
Надо признать, что вместе с интересом дядя Илико вызывал в нас чувство страха. Особенно странным становился он, когда внезапная тоска охватывала его.
— И в тот золотой век у искусства были враги, — поникнув, вздыхал он, — в пятнадцатом столетии Джироламо Савонарола развел на площади Сеньории во Флоренции такой костер из книг и картин, что сердце мое обливается кровью, едва я представлю себе этот огонь. Сколько шедевров обратилось в пепел!
При этих словах он снимал очки и платком вытирал навернувшиеся на глаза слезы. Наступало долгое молчание. Старик, уйдя в свои мысли, горестно глядел в пространство. Может быть, он думал о том, что каждая эпоха, наряду со всевозможными благами, приносит с собой немало присущего только ей зла, и жизнь никогда и нигде не бывала светлой, направленной к одному лишь добру. Ошеломленные и оробевшие вконец замирали мы перед ним; мне до смерти хотелось убежать из этой квартиры, где бесчисленные книги и картины вместе с речами Илико подавляли и сковывали меня, невольно отторгая от моего несложного и ясного мира.
— По нашим привязанностям безошибочно можно заключить, что мы представляем из себя, — спустя некоторое время Илико успокаивался и надевал очки. — Я преклоняюсь перед искусством Ренессанса, из чего видно, что я принадлежу тому времени. Мне было бы гораздо лучше жить в ту далекую эпоху, но сие от меня не зависело. У меня, юноши, сердце разрывается, когда я гляжу на нынешнюю молодежь, которая не интересуется ничем, кроме досужего времяпрепровождения и женщин, — голос Илико снова срывался от презрения и гнева.
Я никак не мог понять, что такого произошло в его жизни? Почему он так ненавидит женщин, что скрыто в его душе? Может быть, когда-то ему изменили, и с той поры он охладел к женскому полу? А может быть, на протяжении всей его жизни женщина была настолько недоступна для него, что неудовлетворенное, неосуществленное желание в конце концов переросло в отвращение? А может быть… Впрочем, всем этим «может быть» не видно конца.
Чудаковатый старик остался для меня полнейшей загадкой. Кто был он, счастливец или несчастный? Почему, как маньяк, только и твердил об Италии Ренессанса? Почему он избрал пристанищем своей души тот светлый, жизнерадостный мир? Не потому ли, что все в той далекой эпохе было чуждо его болезненной, аскетической натуре? Вероятно, он обладал определенными знаниями, но для того, в чьей душе не горит жажда деятельности, образование совершенно напрасный дар.
Действительно, для Илико ничего не существовало в мире, кроме книг и картин. В войну они сослужили ему добрую службу: он продавал уникальные издания, кое-какие ценные картины и кормился этим. Вообще-то жил он довольно убого, не пил, не имел друзей. Не знаю, чем он занимался помимо того, что раз в месяц получал пенсию да целыми днями рылся в книгах. Разумеется, книги — великое благо, но мне кажется, что чтение было для наго скорее механической привычкой, нежели истинно духовной потребностью. Если ему подсунуть троллейбусный билет, он наверняка прочел бы ка нем все, не пропуская ни буковки. Мне кажется, что этот старик принадлежал к той же породе, что и Шалва Дидимамишвили или Гео Аваков, только вместо вина он присасывался к печатному слову. Может быть, этот покой, уединение или самопострижение делали его счастливым, но никому не было от него никакой пользы. Во всяком случае, он и в душе Вахтанга не оставил заметного следа. И Вахтанг скоро забыл дядю Илико. Не заверни я случайно в этот сквер да еще в особом настроении, кто знает, когда бы он вспомнился мне!
Вахтанг был куда больше чувствителен и сердечен, хотя временами бывал удивительно вспыльчив. Однако с первого взгляда эта черта оставалась незаметной, тем более, что по своей натуре он был мягкий, ласковый и податливый, и наши знакомые считали его серьезным и выдержанным человеком. Кроме того, в различных ситуациях и в отношениях с разными людьми все мы кажемся разными…
Но я знал Вахтанга с детства, повидал его и в нужде и в достатке и так или иначе имел понятие, что он представляет из себя. Он был очень непостоянен и мягкосердечен. В детстве, когда мы бывали в кино или театре и там показывали что-нибудь душещипательное, он не мог сдержать слез. А потом, когда в зале вспыхивал свет и поднявшиеся зрители, уже забывая пережитое минуту назад, смущенно и неловко поглядывали на соседей, он готов был провалиться сквозь землю от стыда за свою слабость, за свои покрасневшие глаза. Он мог быть очень добрым, но порой и беспощадным. Он мог стерпеть многое, не проявляя обиды, но иногда сущий пустяк, мелочь выводили его из себя. Впоследствии, когда мы повзрослели, на многих он производил впечатление спокойного и уравновешенного человека, на самом же деле все обстояло не так, наоборот, он легко терял равновесие и в такие моменты не взвешивал ни своих слов, ни поступков. Иногда он бывал наивным, легковерным и доверчивым, иногда же — ужасно мнительным, подозревавшим в кознях весь мир. Он мог быть осторожным и трезвым, хотя порой производил впечатление бесшабашного молодца. На его примере легко убедиться, что противоположные явления разделяет не такая глубокая пропасть, как представляется с первого взгляда. Какая-то черта в человеке вовсе не исключает существования в его душе совершенно противоположной черты. Полярные явления так связаны между собой, что невозможно представить одно без другого. В самом деле, не становится ли человек смелым оттого, что подавляет страх? Если бы мы вообще не испытывали чувства страха, не робели перед опасностью, в чем бы тогда проявлялась смелость? Самый добрый человек потому и добр, что заглушает в собственной душе диктат зла, малейшее его проявление. Всякое явление имеет оборотную сторону, а коли это так, то человеку, как видно, все свойства даются вместе со своими противоположностями. Человек колеблется между этими двумя крайностями, и определяющим признаком его характера или натуры становится то свойство, которое, сталкиваясь с противоположным, побеждает в душе человека. Потому-то мы часто сожалеем о многих наших поступках, и раскаянье наше означает, что мы не всегда одинаковы, но беспрерывно меняемся и в различной обстановке проявляем различные качества.
У человека с твердым характером редко заметны эти перемены, эти взаимоисключающие выпады. Но Вахтанг не был твердым человеком. Он легко поддавался первому впечатлению и не мог оказать должного сопротивления ходу событий, а зачастую и собственным желаниям. Конечно, противостоять ходу событий порой немыслимо, но в нашей жизни случается целый ряд обстоятельств, которые человек твердой воли и разума способен изменить, направить в нужное для себя русло, опять-таки, если изменение и направление их не превышает человеческие силы. Тут необходима активность, быстрота реакции, но Вахтангу недоставало именно этих качеств, он покорно следовал за течением событий, оттого и часто полагался на других, надеясь на чью-то помощь. Несмотря на это, он оставался симпатичным, славным малым, правдивым и честным. Да и внешность у него была приятной. А внешность, как известно, имеет большое значение, она привлекает внимание, вот почему у него было много преданных и любящих друзей. А так как он сам был крайне самолюбив, то тщательно скрывал свои слабые стороны и, как я уже говорил, многим казался спокойным, выдержанным человеком с твердым характером, воспитанным и прилежным, хотя в действительности был иным и прекрасно сознавал это.
Я уже говорил, что знал Вахтанга с детства. Одно время был частым гостем в их семье. Помню приземистый, стариннейший, четырехэтажный кирпичный дом на подъеме, сразу, как сворачиваешь к Вахтангу. Длинное, запыленное окно первого этажа выходило на улицу, на окне висела грязная штора, а в комнате всегда было темно. Днем и ночью горела коптилка на столе, скудно освещавшая потолок и высокие, прокопченные стены. Там обитали двое душевнобольных, мать и дочь. Они никого не беспокоили, вечно их можно было видеть молча сидящими за столом, на котором валялись консервные банки и разное барахло, но в детстве я почему-то боялся проходить мимо их окна. Иногда мать с растрепанными, совершенно седыми волосами, в черном платье, опершись руками о подоконник, сжав губы, с суровым и застывшим лицом глядела на улицу, где шумели и кричали возвращающиеся из школы дети. Дочь я часто встречал на улице, бредет, бывало, по тротуару, со спущенными чулками, в старых стоптанных чувяках, в перепачканном платье, сутулая, нечесаная, затравленная, ни на кого не обращая внимания, глядит себе под ноги, улыбается чему-то своему и тихонько бормочет. У нее приятные черты лица, она довольно молода, вероятно, ей нет и сорока, но тяжелый недуг так надломил и согнул ее, что мне становилось жутко, едва я замечал эту безобидную дурочку. Когда она попадалась мне, я непременно сходил с тротуара, пропуская ее, а Вахтанг, если у него находилась мелочь, смело приближался к ней, совал в руку деньги, а потом укорял меня:
— Чего ты боишься, ведь она — несчастный человек, и больше ничего…
И за это я особенно любил его. Я любил его долго. Потом мы как-то отдалились друг от друга. Наверное, виной всему была Софико. Каждое лето, бывало, мы вместе отправлялись в горы, но после гибели Важа и эта традиция сошла на нет…
Действительно, после смерти Важа многое изменилось…
Именно тогда я познакомился с Мери.
На панихиде…
Узкая лестница была забита людьми. Толпились в комнатах, в коридоре. Мери рыдала, припав к стене и закрыв лицо руками. Я пригляделся к ней, и мне показалось, что я где-то видел эту девушку, только никак не мог вспомнить, где именно. Вероятно, я просто никогда не обращал на нее внимания, но сейчас, видя ее — глубоко скорбящую, убитую горем, я проникся к ней теплым чувством, она вдруг показалась мне такой близкой и родной, что меня потянуло обнять и успокоить ее. Не знаю, с чего накатила такая блажь, но мне захотелось познакомиться с этой девушкой. В те дни я ходил как в воду опущенный, пребывал в тупом безразличии и отчаянии, смерть Важа была для меня большим несчастьем, я совершенно лишился бодрости духа, от тысячи разноречивых мыслей раскалывалась голова, когда я оставался один; но на людях, даже на панихидах, где звучала похоронная музыка, и по лестнице беспрерывно поднимался и сходил народ, оглядывая друг друга, я держался как-то неестественно; вопреки собственному желанию, я не был искренним, простым, невольно считаясь с теми, кто наблюдал за мной, кто знал, что я друг Важа, и это деланное самообладание переходило в позу. Я замечал, что и другие ведут себя так же, испытывая примерно те же чувства, что и я, словно каждый желал выделиться, отличиться, словно все сохранили или приобрели сейчас желание играть; и я удивлялся, откуда это берется, почему мы маскируемся, почему мои мысли стремятся к совершенно постороннему, почему меня тянет заговорить с незнакомой девушкой, что, спрятав лицо в ладонях, сиротливо жмется к стене и наверняка не подозревает о моем существовании. Возможно, общее горе, тяжесть общей утраты объединяли нас в тот момент, но главное заключалось, видимо, в другом, в том, что душа моя в ту пору нуждалась в особом тепле, а горе не подавляло эту жажду, как по моим предположениям должно было происходить, а наоборот, обостряло ее еще больше. Тогда я был молод, и, безусловно, с этим тоже необходимо считаться. В общем, когда панихида закончилась и народ начал медленно расходиться, я последовал за девушкой, твердо намереваясь поговорить с ней. В глубине души я стыдился своего поведения. «Нашел время знакомиться с девушками, когда Важа нет в живых! — думал я, но тут же находил оправдание: — Все — бессмыслица, надо делать то, что хочется, потому что жизнь дана один раз. Не стоит обуздывать себя. Почему, собственно, мне не познакомиться с этой девушкой?..»
На улице было темно. Не зная, с чего начать, я шел в нескольких шагах позади Мери. Вдруг она остановилась, обернулась, словно почувствовав, что я иду именно за ней, как-то странно глянула на меня, сошла с тротуара и помахала рукой идущей машине. Но машина не остановилась. В этот момент показалось свободное такси. Я выскочил на проезжую часть, остановил его, распахнул дверцу:
— Пожалуйста! — и посмотрел на девушку.
Мери тут же подбежала.
— Спасибо! — она вежливо улыбнулась, захлопнула дверцу и уехала.
Весь следующий день я не вспоминал о ней, но перед самой панихидой внезапное и постыдное волнение охватило меня. Я ясно почувствовал, что мне хочется видеть Мери. Хочется, чтобы поскорее началась панихида, чтобы она пришла и я увидел ее. Мой лучший друг лежал мертвый, а я думал о незнакомой девице, чьего имени я тогда даже не знал. Я стыдился собственного малодушия и легкомыслия, но никак не мог выбросить этих мыслей из головы и утешал себя тем, что раз я еще жив и пока хожу по земле, мне невозможно не думать о земном, несмотря на горе и искреннюю скорбь. В конце концов это ведь своеобразная отдушина. Почему человек не может отвлечься и тем самым облегчить свое горе, если это возможно? К началу панихиды я присмотрел себе место на лестнице, где Мери непременно заметит меня, если, конечно, придет. Так и случилось, она пришла в сопровождении какой-то подруги. Я поклонился ей, она учтиво ответила мне и встала неподалеку. Сегодня она уже не плакала так горько, как вчера, хотя глаза ее были полны слез. Кто знает, что переживала она, о чем вспоминала? А я стоял почти напротив и не спускал с нее глаз. Из комнаты доносилась траурная музыка, народ поднимался и спускался по лестнице, женщины прикладывали к глазам платки, мужчины проходили, опустив обнаженные головы, и временами я начисто забывал о Мери, всякие мысли гасли во мне, я словно освобождался от всего, опустошался, теряя надежду, желания, цель; но затем снова вспоминал о Мери, стоящей в двух шагах от меня, взглядывал на нее, и меня, охваченного глубокой скорбью, согревало вдруг какое-то приятное чувство. Будто бледный свет разгонял мрак, переполнявший душу. Странно, однако, что все, происходящее со мной, толкающее меня к этой девушке, совершалось по милости случая, потому что ведь, собственно говоря, я вполне мог не заметить Мери именно тогда, когда мне, как оказалось, невыносимо хотелось с кем-нибудь поговорить… Потом приятельница Мери ушла, и я посчитал долгом воспитанного человека подойти к оставшейся в одиночестве девушке. Во всяком случае, именно так, по моим предположениям, она должна была расценить мой шаг.
— Вы знали Важа? — осведомился я, приблизившись к ней, хотя было яснее ясного, что она знакома с моим другом, иначе ей незачем было сюда приходить.
— Очень хорошо, — ответила она.
— Простите, я не знаю вашего имени.
— Мери.
— Меня зовут Тархудж.
— Очень приятно, — улыбнулась Мери.
Остаток вечера мы простояли молча. Панихида кончилась, народ медленно разошелся. Мои друзья, наши с Важа друзья ходили взад и вперед, курили, переговаривались. Некоторые знали Мери, перекидывались с ней двумя-тремя словами.
— Странно, вас знают почти все мои друзья, а я нет…
— Бывает, — ответила Мери.
Потом она решила идти домой, потому что время было позднее, я предложил проводить ее, и она согласилась без всяких колебаний.
Мы вышли на улицу, я чувствовал себя крайне неловко, оставшись с этой незнакомой девушкой наедине, не зная, о чем с ней говорить. Мы могли поговорить о Важа, но мне не хотелось вспоминать о нем, хотя бы потому, что было гадко использовать его как предлог для сближения с этой девушкой. Долго мы шли молча, я был до того скован, что не мог разжать губ.
— Где вы живете? — наконец спросил я, чтобы Мери не вообразила, будто ее провожатый спит на ходу.
— На Коджорской улице.
— На Коджорской? — изумился я. — Я часто бываю в том районе, но почему-то ни разу не видел вас.
— Бывает, — снова ответила она.
— Хотя я вас откуда-то знаю, только не могу вспомнить.
— Я часто встречала вас вместе с Важа…
— Не знаю, не помню…
Мери испытующе покосилась на меня, печально улыбнулась, как бы уйдя в далекие милые воспоминания, и сказала:
— Полгода назад я обучала Важа английскому языку. Он часто приходил ко мне, и мы целыми днями болтали по-английски.
— Хорошо знать иностранный язык. Вы специалист по английскому?
— Хочу им стать. Я учусь на английском факультете.
Беседа постепенно наладилась. Главным образом мы рассуждали об английском языке, о его своеобразии. Я ни бельмеса не смыслил в нем, но внимательно слушал Мери — мне было приятно идти рядом с ней. Мы медленно шли по темным узким улочкам. Прохлада ранней осени загнала людей в дома, поразительная тишина царила вокруг. Затем Мери снова вспомнила о моем друге:
— Бедный Важа! Он был необычайно талантливый человек! — вздохнула она.
Я промолчал.
— Знаете, как быстро он усвоил английский? На что другому потребовались бы годы, он одолел в несколько месяцев. Он так горячо брался за все, словно чувствовал, что ему отпущена недолгая жизнь…
— Может быть.
— Когда Важа погиб, и вы были с ним в горах, правда? — спросила Мери и как-то сочувственно взглянула ка меня.
— Я был в лагере, — нехотя ответил я.
— Он был сильно изуродован?
В памяти моей возник тот день, когда я узнал о смерти Важа… Я сидел в палатке, на подступах к вершине… Перед глазами встал бесконечный, изнурительный, отвесный подъем, который без передышки одолела наша группа. Впереди меня шел Вахтанг, и весь путь, обливаясь по́том, согнувшись в три погибели, я видел только стальные кошки, привязанные к его ботинкам, — больше ничего не осталось в памяти, да я ни о чем и не думал, кроме одного — как-нибудь выдюжить и дотащить груз до ледника… Потом я вспомнил разбитого, изуродованного, искалеченного Важа. Никак не верилось, что это безжизненно распластавшееся на льду почти голое тело, едва прикрытое изодранной одеждой, когда-то принадлежало Важа, Важа — вечному непоседе, жизнерадостному, неугомонному, полному жизни и надежд… Иным я не мог представить его…
— Знаете, не стоит говорить об этом, лучше пойдемте, выпьем вина.
— Куда? — спросила Мери.
— Куда хотите, в кафе или в ресторан.
— Нет, уже поздно. Лучше посидим у меня, я живу одна.
В ту ночь мы долго разговаривали. Мы сидели за столом, пили вино и пьянели. Потом выключили свет, Мери сказала, что за стенкой живут старики и ей неудобно оставлять свет так поздно. Когда Мери уже в полной темноте села за маленький столик напротив меня и наши колени соприкоснулись, я вдруг почувствовал, что нынешней ночью останусь у нее. Я был уже пьян, язык немного заплетался, но голова оставалась совершенно ясной. Я взял ее руки в свои и сказал: «Ты мне очень нравишься, я люблю тебя!» В ту минуту я верил, что говорю чистую правду, но при этом понимал, что все было игрой, и ощущение это придавало мне смелости. Мери засмеялась. Не знаю, обрадовалась она или не поверила моим словам, но рук не отняла. Может быть, и она понимала, что все это было игрой, которую мы в ту минуту принимали за истину. Я сказал, что был счастлив познакомиться с ней. Мы произносили слова как можно тише, чтобы не беспокоить соседей, и этот шепот создавал особое настроение — волновал меня все больше и больше. Я шептал ей, что чувствую себя таким одиноким, что без нее мне будет очень плохо. «Знаю, — отвечала она, — нет ничего хуже одиночества». В глубине души мне было смешно и стыдно, ибо, несмотря на кажущуюся искренность наших слов, мы вовсе не стремились открыть друг перед другом душу, цель наша состояла в ином, к чему мы и стремились сейчас. А искренностью пользовались как маской, помогающей скрыть то, что сию минуту руководило нами обоими. Наши поступки смахивали на спекуляцию собственными переживаниями, я ощущал эту фальшь, но не хотел думать о ней… В ту ночь я действительно остался у Мери. «Все — балаган, — думал я, когда Мери обнимала и ласкала меня в постели, — оба мы кривляемся, ломаем комедию и обманываем друг друга…»
С того дня мы почти не разлучались. Когда Мери была рядом, думы о смерти Важа не так тяготили меня. И Софико постепенно забылась. Странное настроение владело мной в те дни — без Важа город казался мне обезлюдевшим. Когда я выходил на улицу, мне недоставало чего-то, чего ничем нельзя было заменить. Опустошенный и подавленный, бродил я по городу, но такая красивая осень стояла в том году, таким теплым было солнце, льдистая голубизна окутывала дали, пестрые сады, зеленовато-бурые холмы, окружавшие город, а вид далеких синеватых гор так ласкал глаз, что, невольно, вместе с тоской неведомая радость переполняла грудь, эта удивительная грустная радость не покидала меня, овевая гармонией мою душу. Может быть, причиной тому была и Мери, которая невольно облегчала мое горе, внося в мою жизнь что-то новое, неизведанное до сих пор. Никогда ни одна женщина не была так близка мне, и эта новизна увлекла меня. Почти ежедневно я заходил к Мери. Вечерами мы прогуливались по притихшим улицам, выходили на набережную, бродили по аллеям скверов, потом молчаливыми извилистыми улочками поднимались к Мери, где я оставался до утра. Иногда мы подолгу болтали лежа. Мери рассказывала о своей семье, много говорила о матери, о старшем брате, который, если не ошибаюсь, обосновался где-то в России. Она уверяла меня, что я очень похож на него, может быть, поэтому и любит меня так сильно, что всю любовь к брату перенесла на меня. Рассказывала она и о своей первой любви. «Я с ума сходила по этому парню, так любила его — дня не могла прожить. Мы поженились, но через месяц разошлись… Почему? Была причина. После него ты первый, кому я стала принадлежать, кого полюбила так, что…»
— Мы должны расстаться! — внезапно говорила она, приподнимаясь на локте и глядя мне прямо в глаза.
— Почему?
Оказывается потому, что она без памяти любит меня, не мыслит без меня жизни, разлука будет для нее таким же сокрушительным ударом, как смерть отца, и поэтому, пока она не привязалась ко мне еще больше, нам лучше расстаться, все равно в конце концов я ее брошу!
— С чего это ты?
— Ты обязательно бросишь меня, я чувствую… Я ужасно несчастливая!
— Не бойся, я никогда не оставлю тебя! — уверял я, потому что было ясно, что она именно это хотела услышать, поэтому и донимала меня внезапными капризами. Мои слова, разумеется, не были искренними. Пока я знал только одно — мне приятно быть рядом с ней, и без долгих размышлений я следовал за ходом событий. Я не очень-то доверял и клятвам Мери, уж слишком стремительно отдалась она мне, безо всяких колебаний, к тому же при весьма странных обстоятельствах, а существование мужа, которого она якобы безумно любила и с которым почему-то развелась через месяц после свадьбы, казалось мне сомнительным красивым плодом фантазии. Но у меня не было ни малейшей охоты выяснять истину. Прошлое в устах Мери звучало так романтично, что я с удовольствием слушал ее. И переживания бывшего мужа, который после развода по пятам преследовал ее, не давал ей проходу, собираясь, кажется, наложить на себя руки или зарезать Мери, походили на очень знакомую, милую, сентиментальную повесть, и мне вовсе не хотелось докапываться, что крылось за этим красивым вымыслом. Я понимал, что Мери приукрашивает свое прошлое, и старался подыгрывать ей, делая вид, будто верю каждому ее слову; хотя, стоит ли говорить, что я не верил мнем гому из ее выдумок, но убеждал мою подругу, что верю, чтобы не разрушать иллюзий. Поэтому, когда Мери уверяла, что самозабвенно любит меня, я отвечал не менее пылкими признаниями, твердил, что жить не могу без нее. Все это было игрой, которая в ту пору устраивала меня. Боль и горе, лежавшие на сердце, не ослабевали, но я не замечал их, увлекшись игрой. Поведение мое смахивало на бегство от действительности, Мери стала тем убежищем, в котором я спрятался. Мне казалось, что все настоящее происходит не на самом деле, а в каком-то фильме, в котором я принимал участие как актер, а не настоящий Тархудж. Я — Тархудж, словно со стороны наблюдал за актером — своим вторым «я», будто бы лично не принимая никакого участия в проделках своего второго «я», оставаясь холодным и трезвым зрителем.
Так или иначе, но мне нравилась эта игра. Действительно, что может быть лучше, чем иногда, пропьянствовав целую ночь, в предрассветную стужу — облачка пара вылетают изо рта — по темным еще улицам — съежившиеся от холода ночные сторожа греются у костров из разбитых ящиков, разведя огонь прямо на тротуаре перед магазинами, — брести к дому Мери, а откуда-то издали, с противоположного конца города доносится приглушенный гудок паровоза, под ногами шуршат опавшие осенние листья, в темных подворотнях и подъездах мяукают бездомные кошки, кругом тишина, весь город спит, слышен только монотонный, ласковый шелест безмолвия, и я думаю о том, что Важа уже нет, что разбились самые смелые мечты юности, что отныне наступила более суровая и трезвая пора моей жизни, и, пошатываясь, подхожу к заветному окну. Я осторожно стучал, и сейчас же, словно там всю ночь ожидали моего стука, приподнималась занавеска, в окно выглядывала Мери с распущенными волосами, в одной сорочке; на цыпочках, бесшумно проводила меня в теплую комнату, безо всяких упреков помогала мне раздеться, укладывала в теплую постель, от которой исходил дурманящий запах женского тела, ложилась рядом и, прижавшись ко мне, согревала меня, окоченевшего от холода. В такие минуты я очень любил ее, и мне, подобно некоторым серьезным и умным людям, казалось, что не существует страсти сильнее любви к женщине; вспыхнув, блаженная, нетерпеливая, дьявольская, она может отнять разум, заставить забыть все — долг, самого себя, весь мир, и всякая иная любовь рождается и возникает только из сексуальной, являясь лишь ее разновидностью. А наутро, когда я просыпался, когда оказывалось, что Мери убежала на лекции, у меня, оставшегося в одиночестве, пропадало ночное настроение, все казалось глупостью, и я снова проникался ощущением игры, снова со стороны трезво наблюдал за своим двойником, который принимал участие в этой игре.
Я тогда еще не знал, что совсем недавно Мери была любовницей Важа.
Потом я узнал и это. Именно тут до меня дошло, почему в последнее время мои друзья, в особенности Вахтанг, избегали и подчеркнуто сторонились меня. В какой-нибудь другой стране никто бы, наверное, и внимания не обратил на случившееся, но в Грузии, где веками достоинство ставилось выше выгоды, мой поступок считался бессовестным. Мне было горько, но я не мог ничего поделать. Не мог оправдать себя, это было бы крайней низостью, да и не в чем и не перед кем было оправдываться. То, что произошло, было роковой случайностью, и те, кто любил меня и доверял мне, должны были сами понять это. Но мои друзья, видимо, довольные тем, что волею судеб не оказались на моем месте, и с чувством собственного превосходства свысока смотрели на меня. Улетел мой краткосрочный покой, рухнуло убежище, которое предоставила мне, бежавшему от самого себя, Мери. Меня больше не влекло к ней. Невыносимо было представить, что Важа, так же как я сейчас, когда-то обнимал эту женщину и ему доставались от нее те же ласки и тепло, которые перепали на мою долю. Я предал своего друга и от этого невольного предательства иногда ненавидел самого себя. Но таким ли невольным было оно? Ведь с первых же дней сомнения грызли мою душу, но я сознательно не давал им определиться. Я закрывал глаза, затыкал уши, чтобы сохранить временное убежище в лице Мери. Все это стало мне совершенно ясно, едва я узнал правду. Все полетело к чертям, смешалось, жизнь моя и вовсе потеряла всякий смысл. Я пристрастился к вину, течение времени несло меня, как щепку, и я даже не пытался разобраться в себе, оглядеться, куда несет меня. А так как я плыл по течению, иногда меня, пьяного, прибивало к Мери, и в такие моменты я походил на животное, которое глухо ко всему, кроме животных инстинктов. Потом, когда опустошенный я приходил в себя — становился мерзок самому себе, ибо ясно видел, что у меня не осталось и признаков достоинства и гордости. Я не должен был являться сюда, ко как последний трус не мог отказаться от этой женщины. Я чувствовал, что переживаю кризис, депрессию, теряю веру в себя, и принимался пить еще больше, чтобы ни о чем не думать. Я понимал, что это безволие, страусиные прятки, но в то время я был безволен и слаб, а Мери никак не могла понять, отчего я запил, почему прекратил вдруг ту приятную игру, когда ласковые слова фонтаном лились из моих уст. Я стал грубым и циничным, старался со всего сорвать красивый покров, благодаря которому даже явное уродство представляется привлекательным, и обнажить то, что скрывалось под ним. Я больше не говорил о любви, и под моим влиянием Мери тоже делалась грубой и резкой. И все-таки она долго не понимала, что случилось, почему я вдруг так переменился. Я всегда избегал разговоров о Важа, как будто мы с Мери вовсе не знали его. Ведь с самого начала интуитивно я что-то подозревал, с первых же дней догадывался, что за отношения были между ними, и кто знает, может, поэтому и старался не вспоминать о моем погибшем друге. Но так или иначе, Мери долго не понимала причину моей отчужденности, хотя в конце концов разобралась что к чему…
…В тот день я был трезвый. Мери занималась при свете ночника. В комнате было почти темно. Я присел на тахту и взглянул на Мери. Она недавно похоронила мать и не снимала траура — черное платье с вырезом на груди, из тех, в которых появляются на экране красивые героини, черные чулки, черные, распущенные по плечам волосы. Мери молчала, и я видел, что она обижена. В приглушенном свете ночника она казалась бледной и удивительно красивой. Я смотрел на нее и чувствовал, что не так равнодушен к ней, как мне казалось до сих пор. Впервые я осмыслил это и удивился, неожиданно поняв, что эта женщина, чужая и близкая одновременно, кажется, в самом деле любит меня, хотя в глубине души я никогда не верил ее признаниям. Мне стало вдруг ясно, что наша игра, которой мы заслонялись от действительности, превратилась в действительность, именно поэтому Мери терпеливо сносила от меня столько унижений, именно поэтому я снова и снова приходил сюда, хотя каждый раз давал себе зарок не возвращаться. Сердце мое наполнилось жалостью к Мери, но в ту же минуту дикая злость накатила на меня, мне захотелось унизить ее, сказать что-нибудь оскорбительное, так как я понимал, что жалость моя от сочувствия, а сочувствие иногда признак любви. Я злился на себя за то, что своевременно не заметил превращения игры в действительность, и всю злость перенес на Мери. Сжав зубы, я процедил с ядовитой усмешкой:
— Поди-ка, присядь со мной.
— Мне некогда, я занимаюсь.
— Подойди, я должен тебе что-то сказать.
— Мне не о чем с тобой говорить…
— Почему?
— Потому!
— Почему все-таки?
— Не хочешь, не приходи сюда, в конце концов я тоже человек, и у меня есть самолюбие, — выпалила Мери все, что скопилось в душе.
— Хорошо, больше не приду, пусть сегодняшний день будет последним, — спокойно ответил я.
— Вот и прекрасно.
— А сейчас подойди, я что-то тебе скажу.
— Что, что ты скажешь?
— Давай-ка, научи меня английскому!
— Что ты сказал? — Мери переменилась в лице.
— Английскому, говорю, научи. Ты что, никого не учила английскому?
Мери вздрогнула. Руки ее затряслись, губы мелко дрожали.
Вскочив на ноги, она с невыразимым отвращением закричала на меня:
— Сейчас же убирайся отсюда, чтоб я больше не видела тебя! Я тебя ненавижу.
Я поднялся, несколько ошарашенный неожиданным оборотом, а она, разрыдавшись, ничком упала на стол. Я еще больше пожалел ее, и был момент, когда мне хотелось утешить рыдающую женщину, но я молча шагнул за дверь и, только очутившись на улице, понял наконец, почему она так бурно отреагировала на мой необдуманный намек…
Памятен мне и следующий день, теплый и солнечный. Вяло шел я по улице. В то время я еще не был приучен к смерти друзей и сверстников и, впервые столкнувшись с ней, растерялся. Конечно, мне всегда было известно, что рано или поздно я должен умереть, но смерть я представлял себе по-детски, относя ее к далекому будущему, к тому времени, когда мне самому надоест жить. Я был убежден, что смерть придет ко мне безболезненно, не нарушив моих планов и надежд, и своевременно поставит точку над прожитой жизнью. Благодаря этой наивной вере я ничего не боялся, ни лазить по горам, ни драк и ссор, ни болезней, ни стихии, ни роковых случайностей. Я не думал о причинах человеческой жизни и смерти. Меня заботили лишь те обстоятельства, которые приходилось преодолевать ежедневно. Но гибель Важа заставила меня отчетливо почувствовать, что смерть возможна и ждет нас в любую минуту. Рухнула моя наивная вера, я растерялся, не в силах сообразить сразу, как теперь смотреть на жизнь. Годом раньше я воспринял смерть Цотне, как исключительный случай, но гибель Важа как будто приблизила смерть ко мне самому. Действительность застала меня врасплох, и я долго не мог отыскать точку опоры. Чтобы найти ее, требовалось время, а время тогда тянулось очень медленно. Безусловно, Мери в какой-то степени облегчила мое состояние, но как только я потерял ее, душевное бессилие и безнадежность словно удвоились…
Я шел по улице, не зная, куда девать себя. Пить не хотелось, и денег не было, да и от систематических пьянок чувствовал я себя неважно. Наконец, я отправился к Кахе. Я любил бывать в его маленькой комнате. Здесь можно было распахнуть окно и с пятого этажа наблюдать за людьми, снующими по узкой улочке, за пристраивающимися к тротуару машинами. Отсюда прекрасно просматривалось небо над городом, пожелтевшие вершины деревьев, разноцветные крыши более низких домов, сливающиеся друг с другом и бесконечной чередой уходящие вдаль. Можно было смотреть на окна противоположных домов, разглядывать обстановку комнат, горшки с цветами на подоконниках, женщин, занятых домашними делами. В мансарде старинного, европейского стиля дома на той стороне улицы проживали две молоденькие хорошенькие девушки, по словам Кахи, студентки, приехавшие откуда-то из района и снимавшие там квартиру. Мне доставляло удовольствие глядеть на этих смуглянок, когда они показывались в широком окне мансарды. Они замечали, что мы с Кахой бесцеремонно разглядываем их, и поэтому жеманничали и заигрывали с нами. Иногда они опускали тюлевые шторы и, уверенные, что теперь их не видно, потешались, наблюдая за нами. Они, видимо, не догадывались, что, когда солнце поднималось к их окну, штора просвечивала насквозь и перед нами, как на ладони, лежала их маленькая комната. Наверное, надеясь на эту штору, они без стеснения переодевались, а как-то раз одна из них предстала перед нами в чем мать родила — в одних трусиках. Колыша белыми бедрами, прохаживалась она по комнате с распущенными волосами и кокетничала перед зеркалом…
Любил я бывать у Кахи. Присяду, бывало, к пианино, наигрываю что-нибудь и посматриваю в окно на тех красоток, если они находились дома. Каха устраивался на тахте, читал или рисовал. Мое присутствие не мешало ему с головой уходить в чтение или рисование. На одной стене висели охотничья двухстволка и патронташ, над тахтой — портрет Важа и его ледоруб. Каха был непосредственным свидетелем гибели нашего друга, они вместе поднимались на вершину. Он собственными глазами видел, как вырвался из каменной стены клин и Важа сорвался в пропасть, на белый лед с пятисотметровой коричневой скалы. Ледоруб Каха нашел потом и повесил в своей комнате. Над пианино висели портреты — Важа Пшавела, Пиросмани и Бетховена. Мой друг одинаково увлекался музыкой, живописью и литературой, хотя отдавал предпочтение живописи. Он верил в судьбу. Все происходящее казалось ему заранее предрешенным и предопределенным. Его ничуть не удивила моя связь с Мери, хотя он лучше других знал, что за отношения были у этой девушки с Важа. И смерть нашего друга не выбила его из колеи, как меня. «Жизнью управляет не мудрость и законы морали, а судьба», — часто приводил он высказывание какого-то римского мудреца и добавлял из Евангелия: «Господь знает, что умствования мудрецов суетны».
Теперь, когда он говорил нечто подобное, я больше не спорил, потому что сам все больше проникался такими же мыслями. И в тот день, сидя спиной к окну на круглом вертящемся фортепьянном стульчике, дымя сигаретой и глядя на Каху, который устроился на низкой тахте и, откинувшись к стене, играл на гитаре, я все же недоумевал:
— Если жизнью человека управляет только судьба, для чего ему дается воля?
— Воля? — сказал Каха. — Что может воля?
— Воля может преодолеть судьбу.
Каха отложил гитару, отодвинулся от стены, уперся локтями в расставленные колени и сцепил пальцы:
— Хочешь, расскажу тебе сон?
— Сон?
— Да, сон, который я видел в горах, в ночь перед гибелью Важа.
— Расскажи!
— Мне снилось, будто мы с Важа сидим на рюкзаках у подступов к вершине и отдыхаем. Сыплет густой снег, вершины уже не видно, все скрыто белой пеленой. Потом снег внезапно перестал, и прямо у наших ног разверзлась широкая, сверкая голубыми изломами льда, расщелина. Мы призадумались, не зная, как перебраться на ту сторону. И вдруг увидели — с вершины бегом спускается какой-то человек, направляясь прямо к нам. Приблизившись к краю расщелины, он мигом перемахнул через нее. Потом подошел к нам и спросил, что мы тут делаем. Я испугался этого человека, он стоял перед нами полуголый, босой — в этакий-то мороз! — лысый, морщинистый, пьяный, в какой-то меховой безрукавке. От страха я не смог ответить, а Важа сказал, что мы альпинисты, собираемся подняться на вершину, да вот вышла заминка. «Чего тут бояться, — услышали мы, — пошли, я проведу вас». Тут я услышал истерический женский крик: «Не ходите, не ходите!» Я в страхе обернулся — никого. Важа поднялся, а я от ужаса не мог вымолвить ни слова, мне хотелось схватить и не пускать его, но ноги одеревенели, и я продолжал сидеть неподвижно. То странное существо взлетело, одним махом преодолело расщелину и уже с того конца поманило Важа — давай, мол, чего ждешь? Важа разбежался и прыгнул, но не долетел до края и рухнул вниз. Я в ужасе вскочил и ринулся к пропасти — никого, ни Важа, ни странного советчика. В этот же миг я проснулся, и хотя в ту ночь был сильный мороз, я обливался потом. Важа, положив голову на рюкзак, спокойно спал рядом. Сердце мое колотилось, воздуха не хватало. Я поднялся и откинул полог палатки. Лютый холод резанул по лицу. Над противоположным хребтом вставала огромная желтая луна и таким мертвым светом озаряла царство льдов, что впервые в своей жизни я испугался гор, природа показалась мне страшной, чуждой, словно я был тут гостем, пришедшим издалека. Безотчетно схватил я Важа за руку и разбудил его. «Что случилось?» — спросил он. Я сказал ему, что видел плохой сон и умоляю его завтра не идти на вершину. «Чокнулся ты, что ли?!» — буркнул он и снова уснул. Я посидел немного. «Действительно, не чокнулся же я?» — подумал я и лег, но сон окончательно покинул меня. Всю ночь проворочался я в спальном мешке. Стояла невыносимая тишина. Чуть свет мы поднялись. Все тело у меня ломило. Солнце еще не взошло, и по восточной части неба протянулась кровавая полоса. Почему-то и она не понравилась мне, показалась дурным предзнаменованием. Ребята уже копошились, разбирали палатку, готовили снаряжение. Плохое настроение не оставляло меня. Нехотя начал я приготовления к штурму. Ночной кошмар все еще грыз душу. «Давай не пойдем», — попросил я Важа. Он только улыбнулся насмешливо и беспечно:
— Сна испугался?
Остальные тоже подняли меня на смех, и, как ни странно, их смех приободрил меня. Если признаться честно, я ведь боялся чего-то несуществующего. После завтрака на скорую руку беспокойство мое улеглось. Взошло солнце, и я забыл о своем сне. Потом мы двинулись. Замечательная солнечная погода выдалась в тот день. Когда пошли на стену, я и думать позабыл о ночном кошмаре, не до того было. А в полдень Важа погиб. Никто из нас не верил снам, мы ничего не знали об их природе, но мне кажется, что этот сон был каким-то интуитивным сигналом, проникнувшим из тумана будущего. После такого сновидения сам Александр Македонский повернул бы вспять, а мы не повернули.
Каха умолк. Кто знает, может, сны и в самом деле некие указания, предупреждения из будущего, но никто из нас, к сожалению, не обучен расшифровке этих туманных сигналов, чтобы можно было ими руководствоваться.
— Если верить древним авторам, снам в их времена придавали решающее значение, это, наверное, интуиция, — сказал я.
— Называй как угодно: хочешь — интуицией, хочешь — судьбой, — ответил Каха, — но я глубоко верю, что тот сон был провидением судьбы Важа, однако мы ему не поверили. Тот день был роковым для Важа, и никакая воля не могла изменить то, что уже было решено и предначертано. Воля, главным образом, действует внутри нас, она может в какие-то моменты изменить нас самих, но не наше предназначение. Она меняет степень, но не суть.
— А изменение качества разве не вызывает изменение сути?
— На это существует двоякий ответ.
— Хорошо, оставим это. Если бы вы вернулись назад, Важа бы уцелел?
— Вполне возможно.
— То есть была вероятность изменить его судьбу?
— Если бы мы полагались на интуицию, а не подчинялись лишь нашему знанию, не исключено, что такая вероятность была.
— Тогда судьбы нет.
— Почему?
— Потому, что возможность познать будущее не отрицает вероятности существования судьбы, но способность или возможность изменить ее говорят о том, что не судьба управляет человеком или явлением, но сама присутствует в человеке или явлении, является его руководящим индивидуальным свойством. То есть гибель Важа вовсе не была заведомо предопределена, но была причиной случайности.
— Человек заранее готовится к этой случайности. Его жизнь движется таким образом, что случай этот почти неизбежен, а почему он неизбежен, мы не можем уяснить, потому что существует великое множество явных или скрытых причин. Мы не способны разобраться в них, но они существуют.
— Не знаю, может быть, ты прав, может быть, ошибаешься.
— Наверняка это никому не известно. Я же верю, что все обусловлено заранее. Взять хотя бы твою близость с Мери, если хочешь знать, для чего-то это было необходимо… и тебе, и ей…
Приблизительно такую беседу вели мы, когда кто-то позвонил. Каха встал и вышел из комнаты. Я слышал, как он отворил дверь в темной передней и воскликнул:
— О, кого я вижу!
Послышался женский смех и приглашение Кахи: «Проходи, проходи». Затем он просунул голову в дверь.
— Посмотри, кого я привел! — обрадованно крикнул мне, и в этот момент в дверях показалась Мери.
Мы оба замерли. Мери улыбнулась. Эта была улыбка растерянности. Каха почувствовал наше замешательство и сам смутился, пытаясь развеять неловкость напускной радостью:
— Ты легка на помине, мы только что вспоминали о тебе! — сказал он Мери.
Говорить это было, разумеется, глупо. Мери могла вообразить, что мы тут сидим и сплетничаем. Я встал и облокотился о подоконник. Мери переступила порог. Каха снял с нее плащ и вынес в переднюю повесить. Потом снова просунул в дверь голову:
— Не скучайте, я за вином, мигом вернусь!
Немного погодя звякнули бутылки и захлопнулась дверь.
И вот мы остались одни, от неловкости не смея взглянуть друг на друга. Мне почему-то захотелось рассмеяться, и это, вероятно, было заметно по моему лицу. Я совершенно не был обижен на Мери, и она тут же уловила это. Со смущенной улыбкой подошла ко мне вплотную, обняла меня, прильнула ко мне всем телом, что, разумеется, взволновало меня, откинула голову и спросила:
— Ты очень злишься на меня?
— Нет, — сказал я, в тот же момент отметив в душе, что женщинам вообще свойствен дьявольский инстинкт, они прибегают к ласкам, когда хотят чего-то добиться. Я, действительно, нисколько не злился, даже был рад в некотором роде, что она вчера дала мне предлог расстаться с ней. То, что не удавалось мне, решилось само собой.
— Прости меня, я тебя очень люблю!
Все начиналось сызнова, я не потерял ее окончательно, как мне представлялось. Я обрадовался, и одновременно стало досадно, что ничего не изменилось, что меня снова ждет прежняя жизнь. Новизну и боль, вызванную разрывом с Мери, я предпочитал знакомому покою прежних отношений.
— Я пришла, чтобы увидеть тебя. Я знала, что ты здесь. Прости, прошу тебя!
— Что я должен прощать?
— Что я тебя выгнала.
— Глупости, я ничуть не обижен, — холодно ответил я и подумал, что если кто-нибудь наблюдает сейчас из окна противоположного дома, то, наверное, прекрасно видит, как Мери прижимается ко мне.
— Ты вчера причинил мне боль своими словами, но, умоляю, поверь мне, все это ложь, клевета…
— Что клевета?
— То, что тебе сказали.
— Мне никто ничего не говорил.
— Я знаю, что говорили… Между нами ничего не было, умоляю, поверь мне.
Я посмотрел ей в глаза, и мне стало жалко ее. Во взгляде Мери было столько мольбы, словно она заклинала: «Знаю, что ты не веришь, но все-таки поверь!» Видимо, в то время у нее не было иного выхода, вот она и лгала. Я пожалел ее еще больше.
— Ладно, верю! — сказал я, и вдруг на меня навалилась такая усталость от всей этой фальши, от столь сложных отношений, что, будь комната Кахи на первом этаже, я бы, возможно, не задумываясь, выпрыгнул в окно, убежал куда глаза глядят, скрылся бы где-нибудь в таком месте, где все просто и ясно, где людям не приходится ничего маскировать и приукрашивать, но я не знал, есть ли где-нибудь такое место…
Старик в очках, сидевший рядом, попросил у меня спички. Посасывая и причмокивая, он раскурил сигарету, вставленную в почерневший деревянный мундштук. В центре сада собрались фотографы и, размахивая руками, галдели ничуть не меньше сгрудившихся у бассейна маклеров. Немного дальше, развалившись на длинной скамейке, спал какой-то пьяный или бездомный.
На высокой раскидистой чинаре оглушительно чирикали воробьи. Мне было приятно сидеть здесь. Действительно, что может быть лучше тбилисских садов и скверов? Стиснутый со всех сторон городскими стенами, человек именно здесь улавливал первое дыхание весны. Зайдешь в сквер, и влажный запах оживающей земли обдаст тебя. Глянешь на деревья — почки лопнули, окропив нежной зеленью голые еще веточки. Присядешь на скамью после городской зимы и, как дикарь, возжаждешь леса. Смотришь на тепло одетых стариков, устроившихся на припеке, тоже выползли из своих холодных нор и греют старые кости. Весеннее солнце расслабляет. Старики играют в домино или беседуют, перебирая между делом янтарные четки. Скрежещет по улице трамвай, скрывается за углом, дребезжит его звонок, но ты все равно в лесу, в самой чаще, еще не созданы города, трамваи и самолеты, что с воем проносятся над сквером и пропадают внезапно. Ты не замечаешь их воя, его еще не существует. Ты прислушиваешься к земле, она зовет тебя, манит, притягивает, суля тишину и покой. Ты ощущаешь путь, пройденный до сего мига, и хочешь вернуться назад, уйти в чащу леса, но куда идти?!
Матери привели в сквер своих малышей и ищут, где посолнечнее. Тебе приятно видеть этих малюток и их молодых мам, что-то значительное, нежное и чистое пробуждается в твоей душе, словно юные стебельки трав в недрах промерзшей почвы. Проходящие парни с нескрываемой страстью пялятся на прелестных матерей или отпускают шуточки. Ты отводишь от них глаза, и тебя еще сильнее тянет вернуться назад, но ты никогда не сможешь осуществить свое желание, тебе нет спасения, город не отпустит тебя… И осень ощущается здесь загодя. Ты глядишь с аллеи Нарикалы на ботанический сад и замечаешь пестрые деревья. Водопад с грохотом разбивается о скалу, и осколками хрусталя разлетаются водяные брызги. Чуть пожухли покатые холмы, протянувшиеся до Коджори, серым налетом покрылась Шавнабада. На татарском кладбище — тишина. А под тобой, внизу, ласковое солнце глядит на островерхие церкви и дома, ласточкиными гнездами прилепившиеся к скалам. Город распахнут перед тобой, как на ладони. Орнаментом лежат на земле прижавшиеся друг к другу дома, крыши, улицы и дворы, отороченные зеленью деревьев. Далеко, на краю безбрежного пространства девственно приоткрылись белоснежные плечи Казбека. Там берет свои истоки, мчится Арагва, рассекая пылающие, багряные рощи, и ты разглядываешь далекие горы, на которые не раз поднимался…
Стоишь в одиночестве, смотришь на городской пейзаж и кажется, будто пред тобой не создание человека из камня и металла, но живой уголок самой природы, точно такой же, как жмущиеся за пазухой гор леса, как необозримая низина, пестреющая синими, алыми, желтыми или серыми пятнами… В городе полно скверов и парков. В Пушкинском сквере, к примеру, вряд ли отыщешь свободное местечко. Здесь ежеминутно останавливаются троллейбусы. Люди выходят, устремляются к подземному переходу, к широкой площади и к узкой, всегда переполненной и шумной Пушкинской улице, на которой бойкие продавцы с лотков торгуют мануфактурой. Троллейбусы пустеют, вновь наполняются и уезжают, на остановке толпится народ, одни бегут, спешат, другие идут медленно, неторопливо, громко беседуют, ждут троллейбуса, такси, а в сквере на длинных скамейках все так же сидят люди.
В Верийском саду, разбитом на месте бывшего кладбища, собираются на солнышке старики и ведут нескончаемые беседы. Здесь все знакомы, все знают всё друг о друге, и их беседы, их западногрузинский говор напоминают тебе о западной Грузии, об Имеретии, Гурии, Мегрелии, о местных жителях, о тамошних горах и равнинах, а возможно, и о том времени, когда эти старики, тогда совсем молодые люди, покинув родные места, маленькие нарядные села, устремились в этот огромный город и осели здесь на вечные времена, где теперь уже ждала их могила… Вот в садик входит старик с палкой, в старомодном летнем габардиновом пальто, в коричневой потертой шляпе и нерешительно приближается к группе беседующих пенсионеров:
— Люди, вы слышали, что с Никифорэ случилось?
— Что? — оборачиваются все к новоприбывшему.
— В больницу уложили.
Тут все начинают галдеть, перебивая друг друга:
— То-то его не видно…
— Неделю не появлялся…
— Что, говорите, случилось?
— Рак подозревают…
— Эх, бедняга…
— Заметно было, пожелтел весь…
Некоторое время все заняты Никифорэ, семьей Никифорэ, судьбой Никифорэ. Потом в связи с Никифорэ кто-то вспоминает другой случай. И все внимают ему. Затем второй вспоминает что-то похожее, и беседа постепенно переходит на другие темы.
Полны народом тбилисские сады, когда наступают теплые осенние дни!
Есть ли на земле что-нибудь прекраснее, чем сероватый Харпухи и Ортачала, когда смотришь на них с Метехи! Ортачальские сады уже не те, что прежде, но у местных духанчиков и чайных все сохранился своеобразный аромат старины. Зыбкие тени бродят по мощеным улицам в предрассветных сумерках. В теплых чайных шумят самовары, и капли стекают по запотелым, стеклянным стенам. Клубы пара и табачного дыма поднимаются к потолку, слышен гул голосов, чуть свет явившихся сюда на чаек перед началом работы банщиков, гардеробщиков, сменившихся ночных сторожей, старых тбилисцев, охочих до чаепития. Ты заходишь в чайную и садишься за стол. Против тебя сидит небритый, шамкающий старик в теплом пальто, и ты удивляешься, что заставило старца покинуть постель в такую рань? Видимо, большой охотник до чая, заключаешь ты и смотришь, с каким наслаждением прихлебывает тот желтоватую жидкость, грызя, словно мышь, кусочек сахару, прикрыв от удовольствия слезящиеся глазки; на запотевшие окна снова налегает непроглядная ночь, темень, в этом туманном мраке так бестолково и нелепо перемигиваются огоньки, словно какие-то далекие планеты, что ты не можешь понять, во сне ты или наяву…
Облокотясь руками о стол и подперев ими голову, сидишь у стены, усталый, хмельной, волосы упали на глаза. Накануне ты кутил на Пушкинской улице, в бывшей «Симпатии», где твой старый приятель Сумбат, который работает там официантом, угощал тебя в долг. Потом ты завернул к Бежану Джабадари и там еще добавил. Долго упрашивал тебя Бежан остаться, но ты не остался. Шатаясь, бродил по пустым улицам, не знал, куда пойти. Домой тебя не тянуло, к Мери не мог показаться. По дороге ты повстречал такого же пьяного и попросил у него закурить. Тот так обрадовался, когда ты окликнул его, словно давно дожидался этой минуты.
— Давай, дорогой, кури, сколько хочешь! — радушно протянул он пачку папирос.
Вы вместе продолжили путь. Ему было лет пятьдесят или немногим больше.
— Семьи у меня нет, что делать, домой идти — душа не лежит. Раньше занимался извозом, сейчас ночным сторожем работаю, сегодня у меня выходной, вот и пропустил стаканчик. Я человек одинокий, хочу — пью, не хочу — не пью, моя воля.
— Это уж точно, — согласился ты.
Твой спутник был расположен болтать, вино сделало его чувствительным.
— Раньше я лошадей любил, а сейчас их у меня нет, но хороших людей я все равно люблю, — заверял он. — Я вижу, ты парень свой, я знаю одно место, где можно водку найти, пойдем выпьем?
На что ты ответил, что сейчас уже поздно и водки нигде не будет, а вот чаю выпить можно.
— Ва, надумал! — удивился твой спутник. — Как это — чай пить?!
Но и ему, видимо, не очень хотелось водки, поэтому он особенно не настаивал. Когда вы расставались, он сообщил, что теперь пойдет на Кукийское кладбище.
— Что тебе там делать ночью? — удивился ты.
— Одна мать была у меня, больше никого. И она умерла. И никого не осталось. Я один на всем свете. Каждый день хожу на могилу матери, да будет благословенна ее грудь!
Вы расцеловались, как братья, и разошлись. Ты понуро брел по пустынной и темной набережной к Ортачала и думал об этом человеке. Какой он все-таки счастливый! И уже сидя в чайной и прихлебывая горячий чай, ты удивлялся, что позавидовал судьбе этого одиночки-бобыля. Такая самоотверженная любовь была незнакома тебе. В чайной парило, и у тебя, усталого, тяжелого от алкоголя, дурман застилал разум, ты дремал, облокотясь о стол, и слышал громкий говор стариков, сидящих рядом:
— Дед его большим человеком был…
— Тот, что в Баку караван-сарай держал?
— И караван-сарай, и к нефти руки приложил.
— Знаю, как не знать.
Глаза у тебя слипаются, а старик продолжает упрямо, резким голосом:
— Потом в Тифлис прикатил. Верхние бани тоже он строил и одну школу — на Авлабаре подарил народу. Собственный дом имел в Сололаках, свой выезд. А как революция грянула, разорился. Все отобрали. Жена его княжеского роду была, княжна, в общем, к сладкой жизни привыкла, ну и, известное дело, как он вылетел в трубу, дала деру…
— Знаю, я тогда в подмастерьях ходил, если помнишь, был такой Дарчо Дарчиашвили…
— Как не помнить, большой ловкач был…
— Так вот, она к нему ходила, «на заказ» все шила…
— А я про что говорю? Обанкротился он, сначала гардеробщиком пристроился в собственной бане, потом сторожем ночным… И днем там же спал. Жил впроголодь, так и умер, а богатство прахом пошло…
— Что поделаешь, такова жизнь.
— В том-то и дело…
Больше ты ничего не слышишь. Сознание заволакивает туманом. Разум отключается, а когда ты приходишь в себя, в чайной опять полно людей. Все тело болит, ломит, и так хочется покоя, что готов растянуться на полу, но в окно уже таращится дневной свет, огромное стекло заиндевело от утренника. Нехотя, как избитый, поднимаешься ты и выходишь на холод из галдящей теплой чайной, на улицу, где гаснут мираж чайной и огни, которые в туманной ночной мгле представлялись далекими планетами. Утро резкое, грубое, морозное как палкой бьет тебя по лицу, и улица, еще серая в такую рань, окончательно выводит тебя из дремы. Как преступник, вобрав голову в плечи, ты бредешь прочь, не зная сам, куда идти…
…В ту пору, из-за Мери восстановив против себя многих старых друзей, я бывал частым гостем в этой чайной.
Старик, сидевший рядом со мной, встал, свернул газету, засунул в карман и медленно пошел по дорожке. У него было приятное лицо очень доброго по натуре человека. Вольно или невольно, но у каждого из нас найдется за душой какой-то грех, однако некоторые и в старости выглядят такими же безгрешными и чистыми, как в детские годы. Эти люди заслуживают большего доверия. Я верю, что жизнь свою они прожили чище, чем брюзжащие, вечно недовольные и сердитые старики. Этот старик показался мне добрым. Давеча, когда он попросил спички, я посмотрел на его протянутую руку и заметил: у него были почерневшие, сплющенные, неровные ногти. Такие ногти бывают у сапожников, они часто попадают молотком по пальцам. Может быть, этот старик был сапожником?
Он медленно уходил по дорожке. Спустился по лестнице, пропал в толпе маклеров и их клиентов, показался снова, держа путь к нижнему скверику. Когда старик скрылся из глаз, я снова стал смотреть на город, на тот берег Куры и отливающую на солнце бронзой Махатскую гору. Какой-то блеск у ее подножия резанул по глазам, видимо, там стекло отражало солнечные лучи. А в садике фотограф снимал двух приезжих, по виду юношей, на фоне кустов боярышника.
Я сидел в сквере и разглядывал прохожих. Резвые девушки, звонко смеясь, проходили мимо меня. С ними были симпатичные ребята, намного лучше и моложе меня, но, поймав жадный взгляд, девушки все-таки воровато на меня покосились. Какой прекрасный город Тбилиси, почему-то подумалось мне. Мы, тбилисцы, очень часто не замечаем его прелести, хотя твердо знаем, что второго такого города нет, и не дай бог, если кто-то возразит нам, тут мы никого не пощадим. Все это совершенно естественно, но наверное, так же естественно, что глаз привыкает к красоте, и в конце концов мы перестаем замечать ее. Обжившись в самом прекрасном месте, человек постепенно теряет способность ценить прелесть окружающего, потому что прекрасное относится к сфере души, а не быта. Для того чтобы воспринимать прекрасное, созерцать и ценить его, необходимо определенное настроение, свобода и воля, не скованные мелкой повседневностью.
Но достаточно ненадолго покинуть Тбилиси, забыть однообразие его буден, чтобы с иной силой всколыхнулись в твоей душе его неповторимый облик, чугунный отлив его окрестностей, многогранность контуров, неугомонный, шумный ритм, и тогда он предстанет перед тобой как неведомая, еще неоткрытая реальность, которая окрыляет твою фантазию, и она, расправив крылья, сметает с него самого, с твоего города, пробудившего эту фантазию, все мелочное, недостойное, унижающее его, и поразительно прекрасным является он твоему взору. Фантазия — не только бесплодная мечта, она — широта видения и глубина воображения. Необходимо обладать фантазией и воображением, если хочешь увидеть что-нибудь на этой земле…
Между тем фотограф снял обоих парней, показавшихся мне приехавшими из провинции. Они расплатились с ним и выглядели несколько сконфуженно, во всяком случае беспричинно посмеивались, о чем-то спрашивая фотографа, видимо интересуясь, когда будут готовы фотографии. Пять лет назад, покидая Тбилиси, я тоже не замечал его прелести, но сейчас, когда я невольно отделился от него, оторвался от его жизни, у меня щемило сердце при мысли, что я снова должен покинуть этот любимый, как сама жизнь, и в то же время мучительный город; вместе с радостью видеть его, мной овладевала и грусть предстоящего расставания. Я встал со скамьи. Довольные тем, что сфотографировались, франтоватые парни прошли мимо меня. Лицо одного из них, худощавого, с зачесанными назад блестящими черными волосами и небольшими баками, показалось мне знакомым, и я проводил его взглядом. Они быстро вышли на улицу и смешались с прохожими.
Я медленно пошел из садика — кого или что напомнил мне этот смуглый юноша? Будто мелькнуло на миг чье-то знакомое лицо, и я не успел рассмотреть его как следует — оно ускользало из памяти. Кого напоминал он мне? Между тем померкло и его лицо, стерлось в памяти, так и не воскресив то, которое я пытался вспомнить. Я вышел на улицу. Достал сигарету, закурил и, держа одну руку в кармане, а второй сжимая сигарету, медленно пошел по проспекту Руставели.
Эта улица, очаровывающая местных и приезжих, была для меня самой дорогой. В студенческие годы, вернувшись в город после летних каникул, я сгорал от нетерпения, так мне хотелось побыстрей очутиться на проспекте Руставели. Обо всем, что интересовало меня в те дни, я узнавал здесь. Как приятно было встретиться с друзьями! Как я радовался, когда меня целовали девушки, с которыми я не виделся целое лето!
— Тархудж, где ты был этим летом?
— Тархудж, как ты?
— Тархудж, где так загорел?
— Вы-то сами как отдохнули, Нина, Нани, Натела?
— Ну как мы могли без тебя отдохнуть, Тархудж? Скучали…
И хотя все это сопровождалось смехом и шутками, я все-таки был счастлив, и в глубине души мне немного верилось, что эти прелестные девушки в самом деле скучали без меня.
Счастливейшая пора! Жизнь еще не обкорнала крылья мечте, я был полон надежд; и хотя в том возрасте многое тревожит человека, зато, надежда никогда не оставляет его. Как прекрасно, когда ты уверен, что непременно достигнешь желаемого, что все задуманное зависит от тебя!
Я перешел улицу и прошел мимо гостиницы «Тбилиси». У парадного входа ее сгрудились иностранные туристки в коротеньких юбочках. Много лет назад на первом этаже гостиницы была бильярдная — притон темных личностей. Игроки в кости, дельцы, шулера, продувные бестии, кто только не ошивался там! Бились об заклад, играли на деньги. Играть на деньги я не мог, да и не тянуло, но бильярд любил и частенько там околачивался. В зеленой своей юности нагляделся на всевозможные плутни. Жаль, что не нашлось ни одного взрослого, кто бы догадался выставить меня оттуда взашей. Если бы каждый из нас думал о будущем поколении и пытался как-то упорядочить его жизнь, в один прекрасный день на земле в конце концов восторжествовали бы счастье и справедливость. Каждый наш шаг, верный или ошибочный, оказывает неизгладимое воздействие на наших детей, внуков, на наших далеких потомков, на судьбы тысячи и десятков тысяч, а возможно, и миллионов людей будущего, потому что и наша личная история начинается не со дня нашего рождения, но имеет более глубокие истоки, уходя далеко в глубь веков, к тому времени, когда раса и нация, к которой мы принадлежим, только формировалась, а может быть, и еще дальше; и каждый шаг наших предков, все, к чему подводила их жизнь или собственные страсти, продолжает и тысячелетия спустя отражаться на нашем сегодняшнем бытии. Жизнью в каждую эпоху правят объективные, присущие только данной эпохе законы, но существует и незримая духовная связь между нами и нашими предками, между нами и нашими далекими потомками, потому что по этой земле, по которой ходим мы сейчас, ходили и наши предки, благодаря которым мы появились на свет, и будут ходить наши потомки, которые благодаря нам будут являться на этой земле в грядущем. Какими будут они, какой будет их жизнь, некоторым образом зависит от нашей сегодняшней жизни, потому что причина содержит в самой себе и условие. Судьба каждого человека, хотя бы отчасти, формируется гораздо раньше, чем он является на свет, и если это так, то на каждом из нас лежит величайшая ответственность перед всем человечеством, поскольку наши сегодняшние поступки находят отклик в далеком будущем. Тот, кто ощущает в себе эту внутреннюю ответственность, какой бы незначительной личностью ни казался он на общественном поприще, пусть всеми забытый и неоцененный, все-таки есть достойнейший из достойных, а того, кто думает, что после него — пусть хоть камня на камне не остается, разумеется, трудно признать человеком, хотя бы потому, что истинная человечность — преодоление животного в природе самого человека.
К сожалению, на жизненном пути я встречал немало по-настоящему одаренных и просвещенных людей, которые не вылезали из скорлупы личных, низменных, эгоистических интересов и не имели за душой ничего, кроме мелкого честолюбия. Умеренное честолюбие необходимо для достижения успехов в любом деле, но неистовое, переходящее всяческие границы честолюбие, когда не помнят ни о чем, кроме собственной персоны, и ни на что не обращают внимания, вызывает неодолимое отвращение. Видимо, главное здесь — внутреннее духовное кредо человека, а не так называемое просвещение. По-настоящему сильный и прямой человек не должен бояться своих слабостей. Отрицание слабости — вытекает опять-таки из слабости, подтверждает ее, тогда как признание слабости — есть своеобразное проявление мужества…
Увлекшись этими бессвязными мыслями, я почему-то вспомнил батони Давида, отца Вахтанга. Может быть, потому, что в последнее время жизнь его представлялась мне насквозь фальшивой. И стоило вспомнить его, как передо мной возникло лицо того парня, который фотографировался с приятелем. Конечно же, он походил на Вахтанга своими черными волосами и прической. Вот почему в нем было что-то знакомое. Кто знает, может быть, батони Давид оттого и пришел на ум, что при виде того парня я подсознательно вспомнил Вахтанга? Открытие обрадовало меня. Я улыбнулся, бросил окурок в урну и посмотрел на ту сторону проспекта, где милиционер свистком остановил легковую машину и сейчас требовал у водителя права. Заглядевшись, я налетел на прохожего. Смуглый мужчина в очках, до того, видимо, спокойно читавший на ходу газету, недовольно взглянул на меня. Худой он был, в чем только душа держится, но со значком мастера спорта на пиджаке. Интересно, каким спортом он занимается? Наверное, шахматами. Он опустил газету. Я извинился и продолжил путь.
Батони Давид был литератором, довольно известным писателем…
У театра Руставели я остановился. Просматривая афишу, снова увидел того шахматиста, с которым столкнулся минуту назад. Он брел, по-прежнему уткнувшись в развернутую газету, и было вполне вероятно, что на этого старательного читателя снова налетит кто-нибудь. Из сберкассы вышел пузатый гражданин, такой вельможный — вот-вот лопнет от важности, — жадно пересчитывая на ходу деньги. Внешностью — вылитый мясник, но в шикарном костюме, при японских часах с широким золотым браслетом на левом запястье. Поплевывая на жирные пальцы, он проворно перебирал хрустящие ассигнации. Потом, смяв пачку в кулаке, небрежно, но глубоко засунул ее в боковой карман брюк. Было видно, что этот толстосум привык к деньгам, иначе понадежней бы припрятывал их, хотя бы в задний карман, который застегивается на пуговицу. Когда денежный туз пересек тротуар и с большим трудом залез в новенькую «Волгу», я снова обратился к афише, но не обнаружил ничего интересного. Я никогда не был завзятым театралом, но все-таки соскучился по театру. Припомнилось ощущение неловкости, которое всегда овладевало мной в самом начале спектакля. Мне казалось, что актеры безбожно кривляются, что взрослые люди, ничуть не стесняясь, представляются, как маленькие дети. Но постепенно меркла грань между условностью и действительностью, и если пьеса была хорошая, я входил во вкус, невольно увлекался представлением, и бесследно исчезало ощущение фальши, которое испытывал я в самом начале спектакля. На память пришло, как дотошно разбирали каждую новую пьесу в семье Вахтанга. Когда у них собирались гости, театр служил весьма удобной темой для застольной беседы. Дом батони Давида вообще отличался щедрым гостеприимством. Кого только не увидишь там — известных писателей и поэтов, приезжих из разных уголков страны, а часто и из-за рубежа. В богато обставленных комнатах, в огромном кабинете хозяина, где две стены были заставлены книжными полками, а остальные увешаны картинами и прочими ценными вещами, вечно не умолкали разговоры о высоких материях. Этот кабинет, где каждая вещь сверкала, был украшен с таким вкусом и тщанием, что больше походил на музей, чем на рабочую комнату. Сам хозяин так представительно восседал в покойном, мягком кресле, что я иногда сомневался, как может что-нибудь творить столь беспечный и благополучный человек? Мне почему-то представлялось, что для творческого труда нужно больше свободы, простоты и немного беспорядка. А здесь и книги выстраивались на полках, как музейные экспонаты; дорогой письменный стол, к которому боязно прикоснуться, как бы ненароком не испортить чего-нибудь, скажем, не поцарапать его зеркальной поверхности, дорогие авторучки, требующие сугубой осторожности в обращении, просто отпугивали человека. Раньше, когда семья Вахтанга жила по соседству с дядей Илико, все было намного скромней, и, если батони Давид что-то создал, он создал это там, в старой, просто обставленной квартире. По-моему, душа творца от комфорта обрастает жиром, хотя я слышал от Шалва Дидимамишвили, что композитор Рихард Вагнер обожал комфорт, тот вызывал в нем творческое вдохновение, в иных условиях он не мог работать. Разумеется, для творчества недостаточно только карандаша и бумаги, но я отчетливо видел, что в последнее время батони Давид больше печется об упрочении своего материального положения, чем о будущих произведениях. Он почти ничего не писал, только хлопотал о переиздании давно написанных книг да о переводах их на другие языки. Поэтому он с распростертыми объятиями принимал каждого переводчика и всех тех, кто мог поспособствовать в этом деле. Чего он добивался? Кахе казалось, что ничего. Но можно ли считать ничем обеспеченность? Благоустроенная квартира в лучшем районе города, собственная машина, дача, имя, популярность, всяческие привилегии… Каха утверждал, что для истинного творца все это мишура и не имеет никакого значения. Вообще, мой друг с чрезмерной крайностью подходил к каждому вопросу. По его мнению, настоящий творец должен походить на святого. А святой непременно должен быть чист и девствен. Святой, как и Христос, не должен знать женщин, то есть земного, и, пренебрегая земным, должен направлять нас к небу.
Стоит ли говорить, что тут мой друг перегибал?..
«Святому не нужны житейская хватка, мудрость и опыт», — утверждал он. На мой взгляд, он безбожно ошибался, но Каха стоял на своем: «Знание истины святому дается свыше, благодаря ясновидению, а не опыту, это — его дар. Поэтому святой обязан быть прекрасным и гармоничным. Невероятен дурной, злой или безобразный святой. Он должен быть прекрасен во всех отношениях и в то же время должен отрицать все мирские блага, достижимые с помощью этой красоты. Это и делает его образцом для подражания…»
Конечно, он перебарщивал. Что касается святых, то я не разбирался в этом вопросе, но считал, что для писателя и художника ничто человеческое не должно быть чуждо. Они же не святые? Вместе с талантом, для них обязательны и опыт, и ошибки. Единственное, что не прощается их брату, это фальшь и ложь. Если ты носишь имя писателя, ты должен сказать что-то, должен служить правде и истине, а не чему-либо другому, ибо от тебя ждут только правды…
В оценке батони Давида Каха проявлял чрезмерную жестокость. По его мнению, отец Вахтанга не интересовался ничем, кроме денег и барахла. Мой друг не брал во внимание жизнь батони Давида. Он не принимал в расчет, что прежде, чем добиться нынешнего благополучия, этот человек вынес жестокую борьбу. Что же удивительного, что он, как всякий человек, дорожил благополучием? Но, по мнению Кахи, писатель не должен скатываться до заурядного обывателя, который приспосабливается ко всему, и не имеет права довольствоваться достигнутым, тем более что оно выражается только материальным благополучием и ничем больше. Кто довольствуется им, тот не писатель, а просто зовется писателем. «Много званых, но мало избранных», — любил добавлять Каха.
Кто знает, так ли уж был доволен всем батони Давид? Правда, он мнил себя непревзойденным литератором и только свои произведения считал достойными пристального внимания, но…
То что мы думаем о себе, иногда оказывает странное влияние на других, и очень часто превращается в их мнение о нас. Видимо, поэтому у батони Давида было много почитателей и поклонников, и хотя я не принадлежал к их числу, но…
Но какова цена уважению тех людей, которых ты сам ни во что не ставишь, мнение которых по многим вопросам совершенно не разделяешь? Мне кажется, что в глубине души батони Давид все-таки был недоволен собой, потому что он не мог хотя бы раз не почувствовать, что в своем литературном труде он топчется на одном и том же давно вытоптанном месте, и раздражался от невозможности продвинуться вперед. Несомненно, из этого раздражения и бесплодия вытекала его странная, мелочная зависть и скептицизм по отношению к собратьям по перу. В книгах своих коллег он прежде всего выискивал слабые стороны, а обнаружив, заметно ликовал, как будто изъяны других свидетельствуют о достоинствах его произведений. Стоит ли говорить, что он никогда не позволял себе публично выражать свои чувства из осторожности, из опасения испортить кое с кем отношения, но в домашнем кругу недвусмысленно проявлял полное безразличие к труду своих коллег. Успехи других его не радовали, из чего можно было заключить, что он любил не литературу, но те блага, которые получал по ее милости. Зато все свои духовные силы он вкладывал в иную сферу, старался жить безбедно и беззаботно, а это отнимало массу нервной энергии, необходимой для творчества, и чем больше иссякал его духовный источник, тем богаче становился он, тем больше приобретал вещей и влияния, создавал дутое имя в массе несведущих читателей, потому что за эти годы поднялся на такую высоту, снискал такой авторитет, что никто не отваживался публично заявить о слабости его произведений. Он много лет уже не писал ничего интересного, но что бы ни появлялось в печати под его фамилией, все единогласно заявляли, что последнее его творение представляет собой значительный вклад в нашу литературу. Хотя, почему все? Каха давно утверждал, что эта липа рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь, и приводил в пример некоторых деятелей прошлого, которые в силу ряда причин не были по достоинству оценены современниками, но затем заметно превзошли славой признанные авторитеты своей эпохи. По всей вероятности, слава — это нечто такое, о чем истинный творец не должен хлопотать и заботиться, слава должна приходить сама собой, и хотя прижизненное признание окрыляет творца, ничуть не обременяя его, главное все-таки не оно, главное — честный труд, потому что в большинстве случаев именно в труде человек находит истинное удовольствие. Остальное тебя не касается. Ты должен только добросовестно служить своему делу. Иной цели нет и быть не может, если ты действительно любишь дело, которому служишь. Но батони Давид нянчился со своим именем, как львица с новорожденным детенышем. Между тем он прекрасно устроился, помог сыну сделать блестящую карьеру, повозил его по разным странам. Только на свое жалование Вахтанг не смог бы жить с таким размахом, но сейчас у него был прекрасный оклад, перспективное, как говорят, будущее и прелестная супруга — Софико…
Я знал, что Вахтанг великолепно устроился. Чем же в таком случае мог быть недоволен батони Давид? Но, по словам Кахи, он прежде всего был творец, то есть человек, пытающийся проникнуть в глубь вещей и явлений; а если к тому же он действительно был одарен талантом и умением созерцать, без чего творец немыслим, невозможно, чтобы он хотя бы подсознательно не ощущал убожества собственного бытия, ибо где-то в сокровеннейшем уголке души главным для него оставался все-таки творческий успех, а не, скажем, карьера. Трудно сказать, кто и какую цель ставит перед собой, когда берется за перо, но одно совершенно ясно: как бы мы ни обманывались на свой счет, мы лучше всех знаем, чего мы стоим. Некоторые, кому эта правда не по душе, всячески борются с ней, прибегая к разным ухищрениям и уловкам. Иногда закрывают глаза, чтобы не видеть нежелательного, но реальность берет свое. Разве борьба с реальностью имеет какой-нибудь смысл? Не лучше ли сделать эту реальность такой, чтобы не стыдиться ее?
Однако подобное желание присуще далеко не всем, оно не столь выгодно. Некоторые предпочитают закрыть глаза и воображать что угодно. Скажешь: я гений — будешь гением. Скажешь: великий патриот — будешь великим патриотом. Короче говоря, мни себя кем угодно, им и будешь, необходимо только покрепче зажмуриться да заткнуть уши. Милостью этого способа муж моей тетки воображал себя непревзойденным ученым. Но и он был человеком того же типа, что и батони Давид, больше всего любил блага, которыми обеспечивало его имя ученого. В те годы сплошная фальшь окружала меня. Меня прямо выворачивало, когда я наблюдал, как в этих серьезных по виду семьях до двух часов ночи, бесконечно дымя, пили чай или кофе и неутомимо болтали о культуре, науке, об искусстве и родине, хотя не нужно было большой прозорливости, чтобы понять, что все это — и наука и родина — понадобилось им, чтобы убить время, чтобы скрыть собственную никчемность, и все это переливание из пустого в порожнее никому не приносило пользы. Но высокопарная болтовня продолжалась изо дня в день, и, глядя на этих людей — некоторые из них изъяснялись для пущей важности только на русском, тогда как их ближайшие предки копались в земле где-нибудь в Мачхаани или Матходжи и думать не думали, что их сыновья или дочери так легко забудут родной язык и проявят удивительные способности в освоении чужого, — мне невыносимо хотелось покинуть Тбилиси, уехать куда-нибудь в деревню, стать земледельцем, единокровным сыном природы.
Я поравнялся с садиком, разбитым возле оперы, и обратил внимание на собравшихся там ребят. Одни, спокойно беседуя, сидели на длинных скамьях, зато другие так громко сквернословили, что их голоса достигали улицы, и прохожие недовольно оглядывались. Пожилой мужчина в берете, одетый чисто, опрятно, хотя и несколько старомодно, прогуливающий крохотного мопса на длинном поводке, остановился, поправил пенсне и, заложив руки за спину, уставился на ребят. Некоторые из них в самом деле вели себя в этом общественном месте так, будто находились в пустыне Сахаре, где кроме них не было ни души. Я видел, как один симпатичный парень выхватил что-то из рук другого и бросился наутек. Приятель, разумеется, погнался за ним. Как озорные дети, носились они вокруг фонтана. Первый хохотал от души, а потерпевший, стараясь схватить его, грозил и нес похабщину, а, догнав, отвесил несколько пинков. Все это, разумеется, делалось в шутку. Мужчина в берете и пенсне молча следил за их возней. Потом также спокойно повернулся и пошел прочь со своим смешным песиком.
Я наклонился над фонтанчиком и напился. Перед оперой стоял народ, ожидавший троллейбус. Мне почему-то вспомнился дедушка. Он, даже будучи моложе этих парней, наверное, не позволял себе подобных выходок. Не представляю, чтобы он мог у кого-то что-то выхватить, а если бы у него что-то вырвали из рук — по-моему, это совершенно исключено, — изумлению его не было бы границ. Эта ветреность и легкомыслие никак не вязались с обликом моего деда. И речь его отличалась степенностью, не то что у меня и моих сверстников. Театр, искусство, литература, наука представлялись ему чрезвычайно серьезными, святыми понятиями, и, отбросив остальные причины, только из уважения к ним он бы, наверное, не позволил себе носиться и гикать в таком месте. Разумеется, те юноши собрались здесь не из любви к театру; я отлично понимал, что сейчас другая эпоха, и совершенно не собирался обвинять этих лоботрясов. Всему есть свои причины. Может быть, они вовсе не были такими бездельниками и шелапутами, как казалось со стороны. День был воскресный, и, вероятно, им негде было собраться, кроме этого садика. Кто знает, может, и среди них находился какой-нибудь серьезный, одаренный юноша, который задумывался о многом в этой жизни, но выбранная ими форма развлечений не вызывала у окружающих особого восторга. Возможно, подобные забавы вовсе не нравились ему, но он все-таки участвовал в них, потому что очень трудно отделаться от привычек того круга и поколения, которому ты принадлежишь. Дед мой жил в иное время и был воспитан по-иному…
Я шел по проспекту, и перед глазами стоял портрет моего деда в молодые годы, тот самый, который бабушка почтительно поместила на первой странице своего старинного, обтянутого черным бархатом альбома. На этой фотографии дед выглядел гораздо старше своих лет, вероятно, из-за усов и бороды, которые носил в молодости. Войдя в лета, он стал бриться и усы укоротил, потому что мода изменилась. Особая манера держаться смолоду придавала ему серьезный и зрелый вид. Степенность, спокойствие, такт и уверенность в себе отличали деда и его друзей. Во всяком случае так казалось мне. Из уст деда я не помню ни одного бранного слова. Среди дедовского окружения мне больше всех запомнился Элизбар. После смерти дедушки он часто заходил к нам. Это был представительный, остроумный и располагающий к себе старик. Он жил напротив Оперы, на улице Чавчавадзе, в старинном доме с широким деревянным балконом по всей длине, как было принято строить в старом Тбилиси. Потом жильцы, с целью расширения площади, застеклили этот балкон, понастроили там кухонь и кладовых, но Элизбар даже не помышлял ни о чем таком. Единственная незастекленная часть во всем дворе осталась только у него. Наш старик не нуждался ни в кухне, ни в кладовой, он был одинокий, поэтому никогда не столовался дома. В обед неизменно отправлялся в ресторан гостиницы «Интурист», которую называл прежним названием «Ориант», точно так же, как и бывшую духовную семинарию, ныне Музей искусств, называл «Палас-Отелем». Он так привык. Старые названия казались ему более удобными, хотя привычка его порой сбивала меня с толку и я не сразу мог понять, о чем идет речь.
— Однажды поручик Коцо Микеладзе шашкой разбил витрину в «Орианте», — вспоминал Элизбар, и я долго соображал, что такое «Ориант», или:
— У «Палас-Отеля» встретил меня Джибо Дадиани и говорит…
В том старинном доме он занимал одну просторную комнату. В углу ее стояла широкая тахта, обложенная мутаками[29] и подушками. Со стены спускался длинный персидский ковер, на котором красовались увеличенные портреты Ильи Чавчавадзе и Иване Джавахишвили, а также различное оружие — старинные, изогнутые полумесяцем турецкие сабли, длинные обоюдоострые русские клинки, тяжелые, грубые и несгибаемые; легкие, гибкие, самые жалящие и прочные грузинские шашки, а рядом с ними — всевозможные кинжалы: черкесские, дагестанские, персидские, грузинские; оправленные в серебро пистолеты и инкрустированные костью кремневые ружья. Бог знает, сколько лет он собирал эту коллекцию. В комнате пахло стариной, точно такой же запах минувшего века, казалось, исходил и от самого Элизбара. Он напоминал мне оживший дагерротип. Круглый год не снимал он серой черкески с серебряным поясом и мягких азиатских сапог. Зимой этот наряд довершали длинная бурка и башлык, которым он повязывал голову. У Элизбара были густые, волнистые седые волосы, закрученные кверху белые усы, высоко приподнятые черные брови, орлиный нос, степенные жесты и надменный гордый взгляд. Истинный аристократизм отличал его, и я любил этого много перенесшего старика. Врожденная гордость в сочетании с необычайной простотой восхищали меня. Где бы он ни появлялся, все провожали его глазами. В детстве, завидев его на улице, я старался погромче поздороваться с ним, потому что иногда он мог не заметить меня. Элизбар непременно протягивал мне руку, гладил по голове и уважительно разговаривал со мной, расспрашивая о домашних делах, интересуясь, куда я иду, а если бывал не один, то обязательно представлял меня своему спутнику:
— Этот юноша, милостивый государь, внук нашего Симона, — и каждый раз с ласковой улыбкой добавлял: — Настоящий мужчина растет! — или: — Весьма одаренный юноша!
Я таял от его похвал, не в силах скрыть радости, и ужасно гордился, что и на меня, идущего рядом с Элизбаром, все обращают внимание.
Сейчас на улицах Тбилиси уже не встретишь подобных стариков, но в годы моего детства они при полном параде прогуливались, бывало, по проспекту Руставели. Некоторые вместо черкесок носили длинные рубахи навыпуск со стоячим воротничком, перехваченные в талии тонким поясом, галифе, мягкие сапожки, папахи. Одежда эта была старинной, грузинской, и вызывала уважение хотя бы тем, что являлась последним проявлением внешней самобытности. Но находились и такие люди, которых не только не интересовало, но буквально выводило из себя любое прикосновение к старине. По мнению супруга моей тетки, все грузинские церкви следовало бы давно снести за ненадобностью. Он иронично и пренебрежительно относился к Элизбару, видя в нем человека старой закваски, а в верности черкеске, архалуку и дедовским традициям — азиатскую отсталость. Прогресс он понимал как одни внешние изменения, и, если искореняли какой-нибудь вековой, мудрый и благородный обычай, он радовался, находя в этом знамение прогресса. Все новое казалось ему более привлекательным и удобным. Элизбар прекрасно чувствовал ироничное отношение этого прогрессиста и сам с насмешливой улыбкой относился к увлечению того всеми новшествами и полному пренебрежению прошлым, но это не мешало старику часто приходить к нам, он считал себя обязанным не порывать с нашей семьей, ибо это была семья дочери его старинного друга Симона.
Как я любил, когда Элизбар гостил у нас! Он садился и долго, степенно рассказывал что-нибудь, вспоминал старые истории, иногда живописал свои приключения — много горя довелось хлебнуть ему на жизненном пути. Особенно любил он разговаривать об истории Грузии. Знание прошлого своего народа представлялось ему тем фундаментом, на котором должно строиться уважающее себя, крепкое в национальном самосознании, несгибаемое, борющееся за интересы нации общество. Затаив дыхание, ловил я каждое его слово, и мне часто казалось, он обращается ко мне, старается для меня, пытается пробудить у меня интерес, когда увлеченно рассказывал о подвижниках прошлого, о героических деяниях великих грузин. Мне думается, что он старался не напрасно. Его слова западали мне в душу, разжигали неосознанное еще в том возрасте чувство любви к отчему краю. Сейчас, когда я вспоминаю прошедшее, меня уже не удивляет, почему не могли найти общий язык Элизбар и муж моей тетки. Теткиному супругу казалось, что недалек тот день, когда все народы сольются в один и заговорят на одном наречье. Элизбар даже слушать не желал об этом.
— Я уважал каждую нацию, но любой нормальный человек в первую очередь любит свою, и каждый честный работник прежде всего печется о благополучии собственного народа. Так было испокон веков и так будет всегда, — спокойно рассуждал Элизбар.
— Хм, — ухмылялся теткин муж, — эти взгляды весьма обветшали, мой Элизбар. Вы газет не читаете.
— Ваша правда, сударь, я редко читаю газеты, в последнее время зрение подводит меня.
— Надо, батенька, читать и быть в курсе мировых событий.
Сам он поразительно любил газеты, никогда не расставался с ними, и часто его суждения отдавали сухим, официальным тоном газетных статей. Может быть, поэтому я больше верил Элизбару, который опирался не на газетные цитаты, а на собственный опыт, на вековые устои, над которыми иронически посмеивался теткин супруг. Он был немного спесив, как все выбившиеся из своего сословия люди. Он рос в бедности, и когда перед ним распахнулись все двери, когда выучился, обрел уважение и определенную власть, он уверовал лишь в материальные ценности, в то время как Элизбар был неисправимым идеалистом, в молодости пустившим на ветер собственное движимое и недвижимое имущество — поместье разделил между беднейшими соседями и родственниками, большую часть состояния отписал на благотворительные цели, потом пожелал узнать мир и объехал его почти весь, но его любовь к отечеству отнюдь не уменьшилась. Вернувшись на родину, он сразу не сумел разобраться в происходящем, однако духом не пал, не было денег — жил в жесточайшей экономии, были — обедал в «Орианте». О материальном благополучии он никогда не заботился. Дружба, верность, самоотверженность — вот единственное, чем он руководствовался в жизни. Никогда не терял душевной стойкости. Несмотря на многочисленные удары судьбы, он не менялся. В каждом его поступке, в каждом слове сквозила величайшая вера в самого себя, любое испытание он встречал подготовленным, ибо не знал, что значит сомневаться в самом себе или в порядке собственной жизни, внутренние противоречия, вероятно, не мучили его. Он был твердый и цельный человек. Он был Элизбар, и его не интересовало, какие тончайшие, невидимые глазу процессы происходят внутри этого Элизбара. Убежденность в самом себе не содержала и следа самомнения, поэтому ему чужды были упрямство и поза, он умел быть хорошим рассказчиком и внимательным слушателем. Некоторые из кожи вон лезут, чтобы заслужить хотя бы часть того уважения, которое Элизбар приобретал походя. Даже муж моей тетки, за глаза посмеивавшийся над некоторыми привычками и мыслями старика, тем не менее относился к нему с почтением. Чем иным была вызвана эта почтительность, если не подспудным уважением личных и человеческих качеств старика?..
И неожиданная грусть охватила меня, беззаботно идущего по улице. Вот если бы кто-нибудь, похожий на Элизбара, находился рядом со мной в детские и отроческие годы! Ведь в это время мы больше всего нуждаемся в степенном советчике, умудренном жизненным опытом старшем друге, слова которого укрепляют дух, прививают надежду и указывают путь. А я жил, как в пустыне, не находя вокруг ни одного надежного и достойного человека, а тем более такого, которому хотелось бы подражать. Из взрослых я любил и уважал одного Арчила, но о нем, как и о Элизбаре, сохранились только детские воспоминания, а те, что окружали меня потом или встречались на жизненном пути, не вызывали должного почтения. Но когда я переходил улицу перед строем машин, ждущих зеленого света, то стал успокаивать себя, что в жизни всегда чего-то недостает, человек борется не только с внешним миром, но и с самим собой. Я достал сигарету, закурил и остановился у витрины книжного магазина. Окинув взглядом книги за стеклом, я сразу ощутил облегчение, что вовремя унес ноги из этого шумного города. В моей глухой деревушке у меня было и время и желание читать, я уже не вертелся белкой в колесе, как городской житель.
Книги аккуратно стояли на полках. Я разглядывал их и думал, что и они — результат чьей-то внутренней борьбы. Такая борьба, возможно, менее заметна, но куда более напряженна. «Кто знает, — последовал я за своей мыслью, глядя на книги, — может быть, внутреннее состояние, настроение, мировоззрение влияют на человека и даже на судьбу целой нации не меньше, чем внешние обстоятельства, только внешние более заметно? Если бы в далекие века мой народ проявил большее самосознание, большее желание к объединению и меньше стремился к обособлению, врагам не удалось бы так легко разрушить могущественное государство. Почему мои предки не сумели сплотиться и восстать из пепла, подобно фениксу, неужели всему виной только внешние враги? Может быть, помимо исторических объективных обстоятельств существуют и чисто субъективные причины, специфические особенности национального характера? Если верить Вахушти[30], грузины были «в походах храбры, оружелюбивы, отважно-смелы, славолюбивы так, что ради своего имени не остановились бы причинить досаду родине и природному своему царю…». Наверное, поэтому и не сумели мы сплотиться, объединиться под знаменем отечества, Поэтому и заблуждались в выборе друзей и врагов, часто преклонялись перед теми идолами, от которых надо было отречься. Мы равнодушно наблюдали за деяниями достойнейших сыновей нашей родины, безо всяких сочувствия и поддержки относясь к ним, словно борьба, которую вели эти одиночки, не касалась остальных, не служила благополучию всей нации. Одиночки бессильны что-либо изменить, если национальное самосознание не проникло в кровь и плоть масс…
Около меня остановился коренастый мужчина и попросил огоньку. Я дал ему прикурить. Он затянулся и посмотрел на книги в витрине. Судя по внешности, никогда не скажешь, что он умеет читать и писать. Я бы с удовольствием купил пару книг, но магазин сегодня не работал, и я двинулся дальше. Народ беспрерывной толпой тек по проспекту. Я шел, и навстречу мне попадались мои соотечественники, о которых Вахушти писал: «…мужчины и женщины прекрасны, статны, с черными глазами, бровями и волосами; они белолицы, редко бывают смуглы и желтокожи… Волосы у женщин спущены и заплетены, у мужчин подрезаны у ушей. Они с талиями тонкими, особливо женщины, редко же с толстыми. Они энергичны в труде, терпеливы в лишениях, на коне и в коннице смелы, проворны и быстры… Гостеприимны, любят чужеземцев, жизнерадостны. Если их бывает вместе два или три, лишения им нипочем, щедры, не щадят ни своего, ни чужого, сокровищ не копят; благоразумны, быстро-сообразительны, усваивающи, любят учение. Впрочем, с некоторого времени учением называют только чтение книг, письмо, пение церковное и светское и военную службу… Они уступчивы, помнят добро и за добро воздают добром, стыдливы, к добру и злу легко склоняются, опрометчивы, славолюбивы, вкрадчивы и обидчивы»[31]… Я шагал, любуясь проходящими мимо горожанами. Я любил их, но сердце мое щемило, и грусть напомнила мне, как в первый раз родилось желание убежать из этого города…
Тот апрель был солнечным. Сидя у окна, я глядел на каш маленький, уютный дворик. Громко чирикали воробьи, облепившие ветки стройного кипариса. Пухлые соседские малыши усердно ковыряли землю игрушечными лопатками, наполняли ею зеленые ведерки и старательно тащили их в другой угол двора. Дети со всей серьезностью занимались своим делом, а с четвертого этажа доносились звуки рояля. Играл Гия, наш сосед, высокий, бледный и молчаливый блондин лет тридцати. Его голубые глаза холодно взирали на всех, словно не замечая никого вокруг. С первого взгляда он казался нелюдимым, из категории тех граждан, что никогда не здороваются с соседями. Пятнадцати-шестнадцатилетняя сестра Гии, вежливая, смуглая резвушка, училась в музыкальном училище играть на скрипке. Иногда брат и сестра устраивали что-то вроде домашнего концерта, и я, придвинув стул к открытому окну, с удовольствием слушал согласованные, почему-то всегда вызывающие грусть звуки рояля и скрипки. И в тот день я сидел у окна. Приятно пригревало апрельское солнце. Я наблюдал за ребятней во дворе и слушал рояль. Если бы Гия не спился, он бы далеко пошел. Я почти не знал его. Они переехали сюда год назад. Ни родителей, ни родственников у них не было. Та меленькая комната, которую они с сестрой занимали сейчас, принадлежала раньше одинокой старушке. После ее смерти туда вселилась многочисленная семья, перебравшаяся в Тбилиси из Рачи. Глава этой семьи, служил, если не ошибаюсь, директором рынка, а возможно, заведующим столовой, точно уже не помню. Этот директор, не успев к нам перебраться, приобрел синюю «Волгу», которую обычно загонял во двор, вызывая недовольство соседей, потому что машина загораживала вход с улицы. С этим заведующим столовой или директором рынка приехали двое его сыновей, плотных, краснощеких, здоровых и сильных мальчуганов, а всего с женой и родственниками их насчитывалось шестеро душ. Совершенно ясно, что этакой ораве было невмоготу жить в тесной комнате, тем более что они привыкли к простору и свежему воздуху. Соседи поговаривали, что зять нашего нового соседа работает заместителем министра или управляющим какого-то треста, он-то и перетащил этих рачинцев в Тбилиси. Наверное, так оно и было, потому что наш новый жилец отнюдь не производил впечатления незаменимого специалиста, без которого столица Грузии не могла обойтись. Когда они уехали, в ту комнату вселились Гия с сестрой. Эти привезли немногое, Рояль, стол, несколько стульев и раскладушки — вот и все их имущество. Соседка сообщила, что Гия продал нашему работнику прилавка свою великолепную трехкомнатную квартиру вместе с уникальной мебелью, а обмен, дескать, был простой формальностью, но я не верил этим сплетням. Та же соседка уверяла меня, что родители молодых людей были исключительно образованные интеллигенты, но после их смерти жизнь у детей пошла кувырком, Гия спился, но посмотрите, как дрожит над сестрой, вы замечали, как он с ней носится?
Что Гия пил горькую, я убедился почти сразу, как они вселились в наш дом. В один прекрасный день мы столкнулись у парадного. Точнее, я шел домой и увидел — он стоит у парадного, а двое подонков из нашего квартала, которых я с детства знал и любовью не жаловал, наседают на него. Этот высокий белокурый мужчина выглядел в тот момент таким беспомощным, растерянным и бледным, что я пожалел его. Обеими руками он защищал карман длинного до пят макинтоша; в кармане, судя во всему, находилась бутылка.
— Прошу вас, оставьте меня, у меня нет времени, — твердил он.
— Пошли, тебе говорят, — орал один из подонков по имени Рафик, которого я не переносил с детских лет. Куда они тащили моего беспомощного соседа, я не мог понять.
— Что вы хотите от этого человека? — спокойно и вежливо поинтересовался я, подходя ближе. В глазах Гии мелькнула искорка надежды.
— Ты что, его знаешь? — спросил Рафик.
— Да, знаю. Что вы к нему пристали?
— Так вот, не суйся не в свое дело, иди и не встревай!
— Что им от вас надо? Чего они прицепились? — спросил я у Гии.
— Водку требуют, вместе, говорят, разопьем, — беспомощно улыбнулся тот и посмотрел на карман, — а я не хочу с ними пить.
— Идите отсюда, — повернулся я к Рафику. Однажды, много лет назад, он уже получил от меня, поэтому сейчас я разговаривал с ним совершенно спокойно.
— А ты не пугай меня! — повысил голос Рафик.
— Убирайся, тебе говорят! — Я тоже повысил голос и толкнул его в плечо.
— Ах, вот как! Руки распускаешь?
— Проваливай отсюда!
В этот миг Гия вклинился между нами, обнял меня — он оказался выше на целую голову — и взмолился испуганным, дрожащим голосом:
— Прошу вас, оставьте, не стоит из-за меня ввязываться в неприятности…
Воспользовавшись минутой, Рафик с приятелем ретировались. Я и Гия остались у парадного одни. Волнение мое прошло, и я внимательно оглядел его. У него были крупные, красивые руки, которые он прижимал к груди, силясь что-то сказать, но волнение мешало ему. Бронзовому лицу очень шли зачесанные назад длинные золотистые волосы. Когда он обнял меня, пытаясь остановить, я подумал, что бог не обидел его силенкой, но вид у него был какой-то болезненный. Гия старался улыбнуться. Может быть, он был пьян, но я этого не заметил, только взгляд его поражал странной безвольностью.
— Я очень извиняюсь… Мы, кажется, соседи?..
Обычно он проходил мимо, не удостаивая меня даже взглядом, и я никогда не думал, что он замечает кого-нибудь.
— Я очень беспокоюсь… Как бы из-за меня вам не попасть в неприятную историю… Это такой народ…
— Об этом не беспокойтесь.
— Как мне отблагодарить вас? — стыдливо улыбнулся он и покосился на карман. — У меня есть водка, может быть, составите мне компанию?..
Пить мне не хотелось, но было интересно поближе познакомиться с этим странным человеком. Поэтому я не стал отнекиваться, и мы поднялись на четвертый этаж. Гия провел меня в комнату. Половину ее занимал черный блестящий рояль, на крышке которого стояла аккуратная стопка нот. На стене висели портреты миловидной брюнетки в белом платье и интересного мужчины артистической наружности.
— Это мои родители. Они были музыкантами. Отец — профессор музыки. И я музыкант. И сестренка моя собирается посвятить себя музыке, — объяснил Гия.
Поставив бутылку на рояль, он вышел в кухню за рюмками. В окно можно было увидеть здание, стоящее на противоположной стороне улицы, серое, с узкими окнами, и толстые электрические провода, натянутые между столбами. Еще виднелась макушка клена. Когда Гия вернулся, я по-прежнему рассматривал портреты его родителей.
— Странно, не так ли? — обратился он ко мне. — Мать моя была немка. Вам когда-нибудь случалось видеть такую смуглую немку? А я вот блондин, весь в отца.
Потом мы выпили по рюмочке и закусили конфетами, которые Гия принес на блюдце и поставил рядом с бутылкой. Пол, стол, стулья — все блестело в этой комнате. Я подивился чистоте, посчитав это заслугой сестренки Гии.
— Хотите, я вам сыграю Бетховена?
— Сыграйте.
Гия присел к роялю и взял несколько аккордов.
— Руки трясутся — сказал он, покачал головой, будто укоряя себя, налил водки, выпил и почти тут же забыл обо мне. Он играл, запрокинув голову, словно вдруг успокоился, отрешился от всего, ушел в себя, покинув этот свет, водку, Рафика, меня, и, все больше и больше бледнея, неподвижным взором уперся в потолок. Я стоял, облокотясь о рояль, и внимательно изучал этого человека, который умел так отрешаться от всего и которого десять минут назад трясли на улице какие-то подонки. Он уже не помнил обо мне. Пот выступил на его лбу, он забыл снять свой длиннополый макинтош, галстук съехал набок, а мне оставалось удивляться, как это я, человек довольно искушенный, иронично и подозрительно относящийся ко многим вещам, поддался его порыву, не слышал уличного шума, не помнил, что десять минут назад до того, как он сел за рояль, я жалел этого человека, скептически и несколько свысока поглядывая на него… Потом хлопнула дверь, в комнате появилась сестра Гии. Гия очнулся и оборвал игру. Последние звуки неприятно резанули слух, словно что-то рухнуло, погребая под собой ту незримую жизнь, которая только что дышала в этой комнате.
— Ты что так рано, Майя? — спросил Гия и почему-то виновато засмеялся, кинув взгляд на бутылку.
— Урок отменили, — холодно ответила Майя.
— Мы, Майечка, не пили. Это наш сосед и просто…
Майя вежливо поздоровалась со мной и скрылась на кухне.
…И вот в тот день, когда, сидя у окна, я смотрел на малышей, странная тоска сжимала сердце. Звуки рояля нагоняли горькие мысли, что этих невинных детей ожидает тяжелая и сложная жизнь. День этот глубоко запал в память. Помню, как раздался звонок. Наверное, тетка пришла, подумал я, выходя в переднюю. Спокойно отворил дверь и вздрогнул от неожиданности — оборванный смуглый мужчина лет пятидесяти, с потерянным и жалким лицом протягивал ко мне руку:
— Ради бога, будьте милостивы, подайте кусочек хлеба!
Я вернулся в комнату, достал из буфета большой кусок грузинского хлеба, нащупал в кармане двугривенный, положил на хлеб и подал нищему. Тот всячески благословил меня. Судя по выговору, это был цыган. Я запер дверь и, скрестив на груди руки, остановился посреди комнаты, глядя в пространство. Почему я пожалел ему больше двадцати копеек? Ведь у меня были деньги. Но он просил хлеба, видимо, это и сбило меня с толку. Хотя хлеб просят самые нуждающиеся. Голоден, верно, был и этот несчастный. Настроение у меня испортилось, сентиментальность одолела, и в полдень, когда Каха принес билеты на футбол — в тот день открывался сезон, — перед моими глазами снова встало измученное лицо нищего. Однако от футбола я не отказался, желание получить удовольствие не исчезло. Я тщательно побрился, надел белоснежную сорочку, Каха помог мне завязать галстук — затянул его, облачился в темно-синий костюм, который выглядел как новенький, начистил черные туфли и довольный собой остановился у зеркала.
— В кинозвезды метишь? — насмешливо и одновременно одобрительно улыбнулся Каха.
Мне стало приятно от его слов, но лицо давешнего нищего снова возникло перед глазами. Я, видите ли, прихорашивался перед зеркалом, а в его душе, наверное, стоял непроглядный мрак, и все же…
— Что поделаешь?! — пожимая плечами, ответил я Кахе и самому себе.
Мы вышли на улицу. Стоял солнечный апрель. Все уже ходили без пальто. Некоторые на всякий случай носили с собой перекинутые через руку плащи, а на том нищем было теплое старое пальто и изношенная донельзя кургузая меховая шапка, которая не могла скрыть давно не стриженных густых черных волос. Солнце создавало праздничную атмосферу на улице, все прохожие казались веселыми и беззаботными. Прилегающие к стадиону улицы были полны народу. С моста Челюскинцев я взглянул на Куру, на суетливые, как жуки, автомашины, снующие по набережной. Вдали вырисовывались блеклые контуры гор. Над стадионом реяли флаги, и я чувствовал, как волнение подбирается ко мне. Взбудораженная толпа, разноцветные флаги, трепещущие в вышине, зеленое поле, заполненные трибуны пробуждали во мне странное ожидание, словно сейчас начинался не футбол, а нечто большее, сложное, как сама жизнь; глядя на пустынное до времени поле, я старался угадать, в какие ворота влетит первый мяч, как закончится игра, какая половина поля окажется роковой для той или другой команды. Просидев два часа на этой самой трибуне, я узнаю все это, но предугадать сейчас, до начала игры, представлялось чем-то невероятным. Я смотрел на волнующихся болельщиков и в общем гомоне улавливал обрывки разговоров:
— Как у наших сложится, а?
— Как пойдет игра, выиграем?
Некоторые так переживали, будто у них не было никаких забот, кроме футбола, хотя жизнь давно стерла с их лиц даже след беззаботности. Но я чувствовал, что волнение их вызвано не только ожиданием развлечения или чисто спортивным азартом, но имеет более глубокие корни, о которых большинство даже не подозревало, они существуют подспудно. Все ждали игру, словно с минуты на минуту должны были стать свидетелями чего-то сверхъестественного — в течение полутора часов судьба будет жонглировать перед ними тысячью вероятностей, тысячью случайностей, совершенно нежданных мигом раньше, а потом сразу выявит все и вынесет свой приговор. До известной степени жизнь каждого из собравшихся здесь походила на футбол, на матч, растянувшийся в десятилетия, где годами торчишь перед пустыми воротами, ждешь точной передачи и, если повезет, получишь мяч и забьешь гол. Или, наоборот, не получишь ничего, даром убьешь время, или не сможешь воспользоваться выгодным моментом, ударишь мимо цели, а второй такой возможности тебе не представится; где ежесекундно сменяют друг друга временные удача и неудача; где часто слышишь свисток судьи — глашатая определенного решения то в твою пользу, то в пользу противника; где за минуту до конца неясно, чем завершится матч, а иногда результат его ясен заранее, но ты все-таки продолжаешь игру, до последней секунды придерживаешься ее правил, потом слышишь финальный свисток — все, игра окончена, ты обязан покинуть поле…
Я уже не помню результат той встречи. Вероятней всего, наши выиграли, потому что мы вышли со стадиона в приподнятом настроении. Стоял прекрасный апрельский вечер. Воздух был пропитан ароматом цветущих акаций. Незаметно сползшие с гор сумерки осыпали город мириадами мерцающих огней. Размеряющее тепло разливалось по улицам. Счастливые болельщики расходились по домам, где каждого ожидали свои заботы. Нас было четверо — я, Каха, Вахтанг и Парнаоз. По проспекту Руставели прогуливались толпы народу. Прелестные девушки, как ожившие после зимы лани, проносились мимо нас. Нам захотелось продлить удовольствие, захотелось любви этих стройных длинноногих девушек, но кто преподнесет нам таких красавиц? Выпить — гораздо проще. Вахтанг и Парнаоз ненадолго испарились, достали где-то денег, и мы завернули в ресторан «Тбилиси». Огромная люстра на потолке сверкала так ослепительно, как будто весна вошла и в это здание. С эстрады гремела музыка. Приятным ароматом вин и шашлыков тянуло от каждого столика, за которыми расположились веселые люди. Пьяный верзила, раскинув саженные руки, пытался пуститься в пляс перед эстрадой, но друзья повисли на нем, не давая развернуться. Я пробирался вслед за ребятами, приметившими свободный столик. Чей-то бас окликнул меня по имени, я обернулся, увидел в центре зала приветственно вскинутую руку и узнал Ладо, старого друга моего дяди Арчила. В свое время этот Ладо был известным борцом, многократным чемпионом мира, красой и гордостью грузинского спорта. В настоящее время он являлся влиятельным скульптором и архитектором, но его искусство значительно уступало былым спортивным достижениям, за которые вся Грузия по сей день знала и уважала его. Когда я подошел, он — успевший уже изрядно нагрузиться — по обыкновению стиснул меня в объятьях и расцеловал. Потом придвинул стул, усадил меня рядом с собой и представил сотрапезникам:
— Племянник Арчила, дорогого друга моей юности. Вот это был парень! Мы вместе отправились на фронт, вечная ему память!
И предложил всем выпить за моего дядю. Денежные тузы восседали за его столиком, это ощущалось по их сытым физиономиям: людям с большим карманом всегда присуще особое выражение лица, дерзкое, надменное, хищное, чем они сразу отличаются от робкого бессребреника. Все с почтением выпили за Арчила, разумеется, только из уважения к тамаде, до этой минуты никто из них, вероятно, не знал моего дядю и имени его не слышал. Он погиб совсем молодым. Невольно я поглядел на Ладо и удивился, что этот седовласый мужчина — сверстник моего юного, боготворимого дяди, тогда как мне самому исполнилось столько же лет, сколько было Арчилу.
Тем временем Ладо преподнесли десять бутылок вина от соседнего столика. Как всегда, взоры всего зала были обращены на Ладо, будто все присутствующие домогались его внимания. Мне казалось, что многие завидуют мне. И эти бутылки прислали специально, чтобы Ладо заметил их, и, хотя немного погодя выяснилось, что наш тамада не имел ни малейшего представления, кто такие были его почитатели, он все-таки с чувством произнес в их честь громогласную здравицу, предварительно спросив у одного из приятелей: «Что это за люди?» А неизвестные благодетели, покинув свой столик, с полными стаканами в руках окружили нас. Конечно, и нам пришлось подняться, согласно ритуалу. Вот тогда и выяснилось, что кто-то из них где-то и когда-то сиживал за одним столом с Ладо. Та компания сочла это обстоятельство достаточным поводом для того, чтобы прислать вино, а затем и самим присоединиться к нашему застолью. Они наперебой объявляли себя поклонниками таланта и искусства Ладо. Разумеется, Ладо был достоин всяческого уважения, но стоило посмотреть, что бы прислали ему, не сияй над ним ореол чемпионских званий. Как художник, Каха намного превосходил талантом Ладо, но он скромно сидел где-то в уголке позади нас, и ни один человек в этом зале не подозревал о его существовании. Впрочем, эти люди не имели ни малейшего представления также о таланте и работах Ладо, искусство вообще не интересовало их. Они льнули к нему, как к популярной личности, известному борцу и кутиле. Слов нет, Ладо был человеком достойным, но беда в том, что не меньшим почетом пользуются у нас и личности, известные неблаговидными делами.
Я выпил за здоровье всех присутствующих и откланялся. Когда я проходил по залу, многие провожали меня любопытными взглядами. Подвыпившие друзья ворчали, что я так надолго застрял за чужим столом:
— Что такое, Тархудж, забыл про нас?
— Э, милый, столько времени не мог выбраться оттуда?
И этих колола мелкая зависть. Где-то в глубине души и они досадовали, что знаменитый Ладо был близко знаком не с ними, а со мной. Но через несколько минут нам преподнесли десять бутылок вина, и от их недовольства не осталось и следа.
— Это вам от друзей Ладо, — поклонился официант в черном смокинге. — Вы будете Тархудж, не так ли?
Мне стало смешно. Ради чего старались эти достойные мужи? Верно, думали потрафить Ладо. Я был еще трезв и прекрасно понимал, что широкий жест незнакомых людей являлся хитроумным проявлением своеобразного подхалимства. Смысл презента был совершенно ясен: они красовались перед Ладо, а вовсе не добивались моей благосклонности. На меня им было плевать. Тем не менее я не подумал отвергать подношение.
— Передайте им мою благодарность! — я оглядел обрадованных ребят. Причиной их радости было непредвиденно полученное вино, а его преподнесли мне, и я сам себе показался поистине уважаемой персоной, горделиво приосанился и в этот миг заметил в углу, неподалеку от нашего столика, старую, уставшую от работы и ресторанного гомона уборщицу, которая дремала, притулившись на краешке стула…
Мы выпили по нескольку стаканов. Гудел ресторан, гремела музыка, вино и весна дурманили голову. За одним из столиков я заметил известного рецидивиста, парня моего возраста. Звали его Гиви. Я знал в лицо этого субъекта, на счету которого числилось несколько раненных ножом и, чтобы не тратить лишних слов, добавлю одно — от него можно было ожидать любой подлости. Я удивился, обнаружив его здесь, потому что был уверен, что он сидит в тюрьме. Последний раз он смертельно ранил кого-то, но, видимо, врачи спасли его очередную жертву, и, как часто бывает, Гиви помиловали. Окруженный собутыльниками, он поглядывал вокруг грозным и мутным взором. Даже улыбка его была неприятной, но все за столом так лебезили перед ним, словно лицезрели выдающуюся личность, знаменитую добрыми делами, а не прожженного головореза, известного беспричинной злобой и подлостью… Я посмотрел на Каху. Держа в руках изрядный кус шашлыка, он грыз непрожаренное мясо. Дремлющая в углу уборщица не могла дождаться, когда закроют ресторан и разрешат ей уйти домой. Лица кружились передо мной, будто я сидел на карусели.
Наш пир продолжался. Мы уже покончили с половиной присланных бутылок. Народ постепенно расходился, столики пустели. Иногда тушили верхний свет, потом зажигали снова. Поднялся и тот стол, где верховодил Ладо. Широким, богатырским шагом направился он к нам в сопровождении нескольких «адъютантов». Мы встали. Подняв стакан, Ладо долго желал нам счастья. Бас его громом раскатывался по залу. И свита его сочла необходимым обратиться к нам с медовыми речами. Они вспомнили моего Арчила: «У тебя был такой дядя, что ты не можешь быть плохим!». Их пустословие и показная сердечность раздражали меня, а тупые физиономии были неприятны. Затем Ладо сгреб меня и моих восхищенных друзей и расцеловал каждого. Незнакомые «адъютанты» последовали его примеру. В это время Ладо пригласили к тому столику, где восседал этот подонок Гиви. Мне почему-то захотелось под предводительством Ладо пинками выгнать эту свору из зала. Но он, разумеется, в окружении сопровождающих лиц тут же направился к ним, чем вызвал там всеобщую радость. В конце концов все смешалось. Дружки Гиви подскочили к нам, пригласили нас за свой стол, всучили стаканы; пили за наше здоровье, и мы пили за них, кто-то обнимал меня, клянясь в вечной любви и дружбе. Ладо ревел в полный голос, Парнаоз целовал Гиви, как любимого брата, Вахтанг кому-то изливал душу, только Каха спокойно держался в стороне, насмешливо глядя на эту картину. Один из Гивиных собутыльников, преждевременно облысевший парень с коварным лисьим лицом, назвавшийся Тамазом, воспылал ко мне исключительной любовью. Его покорный, настороженный взгляд и угодливая улыбка, характерная для подхалимов, вызывали во мне жалостливое чувство, я жалел его за то, что он был льстецом. Может быть, он и сам не хотел или ему не нравилось быть льстецом, но что поделаешь, он был создан таким. Я обнял его, будто хотел ободрить, хотя не совсем понимал, почему он нуждается в моем ободрении, и так, обнявшись, мы вышли из ресторана. Впереди, бася на всю улицу, шествовал Ладо, Парнаоз, повиснув на руке Гиви, не умолкая, клялся ему в любви и преданности. Поведение Парнаоза мне не понравилось.
— Оттащи его от этого типа, — сказал я Кахе.
— От какого?
— От Гиви, или как там зовут эту мразь?!
Потом мы распрощались. Ладо сел в машину и укатил. Тамаз расцеловался со мной, выразив надежду на скорую встречу, улыбнулся своей угодливой улыбкой и присоединился к Гиви.
Друзья мои тоже отправились по домам, и я остался один.
Было очень поздно. На улице — ни души. Я застегнул пиджак на все пуговицы, поправил галстук, сунул руки в карманы брюк и медленно пошел домой. Меня слегка пошатывало… Теплая апрельская ночь навевала смутную и приятную грусть. Латунная луна светила над городом, длинные облака плыли от Нарикалы к горам Коджори. Весенний ветерок, нежный и легкий, как дыхание красивой женщины, мягко, ласково касался молодой листвы… Опустив голову, я шагал, радуясь тишине. После ресторанного гвалта она успокаивала нервы. Из темных садов временами доносился птичий щебет. Я глядел под ноги. Свет, падавший из витрин, освещал тротуар. Каждый мой шаг сокращал время этого неожиданного и странного блаженства, мне не хотелось уходить с улицы, но надо было идти домой и ложиться спать. Потом какая-то машина пронеслась мимо и остановилась неподалеку. Из нее выскочили несколько человек и кинулись ко мне. «Чего им надо?» — подумал я и тут же узнал Гиви, плешивого Тамаза и остальных, которые в ресторане клялись мне в вечной дружбе. Их напряженные, бледные лица не понравились мне, и я остановился. Интересно, что случилось?
— Что ты сказал обо мне? — резко спросил Гиви, преграждая дорогу. Я заметил, что у него дрожит челюсть.
— Что сказал? — искренне удивился я.
— Кто это, по-твоему, мразь?!
Я моментально вспомнил все. Чему можно удивляться в этой жизни, но такой гнусности я все-таки не ожидал. Нервно улыбнувшись, я вытащил руки из карманов. Животная злоба кривила их беспощадные, вероломные лица, и у меня горько сдавило сердце. Я стоял, будто обложенный зверь, но в тот миг, в то мгновение любовь к правде пересилила инстинкт самосохранения. Не произнося ни слова, я плюнул в глаза Гиви, этим ответив на его вопрос, и тут же залепил пощечину бледному, ни слова не проронившему Тамазу. Что-то твердое, как камень, угодило мне в лицо. В глазах потемнело, в мозгу сверкнули искры, я полетел, тяжело стукнулся обо что-то и свалился. «Убей, так его!..» — я слышал брань и понимал, что сейчас они убьют меня. Неописуемый страх овладел мною и, валяясь на асфальте, дергаясь под их пинками, я старался не шевелиться, чтобы они не приняли мое движение за попытку, сопротивляться и не разъярились еще больше. И этот страх, эта животная трусость, малодушная предусмотрительность или трезвость, преодолеть которую не хватало сил, растоптали и убили мою душу; я ощущал себя последним ничтожеством. От мучительного чувства беспомощности и ничтожества я возненавидел весь мир; мне хотелось разреветься; я закрыл голову руками, потому что вместе со всепоглощающей ненавистью инстинкт самосохранения руководил мной; беспощадные пинки сыпались со всех сторон, мяли мое тело, врезались в него, потом что-то горячее обожгло лопатку, и тут я словно оторвался от земли, словно полетел куда-то, и разом все померкло, сгинуло…
Было темно…
Сначала была тьма, потом ее прорезала белая, сверкающая, изогнутая, как молния, линия; прорезала, натянулась и лопнула. Снова — тьма. Потом эта тьма начала наливаться огнем, и, заполнив все пространство, огонь сжался, уплотнился, собрался в раскаленный шар и тут же взорвался, забрызгав огненной лавой черное безграничное пространство, и эта лава, стекая, слилась в длинную ленту, в тонкую линию, натянулась и снова лопнула. Все началось сначала — возникали, растягивались и рвались сверкающие нити. Тянулись от одной невидимой точки к другой и лопались. Что-то зловещее было в этих нитях, зловещее и необычайное. Но некому было чувствовать и осмысливать это. Были только линии, которые вспыхивали, как космическая катастрофа, и гасли. И был мрак, где сверкающие точки приближались друг к другу, сталкивались и безмолвно взрывались, извивались слепящими прихотливыми молниями и с немыслимой скоростью рассекали бесконечное пространство.
…Помню, как я выбрался из этой бесконечности, объятой тьмой. Исчезли линии, и точки, но темная завеса все еще висела перед глазами. Неожиданно оттуда, с той стороны завесы, донесся когда-то знакомый, где-то слышанный голос. Это было рыдание, и когда я догадался об этом, то вспомнил, что где-то и когда-то слышал этот голос или звук; что-то сдвинулось в полной мгле, мрак побледнел, и мне показалось, будто где-то открылись ставни и луч света проникал в меня. И вместе с этим лучом все более отчетливо слышал я рыдающий голос женщины:
— Он умер?
— Нет, пока еще жив…
— Выживет?
— Вряд ли, в сознание не приходит…
Этот рыдающий голос был знаком. Он походил на голос Софико. Откуда доносился ее голос, где я находился? Но раз я слышал голос Софико, то понял, что речь шла обо мне. Удивительно равнодушно воспринял я приговор, который вынесла мне неизвестная женщина. Ее слова будто не касались меня. У меня не было сил вникать в их смысл. Не было сил пугаться и удивляться. Я ощущал одно — я существую, но все было мне безразлично. Жизнь и смерть уподобились друг другу, словно во мне стерлась граница, разделяющая их. Я понимал, что тем женщинам казалось, будто я без сознания, тогда как я уже пришел в себя и слышал их разговор, только у меня не было ни сил, ни желания говорить им, что я очнулся. Все было безразлично. Я чувствовал, как оживают ощущения, чувствовал жажду и вместе с возрождением ощущений ко мне возвращалась способность рассуждать, постепенно пробуждалось сознание, и сейчас это было непривычно. Как будто душа моя рождалась заново, отделялась от хаоса, приобретала очертания, припоминала забытые предметы… Я уже улавливал больничный запах, уже знал, что лежу в постели, знал, что сейчас день, потому что тьма, стоявшая перед глазами, все больше и больше рассеивалась, напоминая рассвет, и одновременно откуда-то издали доносился до меня дневной шум. Мне хотелось сказать, что я жив. Хотя какое это имело значение? Самым главным сейчас для меня была вода. Нестерпимо пересохло в гортани, мне хотелось пить. И чем больше мучила жажда, тем яснее осознавал я, где нахожусь. Я уже ощущал собственное тело. Чувствовал плотность бинтов, запах лекарств, слышал мужской кашель, ощущал чье-то прикосновение ко лбу, и мне хотелось пить…
— Приходит в сознание, губами шевелит…
Сейчас я уже понимал, что двигаю губами, но никак не мог разомкнуть тяжелые, словно свинцом налитые, веки. Внешний мир и время будто окаменели, затвердели, и я никак не мог проникнуть в них, но вместе с жаждой меня уже тревожила боль, тревожила и радовала, потому что боль — это жизнь. И теперь мне уже хотелось жить, уже не было безразлично — умереть или вернуться к жизни, все происходящее уже касалось меня, меня с моей болью и нестерпимой жаждой, но голоса́ вокруг умолкли, видимо, меня оставили одного или наступила ночь…
А мне не хотелось оставаться одному, впрочем, какое это имело значение? Главным была вода и то, что все резче пробуждалась боль и пробуждала сознание. Перед моими глазами снова стоял мрак, и в конце концов я понял — это был мрак без тех страшных изломанных линий и сверкающих точек. Это была темнота больничной палаты. Рядом лежали спящие люди. За окном стояла ночь. Я лежал у окна. В ногах, откинувшись на спинку стула, дремала женщина в белом халате. Кто она? Моя тетя или медсестра? Но меня это не интересовало. Я видел палату, видел ночь, слышал дыхание больных. Я лежал с открытыми глазами и видел белесый потолок, белесые стены и темноту, заполнявшую пространство между этими стенами. Где-то в темном саду шумела вода, и я чувствовал — рассветает, начинается новый день, наверное, садовник поливает деревья из резинового шланга, и струя воды промывает листву. Вода текла, лилась, струилась, пропитывала землю, где-то совсем близко с грохотом промчался поезд, один из больных перевернулся на бок, скрипнула кровать, потом шум воды поглотил все остальные звуки; щедрым, беспрерывным потоком, плеща и журча, лилась вода, и мне чудилось, будто за больничной стеной начинается дремучий лес, в чаще которого, гремя, низвергается со скалы водопад; и одновременно глухая боль пронзала мне сердце, я не знал, за что терплю такие мучения, но тут же забывал все, только донимала жажда, хотелось войти в лес и припасть к потоку… Надо бежать от этой мерзости, от этих выродков, думал я, и слезы ручьем текли по лицу, потому что я вспоминал, как когда-то любил этот город и его обитателей. Я должен вернуться к природе, все должны вернуться к ней, восстановить оборванную связь, чтобы окончательно не растерять то, что дано нам провидением. Я должен жить просто и естественно, не цепляясь за ненужное и необязательное, выдуманное мной самим. Мне представлялось, будто я понял, что мне нужно. В ту ночь меня так скрутило и так захотелось жить, что я поклялся: «Господи, если я выкарабкаюсь, я брошу этот город, уеду куда-нибудь и заживу себе тихо, скромно…»
С того дня я пошел на поправку. Постепенно набирался сил, ушибы мои заживали, ножевая рана на лопатке затянулась. Мое бытие складывалось из мелких, незначительных радостей, связанных с выздоровлением. Придавало бодрости и общение с больными, находившимися в таком же положении, как и я. Но я уже был не тот, каким был до больницы. Словно какая-то неведомая струна лопнула в моей душе. Что-то потерял я, не знаю, была ли это вера или нечто другое. Я разуверился в ком-то или в чем-то. Может быть, неправильно обобщать частный случай, но в ту пору мне казалось, будто не конкретное лицо, — разумеется, подонок — всадил мне в спину нож, но широко распространенное явление, стоящее за этим частным лицом, и от таких мыслей терялась надежда, рушилась вера и разгоралась жажда мести. От этих выродков можно было ожидать всего, но несравненно больше удивляли меня родители, родственники, друзья, знакомые и соседи Гиви и Тамаза, беззастенчиво являвшиеся ежедневно ко мне в больницу.
— Ты знаешь, кто ударил тебя ножом?
— Не знаю, — отвечал я.
— Ну, тем более. Раз ты выжил божьей милостью, дорогой Тархудж, не стоит губить ребят, не жалуйся, друг, тебе ведь не станет лучше! Скажи, что прицепились какие-то неизвестные, затеяли драку, они, мол, и виноваты…
— Значит, на неизвестных свалить?
— Конечно, дорогой. Разве так не лучше?
— А если они еще кого-нибудь убьют?
— Что ты, дорогой, как можно?! Они уже одумались, очень переживают…
Я молчал.
— Не губи нас, мы твои должники по гроб жизни. Если понадобятся деньги на санаторий или на что-нибудь, не сомневайся…
Я опять молчал.
— С кем в молодости не случалось ошибок? Все вы, молодые, одним миром мазаны!
Я продолжал молчать. У меня не было никакого желания разговаривать с этими людьми.
— Тамаз талантливый парень, не губи его, он в этом году кончает аспирантуру. И этот паршивец Гиви одумался, наконец-то взялся за ум, учиться начал… Горяч он больно, а так не злой… Прости их, дорогой Тархудж, мы должны помогать друг другу, должны терпеть друг друга, мы ведь грузины…
— Это точно, мы воистину грузины…
— Большие люди заинтересованы в том, чтобы уладить эту историю, с этим тоже надо считаться…
Я слушал и удивлялся, что мы изъясняемся на одном языке, являемся детьми одной нации; и, если нация подразумевает в человеке еще нечто общее, кроме общности языка и территории, они должны были подумать о том незаслуженном оскорблении, которое навсегда врезалось в мою душу, должны были представить ту минуту, когда я сам себе казался не человеком, а полнейшим ничтожеством, тлей, которую ничего не стоит раздавить, растоптать, стереть с лица земли. Но ни в одном из них не замечалось и тени стыда. Они нагло улыбались, заглядывали мне в глаза, и все это ранило душу острее, чем оскорбления, ушибы и синяки. Меня еще сильнее тянуло уехать отсюда, скрыться где-нибудь в дремучем лесу, лежать на зеленой траве, смотреть в синее небо и думать о жизни…
И как раз в этот момент:
— Тархудж! — окликнул меня знакомый голос. Я вздрогнул, очнулся, пришел в себя, повернул голову и сразу, как только на меня снова обрушились городской шум, грохот автобусов, троллейбусов и машин, людской гомон, которые до сих пор, пока я был погружен в воспоминания, доносились словно издали, приглушенно, я увидел Вахтанга. Выйдя из машины, стоящей у тротуара, он, смущенно и удивленно улыбаясь, глядел на меня. Я тоже улыбнулся радостно и несколько растерянно, и даже когда мы сошлись, обнялись и торопливо принялись засыпать друг друга вопросами, чувство неловкости не покидало меня. Я не видел Вахтанга несколько лет, и сейчас он показался мне изменившимся. В волосах пробивалась ранняя седина. В лице появилось какое-то, характерное для дельцов, в частности для административных работников, самоуверенное выражение человека, привыкшего отдавать приказы. Раньше я не замечал ничего подобного. В довершение всего он несколько раздался и обрюзг. Он был явно рад нашей встрече, но во время разговора взгляд его убегал в сторону, цеплялся за прохожих, и новое для меня, самодовольное выражение не сходило с его лица.
— Где ты, послушай, разве можно так пропадать?! Сколько лет не показывался на глаза, неужели ни разу не был в Тбилиси? — смеясь и похлопывая меня по плечу, спрашивал Вахтанг. И все-таки он казался изменившимся и довольно сдержанным. — Пошли, повидаешь Софико, это она узрела тебя из машины. Я бы не узнал, забыл уже, как ты выглядишь.
Он обнял меня и потащил к машине, но, прежде чем мы дошли до нее, Софико отворила переднюю дверцу и поспешила нам навстречу. Она уже не производила впечатления легкой резвушки, но я нашел ее еще более прелестной и женственной. Когда, по обыкновению щурясь и улыбаясь, она припала щекой к моей щеке и поцеловала меня, я ощутил знакомый аромат ее тела, который когда-то сводил меня с ума, и растерялся, но вовремя опомнился и, чтобы не выдать замешательства, воскликнул, будто в шутливом изумлении, что она замечательно выглядит.
Софико тоже казалась смущенной. Она спросила, когда я приехал, хотя минуту назад, прежде чем поцеловать меня, уже задавала этот обычный вопрос. Она почему-то избегала моего взгляда. Кажется, и Вахтанг чувствовал себя несколько не в своей тарелке, но, честно говоря, в этом не было ничего удивительного — мы не встречались много лет, хотя когда-то все трое, так или иначе, были близки…
Впрочем, к тому времени, как я оставил Тбилиси, нас уже вряд ли можно было назвать друзьями. После того памятного вечера, когда я пьяный заявился к Софико, мы с ней не встречались ни разу. Сейчас я видел в ней чужого человека, и не волнением объяснялась скованность и неловкость, а отчуждением, возникшим между нами, которое само по себе было незнакомым и непривычным. Возможно, что мне вспоминалась моя давнишняя исповедь, и я стеснялся этой счастливой пары, но все-таки был рад видеть их. Много воды утекло с той поры, жизнь каждого из нас в корне преобразилась, изменились и наши отношения друг к другу, и сейчас, когда случай свел нас, внезапно вспыхнувшая радость явилась отзвуком той былой, милой любви, которая связывала нас в прошлом. Независимо от нас будто ожило какое-то угасшее чувство, но прошлое оставалось прошлым, и той старой любви уже не существовало в прежнем виде, изменились и мы, ее незадачливые носители. Должно быть, этим и объяснялось чувство неловкости, которое мы, все трое, невольно испытывали вместе с радостью.
Мы стояли на краю тротуара. Пекло полуденное солнце. Новенькая «Волга», из которой вышли мои друзья, мешала движению автобусов и троллейбусов — рядом находилась остановка. Народ на остановке недовольно поглядывал в нашу сторону.
— Тебе куда, Тархудж? Поехали с нами! — предложил Вахтанг, обошел машину спереди, открыл дверцу и сел за руль. Изящно покачивая станом и постукивая каблучками, Софико приблизилась к машине и устроилась рядом с Вахтангом. Я открыл заднюю дверцу… Вахтанг завел мотор, обождал, пока народ поднимется в троллейбус, обогнал его, потом переключил скорость, помчался на третьей. Я молча смотрел на профиль Софико, сидящей вполуоборот ко мне.
— Куда тебе? — не оглядываясь, крикнул Вахтанг.
— Если можно, подбрось до вокзала, — ответил я и подумал, не обременяю ли их. Должно быть, совершенно бессознательно я наделял Вахтанга — владельца машины — некоторыми преимуществами по сравнению с собой. Не говорил ли во мне комплекс бедности?
— Чего тебе там понадобилось?
— Мне надо взять билет.
— Ты надолго приехал?
— Сегодня вечером уезжаю.
— А приехал когда?
— Вчера…
— Снова бежишь от нас, Тархудж? — засмеялась Софико.
Машина катила по Верийскому спуску, и в окне на мгновение показалась Махата, многочисленные домики на ее склоне, белый костел с круглым куполом, в котором мы с Софико однажды слушали орган. Кроме нас, в костеле никого не было, на органе играл пожилой мужчина. Давно это было, давным-давно, тогда мы часто гуляли вдвоем, и неясность наших отношений доставляла мне тайное удовольствие… Потом мы пронеслись по Верийскому мосту, в глаза бросились круглое здание цирка, взобравшееся на вершину холма, мост Челюскинцев, Кура, как-то летом мы купались там всем классом — Вахтанг тоже был с нами; ныряли с парапета Муштаидского сада, плыли по течению, а у Верийского моста выбирались на берег — сверху, навалившись на перила, на нас глазели горожане. Мне вспомнился вкус пресной воды, вспомнилось, как в одних трусах бежали мы к одежде, а горячий асфальт обжигал подошвы босых ног. Прекрасное было время. Мы совершенно не стеснялись бегать по улице почти нагишом. Купанье в Куре доставляло огромное удовольствие. Вода была теплой и отдавала резким запахом тины, а мы лежали на спине и видели дома, девятиглавыми драконами возвышавшиеся по обеим сторонам реки… Я посмотрел на Вахтанга, и воспоминания стерли недавнее ощущение неловкости.
— Знаешь, кого я сегодня встретил? — вспомнил вдруг я, удобно устроившись на мягком кожаном сиденье, и тронул Вахтанга за плечо.
— Кого? — он смотрел вперед. Узкая улица была забита машинами, и мы стояли, ожидая, когда тронутся передние.
— Шалву Дидимамишвили.
— А-а, Шалву, — Вахтанг тронул машину. — Сколько лет я его не видел, как он, все пьет?
Я вспомнил, что познакомился с Шалвой через Вахтанга…
— Видимо, пьет…
Машина медленно прокладывала себе путь по улице Марджанишвили. У театра я заметил очень красивую женщину… Да, с Шалвой меня познакомил Вахтанг, и сейчас, когда я понял, что он почти не помнит бывшего музыканта, не интересуется его судьбой, я еще раз явственно ощутил, как мы отдалились. Словно это был тот и все-таки не тот человек, которого некогда знал и любил я. Теперь он производил впечатление сдержанного, делового человека. А у той красотки перед театром были высокие бедра, обтянутые узким платьем, черные, блестящие, зачесанные назад волосы… Конечно, столько лет не встречались, не мудрено отвыкнуть друг от друга, приобрести иные интересы, отчего неясность и отчуждение, словно трещина, пролегшие между нами, показались мне совершенно естественными.
Машина свернула на Плехановский. Что ни говори, приятно сидеть в этой мягкой новенькой «Волге». Как ни крути, я — горожанин и соскучился по городу, соскучился по этой толпе прохожих, которых вижу за окном автомобиля, соскучился по городским женщинам, что с сумками в руках входят в магазины с широкими витринами и выходят из них, идут парами или поодиночке, юные, тонкие или широкобедрые, зрелые женщины; те, что постарше, ведут детей в школу или возвращаются с ними домой; одни кокетливо покачивают станом, смеются, радостно блестят глазами, другие задумчиво и хмуро следуют своим путем, печать горя и забот лежит на их лицах; вот встретились две старинные приятельницы, остановились на краю тротуара, увлеклись разговором. Соскучился я и по мужчинам, по молодым парням, которые бойко спешат куда-то, торопятся, или бесцельно подпирают стены, или провожают своих подружек, может быть, в какую-нибудь тайную, укромную комнатку, бог знает, где она находится, в каком уголке города, и какие невыразимые языком наслаждения ожидают их там; по пожилым мужчинам, что внушительно шагают по тротуару; по мальчишкам и девчонкам, резвой, голосистой городской детворе, наполняющей улицы своим щебетом…
Странная радость согревает тебя при виде всего этого, когда после долгой отлучки окунешься в любимый город. На протяжении последних лет я привык к грязи, к размытой дождями дороге, к свежему воздуху, я старался меньше вспоминать о городе, обо всем, что с ним связано. Но сейчас я чувствовал себя не совсем обычно, я был беспричинно счастлив, видя каменные многоэтажные дома, асфальтированные улицы, и немного досадовал, что путь мой лежит опять на вокзал… Впрочем, машина наша ехала вовсе не к вокзалу, а свернула направо, в сторону бывшего Воронцовского моста. Мы остановились у одного из домов, Вахтанг спросил у жены, кому из них лучше подняться наверх.
— Мне подниматься на пятый этаж? — с упреком взглянула на него Софико.
Вахтанг засмеялся; вместо извинения объяснил мне, что должен зайти за приятельницей и мигом вернется. Он вылез из машины, обошел ее спереди и скрылся в подъезде. На нем был дорогой, с иголочки костюм, когда он проходил перед машиной, ветер отнес вбок его галстук…
— Как ты, Тархудж? — в который раз спросила Софико, дружески и ласково улыбаясь. И все-таки она была чужой, всего лишь отражением былой, воздушной Софико. Повернувшись, она смотрела мне прямо в глаза. Нет, ничего в ней не осталось от той девушки, кроме внешности…
— Так себе, — улыбнулся и я.
— Очень рада тебя видеть…
— Я тоже…
— Сколько мы не встречались?
— Вечность.
— Знаешь, тогда, в больнице, я навещала тебя.
— Знаю.
— Откуда? — удивилась она, поднимая брови.
— Слышал твой голос.
— Врешь, ты был без сознания.
— И все-таки слышал.
— Эх, быстро летит жизнь, — заключила Софико, складывая руки на спинку кресла и упираясь в них подбородком. Я невольно откинулся назад, словно испугавшись ее близости.
— Все учительствуешь, Тархудж?
— Учительствую.
— Неужели нравится?
— Я люблю природу и детей.
— Доволен?
— Кажется.
— Есть ли какая-нибудь разница между городом и деревней? И там живут теми же интересами, что и в городе. По-моему, нет никакого различия, сейчас все живут одинаково.
— Там все-таки спокойнее, — сказал я, глядя на высокого, худого мужчину, вышедшего из подъезда. Проходя, он заглянул в нашу машину, видимо, заинтересовавшись, с кем сидит такая интересная женщина, медленно пошел дальше, достал сигареты, закурил… — Вчера приехал? — не отставала Софико.
— Вчера.
— Мери не видел?
— Откуда ты ее знаешь? — Мне было неприятно слышать о Мери от Софико.
— Как не знать, каждый день встречаемся, в одном институте работаем, — многозначительно рассмеялась сна. — Я, дорогой Тархудж, знаю больше, чем тебе кажется! — и лукаво прищурилась.
— Где я мог ее видеть? — ответил я, а тот мужчина, что заглядывал в нашу машину, снова вернулся в подъезд, из которого только что вышел, видимо, забыл что-то дома.
— Очень талантливая и умная девушка, в институте все ее уважают, — продолжала Софико.
— Очень приятно.
— Ты знаешь, что она замуж выходит?
— Откуда я могу знать?
— Очень хороший парень попался, молодой партийный работник.
— Бог в помочь!
— Мери тебя очень любила!
Меня вдруг одолел смех. Интересно, сколько все-таки всевозможных подразделений и объединений существует среди людей: расы, нации, мужчины, женщины… Было ясно, что Мери и Софико стали единомышленницами. Наверное, между ними нет никаких тайн. И обо мне, видимо, говорили не раз, в этом случае их объединяло только одно, что обе были женщинами, поэтому и понимали друг друга. Мне было смешно и неловко. Последняя фраза покоробила меня, словно Софико без стеснения копалась в моей душе. Что-то мелкое, упрощенное, недостойное было в этом.
— Что ты смеешься? — спросила Софико.
— Так.
— Да, я правду говорю. Она тебя очень любила. Но вы, грузинские мужчины, все азиаты.
— Почему?
— Потому! Не можете понять, что сейчас другое время. Сейчас женщина свободна, у нее есть свои интересы, она уже не зависит от мужчины. Сейчас все свободны. Почему не должно прощаться женщине то, что простительно мужчине?!
— Не понимаю, о чем ты говоришь?
— Прекрасно понимаешь, но не хочешь признаться. Потому, что и ты азиат.
— Может быть, в этом вопросе лучше оставаться азиатом, чем европейцем в твоем понимании?
— Оставь, пожалуйста!
Я снова засмеялся, не пускаться же в спор? Терпеть не могу препирательств с женщинами. А тот худой мужчина, что недавно вернулся в подъезд, снова вышел на улицу, опять заглянул в нашу машину и быстро пошел прочь.
Почти в ту же минуту в подъезде показался Вахтанг с незнакомой мне девушкой. Издали она производила приятное впечатление, я залюбовался ее стройными длинными ногами, узкой талией, маленькой грудью, короткой стрижкой и плавной походкой. Голубое короткое платье открывало круглые колени, даже черные очки ее не портили. Как гимнастка или танцовщица, выходящая на арену, она двигалась смело, свободно и в то же время изящно и очень женственно. Стремительно распахнув заднюю дверцу, она поздоровалась и, прежде чем сесть рядом со мной, наклонилась и расцеловалась с Софико. Обе, радостно смеясь, обменялись приветствиями и стали наперебой вспоминать каких-то неизвестных мне людей, потом девушка грациозно опустилась на сиденье, сжала колени, захлопнула дверцу, продолжая щебетать о каком-то Гоги, с которым вчера попала где-то в смешную историю. Я смотрел на нее сбоку: платье с глубоким вырезом, выступающие ключицы, золотой медальон на золотой цепочке… Вахтанг завел машину и спросил, не скучали ли мы.
— Когда нам было скучать? — воркующе засмеялась Софико, словно ей передались жизнерадостность и кокетливость подруги. — Когда нам было скучать, мы говорили о любви!
Меня передернуло от ее заявления. Во-первых, нашу беседу трудно было назвать разговором о любви, а кроме того, мне почему-то показалось, что Софико стремится уязвить мужа. Вахтангу ее слова тоже вряд ли пришлись по душе. Мне не понравился ее тон, вызывающий и довольно грубый. Я ощутил явное удовольствие, что судьба не соединила меня с этой женщиной. Она бы наверняка доставила мне массу хлопот, перевернула бы всю мою жизнь. Она бы, пожалуй, потребовала моего внимания целиком, тогда как жизнь человека — вечный поиск покоя. Разумеется, женщина — величайшее явление в жизни мужчины, но чего стоит тот человек, который думает наладить свою жизнь только таким образом. Мужчине следует искать нечто главное, постичь линию собственной жизни, а женщина должна являться составной частью этих исканий, а не целью их. Зачастую самые сладкие воспоминания наши связаны именно с женщиной. Ни успешно завершенное дело, ни, скажем, где-то увиденный величественный пейзаж, или еще что-нибудь, не вспоминаются в часы досуга с таким острым удовольствием, как минуты, проведенные с желанной женщиной, но острота эта, по-видимому, специфична для подобных отношений и ничего больше. Она не должна обманывать тебя…
— Ого! О любви, значит, говорили?! — с улыбкой проговорил Вахтанг. — Приятно вспомнить молодость. — Он тронул машину.
— Не напоминайте мне о любви! Я сейчас так влюблена, что ночами не сплю, — рассмеялась незнакомка.
— А ты принимай снотворное! — вежливо посоветовал Вахтанг. Но в этой вежливости сквозило раздражение.
— Благодарю за совет, — иронически отозвалась девушка.
Софико предложила нам познакомиться. Мы кивнули друг другу. Машина наша неслась. Назад убегали улицы, деревья, прохожие, навстречу мчались машины всех марок и цветов, автобусы, троллейбусы, мотороллеры; Софико с подругой, не умолкая, болтали о вечеринке на чьей-то даче в Цхнети, где рекой лились шампанское и коньяк, где всю ночь крутили пластинки, привезенные кем-то из-за границы, танцевали, веселились; вспоминали о ком-то, кто купил великолепную машину и на следующий же день разбил ее, о скандале, случившемся в каком-то исследовательском институте, о фильме, на закрытый просмотр которого они все-таки прорвались; кто-то построил такую пятикомнатную квартиру, которая в тысячу раз лучше шестикомнатной другого их знакомого; разошлась образцовая семья их приятелей, потому что муж застукал жену с кем-то, между тем жена, оказывается, мстила мужу, потому что раньше застала его с такой-то… Я сидел в машине как посторонний, как случайный попутчик и, глядя на них, убеждался: моя вера, что человек непременно должен смотреть на небо, непременно должен ощущать под ногами землю, непременно должен проливать пот и в поте лица своего добывать насущный кусок хлеба, что его должны притягивать не асфальт и бетон, но поле и лес, горы и море, что запаху бензина он должен предпочитать аромат цветов и свежего сена, что, оставшись лицом к лицу с природой, он должен познать и выявить самого себя, а не растворяться в толпе, где ты по-всякому маскируешься и забываешь или вообще не можешь понять, что ты есть, кто ты, зачем явился сюда… — походила на мечту наивного романтика!
Наконец, машина остановилась у здания вокзала, перед которым на широкой площади кипел круговорот такси, трамваев, автобусов и троллейбусов. Сотни людей, выходя из метро, устремлялись кто куда, а рекламы, водруженные на высоком здании, призывали их пить коньяк, шампанское, пиво, грузинский чай, а накопленные деньги хранить в сберегательной кассе. Я открыл дверцу и горячо поблагодарил Софико и Вахтанга.
— К нам не зайдешь? — спросил Вахтанг.
— Извини, Тархудж, — сказала Софико, переглянувшись с подругой. — У Эло гости из Ленинграда, мы должны свозить их в Мцхету, а то бы никуда тебя не отпустили.
— Не стоит извиняться, всего хорошего!
Я вышел из машины и почему-то вздохнул с облегчением. Вахтанг последовал за мной. За его спиной открывалась широкая Вокзальная улица, длинная и прямая, как линейка, уходящая к площади Героев и еще дальше, туда, где склоны Мтацминды обрезали пространство. Троллейбус сворачивал с Вокзальной улицы на площадь.
— Снова пропадешь надолго?
— Не знаю, Вахтанг, посмотрим.
— Напиши все-таки.
— Непременно.
— Ну, всего доброго, Тархудж! Жаль, что мы едем не домой, а то бы…
Мы пожали друг другу руки. Потом Вахтанг сел в машину, женщины помахали мне:
— Прощай!
— Прощайте!
И машина тронулась. Я пересек тротуар и вошел в здание вокзала.
У касс было немного народу, но не все обладали элементарным терпением, и некоторые старались пролезть без очереди, создавая лишний галдеж и скандалы. Почему мы так малодушны, нетерпеливы, даже в очереди постоять не можем! До каких пор будем жить эдак беспорядочно, хаотично и бестолково? — думал я, продвигаясь к окошечку кассы. Потом купил билет, спрятал в карман и поднялся в зал ожидания. Все скамейки там были заняты, и пахло довольно скверно. Черный, как арап, детина храпел вовсю, развалясь на одной из скамеек. Носки его спустились, рубаха задралась, обнажив мохнатый живот. Интересно, что привело его в этот город? Чего слоняется здесь столько народу, чего им не сидится на своих местах? Я зашел в туалет. Цементный пол был посыпан мокрыми опилками. Когда я мыл под краном руки, невольно взглянул в разбитое зеркало. Это зеркало напоминало мне далекую ночь, когда однажды, давно это было, возвращаясь с гор, я приехал в Тбилиси ночным поездом и именно перед этим зеркалом мыл руки. То лицо, которое смотрело на меня тогда, совершенно не походило на теперешнее, да и волосы у меня были погуще. Тогда я был небрит и тяжелый рюкзак оттягивал плечи. От усталости и бессонной ночи я еле держался на ногах, но стеснялся заявиться домой в такое позднее время. И, расположившись на одной из скамеек в зале ожидания, заснул как убитый. Утром я проснулся от холода, поднял голову — за широкими окнами огромного гудящего зала мерцал серый, холодный рассвет. Со сна я не сразу пришел в себя, мне показалось, что я все еще в поезде, и я спросил какую-то деревенскую женщину, сидящую на соседней скамейке: «Хашури проехали?» Мой вопрос, должно быть, удивил ее, но уже не помню, что она ответила. А в Тбилиси меня ждало страшное известие — за день до моего приезда зарезали моего друга Цотне…
Я оторвался от зеркала, прошел широким тоннелем с цементным полом и поднялся в зал ожидания на втором этаже. И тут негде ступить. Медленно прохаживаясь вдоль длинных рядов скамеек, я разглядывал людей. Некоторые спали, некоторые беседовали, другие сидели молча или читали газеты, многие сидели, привалившись друг к другу, истомленные ожиданием, кто-то шутил и смеялся. Кого только не было тут — женщины, мужчины, дети, старики, крестьяне, солдаты, грузины, русские, армяне, азербайджанцы, цыгане… Я проходил мимо них, простой сельский учитель. Сейчас я уже не гордился собой. Верно, мне искренне хотелось уехать из этого города и поселиться в деревне, но, кто знает, решился бы я на этот шаг, не потеряв после смерти тетки домашнего очага в городе? Кто знает, кому это было нужно? Прежде всего, видимо, мне самому, потому что мне нравилось жить в селе, нравилось уединение, а мои ученики, в которых я хотел воспитывать любовь к родной земле, стремились в оставленный мной город, поддавшись общему поветрию. Одна ласточка весны не делает, думал я, нужно что-то иное, чтобы народ снова вернулся к природе…
Я вышел на перрон и закурил. Пути были свободны. Только вдалеке на боковых ветках стояли пустые составы. На вокзале меня почему-то всегда охватывало необычайное настроение. Он представлялся мне мостом, ведущим к природе и еще к чему-то неизведанному. Однажды теплым майским днем — я тогда заканчивал школу — мы шумной компанией отправились с этого вокзала в Мцхету. Я стоял на ступеньках вагона и смотрел на зеленые луга, испещренные маками. Ветер дул мне в лицо, обдавая ароматом весны. Что-то безгранично отрадное и поразительно родное было в этом просторе, изрезанном отрогами гор. Наши девочки, боясь, как бы я не сорвался, уговаривали меня подняться в вагон, и я чувствовал себя героем. Потом одна худенькая молчаливая девочка, с которой мы познакомились несколько часов назад, помнится, ее звали Нуну, видимо желая показать всем, какая она отважная, осторожно опустилась на подножку и встала впереди меня. Моя рука, которой я держался за поручень, касалась ее обнаженного локтя. Когда поезд качало на стрелках, она невольно прижималась ко мне, и я чувствовал в своих объятиях ее худенькое тело, но в ту пору был настолько наивен и неискушен, что страшно конфузился и краснел до корней волос от этой нечаянной близости. Видимо, и девочка ощущала такую же неловкость, а может быть, ее пугала скорость поезда. Очень скоро она вернулась в вагон. Много лет пронеслось с той поры, и как-то раз из окна троллейбуса я увидел похоронную процессию. На секунду промелькнуло лицо молодой покойницы, и мне почудилось, что это Нуну, хотя я не был уверен, что усопшая — та самая девочка, которая прекрасным весенним днем, замирая от страха, стояла на подножке вагона, заключенная в мои объятия. Я больше нигде и никогда не встречал ее. И вот при виде лица покойницы безжалостная мысль овладела мной, я расспрашивал моих тогдашних спутников о Нуну, но ни один не помнил ее, будто она вдруг сгинула и исчезла. Неужели и вправду это она умерла, неужели исчезла навек?..
Бесцельно стоял я на перроне. Вдруг неподалеку заметил кудрявого, толстого и неповоротливого парня, который ссорился с пожилой женщиной в черном. От нечего делать я приблизился к ним и увидел, что парень слепой. У его матери — я сразу понял, что тщедушная изможденная женщина в черном его мать — текли по лицу тихие слезы. Я спросил у стоявшего там же седого старика, что стряслось. Оказывается, малому захотелось пить, и он попросил мать подвести его к фонтанчику, а она то ли неловко подвела его, то ли вода не шла, только слепой вдруг вспыхнул и толкнул ее. Несчастная плакала, а парень поносил ее: «Из ума выжила, дура, даже напоить не можешь». Бедняга куражился, как мог. Это был каприз калеки, они да больные больше всего почему-то изводят близких, на самых родных срывают свою злость. И мать и сын были достойны жалости. Вокруг них собрались носильщики и железнодорожники. Я попытался успокоить парня:
— Будет тебе, уймись, — ласково сказал я, — твоя мать тут ни при чем, сегодня во всем городе перебои с водой.
Я взял его за плечо и подвел к фонтанчику. Вода еле сочилась. Слепой жадно присосался, потом выпрямился и нервно стер с губ влагу:
— Черт побери, — сказал он, поворачивая ко мне лицо, а глаза его оставались опущенными, будто он что-то искал на асфальте. — Черт побери, я ведь не выдумал эту свою беду!
Мать его стояла поодаль, не осмеливаясь произнести ни слова. Она, разумеется, понимала причину его злости, и у нее было такое лицо, будто она явилась на этот свет для мук и страданий. Они оказались горийцами, во всяком случае, ждали горийского поезда, который должен был вот-вот подойти. Сунув руки в карманы, я прошелся до конца перрона. «Надо быть бездушным человеком, чтобы постоянно ощущать себя счастливым и довольным», — подумал я. У края перрона стоял почтовый вагон, туда грузили мешки. По ту сторону путей у кирпичной сторожки старательно плясали двое деповских рабочих, а третий колотил ладонями по деревянному столу, будто играл на барабане. Рабочие плясали кинтоури[32], особенно старался один, густоволосый парень в майке. Он раскидывал руки, вертелся, прыгал и приседал. Столпившиеся у багажного отделения железнодорожники, хохоча, подбадривали танцоров:
— Давай, жми, а ну, вприсядку!
Но те не обращали внимания на крики, скорее всего даже не слышали их, они плясали для себя, а не для публики. Глядя на них, и я развеселился. «Как пестра жизнь, один слезы льет, другой тут же радуется. Недаром говорят, что чужая беда как с гуся вода», — думал я, увлекшись этим зрелищем и забывая о слепом. Было ли это бездушием? А может, жизнь без душевной черствости вообще невозможна? Если счастье означает забвение горя, а забвение горя — бессердечность, то, значит, порой бездушие необходимо! Эти танцоры, судя по всему, были счастливы, во всяком случае, в данный момент, да и я получил удовольствие. Может быть, и этот вечер обещает быть таким же веселым. Эти работяги, вероятно, жили где-нибудь поблизости, в Нахаловке, у Лоткинской горки или на Авлабаре, где все в округе знакомы между собой, где маленькие домишки выходят в тесные дворики с общим водопроводным краном и щелястыми уборными в углу. Соседи давно сжились и, как родственники, знают всю подноготную друг друга. Вечерами мужчины собираются во дворе, один несет хлеб, другой — сыр, третий — зелень, четвертый может вынести лобио или что-то еще, соберут деньги, пошлют в ближайший погребок кого-нибудь из своих сыновей, мальчонку лет тринадцати — четырнадцати, тот возьмет у матери сетку, сложит в нее пустые бутылки и с удовольствием побежит за вином, зная, что если останется сдача, два-три пятака никто не спросит с него, и он истратит их завтра на семечки или на мороженое. Мужчины выпьют, закусят тем, что разложено на бумаге, пожелают друг другу удачи, говоря: «Хороший сосед лучше родича!» И чем больше пьют, тем громче становятся голоса, хохочут над срамными анекдотами, поругиваются, цыкают на детей: «Марш отсюда!» Могут даже сцепиться, но в конце концов вмешиваются женщины, загалдят, разведут мужей по домам. А утром те встанут с похмелья и целый день проведут на работе…
Я любил этих людей. Много приятных часов провел я в компании мастеровых, простых рабочих и служащих нашего квартала. Может быть, я ошибался, но мне иногда казалось, что они живут более правильно, имея простую и ясную цель. Конечно, и среди них попадаются прохвосты, лодыри и проходимцы, но в массе они нравились мне. Они не мучались лишними мыслями и поэтому выглядели более естественными, словно ближе стояли к природе. Забота у них одна — добыть ежедневно на кусок хлеба, обеспечить семью, вырастить детей. Останется лишек, выпьют в кругу друзей, потому что без элементарных развлечений жить трудно. Они ни с кем не соперничали, никого не пытались удивлять блеском или размахом, ибо прекрасно понимали, что широкий жест не всегда означает щедрость души. Развлекались они скромно, как умели. Старались трудиться и жить как подобает, а это великое дело: если ты хочешь, чтобы вокруг тебя все было хорошо, ты сам в первую очередь должен быть хорош. Как сказано в басне у Саба[33], только кукареканьем, лаем да ослиным криком деревню не построишь. Кто искренне желает переделать и улучшить мир, сначала должен взяться за себя. Только так добывается добро, потому что доброта и честность каждого из нас в конечном итоге служат порукой всеобщего блага. Иного пути к добру и справедливости нет…
Тем временем поднялся ветер и вернул меня к действительности. Я посмотрел на небо. Горы, протянувшиеся от Удзо до Мтацминды, были окутаны свинцовыми тучами. Может быть, там уже шел дождь. В городе ведь редко обращаешь внимание на небо, и перемена погоды обычно застает тебя врасплох. Я ощутил голод и решил зайти в привокзальный ресторан, а после обеда, если не будет дождя, побродить по городу или заглянуть в Муштаид. В дни моего детства в этом саду стояла высокая деревянная вышка и с этой вышки молодежь прыгала с парашютом. Однажды и дядя Арчил прыгнул. Мы с дедом стояли внизу. Держась за его руку, я со страхом и восторгом следил, как летит вниз мой дядя. Сжав ноги и ухватившись за лямки парашюта, он медленно опускался вниз. Внизу же, на земле были насыпаны опилки. Все это было еще до войны… Тогда я воспитывался у деда. Дедушка почти каждое воскресенье водил меня в Муштаид. Сажал в поезд детской железной дороги, а сам оставался на платформе. А я, возбужденный волшебным путешествием, с величайшим вниманием разглядывал из открытого вагончика маленький сад, который тогда представлялся огромным. Иногда мы с дедом присаживались у похожей на раковину летней эстрады в центре сада и слушали духовой оркестр. Но грохот оркестра скоро надоедал мне, и часто оставив деда в одиночестве, я играл со сверстниками, а однажды, проносясь по глухой аллейке, заметил целующуюся парочку. Я разинул рот от удивления, такого еще видеть не приходилось…
Медленно шел я по перрону. На первом пути стоял горийский поезд, на крытой платформе суетился народ. На подножке такого поезда когда-то стояли и мы с Нуну, с той самой Нуну, которая как в воду канула, и я ничего не мог о ней разузнать. Поскольку я все еще помнил ее, мне хотелось узнать, какая судьба ее постигла. Я и видел-то ее один раз, но лицо этой девочки живо вставало перед глазами, то есть она не пропала бесследно. Неужели и вправду ничто не пропадает бесследно? — Я достал сигареты. Может быть, и я невзначай запомнюсь кому-нибудь постороннему, о чьем существовании не имею ни малейшего представления, и западу́ в чью-то душу? Если это так, тогда надо постараться прожить жизнь как можно достойнее, чтобы оставленный след не вызывал у других неприятных воспоминаний. Я остановился, прикурил, затянулся. А стоит ли заботиться о воспоминаниях, если со смертью оборвется все, что связывает тебя с этим миром?
Сигарета погасла, я остановился и снова прикурил. Сыщется ли на свете человек, который не хочет, чтобы о нем вспоминали в веках и обязательно с теплым чувством? Может быть, это бессознательное стремление к бессмертию, подспудная, неосознанная жажда сохранить связь с землей? Если это так, тогда и искусство — своеобразное стремление к бессмертию и богу, потому что его цель — вдохнуть душу в нечто, лишенное души. И само творческое вдохновение больше похоже на некое божественное озарение, на постижение и выявление в себе существующего и предрешенного свыше. Творец лишь орудие, долженствующее провести через свою душу продиктованное свыше. Поэтому удивительна наивность и заблуждение некоторых лиц, гордящихся и красующихся своим даром. Сколько раз Каха говорил, что он испытывает неловкость, когда его при посторонних называют художником. «Конечно, я художник, — продолжал он развивать свою мысль, — но не требовать же на этом основании особого уважения к себе? Когда тебе оказывают почести, это обязывает и ограничивает свободу. Кроме того, я здесь ни при чем, я никогда не знаю наперед, что сделаю, что у меня получится. Ни одно произведение не принадлежит своему создателю целиком, многое зависит от случая, от стечения обстоятельств, от впечатлений, полученных в процессе работы, от какого-нибудь события, случившегося в твоей жизни, от случайно увиденного и услышанного. Может случиться любое, что заставит тебя изменить обдуманному раньше, пробудит совершенно новую, до сего момента неизвестную мысль. А это значит, что произведение не подвластно тебе целиком, зависит не только от твоих способностей, но и от множества внешних факторов. Иногда мне кажется, будто я работаю под чью-то диктовку, будто кто-то водит моей рукой, помимо воли тащит меня куда-то, заставляет наблюдать нечто такое, что каким-то образом впоследствии должно выразиться в моей работе. Стоит ли поражаться дару, если ты сам только исполнитель? Возможно, Каха был неправ, но, кто знает, может быть, каждому истинному творцу следует именно так относиться к своему делу? Какова цена сочинителю, который настолько ошарашен вышедшим из-под его пера, что готов на всех перекрестках трубить о собственной исключительности? Умному человеку не подобает кичиться умом, талантом или физическим совершенством, потому что все это — случайная милость судьбы, а хвалиться милостью — невелика честь. Что может быть лучше, когда в любом достойном человеке, будь он мясником, сапожником, прославленным ученым или политическим деятелем, ты видишь своего брата, ровню. Кем бы ни был ты сам, чувство равенства есть признак величайшей внутренней свободы, истинного аристократизма духа. Знания и талант даются человеку не для него одного, они даются ему и для других, ибо неразделенные знания — мертвый клад. Пожалуй, в этой жизни достойна похвалы одна труднейшая и редчайшая способность жертвовать собой, забывать себя, но кто наделен ею, тому и в голову не придет гордиться этим…
Неприятно было курить на голодный желудок, я выбросил сигарету на рельсы. Горийский поезд ждал отправления, и на платформе по-прежнему кишел народ. Интересно, тот слепой юноша и его изможденная мать уже сели? Посадка шла полным ходом, наверно, и они поднялись в вагон. Должно быть, им место уступили, только этот несчастный не увидит выжженных солнцем холмов с промоинами по склонам, которые тянутся по всему пути, ни извилистую Куру, ни мцхетские храмы — Джвари и Светицховели, ни гор с покатыми спинами, теряющихся в темно-синей дали. Удивительно люблю я те места. На память почему-то снова пришла наша поездка в Мцхету и Цотне, который тогда был вместе с нами.
…Волнистые светлые волосы, обаятельная ласковая, такая добрая улыбка…
Какая-то пожилая тетка с чемоданом чуть не сбила меня с ног и недовольно вскинула глаза. Я не считал себя виновным, но тем не менее извинился.
— Подавись своим извинением, чуть ногу мне не сломал, — с зестафонским акцентом гаркнула женщина, поставила чемодан и принялась тереть колено.
— Я не заметил вас, — попытался оправдаться я, хотя виноват был не я один, она тоже не смотрела вперед.
— Чтоб тебе света белого не видеть! — взъелась на меня эта скандалистка.
Это было уже чересчур. Не говоря ни слова, я пошел прочь, бессмысленно улыбаясь, как всегда, когда я злюсь. Каждый нерв в теле дрожал, я кипел от злости и готов был разорвать эту вздорную бабу. Покинув вокзал, я пересек площадь, безотчетно вскочил в пустой трамвай и, только сидя у окна, вспомнил, что собирался пообедать в ресторане, а потом прогуляться по Муштаиду, но настроение было отравлено, не хотелось выходить из вагона, и я остался, еще раз окинув взглядом людную площадь и высокие колонны вокзала. Входили пассажиры, занимали места, вагон постепенно наполнялся. Потом трамвай медленно тронулся. Я все еще пережевывал незаслуженную обиду, отрешенно уставясь в окно. Солнце скрылось, дома посерели, неприятный ветер пронесся по улице, запахло дождем. Продавцы галантереи втаскивали обратно в магазин товары с лотков. На высоком балконе одного из новых зданий стоял юноша с гитарой и яростно колотил по струнам. Поскольку он был совершенно один, я решил, что он немного не в себе. Коли уж такая охота, сидел бы себе в комнате и играл в свое удовольствие. Трамвай свернул в полутемную от раскидистых лип и акаций улицу и остановился. В вагон споро поднялись люди, и он покатил дальше. Среда вошедших оказался слепой нищий в черных очках. Маленький мальчик-поводырь вел его по проходу, а слепец декламировал неизвестные мне русские стихи. Я опустил в его шапку двугривенный. Мрачно оглядывал я старинные дома, стоявшие по обеим сторонам улицы, странные дома, совершенно не похожие друг на друга. Одни были приземисты и неуклюжи, другие — высоки, с лепными украшениями, отнесенными ныне в разряд архитектурных излишеств. Передо мной проплывали дома с балконами и без балконов, а за железными воротами в глубине дворов виднелись галереи и деревья. На всем лежал отпечаток старины, и мне снова вспомнился Цотне. Почему? И тут до меня дошло — он жил именно на этой улице! Перед глазами возник длинный, широкий балкон двухэтажного дома. С балкона виднелся двор, вернее, небольшой садик, разбитый в углу двора. Сколько раз мы сиживали в том садике, беседовали, спорили, балагурили. Иногда Цотне играл на гитаре, подпевая низким голосом. Снова услышал я его чуть хрипловатый низкий голос…
Медленно полз трамвай, и, покачиваясь вместе с ним, я продолжал разглядывать дома и прохожих.
…У него был слегка хрипловатый голос, таким обычно вторят при пении. Волнистая светлая прядь волос всегда падала на лоб. Когда он смеялся, глаза его уморительно щурились, и в такие минуты невозможно было не любить его. Славный был он, Цотне, добрый, простодушный и гордый. Душевное благородство в известной степени, видимо, является следствием наивности: какой-нибудь пройдоха, умеющий вывернуться из любых положений, который взирает на жизнь не с воодушевлением ребенка, а с насмешливой улыбкой, если можно так выразиться, скептика-дионисиста, не может быть благородным до конца, хотя и может притвориться таковым. Цотне же притворяться было ни к чему. Мне кажется, что именно рыцарское наивное благородство и погубило его. Будь он немного потрусливей, похитрей и поизворотливей, он бы понял, что ни в коем случае не стоит заступаться за ту незнакомую девушку, которую после киносеанса били на улице какие-то подонки за нежелание принять их ухаживания.
Все равнодушно смотрели на эту мерзость, эпоха рыцарей давно миновала. Здоровенные парни — ровесники Цотне издали наблюдали за расправой. Уже в этом юном возрасте ими руководил унаследованный от родителей инстинкт самосохранения и осторожности, в данном случае — рефлекс малодушия. Только Цотне вмешался, заступился за беспомощную девушку и пожертвовал жизнью. Через две минуты он уже валялся на земле с пронзенным сердцем, а убийцы с окровавленными ножами в руках беспрепятственно проложили себе путь сквозь это безвольное, разуверившееся во всем стадо зевак и скрылись. Я даже лицо той девушки помню. Она приходила на каждую панихиду и горько плакала в углу, потому что считала себя виновницей гибели Цотне.
— Не убивайтесь так, пожалуйста, — пожалел ее дядя Ираклий, отец Цотне, — вы здесь ни при чем, мой сын не мог поступить иначе.
Да, иначе он действительно не мог поступить. Может быть, немного бесчестности не повредило бы ему, но некоторые родятся с высоким понятием чести, для них — это врожденный инстинкт, хотя порой такие люди сознают всю невыгодность его, но не могут преодолеть себя и, случается, остаются в чувствительном проигрыше.
Но эту невыгодную порядочность благородства я все-таки тысячекратно предпочитал выгодной непорядочности некоторых, осмотрительности и осторожности. Я очень любил семью Цотне. Ни разу не помню, чтобы дядя Ираклий вошел в комнату сына, предварительно не постучавшись и не спросив, не помешал ли он. Как равный с равными присаживался к нам и беседовал. Его присутствие нисколько не стесняло нас, он был старшим только по возрасту, а в остальном — наш ровесник и друг. Он знал все наши тайны, кому какая девочка нравится, кто как учится, кто о чем мечтает, и никогда не лишал нас дружеских советов и помощи. Хотя он был педагогом по профессии, в его наставлениях не проскальзывало и тени менторства, поэтому мы с радостью прислушивались к его словам. Он был настоящим товарищем и сыну, и его друзьям. В этой семье мы с Кахой отдыхали душой, но после смерти Цотне мне было тяжело видеть этих родных людей и постепенно я отдалился от дяди Ираклия и тети Нуцы. Разумеется, это было малодушием с моей стороны. Внезапно я встал, пробрался по узкому проходу к дверям и остановился у выхода. Трамвай еле тащился. Медленно плыли назад дома, окна, запыленные деревья. Когда наш вагон поравнялся с домом Цотне, я спрыгнул на тротуар.
Осторожно приоткрыл я ворота. Что я скажу им, как они встретят меня после столь долгой разлуки? Я для них, наверное, стал совсем чужим. А вдруг не узнают? — кольнуло меня вдруг дурацкое сомнение, и я, несколько волнуясь, прошел в мощенный булыжником двор. Дом этот выходил фасадом на улицу, где дребезжал трамвай, время от времени заглушая звонком все остальные звуки. Двор был пустынен и тих, но я помнил его многолюдным и голосистым, когда много лет назад мы с приятелями собирались здесь, вот под этой самой развесистой шелковицей, болтали и смеялись, собираясь идти куда-то всей компанией. Помню, как однажды Цотне приболел, и мы привели однокурсниц навестить его. Приход девушек очень обрадовал нашего больного. Мы с Важа стояли под шелковицей и шутили, а на балконе, присев на перила, наигрывал на гитаре дядя Ираклий. Была весна. Сквозь листву шелковицы пламенели красные плоды. На земле валялись растоптанные ягоды. Дядя Ираклий сидел на перилах балкона в рубашке с короткими рукавами, из которых торчали его тонкие, худые руки. Сейчас не верилось, что когда-то он был активным членом спортивного общества «Шевардени», принимал участие в массовых гимнастических выступлениях. Не верилось, что в свое время он считался выдающимся теннисистом. Мне приходилось видеть снимки, на которых улыбающийся дядя Ираклий в белой спортивной форме стоял у теннисной сетки с ракеткой в руке. Глядя на эти фотографии, я замечал, что Цотне — вылитый отец, такой же мускулистый, поджарый, гибкий. Хотя сейчас они не походили друг на друга. Сейчас дядя Ираклий был лысый. В большой комнате, на видном месте висел писанный маслом портрет юноши, с первого взгляда — Цотне, но на самом деле это был портрет молодого дяди Ираклия, принадлежавший кисти его друга, польского художника Сигизмунда или, как его называл дядя Ираклий, Зиги Валишевского, выполненный в то время, когда Валишевский жил в Грузии и не стяжал еще славу большого польского живописца. Но в тот памятный день отец нашего друга не походил уже ни на выцветшие фотографии, ни на портрет, хотя сохранил юношескую живость, выражающуюся хотя бы в том, что мог сидеть на перилах балкона, играть на гитаре и как ровня болтать с друзьями своего сына. Он, наверное, гордился, что у него такой взрослый сын, и в этой гордости виделось что-то молодое, наивное и приятное. Помню, как он спросил с балкона, не найдется ли у меня закурить. В ту пору я еще не курил при старших, хотя давно уже пристрастился к табаку. По вечерам, выйдя из дому, я покупал пачку сигарет и, найдя на бульваре укромное местечко, где никто не мог разглядеть мою школьную форму, изводил сигареты одну за другой, чтобы до возвращения домой прикончить всю пачку. Помню, как-то брел я понуро по темной пустынной набережной. Влюбленные парочки, льнущие к гранитному парапету, не обращали на меня внимания. Сигарета моя потухла, и, поскольку спичек у меня не было, я попросил огоньку у одного из прохожих. Приземистый, черноусый мужчина в длиннополом синем габардиновом пальто, в приплюснутой кепке и азиатских сапожках протянул мне спички, а его размалеванная спутница въедливо заметила:
— Такой молодой парень, из культурной, видать, семьи, а куришь!
Я ничего не ответил. Прикурил, опустив голову, и в глубине души почувствовал себя виноватым, хотя понимал, что за птичка — эта крашеная особа. Однако ее кавалер вдруг проникся ко мне симпатией, улыбнулся, демонстрируя золотые зубы, и сердечно посоветовал:
— А ты ей скажи, чтоб не лезла не в свои дела…
Они оба по-своему были добры ко мне, и, кто знает, может быть, потому и запомнился мне этот незначительный эпизод детства.
…Когда дядя Ираклий попросил у меня закурить, я уже был курильщиком со стажем, но по-прежнему стеснялся старших. Впрочем, как на грех, совсем недавно, шествуя по улице с сигаретой в зубах, я столкнулся с дядей Ираклием. Изворачиваться теперь уже не имело смысла. Я взбежал на балкон и протянул ему пачку. В этот момент из комнаты вышла тетя Нуца:
— Ты что, курить начал?
— Начал, — ответил за меня дядя Ираклий, — и я начал в его возрасте и, кажется, остался в проигрыше…
Именно тот день, как картина, воскрес в моей памяти. Потом заскрежетал трамвай, сотрясая стены дома. Я пересек двор и нерешительно поставил ногу на ступеньку. Ничто не изменилось вокруг. На двери балкона по-прежнему выделялись большие черные буквы — ЦОТНЕ. Перед глазами возник маленький Цотне, затерявшийся в далеком прошлом вихрастый, голубоглазый мальчик в коротких штанишках, который неловкой рукой старательно выводил черной краской эти буквы на балконной двери. Я помнил его детство. Вот толстощекий бутуз в матросском костюмчике перепачканными в чернилах пальцами оглаживает непокорный хохолок. Я невольно задержал шаг и оглянулся, словно надеясь увидеть его или услышать его голос, но… Двор был тих и пуст. Когда мы выносили нашего друга по этой лестнице, мне помнится, непривычно было видеть двор, набитый скорбящими людьми. Но сейчас он был тих и пуст, и мне показалось, что не только двор опустел, а я сам, после стольких лет вернувшийся сюда, пуст и чего-то лишен…
Я поднялся по лестнице. Дверь в переднюю была распахнута, но там никого не оказалось. Наверное, все в большой комнате, подумал я и постучался. Послышались шаги. В переднюю вышел Каха. Он не удивился и не обрадовался, увидев меня тут, только сказал тихо и спокойно вместо приветствия:
— Заходи.
Такая встреча не понравилась мне, я растерялся. Потом заметил, что у Кахи было лицо усталого, расстроенного человека. Я не видел его несколько лет, и он показался мне заметно похудевшим. Волосы его поредели. Он был в синей рубашке, небрежно повязанный галстук съехал набок, из кармана черной кожаной с металлическими пуговицами куртки торчала сложенная газета. Он так равнодушно и отрешенно смотрел на меня, что я заподозрил неладное, и холодная тишина, царящая в квартире, тоже предвещала беду.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— Дядя Ираклий умер.
— Что ты говоришь, когда?!
— Час назад.
— От чего?
— Болел.
Мне стало невыносимо горько, что я опоздал. Следом пришла смутная, неясная еще печаль. Проходя за Кахой в большую комнату, я невольно взглянул на увеличенную фотографию Цотне. Мне почудилось, что он с иронической усмешкой наблюдает за мной. Я отвел глаза и увидел кровать у окна с закрытыми ставнями. На кровати покоился труп дяди Ираклия, небрежно накрытый простыней — виднелись голые, желтые, будто восковые ступни его ног. Чуть дальше, под портретом Цотне, сгорбившись, сидела на стуле тетя Нуца в черном платье, совершенно седая. Когда она увидела меня и узнала, обратила ко мне свое скорбное лицо с крепко сжатыми губами. Я нерешительно направился к ней, раздражаясь от шума собственных шагов. Тетя Нуца была сломлена горем, растоптана судьбой, и я ощущал стыд и неловкость, словно был в чем-то виноват. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. Не говоря ни слова, она сжала мою руку, поглядела на портрет сына и несколько раз покачала головой, раскачиваясь при этом всем телом. Видимо, она и сейчас оплакивала Цотне. Слезы навернулись у меня на глазах. В душе заныла старая рана, которая, казалось, окончательно затянулась за эти годы, и я понял — раны, нанесенные жизнью, никогда не заживают совсем, они только унимаются на время. Все, находившиеся в комнате, затихли, и в этой неподвижности я чувствовал, как неумолимо проходит незримое время, которое разводит нас в разные стороны и отдаляет друг от друга. Человек с самого начала знает, что он обречен, но это знание не отбивает у него охоту жить, и он покорно ожидает своей участи. За эту бессловесную покорность мне стало жалко всех, кто был сейчас в этой комнате. Я сидел около тети Нуцы, держа ее руку в своей, а с улицы доносились грохот трамваев и приглушенный шум. Этот шум, свидетельствующий о жизни, кипящей снаружи, здесь, в этом замкнутом пространстве, напоминал озвученный мираж, ибо действительность для меня была в данный момент не там, на улице, а здесь, в этих четырех стенах. Все, что происходило снаружи, — трамваи и машины, люди, передвигающиеся в разных направлениях на этих трамваях и машинах, занятые своими будничными делами, — вовсе не было миражом, разумеется, это тоже было действительностью. Сам мир, зримый и незримый, был реальностью — незнание некоторых предметов или явлений отнюдь не означает, будто этих предметов или явлений не существует. А истину, видимо, ты должен создать для себя сам; общей для всех истины, вероятно, не существует, а если таковая и существует, то мы все равно по-разному воспринимаем и переживаем ее, потому что отмечены разностью судеб и своеобразием натур.
Долго просидел я рядом с тетей Нуцей. Нет, эта смерть не потрясла меня. Она только наводила на размышления. Находившиеся в комнате переговаривались вполголоса. Люди выходили и входили снова. Пришла какая-то женщина, долговязая, одетая в черное, словно монахиня, выразила соболезнование и села рядом с тетей Нуцей. У пришедшей было суровое лицо, а может быть, оно казалось таким из-за острого подбородка и длинного носа. Видимо, немало горя хлебнула она на своем веку. Громким, резким голосом разговаривала она с тетей Нуцей. Возможно, она была глуховата. Тетя Нуца тихо отвечала ей. Разговор шел о болезни дяди Ираклия. Каха сидел у письменного стола и листал альбом. Все собравшиеся казались скорее приунывшими, чем скорбящими. Совсем иной была смерть Цотне… Потом в комнате объявился Зура, наш с Цотне общий друг. Располневший, румяный. Вошел бодро, деловито, как ближайший родственник покойного, что во время несчастья берет на себя все руководство. Он направился прямо к нам, протянул мне левую руку, правой подхватил тетю Нуцу и попросил ее пройти в другую комнату:
— Хватит вам здесь сидеть, отдохните немного, покойника требуется обиходить.
Он говорил веско, убедительно, но этот тон оказался излишним. Тетя Нуца, покорно подняв со стула свое разбитое тело, сделала несколько нетвердых шагов. Зура и долговязая женщина в черном подхватили ее под руки и вывели. Зура тотчас вернулся обратно. В комнате нас оказалось пятеро — я, Каха, Зура и двое молодых родственников.
— А ну, ребята, перенесем покойного на тахту! — скомандовал Зура.
Тахта уже стояла наготове посреди комнаты. Пока ее покрывали ковром, я, скрестив руки на груди, стоял у стены. На какое-то мгновенье мне вдруг показалось, что я вторично присутствую и переживаю смерть Цотне, но этому ощущению все же чего-то недоставало. Я не мог понять, тяготила меня смерть дяди Ираклия, или моя скорбь была отражением скорби, некогда пережитой в этой семье. Воспоминание и реальность смешались друг с другом… я будто раздвоился, я стоял здесь, как будто все тот же Тархудж, но изменившийся и смирившийся. Тем временем с покойника стянули простыню, я подошел к кровати. Дядя Ираклий лежал в полосатой пижаме, лик его был бледен и умиротворен. Интересно, какую тайну унес он с собой? В другое время, наверное, смерть его потрясла бы меня, но сейчас я был относительно спокоен, и состояние мое лишний раз подтверждало истину, что все в этом мире относительно, и само несчастье, и отношение к смерти, потому что провидение карает человека не только смертью, но и долголетием, ибо для некоторых иной раз смерть — желанное облегчение. От кровати тянуло неприятным, почти смрадным запахом, мятые простыни были отмечены налетом желтизны, но лицо дяди Ираклия еще казалось лицом живого человека, а не трупа. Я взялся за ноги, остальные подхватили усопшего с боков и перенесли его на тахту. Тело было еще мягким, мышцы и суставы не успели окоченеть. Он больше походил на спящего, чем на покойника. Почему все-таки у него такое спокойное лицо? Наверное, он не мучился перед кончиной и, кто знает, может быть, его осеняла надежда, что на том свете он встретится со своим единственным сыном, без которого жизнь его обратилась в сплошной ад. Невольно я обернулся к фотографии в простенькой рамочке — сияя от счастья, дядя Ираклий за плечи прижимал к себе маленького пухленького Цотне, а тот, надувшись, исподлобья смотрел в объектив. Я снова взглянул на покойного. Я знал, что он не верил в загробную жизнь, но, глядя на это спокойное, почти улыбающееся лицо, мне хотелось оставить ему хоть искру надежды.
Я вышел из комнаты, открыл дощатую дверь темного чуланчика, зажег свет и пустил воду. Здесь пахло сыростью. Я взял мыло и подставил руки под струю. Рядом с умывальником на полочке стояли многочисленные пузырьки с рецептами — лекарства дяди Ираклия. Теперь они ни к чему. Как он сиял на той фотографии, обнимая за плечи маленького сына! Наверное, считал себя очень счастливым, а это счастье обернулось источником беды… А Каха, оказывается, в Тбилиси. Последний раз он писал, что собирается в Тушетию и Хевсуретию. Не поехал…
Отворилась дверь, в чуланчик шагнул Каха. Он улыбнулся мне:
— Когда приехал?
— Вчера. Вечером уезжаю, — я снял полотенце. — Не поехал в Тушетию?
— Нет. Обстоятельства переменились. Не стоит говорить об этом, — он мыл руки, а я вытирался.
— Бедный дядя Ираклий!
— Да, задавила его жизнь.
Каха тоже вымыл и вытер руки. Мы вышли на балкон, закурили. В одном конце его собралось несколько человек. Наверное, родственники и соседи. Откуда-то вкусно пахло жареной картошкой. Я почувствовал голод. Родственники и соседи тихонько беседовали. Я не знал ни одного из них. Дул ветер. Бескровные, мертвые лучи заходящего солнца обматывали столбы балкона, бессильно лились на пыльный пол, побеленные штукатуренные стены, забранное решеткой окно большой комнаты с закрытыми изнутри ставнями. После сумрачной комнаты было приятно видеть мощеный двор, слышать шелест деревьев и негромкое деловое обсуждение предстоящих похорон. Я грустил, но грусть эта была приятна, может, оттого, что я ушел в воспоминания, возвращаясь мысленно к тому хорошему, что было связано с этой семьей. Я любил их, а переживать любовь, видимо, приятно само по себе, даже тогда, когда глава этой семьи лежит посреди комнаты, стены которой увешаны фотографиями, запечатлевшими счастливый период жизни этих людей. От былого счастья оставались одни фотографии, но кончина дяди Ираклия не отвращала меня от жизни. По-иному обрушились на меня смерти Цотне и Важа. А эту я встретил подготовленным и прекрасно это понимал. Грусть и отрада владели мной сейчас. Мне было отрадно, что я снова в этой дорогой для меня семье, и грустно оттого, что́ я здесь встретил. Наверное, и все остальные, сгрудившиеся в том углу балкона, что под руководством Зуры совещались по поводу предстоящих похорон, испытывали такое же, пусть несколько отличное от моего, подспудное чувство приятного. Они ощущали нечто вроде удовлетворения от той заботы и любви, которую проявляли сейчас к семье умершего. А это позволяло им благосклонно взглянуть и на самих себя, а когда ты сам себе кажешься хорошим, невозможно не испытывать удовлетворения. И в то же время все были искренне опечалены, только печаль их скрашивалась удовольствием. Если бы людям не нравилось ходить на панихиды и похороны, никто бы не ходил. Тут, несомненно, подмешивается элемент приятного, потому что кому это противно, тот на похороны не пойдет. Все это отнюдь не означает, будто на свете не существует полной скорби. Она существует, но граничит с умопомрачением. Именно на таких помешанных походили дядя Ираклий и тетя Нуца в день похорон Цотне. А сейчас на этом балконе никто не оставлял такого тягостного впечатления…
Я прошел до конца балкона, присел в плетенное из соломы кресло и повернулся к саду. На краю его башней возвышалась торцовая стена кирпичного дома с единственным узким окном. Как прекрасен становился этот сад осенью! Желтые листья осыпались с ольхи, позолоченные ветви блестели на солнце, и только зажатый между двумя стенами, вытянувшийся к небу в поисках солнечного света кедр оставался вечно зеленым. Иногда тетя Нуца играла, и с балкона доносились звуки рояля…
Из узкого оконца в стене высунулся какой-то карлик с маленькой, круглой головой… Раздались шаги — Каха и Зура приблизились ко мне. Зура хлопнул меня по плечу:
— Я с тобой и поздороваться-то как следует не успел, как ты, Тархудж? Сколько лет я тебя не видел?
Каха облокотился о перила и плюнул в сад.
— Ничего, — улыбнулся я Зуре.
Мы разговорились. Мне очень нравился этот парень, теперь уже изрядно располневший и полысевший мужчина. Он был непостоянен, как мартовский день, горяч и душевно участлив. Он мог моментально взорваться, но так же скоро и отходил. То ему жали ботинки, то зубы болели, он уверял, что с ума сойдет от боли, но через минуту забывал и узкую обувь, и зубную боль и приходил в великолепное расположение духа. Он, как великовозрастное дитя, то брюзжал, то хохотал. Он систематически пилил, поучал друзей, воображая, что учит их уму-разуму, хотя сам нуждался в наставлениях, а его внушениям обычно никто не внимал. Само существование этого шумного веселого человека действовало на меня ободряюще. Мне никогда не надоедало его общество. Прежде это был крепкий, высокий и тонкий парень, сейчас он потолстел и налился румянцем, хотя и раньше не отличался бледностью. Когда он по обыкновению начинал жаловаться на самочувствие, нельзя было без смеха смотреть на его пышущее здоровьем лицо.
— Теперь, мой красавчик, — обратился он к Кахе в обычном ироническом тоне, — изволь завтра встать чуть свет и беги на кладбище, я уже договорился с рабочими, не вздумай опаздывать…
— Не вздумаю.
— Поживем — увидим, — ехидно усмехнулся Зура и заворчал, словно Каха уже опоздал на кладбище, — твоя рань — час дня… В девять должен быть на месте, не то…
— Буду!
— Так я тебе и поверил! Как бедному дяде Ираклию не подняться из гроба, так и тебе не вылезти из кровати в девять, — Зура уже по-настоящему сердился.
Каха и впрямь не отличался пунктуальностью, но того проступка, за который его бранил Зура, еще не совершал, завтрашний день еще не наступил, и мне стало смешно. Каха не обращал никакого внимания на гнев приятеля; того карлика, что показался давеча в окне, уже не было видно.
Когда он успел исчезнуть? Я не отрывал взгляда от окна и все же пропустил момент, когда он скрылся. Не слушая препирательств Зуры и Кахи, я глядел на клочок ветреного неба, открывшегося с этого балкона…
Каждый человек — независимая вселенная, сгусток мысли и материи — словно ястреб пронесся, мелькнула беспричинная мысль, и я последовал за ее течением. Человек — тот же космос, где все ежесекундно разрушается и создается, находясь в беспрерывном движении, но общая картина и закономерности не меняются коренным образом, во всяком случае, в нашем представлении. С исчезновением того карлика, который только что выглядывал из окна, ничего не изменилось вокруг, потому что остался сад, который он видел только что, остался дом, из окна которого он только что выглядывал, остался я, минуту назад наблюдавший за ним. Тот человек, возможно, выглянет еще раз, но вот умер дядя Ираклий, оборвалась его жизнь, отгорели и угасли его порой мучительные, порой счастливые страсти, и все это сгинуло почти незаметно, словно никогда не существовало. Уничтожен индивидуальный мир человека, но что такое этот крохотный мир по сравнению с тем, что остается?
Я глядел на серое небо. До сознания смутно доносился разговор между Зурой и Кахой. «Деньги я тебе дам», — словно из-за тридевяти земель долетели слова Зуры… За этим серым небом простиралась черная бесконечность, страшная и неведомая, для которой не существовало смерти дяди Ираклия. Беспорядочные мысли мешались в голове, почему-то я упорно повторял про себя: «Один ушел, другой придет в этот прекрасный сад…» Потом я понял, почему привязались ко мне эти строки — я не разделял сейчас выраженной в них мысли. Смерть каждого человека вызывает невосполнимые качественные изменения, каким бы незначительным и незаметным ни был при жизни умерший. На первый взгляд незаметен и обмен веществ в организме, но ведь результат его весьма существен. Правда, один ушел, другой придет. Это закономерность, но она далеко не безболезненна…
— Не так ли, Тархудж? — ощутил я на плече руку Зуры.
— А?
— Небольшие поминки все-таки необходимы, если не здесь, то в ресторане. Что ни говори, а без этого не обойтись…
— Ты прав, — механически ответил я, снова уходя в свои мысли.
…Поэтому мне кажется, что смерть дяди Ираклия — все же большая потеря, хотя мир и человечество как будто ничего не потеряли, возможно, даже создали другого, ибо лишь для человека не существует возмещения смерти. Поэтому для меня невосполнима утрата дяди Ираклия, Цотне, Важа; я знал и любил их. И оттого, что я любил их, мне невозможно встать на объективную точку зрения и равнодушно воспринимать их уход. Кто знает, может быть, любовь препятствует познанию истины, может быть, для постижения ее необходимо полное хладнокровие? Но равнодушие не человечно. Тогда получается, что животное ближе к истине, человек отчужден, удален от природы, а разум подобен недугу, несущему страдания. Если так рассуждать, выходит, что мышление не естественно, естественна животная покорность, но разве современный человек может, сложа руки, покоряться судьбе? Разумеется, нет. Он не может существовать без любви и пусть даже тем самым приковывает себя ко всему преходящему, и если эта любовь отторгает его от истины, существующей вне и независимо от его сознания, я предпочту ту истину, которую создал он сам. Все это было как будто ясно, лишь с одним я не мог примириться — почему должен был так жестоко страдать человек, подобный дяде Ираклию — добрый, чуткий, благородный? Если жизнь одинаково безразлична ко всем, тогда какой смысл в доброте и благородстве? Как видно, жизнью все-таки управляют другие законы, другая истина, а не та, которую создал человек.
Я встал и посмотрел на Каху. Мы были одни. Зуру отозвали с минуту назад.
— Жизнью управляет рок, а не нравственные законы, не так ли? — с улыбкой спросил я Каху.
— Так. Господь знает, что умствования мудрецов суетны, — добавил мой друг.
Я улыбнулся. Он еще не забыл свое любимое изречение. Опершись о перила, Каха сосредоточенно курил. Он выглядел уставшим и похудевшим. У меня почему-то заболела поясница, я положил руки на пояс и потянулся.
— Эх, не могу понять, как должен жить человек? — сказал я. Когда я произносил эти слова, передо мной встало лицо дяди Ираклия, я думал о распаде их семьи.
— Спокойно, — ответил Каха.
— А если покой невозможен?
— Значит, спокойная жизнь не твой удел.
— Только и всего?
— Пожалуй.
Потом мы с Кахой ушли оттуда и, несмотря на то, что давно не виделись, почти не разговаривали. Погода окончательно испортилась. Ветер как будто улегся, но черные тучи заволокли небо, заметно стемнело, хотя до вечера было еще далеко. В воздухе запахло дождем. Приятно было идти по притихшей улице, словно по тоннелю, образованному строем деревьев, сомкнувших в вышине ветви. Это был старый квартал. Не такой старинный, как Ортачала, но и здесь, наверное, не сыщешь дома, построенного позднее девятнадцатого века. Сейчас бы фаэтон, да булыжную мостовую вместо этого асфальта под колеса, и ты — в минувшем столетии. Мы прошли этот уютный тихий и славный квартал, вышли на шумный проспект Плеханова и свернули влево. Прокатились раскаты грома, стемнело еще заметнее, а там и дождь припустил. Сразу повеяло прохладой. Народ кинулся врассыпную. Женщины прикрывали головы сумками, а мужчины смешно подпрыгивали на бегу. Мы спрятались в первом попавшемся парадном, где стоял теплый запах пыли, к которому сейчас примешивался проникавший с улицы запах дождя. Покрышки троллейбусов и автомобилей с шипением скользили по асфальту. Струи дождя дробились о тротуар. В окна троллейбусов пялились удивленные или насмешливые пассажиры. Некоторые из них, наверно, радовались, что находились в укрытии. Потому и смеялись. С листвы деревьев лились потоки, лужи расширялись на глазах. Ветер заносил брызги дождя в подъезд. Мы отступили. Посвежело и потемнело еще больше.
— Самая погодка выпить, сколько времени мы с тобой не чокались? — улыбнулся Каха.
— Я теперь редко пью, — попробовал отказаться я, но…
— Сегодня все-таки выпьем, — мой друг снова улыбнулся с таким видом, будто от моего ответа зависела его судьба. Делать было нечего, я согласился.
Потом мы еще долго стояли и глядели на дождь. Когда он прекратился, пешком направились к метро. Лиловые сумерки шатром накрыли город, опустились на улицы, затушевав окрестности. Мы вошли в залитое светом метро, бросили в автомат по пятачку, встали на эскалатор. Он медленно спускал нас в тоннель, а снизу беспрерывным потоком плыл народ, словно длинная цепь была привязана к эскалатору. Людьми были заполнены лестницы, платформа, вагоны, и в этой толкотне разговор не вязался.
Вышли мы на площади Руставели. Проспект и площадь были забиты толпой. Очереди у телефонных будок… Молодежь, вышедшая на свидание, томилась в ожидании. Машины катили во всех направлениях. Асфальт уже подсыхал, громыхали автобусы и троллейбусы. Мы еле пробирались в этом людском водовороте. Вечерело, все спешили куда-то развлекаться, веселиться, убивать время… И время словно и вправду умирало — исчезал отдельный человек, и возникала однородная масса, муравьиным воинством снующая и суетящаяся в ущелье каменных стен. Каха предложил пойти к нему. «Захватим вина, посидим спокойно, побеседуем». Мы зашли в гастроном, купили хлеба, сыра, колбасы и вина и уже пробирались к выходу, как столкнулись с немолодой, весьма почтенной и симпатичной дамой. Видимо, в молодости она была красива, да и сейчас выглядела недурно.
— А-а, мой юный друг, вместо творческой работы вы проводите время в кутежах? — дама насмешливо кивнула на бутылки под мышкой у Кахи. Мне показалось, что она обрадована встречей с моим другом. Стоило ей заговорить, и она словно сбросила десяток лет, настолько нежен и приятен был ее голос. Тончайший аромат духов струился от нее.
— Нет, калбатоно[34] Элене, ко мне приехал друг, которого я давно не видел… — и Каха представил меня.
— Вы тоже занимаетесь творчеством? — с иронией, но одновременно чрезвычайно дружелюбно осведомилась эта высокая, стройная дама, глядя мне прямо в глаза. Наряд ее отличался большим изяществом и вкусом. Слово «творчество» прозвучало в ее устах довольно насмешливо, но в то же время добрая улыбка раздвигала ее тонкие губы.
— Нет, калбатоно.
— Чем же? — Тень разочарования прошла по ее лицу.
— Я рядовой человек…
Но ответ мой, как я заметил, уже не интересовал мадам Элене, она, кажется, не слышала его.
— А вы знаете, что этот молодой человек, ваш друг, весьма талантлив, но беспробудно ленив? — спросила она.
— Мне он известен, как прилежный работяга, — ответил я, глядя на Каху. Лицо его кривила вымученная улыбка.
— Дорогой Каха, мое мнение по некоторым вопросам было небезынтересно таким людям, как… — тут почтенная дама перечислила несколько известных имен, — а вы, невзирая на неоднократные мои просьбы, даже не соизволите показать свои новые работы. Отныне я ни о чем не прошу вас!
— У меня просто не было времени, калбатоно Элене!
— А для попоек оно у вас находится? — перебила мадам, ее тон приобретал суровый оттенок.
— Это мой лучший друг. Мы не виделись несколько…
— Друзья никуда не денутся! Для меня, старой женщины, вы обязаны выкроить свободную минуту. Я высоко ценю ваш талант, убеждена, что вы далеко пойдете, о чем неустанно твержу всем, но надо же становиться серьезней. Вам же известно, как я люблю вас!
— Я постараюсь быть серьезным.
— Почему вы не изволили пожаловать в субботу?
— Не мог, к сожалению.
— Посмотрите, какой занятой человек! Когда же вы снизойдете до меня? Очень не заноситесь, но несколько моих приятельниц желают познакомиться с вами.
— Я позвоню вам.
— Буду ждать.
Мы с Кахой вышли из магазина, пересекли проспект и отправились к нему домой. На переходе какие-то люди взмахами руки приветствовали моего друга. Я думал о встретившейся нам даме. Мне почему-то показалось, что она в чем-то упрекала его как любовница, но при этом так расхваливала, что я не мог понять, в чем тут дело. Спросил у Кахи, в чем он провинился. Ничего особенного, ответил он мне, написал небольшую картину, а эта дама — искусствовед.
— Почему же ты не показываешься к ней?
— Обойдется.
— Она так любит и ценит тебя.
— Не верь, мой Тархудж, будто кто-то любит тебя, все заняты только собой и никем больше, — усмехнулся Каха. — Этой женщине я нужен для развлечения, а на мою жизнь ей наплевать. Если бы литературоведы, искусствоведы и прочие были рождены для искусства и литературы, они бы сами создавали что-нибудь. Ты видел когда-нибудь делового человека, который бы мог часами трепаться о своем деле?
— Не могу с тобой согласиться. Ценители тоже нужны. Кто-то должен жать взращенное художником.
— Опять-таки художник, подобное познается подобным.
— Нет, не согласен.
— Твоя воля. Во всяком случае, я ни на грош не доверяю тому, кто не любит детей.
— При чем тут дети?
— Однажды эта дама пригласила меня к себе домой. Я привел своего малыша, думая доставить ей удовольствие, что может быть приятнее ребенка? Представь себе, мой маленький сын действовал этой высокообразованной особе на нервы, он, видите ли, требовал внимания, мешая ей вести заранее обдуманную беседу о горних сферах поэзии и живописи. С того дня я ей ни на грош не верю. Что бы там ни было, за жизнь одного малыша я пожертвую всей мировой литературой, да и искусством в придачу, по мне эта жизнь более значительна.
Мы дошли до дома Кахи, пешком поднялись на пятый этаж — лифта здесь не было. Пока Каха искал в карманах ключ и отпирал, мне почему-то вспомнилась Мери. Несколько лет назад она стояла здесь, перед этой дверью и, замирая, ждала, когда ей откроют. Сейчас я ничуть не сетовал на свою жизнь, но стало горько, что то время прошло.
Я вошел в знакомую комнату. Здесь тоже стоял свежий запах дождя. Солнце заходило где-то по ту сторону городской черты, за горными хребтами. На верхнем стекле окна догорал рубиновый отблеск обессилевших, немощных лучей. Неожиданная грусть легла на сердце. Я ощутил явственно, что все имеет конец: моя юность — счастливая, как всякая юность, пролетела, погасла, как последние лучи заходящего солнца на оконном стекле. Я взглянул на портрет Важа и его ледоруб, висящий на стене. Давно я не был здесь, и мне вдруг показалось, что я вернулся на несколько лет назад, и те чувства, что я оставил здесь, снова ожили во мне. Я подошел к открытому окну, окинул взглядом знакомую улицу, мокрые блестящие крыши, мансарду противоположного дома. Те девушки, наверное, закончили учебу. Конечно, закончили и бог весть, где живут и чем занимаются теперь. Вполне вероятно, что осели здесь, в Тбилиси, не вернулись к родному очагу, потому что, как известно, любовь к нему постепенно сходит на нет, ее сменяет стремление к просвещению и так называемой цивилизованной жизни. Образование необходимо, хотя некоторые утверждают, что оно, дескать, приводит к размежеванию с природой, к отчуждению; открывая глаза на многое, оно, мол, вытравляет лучшие, данные от природы качества человека. Просвещение, мол, лишает людей непосредственности и чистой веры во многие явления жизни, оно зароняет семена сомнений, но разве так не должно быть? Спору нет, должно быть именно так! — решил я, оборачиваясь и наблюдая за Кахой, который уже поставил бутылки на стол и теперь копался в шкафу. — Знание есть принятие действительности, трезвый подход к ней, в то время как вера, не опирающаяся на знания, сходна с бегством от действительности. Если подходить с такой точки зрения, тогда смело можно утверждать, что вера в бессмертие души вызвана страхом смерти. Это тоже своеобразное бегство, поиски убежища. Хотя кто знает?!
Внезапно, словно почувствовав мой взгляд, Каха повернулся ко мне. Впервые, после стольких лет разлуки мы остались с глазу на глаз. Он улыбнулся:
— Как ты, Тархудж? Что нового в твоей жизни?
— Ничего. А здесь как, что происходит?
— Ничего!
Каха вышел на кухню. Оттуда доносился звон тарелок и столовых приборов. Оставшись один, я оглядел комнату, порылся в книгах, беспорядочно наваленных на подоконнике: «Введение в индийскую философию», «Бхагаватгита», «Рамаяна» — мой друг не на шутку увлекся Индией. Я наугад вытащил из этой кучи толстую книгу и перелистал ее. Это оказался какой-то том Достоевского. Книга внезапно напомнила мне о бедняге Нике. Ника — о Мери, и два случая, связанные с ними, всплыли из глубин памяти…
Как-то, в студенческие годы мы с Никой забежали к Кахе. Дверь комнаты встретила нас открытой. Каха, свернувшись на тахте, спал в одежде. Он был пьян. На полу валялась раскрытая книга. Наш друг, видимо, пытался читать, пока не заснул. Это был какой-то роман Достоевского, не помню уже, какой именно… Ника ухмыльнулся и с удивленным видом заявил:
— Если Достоевский нагоняет на него такой сон, крепкие же у него нервы, брат.
Именно в то утро, когда я впервые провел ночь у Мери, и, выйдя от нее на рассвете усталый, протрезвевший, неспавший, снова возвратился в дом Важа, откуда несколько часов назад я последовал за Мери, то там, среди ребят, бдевших около покойника, застал Нику. Я уселся в угол, не считая себя достойным находиться здесь, все казалось мне отвратительным и бессмысленным. Потом ко мне подсел Ника. Рассветало. Ночь таяла, и в комнате похолодало. Я встал и вышел в коридор покурить. Накурившись, я не вернулся в комнату, а отправился домой. Фиолетовый свет заливал безлюдную улицу. По дороге меня нагнал Ника, мы долго шли вместе, тогда-то он и сказал, что всегда предчувствовал преждевременную и трагическую гибель Важа. Я спросил, почему. А он ответил, что есть люди, с рождения отмеченные печатью обреченности, они всегда выделяются среди прочих, словно им вечно недостает времени, словно они спешат жить, будто изначально знают, что конец их близок. Сам Ника ничем выдающимся не отличался, а погиб через несколько лет от пустяковой операции…
Я закрыл книгу и положил ее на место. Снова обвел комнату взглядом. Пианино стояло там же, где и раньше, но комната казалась чужой. Исчезли ружье и патронташ. В одном углу лежали детские игрушки, у стены в беспорядке валялись Кахины рисунки и проекты. Платяной шкаф был передвинут. На стене прибавился портрет Кахиного сына. Ликующий бутуз смеялся во весь рот, показывая белые зубки. Когда Каха вошел в комнату, я спросил, где его домочадцы. Держа в руках мокрые тарелки и стаканы, он оглянулся на снимок, и на мгновение замер в рубашке с расстегнутым воротом, галстук он распустил, куртку снял, рукава синей рубашки засучены, вероятно, боялся замочить их, когда мыл тарелки. Потом он отвел глаза от снимка сына:
— Жена развелась со мной, забрала сына и вернулась к матери. Третий месяц живу один.
— Что случилось?
— Разве поймешь, всего понемногу… Не стоит говорить об этом, — он расставил на столе тарелки и стаканы и снова повернулся к двери, — не скучай, Тархудж. Поджарю картошку и вернусь…
Я оперся руками о подоконник. К карнизу была прибита полоса заржавевшей жести. Я глядел на блестящие крыши, на темно-синее пространство, усеянное точками света. Огоньки переливались и мерцали, как драгоценные камни на синем бархате. Из противоположного дома доносились звуки фортепьяно и чей-то пронзительный баритон. Обладатель баритона обрабатывал голос: «а-а-а-а, э-э-э-э!» История Кахи огорчила меня, но я не особенно удивился, будто с первой же минуты понял, что дела его неважны. То унылое выражение лица, которое поразило меня сначала и с которым я вскоре свыкся, разумеется, было вызвано не только смертью дяди Ираклия, и сейчас мне казалось, что я сразу раскусил причину его подавленности. Вообще странной была его женитьба. Он сидел в кино. В зрительном зале было душно, да и фильм показывали никудышный. Тот день, наверное, ничем бы не запомнился ему, если бы сидящая рядом девушка не потеряла сознания и ее мать не подняла истошный крик. В задних рядах тоже начался переполох. Каха машинально подхватил девушку, а невыдержанность истеричной матери настолько взбесила его, что он прикрикнул на нее: «Успокойтесь и не пугайте дочь!» Затем он принялся успокаивать девушку, лежащую на его груди: «Не бойтесь, дышите глубже, возьмите себя в руки». Пульс ее частил, и Каха, вероятно желая приободрить, погладил ей руку. Девушка открыла глаза. Лицо ее неясно белело в темноте, но Каха чувствовал, как она благодарна ему, потому что положила ладонь на его руку, словно полностью доверившись ему. Не исключено, что близость мужчины и внимание моего друга были приятны ей. Она бессильно прошептала: «Спасибо, мне уже лучше». Зрители из заднего ряда успокаивали встревоженную мать.
— Если хотите, выйдем на воздух. Вы можете встать? — спросил Каха у девушки.
Девушка поднялась. Поддерживая ее за талию, Каха повел девушку к выходу. Позади причитала мать. Они вышли на свет из темного зала и тут впервые взглянули друг на друга. Наряд девушки был чересчур прост и безвкусен, она вызывала жалость, да и держалась застенчиво и скованно, как те люди, у которых нет веры в себя. Молоденькая, она походила на высохшую старую деву, что, вероятно, было скорее результатом замкнутой жизни, нежели внутренней стыдливости. Но так или иначе, Каха вежливо осведомился:
— Как вы теперь себя чувствуете?
Девушка с благодарностью ответила, что ей значительно лучше. Мать прижимала к груди свою побледневшую дочку, все еще не в силах успокоиться. Она производила впечатление некультурной женщины, вздорной и малодушной. Совершенно необязательно было поднимать такую панику. Потом девушка подняла на Каху благодарные глаза:
— Возвращайтесь в зал, не пропускайте фильм…
Произнося эти слова, она выглядела такой несчастной, что Каха не подумал последовать ее совету, а проводил их на улицу, поймал машину и отвез женщин домой. Он чувствовал, что они уповают на него, как на ангела-хранителя, и это, очевидно, льстило моему другу, ибо, что ни говори, каждому приятно снискать славу благородного человека. Женщины жили на Вере, в Вардисубани. В темном и узком тупике они остановили машину перед старым двухэтажным домом с небольшим садом на задворках. Девушку звали Рукайя, и это театральное имя показалось Кахе наивным и смешным. Возможно, он чувствовал себя благодетелем, во всяком случае, прощаясь, довольно покровительски пообещал:
— Завтра непременно навещу вас, я уверен, что все обойдется, а сейчас отдыхайте.
Обрадованная мать всячески благословляла Каху, не зная, как отблагодарить его.
— Приходите, дорогой, обязательно приходите, — твердила она.
Здесь необходимо сказать, что мой друг не был избалован женщинами, и сам не придавал им большого значения. «Женщина нужна, когда ее нет, а когда она есть и с этой стороны все в порядке, тебя тянет совсем к другому, тебе уже не до женщин, а они требуют постоянного внимания и связывают по рукам занятого делом человека», — говаривал он. Не знаю, насколько искренним было его заявление, но он приводил в пример покорителя Константинополя, султана Мехмеда, который настолько увлекся одной красавицей из своего гарема, что в конце концов убил ее собственными руками, потому что, кроме нее, ни о чем не мог думать и запустил важнейшие государственные дела.
На следующий вечер, вспомнив о Рукайе, Каха подумал, что в его визите нет никакой необходимости, но… (потом он все это объяснял судьбой) все-таки решил сходить и узнать, как ее самочувствие. Может быть, ей нужна помощь? К тому же она, вероятно, обрадуется его приходу и вниманию, которым, по поверхностному заключению моего друга, девушка была явно не избалована.
Явившись к ним, он сразу понял, что его ждали, и остался весьма доволен, что выполнил свое обещание. Рукайя лежала в белоснежной постели и выглядела несравненно лучше вчерашнего. При виде Кахи глаза ее заблестели.
— Мы уже не надеялись, что вы пожалуете, — сказала мать, выдав то волнение или благоговение, которое они испытывали к своему благодетелю.
Каха присел на стул у кровати Рукайи и оглядел сверкающую чистотой комнату. На стене он заметил портрет девочки изумительной красоты и, поскольку надо было что-то говорить, спросил:
— Кто этот милый ребенок?
— Моя сестренка. Она умерла в двенадцать лет, — ответила Рукайя.
И Каха вдруг ощутил пронзительную жалость к морщинистой седой матери Рукайи и в душе выругал себя, что счел ее вчерашнее волнение за элементарную некультурность.
— Когда это случилось?
— О, давно, двадцать лет назад, мне тогда четыре годика было.
— Вы помните ее?
— Смутно, очень смутно.
Разумеется, это горе давно было оплакано близкими, Двадцать лет для человека — огромный срок, но у Кахи возникло такое чувство, будто он именно сейчас присутствовал при семейном несчастье, и он сочувственно посмотрел на Рукайю.
Потом мать поставила на низкий столик у постели блюдо с фруктами и графинчик с каким-то цветным напитком. Разговорились о вчерашнем, и выяснилось, что с Рукайей такое приключилось впервые. Каха был склонен винить во всем жару и духоту, но, вглядевшись в монашеское выражение лица этой не такой уж неказистой девушки, подумал, что, возможно, не только духота явилась причиной обморока. У Рукайи были прелестные черты лица, но общее выражение его как-то скрадывало эту прелесть. Мать была глубочайше признательна Кахе: она так растерялась, что, не приди он на помощь, с ума бы сошла. Теперь чувства матери были полностью понятны Кахе. Он молча потягивал водку, разбавленную сиропом, и слушал. В разговоре постепенно выяснилось прошлое и настоящее этой семьи. Отец после смерти старшей дочери запил и скоро сгорел.
— Он был замечательный бухгалтер, — рассказывала мать Рукайи, — даже стихи писал, правда, не печатал их. А как он любил сцену! В театре души не чаял, в молодости сам выступал на сцене рабочего клуба. Там мы и познакомились. Я тоже любила театр, — стыдливо, с виноватой улыбкой призналась она, вспомнив грехи девичества, а Каха подумал: «Вот откуда взялось это имя — Рукайя[35]!»
Дед Рукайи был старый революционер, террорист. Работал вагоновожатым. За убийство царского чиновника был приговорен к повешению, которое потом заменили десятью годами каторги. Все десять лет провел в Сибири и только после победы революции смог вернуться в Грузию. Старые партийцы, если использовать терминологию матери Рукайи, секретари ЦК навещали его и относились очень уважительно.
— Ты в чем-нибудь нуждаешься, Папаша? — спрашивали, бывало, секретари ЦК. «Папаша» была его партийная кличка. А он отвечал: «Мне ничего не нужно, лучше позаботьтесь о стране». Ему назначили персональную пенсию и даже орден вручили. Старик жил скромно, вот в этой комнате. Потом и он скончался.
Когда беседа коснулась настоящего, Кахе поневоле пришлось рассказать о себе.
— Вы архитектор? О, у архитекторов много денег. — Глаза старухи засверкали.
— Неужели? — Кахе стало смешно.
— Конечно, — убежденно кивнула она, — сосед одного из моих родственников так хорошо живет, что лучше некуда. Вообще в том доме квартируют знатные люди — писатели-орденоносцы, художники, архитекторы… Они прекрасно устроены…
— Да, некоторые ничего, — сейчас Каха уже не мог сдержать смех.
— Вы пока еще молоды, у вас все впереди, и вы устроитесь, как они, — успокоила его мать Рукайи.
Потом Каха узнал, что Рукайя служит машинисткой в одном из министерств, а ее мать — воспитательница в детском саду. Беседа текла непринужденно, чему, вероятно, способствовала и водка с сиропом, которой усердно потчевали моего друга. Семья была простая, и Кахе нравилось здесь. Никаких претензий, никакого позерства, никаких высокопарных рассуждений. Они не корчили из себя интеллектуалов, занятых мировыми проблемами, как некоторые, кто на самом деле и пальцем не пошевелит, когда дело не касается их лично. Каха был доволен своим визитом. Он отдыхал душой в этой простой семье. А потом, когда хозяйка ненадолго вышла из комнаты, случилось вот что:
— Доктора не вызывали? — поинтересовался Каха.
— Нет, зачем же, мне уже хорошо. Завтра, наверное, встану.
— Вот и хорошо! Вам надо немного размяться, погулять, — советуя это, он был уже изрядно под градусом и благие намерения обуревали его. — Самое время и жениха сыскать, выйти замуж. Может быть, у вас уже есть жених?
— Нет, кому я нужна?
— Ну что вы! Я бы, например, счел себя счастливейшим человеком, если бы имел такую жену…
И только когда у девушки вспыхнуло лицо, до него дошло, что он такое ляпнул. Воцарилась неловкая тишина. Каха догадался, что его превратно поняли, но почему-то не отважился объяснить, что самого себя он приплел просто так, для примера, в том смысле, что ее жених или будущий муж, по его предположениям, будет счастливейшим человеком, а сам он тут ни при чем. Мне кажется, что в данном случае его сгубила вера в судьбу. Он решил, что все выяснится само собой, что девушка сама поймет ошибку, а пуститься в разъяснения сейчас значило причинить ей боль. Да, излишняя доброта порой стесняется прямоты и в конечном итоге не приносит добра. Почему Рукайя должна была докапываться до подтекста Кахиного предложения? Ведь он ясно выразился, что был бы счастливейшим человеком, если бы имел такую жену?.. Как еще она должна была понимать его слова, когда каждая женщина с величайшим удовольствием ждет и слышит подобные признания, кем бы, в какой бы форме, при каких бы обстоятельствах они ни говорились? Неловкая тишина затянулась. Потом появилась мать Рукайи. Каха поднялся.
— Вы уже уходите?
— Да.
Каха заметил, что Рукайя не поднимает на него глаз.
— Большое вам спасибо! Очень приятно познакомиться с таким отзывчивым молодым человеком, как вы!
— Что вы, что вы, калбатоно!
— Очень, очень приятно!
И Каха удалился. Но перед уходом он попросил у девушки номер телефона, обещая позвонить и узнать, как она; или, может быть, ей удобнее позвонить самой, может, что-нибудь понадобится — и дал свой. Когда они обменивались телефонами, Каха заметил, что у Рукайи от волнения повлажнели глаза.
Он чувствовал, что звонить не следует, но, несмотря на это, все-таки позвонил через два дня. После посещения их дома пропасть бесследно показалось ему неудобным. В дальнейшем и этот звонок он свалил на судьбу, хотя сам создавал ее, но человек, самолично творя свою судьбу, и в этом видит одну из неизбежных особенностей рока.
Рукайя производила впечатление весьма и весьма порядочной девушки, во второй раз она даже понравилась ему, но ни капельки его не волновала. Эта девушка была обделена тем внутренним качеством, которое называется женственностью и которое даже не слишком привлекательную женщину делает желанной в глазах мужчин. Поэтому с Рукайей смело можно было устанавливать чисто дружеские отношения, но после того, как она превратно поняла слова Кахи, звонить ей не следовало. Не следовало потому, что теперь девушка наверняка ждала от него не просто товарищеского внимания, а чего-то большего, но, не взирая на то, что все это было учтено им, он все-таки позвонил. Рукайи на службе не оказалось.
— Что передать? — спросили его.
— Передайте, что звонил такой-то.
На следующий день Рукайя позвонила сама. Вечером они встретились. На сей раз ее туалет оставлял впечатление изящества и вкуса, волосы были тщательно уложены, и она понравилась Кахе еще больше, но это не было тем неистовым чувством, которое заставляет терять голову, переворачивает душу, захватывает тебя, как порыв, как жажда, как нетерпение, когда, кроме неодолимого и всесильного желания, ничего не остается в душе. Нет! Ничего похожего. Каха сохранял полное спокойствие. «Может быть, — хладнокровно размышлял он в тот вечер, — совсем не обязательно, чтобы тебя волновала женщина, с которой в дальнейшем ты собираешься строить мирную, спокойную жизнь? Ведь семья и создается для покоя? Может быть, не стоит следовать за страстью, за первым порывом, но с умом выбирать будущую спутницу жизни? Необходимо все взвесить заранее, ведь в конце концов брак больше всего похож на обоюдное соглашение, на договор, где обе стороны берут определенные обязательства, и в таком случае полагаться тут только на чувства, значит, затушевывать истинную суть дела, ибо чувства — преходящи, и ни один договор не заключается на основе одних лишь чувств. Здесь необходим здравый расчет, который послужит порукой, что и после угасания чувств обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства, что необходимо для порядка и для блага потомства. Брак есть строгий закон, и, однажды подписавшись под ним, ты обязан безоговорочно подчиняться ему до конца. Что говорить, многие не разделяют этого мнения, и в любви больше всего превозносят свободу. Еще Цицерон говорил: брак — самая непристойная договоренность между людьми, но всем известно, за Цицероном явился развратный до мозга костей Нерон, и, кто знает, может быть, появлению Нерона наряду со множеством иных причин способствовали и подобные мысли Цицерона.
Конечно, Каха не собирался решать этот важный вопрос в тот вечер. Просто такие мысли посетили его, когда он прогуливался с Рукайей по темным улицам. Они уже перешли на ты, но сферы их интересов настолько отличались, что они с трудом находили точки соприкосновения. В основном развлекались анекдотами и несколько сблизились. Проводив девушку до дому, Каха поинтересовался, как ее мать?
— Знаешь, Каха, я все рассказала матери, — ответила Рукайя.
— Что рассказала?
— То, что ты сказал мне.
Теперь уже было необходимо разъяснить недоразумение, но Каха снова промолчал. У него недостало твердости развеять счастливые иллюзии девушки. Она уже не выглядела монашкой или старой девой и, должно быть, чувствовала себя на седьмом небе, правда сейчас была бы для нее острее ножа. Не оставалось никаких сомнений, она восприняла слова Кахи со всей серьезностью, если поделилась с матерью этой маленькой тайной. То, что она ввела мать в курс дела, исключало всякое самозабвение, но было с ее стороны благоразумным, и с этой точки зрения заслуживало похвалы. Поэтому и сейчас Каха предпочел плыть по течению. Что будет — будет, что должно случиться — случится, истина восторжествует и без моего вмешательства, — решил он, предпочитая выждать.
— И что же она ответила?
— Ты ей нравишься.
Озабоченным возвращался Каха домой в тот вечер. Во-первых, он совсем не собирался жениться. Но главным было то, что Рукайя продолжала оставаться для него чужой, он не любил ее. Встречаясь с ней, он не ощущал ни счастья, ни гордости, ни волнения, считающихся в подобных случаях признаками любви. Он был трезв и спокоен, потом что-то шевельнулось в душе, или, может, он сам заставил себя поверить в это ощущение? Они встречались, и Рукайя постепенно оттаивала, веселела, расцветала, держалась мило и непосредственно, но по-прежнему сдержанно. Каха одобрял ее целомудрие, в ожидании замужества она не позволяла себе легкомыслия, как некоторые, напротив, стала как будто еще серьезнее, но Каха прекрасно понимал, что ее серьезность и сдержанность являлись результатом рассудочного подхода к делу, а отнюдь не волнением страсти.
— Но ты же не любишь меня, Рукайя? — попытался он найти лазейку для отступления, как-то раз провожая девушку домой.
Рукайя ужасно обиделась.
— Конечно, люблю, но… но… за кого ты меня принимаешь? — у нее даже слезы выступили на глазах.
Тогда Каха увлек ее в темный подъезд, обнял, прижал к стене и поцеловал в губы. Он сознательно и спокойно сделал этот шаг, потому что был уверен, что и Рукайя с трепетом ждет этой минуты, а заодно решил испытать и себя: может быть, физическая близость принесет ту, другую, более значительную близость, и когда он вкусил робкий, неумелый ответный поцелуй, ему показалось, что пришла радость, которую он тщетно ждал столько времени. «Рукайя — моя судьба, само провидение свело нас и заставило меня произнести те слова, от которых я потом не смог отказаться. От судьбы никуда не убежишь», — решил в тот вечер мой друг.
Вскоре после этого они поженились. А там я уехал из Тбилиси, но в свободную минуту часто думал, в самом деле полюбил он Рукайю или по доброте душевной принес эту странную жертву, которую, возможно, и сам не сознавал? Может, эта жертва и была его виной?
«Жизнь так устроена, что на этом свете нет безгрешных», — думал я, стоя спиной к окну, когда в комнату вошел Каха. Он поставил посреди стола полную сковородку жареной картошки. С улицы по-прежнему доносились звуки фортепиано и неутомимый баритон: а-а-а-а, э-э-э-э! Стемнело. От сковородки поднимался горячий пар. Каха нарезал хлеб и колбасу, откупорил бутылки и пригласил меня к столу. Мы сели. Он наполнил стаканы:
— Тархудж, от тебя мне нечего скрывать, я теперь не в своей тарелке, но я очень рад тебя видеть. Давай выпьем за нас с тобой!
— За нас! — мы чокнулись и выпили.
Потом молча принялись за еду. Оба были очень голодны. «Надо быть или большим эгоистом или вообще не задумываться ни о чем на свете, чтобы считать себя безгрешным!» — раздумывал я, глядя на Каху и жалея его. Но все-таки я был уверен, что он заслужил эту муку, которая сейчас отравляла ему жизнь, сам виноват перед собой и Рукайей, хотя бы потому, что, собираясь жениться, чувствовал: с этой женщиной ему счастья не видать, и все-таки женился, не поверил предчувствию. Предчувствие или интуиция подводит многих, возможно, даже большинство, но Каха не обманулся. Едва Рукайя стала его законной супругой, как постепенно развеялась иллюзия радости, которую он сочинил для себя в темном подъезде. Видимо, там и в помине не было настоящей радости, просто он убедил себя в приходе ее, зная, что пути на попятный нет, он сам отрезал этот путь, когда слепо последовал за течением событий, не оказывая ни малейшего сопротивления, уповая на решение свыше или на судьбу, а течение подхватило и поволокло его. В глубине души он и сам знал, в чем причина, хотя даже себе не признавался в этом. Она заключалась, видимо, в недостаточной вере в себя. В жизни каждого достойного человека наступает момент, когда тот задумывается над своим происхождением, задумывается о ближайших предках, чьим отпрыском он является, и, если при этом он оказывается в не очень-то выгодном положении, то воспринимает это, как нож в спину, каким бы достойным человеком ни был он сам, может, поэтому мой друг и выбрал Рукайю, застенчивую, чересчур практичную, несколько неотесанную, с детства не знавшую роскоши. Короче говоря, все решил разум, а не чувство. Деловое спокойствие связывало их, ни один не испытывал того сладостного волнения, которое делает необходимой и драгоценной причину этого волнения. Каха, вроде бы, с самого начала стремился к покою, а обретя его, затосковал, ему захотелось большего. Но имел ли он право на большее? Рукайя считала мужа обыкновенным человеком, в то время как сам он, несмотря на свои комплексы, в глубине души все же мнил себя исключительной личностью. Рукайя не интересовалась его духовным миром, для нее Каха оставался неимущим и честным человеком, тогда как другие загребали деньги, сколачивали состояние, ворочали делами, сверкали в обществе, разъезжали по заграницам, приобретали дорогую мебель, выбивались в люди, с их мнением считались, их портреты печатали в газетах. Рукайя не видела преимуществ Кахи перед этими преуспевающими деятелями, хотя он пытался доказать ей свое превосходство. И в самом деле, в чем заключалось его превосходство, в чем оно выражалось? Рукайя по-своему была права, но, с другой стороны, понятно и недовольство Кахи, потому что порой женская вера и любовь последнего труса превращают в героя. Каждый мужчина, сознательно или бессознательно, старается соответствовать тому представлению, которое сложилось о нем у любимой женщины, разумеется, если оно достаточно высокое. Рукайя придерживалась отнюдь не исключительного мнения о Кахе, и это мешало ему, ибо, несмотря на природную скромность, в ту пору он считал себя рожденным для великих и знаменательных дел.
Бесспорно, Каха был талантливый человек, но для расцвета таланта необходимы благоприятные условия, а самое главное — вера в свои силы. И если сначала этой веры в себя у него было достаточно, то теперь она постепенно угасла, а Рукайя не могла воодушевить его. И чем больше проходило времени, тем чаще вспоминалась ему Дареджан, с которой он постоянно ощущал себя смелым, мужественным и свободным. Не ошибся ли он, не поторопился ли, когда отверг Дареджан и предпочел Рукайю? Хотя отверг в данном случае не совсем точное слово, так как между ними не было ничего серьезного и определенного. Было только ожидание, возможность того, что игра, которой они развлекались, когда-нибудь превратится в нечто серьезное. Дареджан производила впечатление веселой и своенравной девушки, но обнаруживала гораздо больше мягкости и женственности, чем Рукайя. Ей было интересно с Кахой, он ей нравился, и, чувствуя это, в ее обществе и Каха становился смелым, раскованным и по-настоящему интересным. Дареджан нравилась ему, волновала его, но он не представлял ее женой. Во-первых, потому, что до их знакомства она уже сменила двух воздыхателей и ничуть не скрывала, что понимает толк в поцелуях, хотя и уверяла, что дальше этого не заходило. Но кто знает, так ли оно было? Потом Каха убедился, что она не обманывала и была чиста, но тогда он же не знал этого? Кроме всего прочего Дареджан была по натуре кокетлива, обожала так называемый легкий флирт и своей смелостью и веселостью ежеминутно давала повод для ревности. А по мнению Кахи, от легкого флирта до измены всего один шаг. Правда, тогда Дареджан была свободна и могла вести себя, как ей вздумается, но моего друга все это настораживало. Зато ласка и поцелуи Дареджан оставались в памяти, как нечто незабываемое и сладостное, и он все чаще задумывался, не любил ли он эту девушку? Почему рядом с ней он ощущал такую свободу и счастье? И сам отвечал себе: наверное, потому, что это была игра, а игра всегда приятна. Но сейчас, окунувшись в серьезную семейную жизнь, он все чаще вспоминал эту игру, все сладостней и притягательней казалась ему она. Таким образом, прошел год, и как раз в те месяцы, когда Рукайя ждала ребенка, Каха и Дареджан встретились снова. Он проводил свой летний отпуск в альпинистском лагере. Группа расположилась в небольшой деревушке, куда вскоре прибыла экспедиция из Тбилиси, собирающая образцы устного народного творчества. С этой экспедицией приехала и Дареджан. И вот здесь, в маленькой деревне, затерявшейся среди величественных гор, они и встретились. Кто не замечал, как меняется человек, вырвавшись из города, как преображается он, каким свободным становится, конечно, если это человек чуткий и чувствительный. Ему кажется, что, попав на лоно природы, он лучше постигает мир, задумывается о бытии, о судьбе человеческого рода. Здесь он принадлежит лишь самому себе, у него словно раскрываются глаза на то, что скрывал и подавлял город своей нескончаемой суетой. Здесь человек напряженно приглядывается ко всему — к природе, к растениям, к животным, к самому себе и часто приходит к выводу, что у него гораздо больше общего с животными, чем с заводскими станками, машинами и прочими неодушевленными предметами, постоянное общение с которыми в конце концов опустошает душу самого человека, превращая его в автоматического исполнителя узких обязанностей, в тот же станок или некую разумную машину. Здесь человек стряхивает тупость повседневности и, когда он вглядывается в безбрежные просторы, перед ним, пусть только в мечтах, раскрываются тысячи возможностей, потому что у него есть время и желание мечтать; когда он задумывается о потерянных возможностях, его охватывает грусть, вызванная неизбежным равнодушием бытия, и эта грусть возвышает его. Когда Каха и Дареджан встретились в этой глухой деревушке, они словно забыли ту жизнь, которая существовала до этой минуты, забыли, что помимо крохотной деревеньки и огромных гор существует и другое — обязанности, долг, общественное мнение, да и само общество. Они словно превратились в Адама и Еву, блаженствующих в безлюдном саду Эдема, и не оказали никакого сопротивления-тому влечению, которое внезапно бросило их друг к другу, а, наоборот, радостно поддались ему, уступили мигу, которого бренный мир еще не успел погасить и который, словно милость, был отпущен им судьбой. И поскольку это ощущение было полным и счастливым до дрожи, поскольку здесь бушевали лишь внезапно вспыхнувшие и обнаженные страсти и без всяких примесей, без мелочного расчета, не скованные законом и нормами, то обоим показалось, что они неистово любят друг друга, не в силах жить один без другого, да и в то время, вероятно, так оно и было.
— Ты бы осталась здесь, со мной, навсегда? — спрашивал иногда Каха.
— Конечно! — не задумываясь, отвечала Дареджан.
— А выдержала бы?
— С тобой везде бы выдержала!
И хотя Каха понимал, что пока женщина не прибрала тебя к рукам, она согласна на все условия и до времени не обнаруживает своих желаний, приберегая их на потом, ему было сладко слышать эти слова, и он убеждал самого себя в искренности Дареджан. В тот миг Дареджан и в самом деле была искренней, преисполненной ожиданием, реальность и вправду казалась ей такой, претензии, наверное, возникли бы позднее, но Каха видел в этом безграничную самоотверженность, а не обыкновенный женский инстинкт. Он был снова счастлив, как когда-то, и именно в это время ему, находящемуся на вершине безграничного блаженства, принесли телеграмму, извещающую о рождении сына.
— Что делать? — спросил он у Дареджан, стыдясь своего притворства, ибо знал, что сегодня же отправится в Тбилиси.
— Ты должен ехать к сыну, — ответила Дареджан.
Вернувшись в город и увидев своего первенца, Каха почувствовал, что отныне уже не принадлежит самому себе. Он уже не был свободен. Он видел безграничное счастье Рукайи, которую ничего не интересовало на свете, кроме младенца, и проникся к ней глубочайшим уважением, вдобавок именно теперь вспомнилось высказывание одного мудрого человека: «Для достойной женщины цель жизни — ребенок, а мужчина — только средство». Что ж, в таком случае и достойный мужчина должен требовать от достойной женщины только этого, — согласился в душе Каха, и безмерное самозабвение Дареджан, которая говорила, что даже ребенка не будет любить так сильно, как его, уже не наполняло гордостью, а казалось довольно сомнительным. Видимо, то, чем пожертвовала для него Дареджан, не было для нее таким значительным, как это представлялось моему другу. Если это действительно было так, тогда этой жертве, этим отношениям недоставало надежности, и легко можно было предположить, что Дареджан так же бездумно могла открыть другому — подвернись он в то время — душу и объятия. Несмотря на такие мысли, Каха и в Тбилиси продолжал встречаться с Дареджан, не в силах отказаться от наслаждений, которые та дарила ему. Дареджан не требовала от него никаких жертв, и, вопреки сомнениям, он чувствовал, что эта женщина по-настоящему любит его, и это ощущение рождало ответное чувство. Он совершенно запутался, сбился с толку, раздвоился, уважение к жене, появившееся после рождения сына, не могло победить любви к возлюбленной, он все больше и больше терял голову, и душа его уже не лежала к работе, хотя положение обязывало его быть именно теперь особенно прилежным. В таком неопределенном состоянии находился Каха, когда ребенок заболел. Заболел тяжело, шли дни, а улучшения не наступало. Врачи советовали набраться терпения, но, глядя на мучения сына, Каха терял последнюю стойкость; ночи напролет в оцепенении просиживал он у постели младенца, до свету не смыкал глаз, а днем, если не приходилось бегать за врачами или лекарством, устраивался в углу тесной кухни и отупело курил сигарету за сигаретой. Потом снова подбиралась темная, беспросветная ночь, безнадежная, непроницаемая, таящая тысячу возможных напастей, и сознание его, так же как мир и время за окнами, покрывалось мраком, и в этой беспросветности не брезжило и огонька надежды. А когда у человека иссякает последняя надежда, когда собственное бессилие доводит его до отчаяния и спасения ждать неоткуда, тогда вспоминают о боге. Наверное, отсюда исходят обеты и жертвоприношения — из этого бессилия. Нужно особенное счастье или тяжелейшее горе, чтобы человек обратил взор к чему-то, стоящему над ним; беспомощный, попавший в безвыходное положение человек будто и впрямь приобщается к чему-то, превосходящему его силы и реальные представления, словно чувствует проявление и существование этого нечто, и ему кажется, что путь его освещается, угасшая надежда возгорается, становится ясной причина несчастья и выход из него. В одну из тех страшных ночей Каха счел причиной несчастья собственные грехи, двуличие и двоедушие и решил пожертвовать любовью Дареджан, которая приносила ему огромное счастье. Он дал обет — если поправится мальчик, с Дареджан будет покончено. И хотя после выздоровления сына он не смог сразу выполнить своей клятвы, но постепенно стал отдаляться от Дареджан, само провидение помогало ему, потому что события развивались так, что в конце концов они окончательно расстались друг с другом.
Вскоре совсем стемнело. Мы утолили голод, перевели дух и взялись за сигареты. Несколько стаканов, выпитых за обедом без лишней болтовни, разморили меня, а Каха, наоборот, воодушевился, и его потянуло на излияния. Приглушенный свет настольной лампы едва рассеивал полумрак. Я сидел у окна, глядя на овальный блик света на стене, и слушал Каху. Он был убежден, что Рукайе ничего не известно о существовании Дареджан, нет, причина разлада кроется совсем в другом. Они ни на йоту не уважали друг друга, и созданная ими семья походила на наспех построенный карточный домик. Все это Каха связывал со своим общественным положением. Он был недоволен службой, его проекты пропадали втуне. Почему? Да, оказывается, потому, что ему недостает расторопности, хитрости, а может быть, и нахальства, без которых трудно добиться успеха и признания. Некоторые большую часть времени и энергии посвящают не серьезному труду, говорил Каха, но всевозможным уловкам, чтобы пролезть, протиснуться, пробиться и завоевать так называемое положение. Что такое положение? Забота об утробе, забвение всего остального, наплевательское отношение ко всему.
— А я в этом деле растяпа, неудачник… — заключил он.
Я молча слушал его. Он в самом деле был одаренным человеком и с первых же шагов заявил о себе. Однако после окончания школы он забросил рисование и увлекся архитектурой. Блестяще закончил институт, его проекты часто побеждали на конкурсах, но именно с того времени появились завистники, и бывали случаи, когда работы Кахи присваивались менее талантливыми, но более пронырливыми коллегами — под видом соавторства или в иной форме. По окончании института он снова вернулся к живописи и тут, по мнению знатоков, достиг определенных успехов, но, кроме пустых, ничего не значащих слов, ни в ком не встретил поддержки. Напротив, число завистников и равнодушных все возрастало. Он не отчаивался, в последнее время прилежно трудился, формировался, рос, но при этом постепенно превращался в отшельника, ничем не мог пробить стену безразличия и исподволь пришел к выводу, что его творчество в данный момент не нужно родному народу и никак ему не интересно. Все были увлечены такими вещами, практический результат или материальная выгода которых уже сегодня давали осязаемые плоды.
— Тут мы верны одному из заветов Христа: не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, — горько рассмеялся он.
Я слушал его и чувствовал: он в самом деле убежден, что забота об утробе обуяла всех от мала до велика, что ради бездушного практицизма преданы забвению насущные духовные потребности. Поэтому он уверял меня теперь, что литература и искусство больше никому не нужны, если они не приносят вещественной или денежной выгоды. Литература и искусство — это игра фантазии, а в нашу меркантильную эпоху такая игра никого не забавляет. Если кто-то еще продолжает серьезно смотреть на это дело, тот не чувствует духа времени. Сегодня никого не интересует, кто ты, сейчас самое главное — что у тебя есть, каким имуществом ты владеешь. По мнению Кахи, наступил такой период, когда труд считается зазорным, а поиски легкого пути и беззаботной жизни стали чуть ли не законом. Он говорил, что нация предается поразительной беззаботности, самодовольству и неге, но это никого не волнует, потому что большинство думает только о себе, старается побольше урвать у жизни, совершенно не заботясь, что оставят по себе будущим поколениям. Исчезли образцовые, смелые, избранные люди, сфера интересов и поле деятельности которых выходили бы за рамки личного. Каждый забился в свою скорлупу, окопался в собственной норе и старается как можно лучше обставить ее, а что происходит вне его норы и скорлупы, никого не волнует, словно никак не касается. В цене только благополучие — и ничего больше. Талант и ум становятся объектом внимания только в том случае, если ты ухитрился этим умом и талантом сколотить состояние, упрочить свое положение, но если тебе этого не удалось, никто тебя и в грош не ставит, а собственная жена может обозвать тебя неудачником и в один прекрасный день уйти от тебя, прихватив с собой сына, с которым ты связывал самые заветные чаянья и надежды, мечтая вырастить его таким, как хотелось бы тебе. Но, оказывается, и сие от тебя не зависит, и ты остаешься один как перст, бесцельно слоняешься по улицам, а тут тебя хватает некая досужая дама и начинает щебетать о твоем творчестве, о твоих картинах, эта беседа, видите ли, развлекает ее, а ты уже дошел до такого предела, что ее болтовня приводит тебя в бешенство; ты уже настолько пал духом, что саркастически смеешься, когда тебя хвалят за работы, которые ты сделал, когда был наивен и полон надежд, когда верил в необходимость собственной деятельности, но сейчас ты уже не тот, сделанное когда-то потеряло в твоих глазах былую ценность, ты полон сомнений в необходимости твоей деятельности, ты хочешь молчать, ибо твое слово не находит слушателя. Несмотря на это, ты чувствуешь: проповедник правды все-таки нужен, но — недостаточно одних проповедей. У жизни свои законы, и всякая проповедь только тогда к месту, когда диктуется законами самой жизни, а не личным желанием и волей проповедника. Каждая проповедь нуждается в своем моменте и в своей пастве, которая готова внимать ей, в противном случае она остается гласом вопиющего в пустыне. Что делать человеку, к чему ему приложить руки? Он должен пить вино, пьянствовать, надираться, нажираться, нарезаться, тонуть в этой отраве, забывая болячки, забывая все на свете…
Я с горечью внимал ему, и мне почему-то вспоминался старик, встреченный нынешним утром в столовой, Гео Аваков. Каха поразительно изменился, я не узнавал его. Чем резче были его слова, тем больше он налегал на вино. Комната походила на душегубку. Голова у меня кружилась, кошмаром давило то беспросветное мрачное настроение, которое царило в этой душной комнате. Я больше не мог выносить этого и поднялся:
— Вставай, Каха, выйдем на воздух!
На улице я глубоко вздохнул. Тут было полно народу, развернутый простор вселял надежду, и Каха, казалось, успокоился. Он излил передо мной душу, и теперь шагал почти беззаботно. Опьянение замечалось только при разговоре, но мы шли молча, все уже было обговорено. Он должен сам преодолеть свои трудности, сам должен понять свою ошибку, найти верный путь и силы, чтобы этот путь проторить. Утешения других тут не помогут. Конечно, затянувшаяся полоса неудач убивает в человеке радость, но все на свете имеет конец, может быть, и Кахе повезет, если невезение — не его участь, может, он еще воспрянет, вновь проникнется верой и надеждой? — думал я. На проспекте Руставели, как всегда, толпился народ, и, уставший от городского шума, я радовался, что близится час моего отъезда. Я нисколько не огорчался, что оставляю Тбилиси, старых друзей и старые воспоминания. Моя деревенька звала меня, меня ждала моя маленькая жизнь, где я довольствовался немногим — созерцанием вершин, синеющих до цвета медного купороса, и горчичных склонов, ощущением их значительного безмолвия, свежести зеленых лугов, безбрежности полей и небосвода — той безграничностью, за которой стремительной ласточкой уносилась мысль, и так или иначе душа моя преисполнялась волей. Ночь опустилась на суматошный город, и мириады зажигающихся огней вызывали головокружение. Тут-то мы столкнулись с Парнаозом. Он выглядел слегка выпившим и по-прежнему веселым. «Кого я вижу!» — раскинув руки, зычно гаркнул он и так стиснул меня в объятиях, что чуть не переломал мне кости. Этот ничуть не изменился. К нему смело можно было применить известные стихи Александра Чавчавадзе: «Я все тот же, пусть годы бегут, как вода. Не гонюсь я за сменой времен. Я все тот же всегда». Он громко начал упрекать меня, почему я не навестил его, коль скоро оказался в Тбилиси. Я попробовал заикнуться, что приехал всего на один день, но он и слушать ничего не желал. Каха сообщил ему, что сегодня умер дядя Ираклий.
— Правда? Эх, бедняга! Впрочем, так для него лучше! — решил Парнаоз.
Я объяснил, что именно там встретил Каху, совершенно случайно.
— Случайно ничего не бывает!
— Ты не поверишь, но так же случайно я столкнулся сегодня с Вахтангом и Софико. Потом к ним в машину подсела какая-то симпатичная девушка по имени Эло, и они уехали втроем. Можешь спросить у них.
Парнаоз чуть не поперхнулся с хохоту:
— Наш Вахтанг великий новатор, создатель коллективной семьи! — восклицал он.
Я не понял, что его рассмешило.
— Создатель чего?
— Коллективной семьи, — хохотал Парнаоз, — сказать тебе, не поверишь: Эло — любовница нашего друга, а ее брат — любовник Софико, об этом весь город твердит. Так вчетвером и спелись! Ха-ха-ха!
— Что он говорит? — я в недоумении обернулся к Кахе.
— Мелет!
Тем временем Парнаоз поймал такси, затолкал нас в машину, стремительно сел рядом с шофером и скомандовал:
— В Ваке!
— Что нам там понадобилось? — спросил Каха.
— Гульнем!
— Это дело!
На меня внезапно нахлынуло такое чувство, будто я уже не принадлежу самому себе, неведомая волна подхватила меня и тащит по своему произволу. Я не имел ни малейшего представления, куда это Парнаоз везет нас, он не спрашивал, располагаю ли я временем и желанием. Но и я не оказывал сопротивления. Махнув рукой, я откинулся на спинку сиденья. Машина наша вскоре остановилась у ворот трехэтажного кирпичного дома с ярко освещенными окнами. По команде Парнаоза мы вылезли из машины. В последний раз я попытался настоять на своем, нащупать под ногами почву.
— Но все же, куда мы идем?
— К хорошим людям! — объявил Парнаоз.
— А все-таки?
— Тут проживает один мой родственник, богатейший дядя. Его сын сегодня защитил диссертацию. Ты же знаешь, мой Тархудж, у нас так рождение ребенка не отмечают, как защиту диссертации. Угощение нас ждет знатное! Ха-ха-ха!
— Пошли, — потянул меня и Каха, — выпьем!
— Слушай, в конце концов, мы же там никого не знаем, — попытался я высказать свои соображения, но Парнаоз немедленно оборвал меня:
— Что пользы от знанья! Ха-ха-ха! — загрохотал он, погнав вперед, как баранов, меня с Кахой. Я чувствовал, что меня снова подхватила та же неведомая, могучая волна, вертевшая мной, как ей вздумается, и через минуту забросившая меня в ярко освещенную переднюю чужого дома.
Хозяева встретили нас с любезной улыбкой:
— Добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать!
Меня мгновенно сковала неловкость, но поздно было кусать локти. Кто сейчас отпустит тебя? Я и на Каху злился, что он, не задумываясь, поперся за Парнаозом. Парнаоз облобызался со всеми родственниками и представил нас:
— Рекомендую, мои лучшие друзья!
— Очень приятно!
— Я виноват перед вами, не смог присутствовать на защите, но наука меня не интересует, я в ней не разбираюсь, — без тени смущения объявил Парнаоз хозяевам. — Зато за столом не подкачаю, что скажете, а?
— Спасибо, батоно, большое спасибо, пожалуйте к столу! — слышалось в ответ.
Покрикивая свои «ха-ха-ха» да «хе-хе-хе», Парнаоз размашисто двинулся вперед. Мы с Кахой поплелись за ним в освещенный зал. Громадная комната ослепила меня — все сверкало и искрилось: огромные люстры, хрусталь, драгоценности женщин, выкрашенные во всевозможные цвета волосы, радужные галстуки… Аромат духов, вина и мяса клубился в воздухе. За богатейшими столами, накрытыми в два ряда, восседала разряженная публика, а бравый тамада с гигантским турьим рогом в руках, стоя, произносил тост в честь вытянувшихся по стойке смирно оппонентов. Один из них, преждевременно полысевший мужчина с изрядно наметившимся брюшком показался мне знакомым. Тамада называл его надеждой нашей науки, а когда в ответ на эти похвалы последовала самодовольная и в то же время льстивая улыбка оппонента, я узнал его, это был тот самый Тамаз, по милости которого несколько лет назад я едва не распрощался с жизнью. «Молодец, далеко пошел!» — подумал я про себя.
Тем временем хозяева пригласили нас в соседнюю комнату. И там был накрыт длинный стол, за которым сидели подвыпившие гости. Стены украшали картины в дорогих рамах, купленные, судя по всему, в антикварном магазине. Мы миновали и эти покои и вышли на красивую открытую веранду, где было попросторнее и прохладный ветерок играл ветвями лозы, густо опутывавшей столбы балкона. Я заметил несколько знакомых лиц, среди них была Мери. Я совершенно не ожидал столкнуться с ней в незнакомом доме, но был настолько недоволен нынешним вечером, одурманен вином и шумом, что ничуть не удивился, встретив ее здесь, и в душе моей ничего не шевельнулось. Мери, разумеется, тут же узнала меня, и пока нас рассаживали, она с удивленной и смущенной улыбкой смотрела на меня. На ней было платье кораллового цвета. Волосы она покрасила. Прижавшись плечом к какому-то надутому молодому человеку, видимо, мужу или жениху, она курила сигарету. Я кивнул всем и Мери в том числе. Она мизинцем сняла табачную крошку с кончика языка, выпустила дым и улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Парнаоз скомандовал, чтобы все потеснились и посадили его друзей.
Гости зашевелились, Каху усадили рядом с женихом Мери, а мне указали на стул против них. Соседом моим оказался худощавый и очень любезный писатель лет сорока с лишним. Я встречал его в доме батони Давида. Насколько я понял, писатель и сидящая с ним рядом молодая женщина обсуждали его новое произведение.
— А вот последний эпизод, где кошка взбирается на дерево, мне не понравился, — расплывшись в улыбке, ворковала женщина. Было видно, что беседа с известным писателем доставляет ей неописуемое наслаждение.
— Почему же? — удивился тот. — Ведь он несет определенную смысловую функцию.
— О, это я поняла. — Она не могла добраться до колбасы. — Это превосходная задумка, но знаете что? Не обижайтесь, но мне не понравилась масть этой кошки, она не должна быть черной, я не выношу черных кошек…
— Что вы, что здесь обидного? — надулся писатель. — Какой же, по-вашему, должна быть кошка?
— Мне представляется, что пестрая лучше. Если бы вы знали, до чего я обожаю пестрых кошек… При этом финал, несомненно, выиграет!
— Нет, нет, — отрезал уверенный в себе писатель. — Это невозможно, это погубит экспозицию!
Наш Парнаоз уже восседал во главе стола. Ему вручили огромный рог. Держа его на отлете, он гордо оглядывал стол. Пока рог наполняли вином, я наблюдал за Парнаозом, потешаясь в душе. Он любил пиры и за столом чувствовал себя как рыба в воде. Громко пожелав своему родственнику в скором времени защитить и докторскую, Парнаоз выразил надежду, что стол, накрытый по сему поводу, намного превзойдет нынешний.
— Хотя, — подчеркнул он, — и на сегодняшнем столе мы найдем все, кроме птичьего молока. Желаю вам птичьего молока! — закончил свою речь Парнаоз и приник к рогу. Оторвавшись от него, протянул мне уже пустым с возгласом:
— Аллаверды[36] к моему Тархуджу!
Я начал было отнекиваться, впрочем, понимая с самого начала, что отвертеться не удастся. Хозяева пристали, что один рог выпить необходимо.
— Не могу! — отказывался я.
— Должны смочь, должны! — загудели со всех сторон.
«О чем ты думал, идиот, когда перся сюда?» — выругал я себя в душе.
— Пей, предводитель пьяниц, подравняемся! — как дикарь, орал Парнаоз. Раз он привел меня сюда, то искренне старался оказать мне всяческое уважение. Я не стал упорствовать и поднялся. Лучше было выпить, чем терпеть все эти подзуживания и насмешки, хотя я не мог поручиться, что не свалюсь под стол от этой лошадиной дозы. Поднеся рог ко рту, я медленно начал вливать в глотку тяжелую, как свинец, холодную, неприятную жидкость, которую давно отвык пить в таком количестве. Уставясь обреченным взглядом в побеленный потолок, я еле удерживался на ногах от головокружения; дыхание захватывало, холодный пот прошиб меня, вино никак не кончалось, текло и текло, и осушив в конце концов свою мученическую чашу, я застыл с обалделым лицом, чувствуя, что улыбаюсь бессмысленно и глупо, как клоун перед многочисленными зрителями, только что проткнувший гвоздем щеку. Ободряющие крики отрезвили меня. Рог у меня отняли и вручили Кахе. Все кружилось перед глазами, я сел и подумал: посмотрим, как наш Каха поднимется завтра в девять, представил разъяренное лицо Зуры, но ничто уже не заботило меня, не тревожила и смерть дяди Ираклия, чье безжизненное тело в полосатой пижаме на миг возникло перед глазами (когда я думал о завтрашнем дне Кахи) и тут же забылось. Удивительное чувство покоя охватило меня. Остановившимся взглядом смотрел я на жениха Мери, сидевшего напротив, который с таким деловым и серьезным видом копался в тарелке, словно накладывал резолюцию. Сидящие по соседству молодые женщины разбирали выступление нового эстрадного ансамбля, если не ошибаюсь, ансамбль назывался «Пестрая бабочка». Каха опорожнял рог. Наконец опорожнил, слава богу! Вежливый писатель стыдливо улыбнулся и пошутил:
— В месяц август, пятого дня, в субботу, хроникона шестидесятого и тринадесятого года, по календарю исмаилитов — двести тридцать девятого, Буга-Турок сжег град Тбилиси, поймал амира Сахака и убил; того же августа, двадцать шестого дня, в субботу же, Зирак-шейх схватил Каху и брата его Тархуджа и утопил их в вине…
Эту шутку, вернее, своевременное проявление эрудиции женщины встретили бурным восторгом, что, как я заметил, не очень понравилось Кахе:
— Кого вы подразумеваете под Зираком? — вызывающе уставился он на писателя.
— Парнаоза, — остроумно ответил тот.
Смех и аплодисменты были ему наградой. Но тут вмешался жених Мери:
— Вы ошибаетесь, товарищ, сегодня воскресенье, а не суббота.
— Я, батоно, процитировал надпись на Атенском Сионе, — любезно пояснил писатель и улыбнулся.
— А-э, прошу прощения! Я как работник промышленности не очень хорошо знаю грузинскую историю, — оправдывался незадачливый ухажер.
Несмотря на то, что и Мери неважно знала историю Грузии, ей стало неудобно за маленькую оплошность жениха, и она покраснела. Пир продолжался, затянули песню.
— Когда приехал, Тархудж? — спросила Мери с вежливой улыбкой.
— Вчера.
— Долго пробудешь?
— Ночью уезжаю.
Ее жених метнул на меня грозный взгляд, кто это, мол, беседует с моей невестой, но так как беседа была безобидной, он успокоился, достал пачку американских сигарет и закурил. Мери уже болтала с соседкой. Гордо вытянув руку, она демонстрировала перстни, украшавшие длинные, ухоженные пальцы.
— Что за прелесть, какие перстни! — не скрывала восхищения соседка.
— Мне их Марлен купил, — Мери благосклонно посмотрела на жениха.
— Чья работа?
— Коте Данибегашвили. Сейчас он лучший ювелир в Тбилиси! — Мери окинула гордым взглядом свои кольца.
За столом уже стоял невыносимый галдеж, и внезапно все голоса перекрыл громогласный призыв Парнаоза:
— Тихо, товарищи! Я не могу понять, чей стакан в чьей руке!
Все разом смолкли.
— За соседним столом провозгласили тост за Грузию! — спокойно произнес Парнаоз. Как я заметил, он собирался захватить руководство за нашим столом, хотя мы пришли намного позднее остальных. Но это обстоятельство ничего не значило для нашего друга. — Мне кажется, что все мы единодушно присоединимся к этому великолепному тосту, прошу вас подняться, друзья!
Мужчины встали. Парнаоз поднял чайный стакан. У всех был такой серьезный вид, будто готовились принести присягу.
— Из этого маленького сосуда я хочу выпить за нашу великую родину, — трафаретной фразой начал Парнаоз и продолжал патетическим тоном, как того требовал обычай и порядок застолья. — Да здравствует наш прекрасный народ, наша природа, пленительные горы и долины, которые выращивают достойных сыновей отчизны!..
Тут Каха не к месту хохотнул, и все укоризненно обернулись на него, но Парнаоз пренебрег этим незначительным инцидентом и так же бойко продолжал:
— …пусть и впредь они растят алгетских волчат![37] Да здравствует наша цветущая Грузия!
— Да здравствует, да здравствует!
— Пьем экстра, экстра!
Но сидевший рядом со мной молодой писатель — он еще пока ходил в молодых — попросил:
— Если позволите, я скажу два слова, только два слова.
— Зачем? — спросил жених Мери. — Выпьем за нашу республику. Все знают, что наша республика — передовая республика. Да здравствует наша республика! — он демонстративно выпил и сел.
— Я только два слова хотел сказать… — смутился писатель.
— Сжалимся, так и быть, дадим ему сказать! Не будем затирать деятелей литературы и искусства, — загремел Парнаоз. — Прошу вас, поэт!
— Друзья! — начал прозаик, перекрещенный нашим другом в поэта. — Грузин гордо заявляет: но даже за рай на чужбине родины я не отдам[38]. Грузия — удел Богородицы. Друзья мои, у нас хранится хитон Христа. Мы были народ воинственный, любящий друзей и родных, красно и сладко речивый. Недаром сказано: «Где, в каком углу Вселенной встретишь Грузию другую»[39]. Наш долг — беречь нашу прекрасную землю, нашу историю и литературу!
— Правильно!
— Молодец! — кричали там и тут. Писатель, видимо, собирался продолжать, но вовремя вспомнил: «длинный сказ поведать кратко — вот шаири в чем цена»[40], и довольный опустился на место. Уставшие стоять на ногах мужчины облегченно вздохнули, поставили стаканы, но тут забузил Каха. Он был уже изрядно пьян.
— И я хочу сказать пару слов!
— Не стоит, Каха! — увещевал его Парнаоз. — Мы ведь пьем «экстра», без тостов!
— Что? Ему можно, а я не имею права? — Каха неприязненно посмотрел на писателя, видимо, тот с самого начала не понравился ему.
— Ладно, говори, не тяни! — согласился Парнаоз.
— Хочу в стихах! — язык у Кахи заплетался, он был бледен. Все недовольно косились на него.
— Хочешь в стихах, хочешь пой! — разозлился Парнаоз.
«Бродите вы, без пути, без дороги»[41], — начал декламировать Каха, но тут в соседней комнате грянули «Раши ворера, раши ворера», забили в ладоши, вспыхнул танец. Никто не слушал Каху, все вскочили и кинулись туда. Дебелая дама с накрашенными волосами, томно раскинув руки, горлицей плыла по зеркальному паркету. На ее партнере был креповый костюм, блестящий галстук оттягивал шею, он вертел руками, временами пускаясь вприсядку. Я тихонько пробирался к выходу. Счастливые, смеющиеся, потные лица, накрашенные губы, симпатичные, тугие животики, веселье, танцы, пение…
Выбравшись на улицу и ощутив себя, наконец, в безопасности, я долго не мог избавиться от шума в ушах, казалось, гвалт застолья по пятам преследует меня. Я устал, и мне было тоскливо. Опьянение сказывалось только на несколько неуверенной походке… Потом я поймал такси и помчался на вокзал. Голова все еще кружилась. Город за окном как будто плыл по волнам, дома покачивались, как хмельные. Я еле поспел к поезду, поднялся в вагон, нашел свое место и, лишь когда состав наш тронулся, вздохнул с облегчением. В купе, кроме меня, никого не было. Я опустил окно и подставил ветру разгоряченное лицо. Мерцающий огнями город остался позади, поезд рассекал темное пространство. Я радовался, что наконец-то выбрался из этого шумного города. Последние огоньки утонули во мраке. Я закрыл окно, не раздеваясь, вытянулся на нижней полке и смежил веки. Иногда в лицо ударял свет, проникавший через окно. Потом уже ничто не нарушало темноту. Ритмичный стук колес успокаивал нервы, взбудораженные сегодняшними впечатлениями. Почему-то все казались мне предателями: и Парнаоз, и Каха, и Вахтанг, и батони Давид, и Рукайя. Все они в чем-то запутались, сбились с истинного пути, словно потеряв правильный курс в жизни. Я радовался, что возвращаюсь в свою деревеньку, и почему-то воображал себя бесконечно счастливым. Может быть, я не совершал ничего особенного, но за особенное и не хватался. У меня была своя небольшая жизнь, и мне казалось, что я постиг истину, хотя и не представлял себе ясно, что это такое. Может быть, любовь к умеренности, может быть… Увы, высказать всего невозможно. Разве слово способно выразить все то, что происходит в душе человека? Глуховатый перестук колес нагонял сон, и я постепенно погружался в дремоту.
И мне приснилось.
В лесу, у края дороги, мы с Кахой разбили палатку. По ту сторону дороги текла широкая река, но плеска воды не было слышно. Голубовато-зеленоватый цвет окрашивал все вокруг. Стоял день, но солнца не было. Неземной, блекло-голубой свет струился сверху. В лесу царила страшная тишина и пустота, из-за которых не ощущалось течение времени, ибо никаких перемен не происходило вокруг. За все время никто не проходил по дороге, длинной и прямой, как стрела. Эта дорога была асфальтирована, и на ней не было видно ни души вплоть до самого горизонта. Мы сидели молча. Потом я вышел на дорогу и посмотрел вдаль, на возвышенность, куда поднималась и где пропадала дорога. Там кто-то был. Он явно шел к нам, но не приближался ни на шаг. Я стоял и смотрел, а он все шел и шел, оставаясь на месте. Кроме этой далекой точки, на всей дороге не было никого.
Затем неподвижный голубой свет сменился темнотой. Стемнело сразу. Ничто не нарушало безмолвия. Когда стемнело, река исчезла. Шума воды слышно не было, и когда я ее не видел, не ощущал ее близости. Мы забрались в палатку и, кажется, уснули, а может быть, и не спали. Даже в палатке я слышал шаги идущего…
Потом мы, вероятно, проснулись, потому что ночной мрак уже рассеялся. Я вышел к дороге и взглянул в ту сторону, откуда кто-то шел. Он был все так же далеко и все шел к нам. Мы с Кахой стояли у обочины, вглядываясь в него, но не могли разобрать лица, уж очень большое расстояние разделяло нас. То же голубовато-зеленое сияние струилось сверху. Солнца по-прежнему не было. Необычайная тишина не нарушалась ни одним звуком, и на всем пространстве до самого конца дороги не было никого, кроме идущего к нам человека. Лишь там, где обрывалась дорога, за спиной путника поднимался сейчас огромный деревянный крест, закрывавший собой весь небосклон. Неправдоподобно велик был этот крест. Мы снова вошли в лес и сели на траву.
Когда мы вторично вышли на дорогу, идущий оказался совсем близко, и я сразу узнал его. Это был Цотне. Я застыл от удивления, помня, что он давно умер. Лицо его было хмуро. Увидев вышедшего из-за деревьев Каху, Цотне приблизился к нам.
— Как прошли мои похороны? — спросил он, обращаясь к Кахе.
Голоса его не было слышно, но я и так знал, что он спросил именно это.
Каха стал рассказывать о похоронах. И его голоса я не слышал, но почему-то прекрасно понимал все, что он говорил, и поражался интересу Цотне к его рассказу.
— Почему тебя это интересует? — спросил я. — Какое это теперь имеет значение?
— Как?! — сказал Цотне.
— Сейчас для тебя ничего этого не существует, это же произошло после тебя.
— Как?! — повторил Цотне.
А Каха подробно рассказывал, что происходило на похоронах. Я удивлялся, что мы беседуем, понимаем друг друга, в то время как не слышно голоса ни одного из нас. Полнейшая, неземная тишина стояла вокруг.
Потом откуда-то взялся белый конь, и мы втроем пошли куда-то — я, Цотне и этот конь.
Мы миновали лес и оказались в поле, заросшем великолепными цветами. Я знал, что мы должны подняться на вершину, и боялся, что мне придется трудновато — после возлияний у Кахи и в доме родичей Парнаоза я находился далеко не в лучшей форме. Поле окружали высокие, лесистые горы, озаренные голубовато-зеленым сиянием. Дивный свет переливался и мерцал.
Оставив позади поле, мы очутились в неизвестном городе. Цотне шагал впереди, а я торопился за ним, ведя в поводу белого коня.
Город, раскинувшийся по склонам гор, был безгласен и нем. То и дело нам попадались белые санатории и будочки с минеральной водой. Молча скользили мимо прохожие, все до единого в странной, старомодной летней одежде — белые брюки, белые туфли, белые панамы, воротнички белых рубашек выпущены на пиджаки. Женщины — в длинных платьях и шляпах с широкими полями. Они оставляли странное впечатление, это были люди иной эпохи. И вдруг я узнал этот безмолвный курортный город, вспомнив, что видел его на фотографиях деда. Пятьдесят лет назад мой покойный дедушка отдыхал здесь.
Выйдя из города, мы прошли деревянным мостиком над речкой и двинулись по тропинке. Внизу виднелась молчащая лесопилка. Двое рабочих катили по узким путям вагонетку.
Белый конь вдруг укусил меня за руку. Боли не последовало, но я страшно испугался. А конь сжимал мои пальцы в зубах и не отпускал. Я корчился и умирал от страха, но почему-то не хотел звать на помощь Цотне, хотя он был еще совсем близко и мог выручить меня. Потом Цотне удалился, конь выпустил мою руку, я поднес ее к глазам — она была невредима и не болела, однако я почему-то снова испугался.
Взглянув наверх, я увидел над лесистыми холмами острую трехгранную вершину, на которую мы собирались подняться, и был очень удивлен, что вершина сверкала голубизной, а снега на ней нет.
Потом, не знаю, как это случилось, но мы оказались на кладбище, затерянном где-то в горах. На небольшом плато торчали покосившиеся кресты. В середине кладбища была пещера, у входа в которую стояли двое мужчин: высокий монах в черной рясе и некто, ни платьем, ни обличьем не похожий на духовное лицо. Монах сказал, что в глубине пещеры находится зеркало, в котором каждый может увидеть свое будущее. Я побоялся войти. Мне даже рядом с этой пещерой стоять было неприятно. В пещеру вошел незнакомец.
— Он увидит будущее, — сказал монах.
Мы довольно долго простояли в напряженном ожидании.
Наконец, из темных глубин пещеры донесся жуткий вопль, потом оттуда выскочил всклокоченный полуголый человек, с безумным взором, наверное, тот самый, что недавно вошел туда, и с нечеловеческим ревом помчался среди могил.
«Помешался!» — мелькнуло у меня в голове, и я в этот миг услышал величавый голос:
«…Услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всем тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, и моры, и землетрясения по местам; все же это начало болезней…
…И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется…
…тогда все да бегут в горы; и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегства вашего зимою…
…ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни…»[42].
Смолкло эхо таинственного голоса. Упала тяжелая тишина. Трепеща, стоял я и почему-то не сводил глаз с Цотне.
— Может быть, он увидел в зеркале войну?
— Не дай бог войны! — произнес Цотне, и я удивился его словам, ибо, по моему мнению, все это уже не касалось его.
…Сильный толчок разбудил меня. Я открыл глаза. Поезд стоял. Я лежал один в темном и узком, как тюремная камера, купе. Откуда-то донесся петушиный крик. Настроение сна еще не развеялось, сердце стучало, воздуху не хватало. Весь в поту, я встал на ноги и прижался лбом к холодному стеклу. Я ничего не видел за окном, все тонуло в кромешной тьме. Мне почему-то показалось, что за вагонным окном расстилается пустынное просторное поле, и я с неприязнью ощутил свое одиночество. Мне захотелось перекинуться с кем-нибудь словом, но все спали, из соседних купе доносился беспечный храп. Откуда-то издалека слуха моего смутно достиг чей-то голос, под чьими-то шагами захрустела щебенка, и снова наступила мертвая тишина. Медленно выкарабкиваясь из кошмара сновидения, я возвращался к действительности. Где-то очень далеко залаяла собака. Как отрадно было слышать этот лай. Наш поезд, видимо, ждал встречного на каком-нибудь глухом, тихом разъезде. Непроглядный мрак застилал окрестности. Снова пропел петух, следом за ним заревел осел. «Село близко», — подумал я, успокаиваясь и отходя душой. Гнетущее ощущение одиночества постепенно оставляло меня. Когда петух прокукарекал в третий раз, грустная радость наполнила душу. Я почувствовал, как безгранично люблю эту объятую мраком, спящую землю, которую сейчас не было видно из окна вагона. Я любил эту древнюю, усталую землю, орошенную кровью моих предков, удобренную их костями, и чувство безграничной безутешной любви острой болью пронизывало сердце.
Перевод А. Беставашвили и В. Федорова-Циклаури.
ГРЕШНИК
Роман
Смерть, да будь благословенна,
Жизнь тобой красна.
Важа Пшавела
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Ясон и Алиса ехали на велосипеде. С обеих сторон дороги тянулись дворы, обсаженные кустами граната. Из калиток выходили люди, торопясь в город по делам. Алиса приветливо улыбалась знакомым, а Ясон молча крутил педали, временами касаясь грудью спины девушки. Алиса работала фельдшерицей в местной больнице, куда и возвращалась сейчас, после очередного вызова к больному. Две женщины, стоявшие у калитки, улыбнулись Алисе, а одна из них — крупная и дородная — окликнула ее:
— Алиса, как там Кохреидзе?
Велосипед ехал медленно, и Алиса успела ответить:
— Укол помог. Дня через два поставлю его на ноги.
— Дай бог тебе здоровья, доченька, легкая у тебя рука…
И, подождав, пока велосипед проедет, женщина повернулась к подруге, худощавой и блеклой блондинке, гостящей у нее, и пояснила:
— Наша фельдшерица, золотые у нее руки.
— А этот мужчина — муж ее? — с любопытством спросила та.
— Нет, милочка, любовник…
— Ой, да что ты говоришь?! И не стыдно ей, такая молоденькая и видная…
Дородная женщина была мягкосердечной.
— Она во всех отношениях прекрасный человек, но…
— А он-то что думает, чтоб ему провалиться, бесстыжему…
— Он — заезжий… И парень неплохой, да вот…
Покуда женщины судачили, велосипед успел отъехать довольно далеко.
Ясон в самом деле был неплохим парнем. Он постоянно развозил Алису по больным, терпеливо пережидая с велосипедом на улице, пока она делала уколы. Он был явно славным парнем, любил пропустить рюмочку, поухаживать за женщинами, побеседовать о театре. Руководя драмкружком в местном Доме культуры, он говорил о театре с той серьезностью и благоговением, с какими говорят о покойнике, нимало не считаясь с тем, что большинство его собеседников совершенно не интересовались театром.
Ясон жил в этом городке чуть меньше года и никому не мешал, уйдя с головой в свои театральные хлопоты, да и ему никто не становился поперек дороги. Сейчас он вез Алису с очередного вызова. Ему было приятно возить девушку на велосипеде, чувствовать ее близость и касаться грудью ее спины. Алисе тоже нравились эти прикосновения и их совместные поездки на виду у всех. Еще Алисе нравились в нем высокий рост, курчавые волосы и то, что, в отличие от местных неотесанных парней, он был отзывчив и чуток. Следует добавить, что Алиса привязалась к Ясону еще и потому, что в ту пору, когда они познакомились, — случилось это с год назад, — она никого не любила. Лейтенанта милиции Бено, с которым она встречалась прежде, перевели на службу в Батуми, и в последнее время он почему-то перестал писать. А девушке хотелось, чтобы рядом был сильный мужчина, на которого можно опереться. Она и выбрала Ясона, хотя тот вовсе не отличался силой. Но это дело второе, об этом Алиса пока не задумывалась.
И вот занималось прохладное утро. Они возвращались в город на велосипеде. Велосипед катил по дороге, мимо дворов, обсаженных кустами граната. Впереди ехали велосипедисты, позванивая звонками, шли люди, трусили свиньи, тарахтели телеги, иногда проносилась машина, поднимая пыль, пыль рассеивалась, слышался говор людей, идущих по обочине. Стоящие у калиток люди почему-то внимательно и пристально разглядывали прохожих, знакомые раскланивались друг с другом, многие тепло улыбались Алисе, здороваясь с ней, даже те, кто косо смотрел на ее образ жизни и встречи с Ясоном, потому что, как бы там ни было, Алису все равно любили. Велосипед катил себе по дороге. Таяла утренняя прохлада. Солнце, уже поднявшееся довольно высоко, гасило запах зелени и влажной земли. День обещал выдаться знойным, несмотря на облака, усеявшие небо. Велосипед въехал на мост, и в тот же миг рядом, по железнодорожному мосту, пронесся пассажирский поезд. Алиса, сидя на раме, провожала глазами бегущие вагоны и стоящих у окон пассажиров. Внизу, под мостом, голая ребятня плескалась в речушке.
— Смотри, купаются! — крикнул в ухо девушке Ясон.
Но Алиса даже не повернула головы, она любила следить за бегущими поездами.
А поезд, отгрохотав по железному мосту, скрылся за деревьями и остановился у вокзала.
2
Поезд остановился. Пассажиры высыпали на перрон. Какой-то юноша в черной, несмотря на жару, рубашке, в черных брюках и в черных высоких ботинках спрыгнул с подножки и направился к ларьку, где продавали пиво. Он неторопливо подошел, спросил папирос и закурил. За его спиной сновали люди, нагруженные чемоданами, мешками, корзинами, а то и налегке. Одни спешили, другие слонялись без дела, не зная, чем занять себя на остановке. А юноша стоял у ларька, ни на что не обращая внимания, равнодушный ко всему, незнакомый всем. Припекало, он попросил холодного пива. Продавец откупорил бутылку и выставил перед ним. Юноша не торопясь приложился к горлышку, в это время ударил станционный колокол, локомотив свистнул и состав медленно тронулся. Юноша продолжал с удовольствием тянуть холодное пиво, за его спиной не умолкала суета, свойственная всем маленьким станциям во время отхода проходящего поезда, и едва он отнял от губ бутылку, как последний вагон медленно проплыл мимо него. Юноша поставил бутылку на прилавок, отсчитал деньги и лениво побежал за хвостовым вагоном. Поезд пока шел медленно, но набирал скорость, самое время было припустить вовсю, чтобы нагнать его, — для такого молодого, полного сил парня это не составило бы труда, но юноша вдруг остановился и махнул рукой.
Поезд ушел. За опустевшей насыпью открылось чуть пожелтевшее кукурузное поле, а еще дальше на краю безбрежных полей поднимались в мареве синеватые горы. Юноша повернул обратно, и какой-то железнодорожник, видевший, как он отстал от поезда, сочувственно спросил:
— Отстал?
— А ну его! — ответил юноша в черном и направился к выходу в город.
Железнодорожник проводил его взглядом, прошелся до ларька и спросил продавца:
— Видал, как отстают люди?
— В самом деле отстал?
— Стоило ему чуть поднажать, нагнал бы…
— Разве поймешь, что у кого на уме, тысячи людей на свете, и все разные.
Железнодорожник снял фуражку и отер пот со лба.
— Открой-ка мне пивка.
Он выпил и спросил:
— Интересно. Ты знаешь, кто он такой?
— Откуда мне знать? Тут их каждый день толпы ходят, разве всех сумеешь узнать!
— Это уж точно, откуда тебе знать, — согласился железнодорожник.
3
Целый день слонялся по городу юноша в черном. Он заходил в магазины, подолгу разглядывая выставленные товары, затем выходил на улицу, лениво и медленно прогуливался по тенистым тротуарам, вяло и словно нехотя передвигая ноги и не вынимая рук из карманов, и в нем было что-то такое, что отличало его от местных.
Потом он остановился под деревом и долго стоял, разглядывая прохожих. Странен был его взгляд. Юноша словно не замечал людей, которых рассматривал, глаза его будто скользили по ним, и они ничуть его не интересовали. И прохожие, приглядываясь к нему, замечали, что он приезжий, но тут же забывали о нем, занятые своими заботами, да и что необычного и удивительного было в том, что какой-то человек мог приехать сюда. А юноша одиноко стоял под деревом и разглядывал прохожих.
В полдень, возвращаясь с работы, Алиса увидела парня в черном. Она как раз выходила из аптеки в сопровождении Джемала, студента-медика, дней десять назад приехавшего на практику в местную больницу. Они вдвоем выходили из аптеки, тут-то Алиса и обратила внимание на странного юношу, который стоял под деревом, подметила: «И этот приезжий», и тотчас повернулась к Джемалу:
— Нет, не смогу.
— Что вы, что за проблема — сходить в кино, — уговаривал Джемал.
— Нет, сегодня никак не могу, в следующий раз посмотрим, — и, звонко рассмеявшись, Алиса бегом припустилась через улицу.
Юноша в черном закурил, прошел по тротуару мимо Джемала. На секунду он задержался взглядом на Алисе, перебегавшей улицу.
Вечером он стоял у автобусной остановки. Чуть поодаль, на улице, сворачивающей к вокзалу, собрались в кружок шоферы и несколько подростков. Они поймали дурачка Мейру и от нечего делать потешались над ним. Юноша в черном невольно поглядывал на них.
По субботам Мейра никогда не показывался в городе, такое случилось впервые, и парни обрадовались неожиданно подвернувшемуся развлечению. Весь город знал Мейру — местного дурачка, который целыми днями околачивался на базаре, подсоблял крестьянам, приехавшим торговать, перетаскивая мешки от подвод до торговых рядов. Энергично размахивая руками, носился он мимо прилавков или возился с мешками. За тяжелые кули он не брался, потому что был хил и мал ростом, но даже когда тащил мешок по силам, было заметно, как трясутся от напряжения его иссохшие ноги. Согнувшись под ношей, Мейра натруженно, хрипло сопел, ворча под нос что-то неразборчивое. Крестьяне, прижимистые на расплату, скупо платили за помощь. Мейра, заикаясь, требовал своего, крестьяне уже не обращали на него внимания, будто его не было вовсе, а иногда вообще не давали ни копейки, бранью или пинками избавляясь от недавнего помощника. Обманутый и обиженный Мейра жалко рыдал, но крестьяне даже ухом не вели. Только плачем Мейра мог выразить свой протест. Сгорбившись, уронив руки, застывал он посреди базара, крупные детские слезы текли по морщинистому лицу, седая бороденка промокала насквозь. Ему шел седьмой десяток.
Вечерами, когда пустели базарные ряды, Мейра со всех ног бежал к станции. Зеленую лужайку перед базаром, где бродили выпряженные из подвод быки, он пересекал без опаски. Здесь никому не было до него дела. Зато на городских улицах начинался иной мир, полный опасностей и напастей. Мейре приходилось выказывать немалую изворотливость и сноровку, чтобы поспеть на станцию к прибытию поезда. Но чаще всего парни ловили его и подолгу не отпускали.
— Куда удираешь, сукин сын? — громко кричали они. — Мы знаем, что это ты похитил женщину!
— Ей-богом, не похисцал я, не похисцал, — оправдывался Мейра.
— В тюрьме сгноить этого бандита, в тюрьме! А ну, пошли в тюрьму! — еще пуще кричали весельчаки и волокли старика в «тюрьму».
Мейре казалось, что его в самом деле тащат в тюрьму, он упирался и отчаянно ревел. Он не знал, что такое тюрьма, но все равно панически боялся ее, чем чрезвычайно потешал всех.
Обычно за него вступались какие-нибудь прохожие, сердобольные мужчина или женщина — и отгоняли парней:
— Чего вы мучаете сумасшедшего? Как вам не стыдно, жеребцы! Тьфу, чтоб вам провалиться!..
Тогда Мейру отпускали. Он тут же умолкал и бежал к станции.
Обычно его изводили подростки и парни, поэтому Мейра страшился только их, стариков он на боялся.
Боялся он и собак. Стоило какому-нибудь кутенку перебежать дорогу, и Мейра ни за что не пойдет прежним путем, замечется из стороны в сторону, свернет на какую-нибудь укромную улочку и припустится в обход. Последнее время он бегал прямо к железнодорожному полотну, и по тропинке, протоптанной между краем насыпи и кукурузным полем, припускался к станции. Дорога эта была длинней, зато безопасней, лишь грохот несущегося состава пугал здесь Мейру. Заслышав идущий поезд, Мейра бросался в кукурузу, падал ничком в борозду, и только когда перестук колес полностью утихал, вылезал из своего убежища и продолжал путь. Стоящих поездов Мейра не боялся. Он сновал по перрону, путаясь в ногах пассажиров, и бойко кричал:
— А вот холосий носильцик! Холосий носильцик!
Некоторых разбирал смех, уж больно смешно выглядел этот напыжившийся «холосий носильцик». Вручит ему, бывало, кто-нибудь свой чемодан или узел, и Мейра молодцевато тащит поклажу, внушительно покрикивая на ходу:
— Дологу! Побелегись! Столонись! Ноги отдавлю!
Но стоило кому-нибудь рявкнуть на него: «Цыц, недоносок!», как Мейра бежал под защиту хозяина груза, крича:
— Засцитите!
Почувствовав себя в безопасности, он принимался издали грозить обидчику:
— Ты сам — цыц, а то… Как подойду! — и махать кулачками.
Долгий опыт научил Мейру, что до отхода поезда никто его не тронет.
Но вот поезд трогался, а для Мейры не было ничего страшнее движущегося состава и праздного люда. С отходом поезда пропадала вся его смелость, он украдкой оставлял станцию и во всю прыть мчался домой. Только дома его ждала полная безопасность, он и старался быстрее добраться до него. А в спину ему летел страшный грохот колес, угрожающий рев локомотива, и Мейра бежал, не оглядываясь на вагоны, в которых ему ни разу в жизни не довелось проехаться, которые с лязгом проносились над тропинкой, чтобы исчезнуть вдали, сгинуть с глаз, а затем налететь снова, но совсем не с той стороны, куда унеслись, а с той, откуда прибыли, и Мейра не мог, да и не пытался разобраться, отчего так происходит. Он без оглядки мчался к дому, который находился в четырех километрах от станции, в одном из кварталов поселка, где в основном жили евреи. Дома, только дома он чувствовал себя в безопасности. Здесь, в своих четырех стенах, он не боялся ни темноты, ни открытого пространства. Стены дома надежно защищали его от жуткого, непонятного мира. Поэтому, едва начинало смеркаться, Мейру тянуло домой. Как уже говорилось, жил он в одном из кварталов поселка, в четырех километрах от станции и каждый день, за исключением субботы, утром и вечером бегом покрывал это расстояние.
Сегодня была суббота. Парни, настроенные развлечься, окружили Мейру, не давая ему пройти, а юноша в черном, стоя у автобусной остановки, невольно поглядывал на них.
— Мейра, чего это ты в субботу в город прискакал, а? — спросил кто-то.
Мейра испуганно поводил глазами:
— Ей-богом, не знаю!
— Небось, все за бабами охотится! — подхватил второй.
— Пацан, откуда на тебе моя шапка? — заржал третий и сорвал с Мейры шапку.
Лысая голова старика обнажилась.
— Ей-богом, моя сапка, мне Абласка подалил! — захныкал Мейра, погнавшись за обидчиком.
— Абрашка сам вор, за десятикопеечные папиросы двугривенный дерет…
— Ей-богом, моя, мамой клянусь, отдай, позалста!
— Докажи, что твоя! — свирепо заорал кто-то.
— Ей-богом, моя сапка, мне Абласка подалил!..
— Докажи! — пригрозил еще кто-то. — Чем ты докажешь?
От грозного крика душа Мейры ушла в пятки. Он обреченно обвел взглядом оскаленные ухмыляющиеся лица и, ничего не придумав, заревел в голос.
— Моя, моя! — захлебнулся он, падая на дорогу.
— Лазве это доказательство? — заскоморошничал тот, кто отобрал шапку, поднял старика и поставил на ноги. — Потанцуй, тогда получишь!
— Цто?
— Спляши, и получишь свой малахай! — повторил похититель, дразня Мейру шапкой.
Мейра задумался. Он уставился на свои запыленные ноги, и наконец до него дошло, чего добиваются парни.
— Хлёпайте! — бросил он, подняв голову.
— А ну, похлопаем Мейре чаще! — разом закричали парни, большая часть из которых были шоферы, и принялись бить в ладоши.
Мейра раскинул руки и начал перебирать ногами, как зарезанная курица. Он елозил на месте, а парни давились со смеху и подбадривали:
— Оп-ля, оп-ля, чаще, Мейра!
Один из подростков, подкравшись сзади, сдернул с танцора штаны. В голос взвыли от восторга окружающие, увидев оголенное старческое тело, а один из них, задохнувшись от хохота и шатаясь, отошел на полусогнутых ногах к кювету. Мейра подтянул брюки и, разревевшись, побежал к автобусной остановке, около которой стоял юноша в черном. Не знакомый никому парень обернулся к толпе и вышел на мостовую. Мейра бежал посреди улицы, смешно семеня, забыв обо всем, даже о шапке.
— Не отпускайте этого комика! Эй, парень, задержи его! — кричал тот, что стоял у кювета.
Подростки с гиканьем погнались за Мейрой.
— Стойте! — закричал юноша.
Ребята в удивлении остановились, а незнакомый юноша стоял перед ними, в упор глядя на них воспаленными глазами.
— Убирайтесь отсюда!
Один из подростков, тот самый, что сдернул с Мейры штаны, вознамерился было продолжать погоню, но незнакомец отвесил ему такого пинка, что тот свалился в придорожную канаву.
Ребята ошарашенно подались назад, Мейра скрылся, и только тот парень, что стоял у кювета и приказывал задержать Мейру, свирепо полез напролом, расталкивая приятелей; по всему чувствовалось, что именно он был зачинщиком этого развлечения. Другие медленно двинулись за главарем. Юноша чувствовал напряженность, которая возрастала по мере того, как главарь приближался к нему.
— Детишек бьешь? — злорадно поинтересовался главарь, подойдя вплотную к юноше.
— И взрослых тоже! — ответил незнакомец и, не раздумывая, ударил главаря так, что того откинуло назад. Не давая ему опомниться, юноша нанес еще один удар с такой силой, что парень безжизненно растянулся на дороге.
— А ну, убирайтесь отсюда, вашу!.. — выругался незнакомец.
Все кинулись врассыпную. Юноша остался один, он стоял посреди дороги, сжимая в руках раскрытый нож, а растерянные и удивленные прохожие, полные неясного ожидания, столпились поодаль и наблюдали за ним.
Вдруг из-за угла вылетел грузовик, за рулем которого сидел косоглазый Дзуку. Незнакомец загородил дорогу машине, подняв руку с ножом. Косоглазый Дзуку был пьян и едва успел затормозить, чуть не сбив юношу. Тот не шевельнулся. Когда машина остановилась, он неторопливо обошел ее спереди, открыл дверцу кабины и вспрыгнул на сиденье рядом с Дзуку.
— Поехали, — сказал он.
— Ради бога, спрячь нож, а то меня страх берет, — насмешливо попросил Дзуку, окидывая взглядом пассажира.
Тот спокойно сложил нож и опустил его в карман. Дзуку выглянул из окна на толпу.
— Дзуку! — окликнул его кто-то, указывая на валявшегося человека.
Дзуку перекосился и до отказа выжал газ, заставив машину взреветь. Затем обернулся к пассажиру, невозмутимо сидящему рядом, и, усмехаясь, словно бы между прочим, спросил:
— Это ты свалил Шамиля?
Незнакомец кивнул.
— Ножом пырнул?
— Нет.
— Жаль.
Юноша не понял, к чему относилось это «жаль», то ли к тому, что не ударил ножом, то ли к тому, что вообще связался с Шамилем, и промолчал.
Дзуку сердито включил скорость, плюнул за окно и выругал собравшихся:
— Пошли, бараны, мать вашу!
Машина рванулась к тротуару. Перепуганные зеваки шарахнулись в разные стороны. Дзуку вывернул руль и погнал машину по улице.
— Пьян этот психопат!
— Когда он не пьян?!
— Не только пьян, он вообще придурок! — ругались в толпе.
Народ обступил лежавшего Шамиля. Парнишке помогли выбраться из канавы. Все обозленно загалдели, послышались угрозы. Алиса стояла на тротуаре, с интересом следя за происходящим. Она увидела, как смешался с толпой студент Джемал, как подняли Шамиля, который не в состоянии был стоять без поддержки. Драка напугала и очаровала Алису. В глубине души хотелось, чтобы все произошло из-за нее, а не из-за какого-то никчемного Мейры. Тут подъехал на велосипеде Ясон и спросил, что случилось.
— Шамиля избили, — ответила Алиса.
— Кто избил? — поразился Ясон.
— Не знаю, какой-то незнакомый парень.
Ясон сидел на велосипеде, упираясь ногами в землю.
— Иди, садись! — позвал он Алису.
Алиса аккуратно вспрыгнула на раму. Галдеж не утих.
— Не бойся. Шамиль в долгу не останется, — сказал Ясон.
— Мне-то нечего бояться, пусть он боится, как бы… — усмехнулась Алиса. — Погляди, на кого он похож!
— У него такие дружки, что…
Велосипед ехал вдоль тротуара.
— От его дружков весь город ходуном ходит, так ему и надо, — сказала Алиса.
А позади продолжали шуметь.
— Слезами умоется его мать! — кричал Бухути, смуглый крепыш, один из приятелей Шамиля.
— Не посади его Дзуку в машину, не увернулся бы, — надрывался второй, костлявый жидковолосый верзила по имени Резо.
— Куда ему скрыться! И Дзуку проучим!
А машины и след простыл. Она неслась по дороге, далеко за базаром.
4
Посреди пустого поля, у заброшенной церкви Дзуку остановил машину, высадил юношу, развернулся и погнал машину обратно.
Юноша в черном остался один. Он сел на камень у обочины. Ни единой живой души не было на дороге. Пустое, безлюдное поле простиралось вокруг, и на всем пространстве его не виднелось ни одного строения. За поворотом дороги тянулся лес. За спиной сидящего поднималась белая церквушка, а далеко за ней чернели в сумерках столбы, выстроившиеся вдоль железнодорожного полотна. Огромное, траурное небо пролегло над головой из конца в конец земли. Было сумрачно, тихо и одиноко. Какой-то мужчина пересек поле, открыл скрипучую дверь церквушки и скрылся за ней. Юноша сидел. Долго просидел он так, уйдя в свои думы.
Сумерки загустели еще плотней, и на дороге показался Мейра. Юноша издали узнал его, тот — босой и без шапки, — торопясь, семенил по пыльной дороге. Жалкую картину являл сгорбленный старик, похожий издали на бродячую собаку, которая трусит по обочине, принюхиваясь к земле. Юноша поднялся и вышел на дорогу. Мейра подошел уже совсем близко, увидел внезапно выросшего на его пути человека и замер.
— Мейра! — окликнул юноша.
Мейра сбежал с дороги и полем припустился наутек.
— Мейра! — снова позвал юноша. — Подожди, Мейра!
Мейра, не оглядываясь, удирал. Юноша погнался за ним, Мейра старался увернуться, но юноша настиг его, загнав к кустам, росшим около дороги.
— Мамой заклинаю, отпусти меня! Ей-богом, я не похисцал зенсцин, ей-богом, — пятясь, привычно бубнил Мейра.
Юноша порывисто схватил Мейру за плечо. Мейра вздрогнул, затрясся, спрятал голову и заслонился локтем, ожидая, что его начнут бить.
— Не бойся, Мейра! Успокойся! — уговаривал юноша.
— Ей-богом, я не похисцал зенсцин, мамой клянусь! — Мейра готов был заплакать.
Юноша сунул руку в карман и достал деньги. Мейра, улучив минуту, вывернулся и пустился наутек. На весу замерла протянутая рука юноши с зажатыми в ней деньгами. Мейра улепетывал. А юноша стоял у дороги и смотрел ему вслед. Долго смотрел он, как исчезает в темноте Мейра, бегущий по дороге.
Потом юноша засмеялся, сунул деньги в карман, и тут кто-то захихикал за его спиной. Он резко обернулся и увидел худого, запущенного вида мужчину средних лет, в грязных сапогах, в полосатых брюках с разноцветными латками на коленях, в ватной, несмотря на середину лета, телогрейке.
— Здравствуйте, — приближаясь, сказал мужчина. — Забавляетесь?
Юноша смерил его взглядом и ничего не ответил. Он поддел ногой валявшийся у дороги камешек и отбросил его в поле.
— Вы не обижайтесь, молодой человек, — сказал мужчина и снова захихикал, — юродивые всем на потеху живут, на то и юродивые, чтобы умных потешать.
В это самое время по дороге проехали Ясон и Алиса. Девушка боком сидела на раме, и юбка ее сбилась, открывая белые, стройные ноги. Взгляд юноши невольно задержался на них. Велосипед проехал совсем рядом и покатил дальше, к повороту, за которым лес. Слева простиралась вырубка. Темное небо сливалось с лесом, тяжело навалившись на землю густыми мрачными тучами.
— Ты любишь женщин? — спросил юноша.
— Женщин? — задумался мужчина. — Я больше люблю странствовать.
— Странствовать тоже хорошее занятие.
Велосипед скрылся за поворотом.
— Куда ведет эта дорога? — спросил юноша.
— К поселку, тут рукой подать.
— Ты здешний?
— Нет. Я из далекого монастырского города, из прекрасного и замечательного города.
— Если твой город прекрасен и замечателен, что же занесло тебя в эти края?
— Мне хотелось увидеть дерево фейхоа, вот я и пришел сюда.
— Фейхоа?
— Да, дерево фейхоа… Это божественное дерево растет неподалеку от Сухуми, в Эшерах. Знаете Эшеры?
— Знаю.
— Только в той местности произрастает оно, прославленное дерево фейхоа. Всю жизнь я лелеял мечту увидеть его и наконец-то дождался, достиг своей цели. — Разговаривая, мужчина не смотрел на собеседника, а постоянно косился куда-то в пространство.
— У тебя замечательные мечты и цели. — Юноша рассмеялся, и глаза его иронически заблестели. — Ты, часом, не ботаник?
— Вы думаете, это было легко? — не отвечая на вопрос, как бы про себя продолжал мужчина, все так же разглядывая пространство. — Эх, дорогой вы мой, для меня это было нелегкое дело. Вам, может быть, оно бы далось легко, а мне стоило немалых трудов.
— А сейчас что ты здесь делаешь? Наверно, хочешь увидеть сливу?
— Насмехаетесь? — учтиво улыбнулся мужчина, взглянув на юношу. — Вы, очевидно, принимаете меня за душевнобольного?
— Нет, почему же? — со сдержанной улыбкой запротестовал юноша.
— Это не ваша вина, — продолжал мужчина, снова косясь в пространство, — я сам виноват, что все подозревают во мне ненормального. Резон тому, что я — вот такой, и цель у меня…
Юноша отошел от дороги и сел на траву. Мужчина в телогрейке последовал за ним и опустился рядом. Юноша достал пачку папирос и протянул собеседнику.
— Спасибо, я не курю, — ответил тот.
— Когда достигнешь цели, курить в самом деле ни к чему, — заметил юноша.
— Да, я достиг цели, — ответил мужчина, — бесцельное существование не украшает никого. Цель иметь необходимо.
Мужчина беспрерывно улыбался, стеснительно и неловко, избегая смотреть в глаза собеседнику.
— А у меня нет цели, и тем не менее я чувствую себя превосходно, — сказал юноша, выпустив дым из ноздрей, и, немного помолчав, спросил, перейдя на «вы».
— А теперь чем занимаетесь?
— Теперь хожу и знакомлюсь с народонаселением.
— Для чего вам это нужно?
— Мне по душе такая жизнь. Хожу, наблюдаю за народом, беседую…
— Для чего?
— Просто так, люблю поговорить с людьми, интересуюсь, безмерно много узнаю нового.
Юноша засмеялся и сказал:
— Странный вы человек. Поделитесь, что вам удалось узнать?
— Многое, очень многое, хотя бы то, что невозможно существовать на свете, не имея цели и собственного гнезда. Без пристанища и цели — сгинешь, не живши веку.
Юноша молча курил, а затем поинтересовался:
— А у вас есть и цель, и гнездо?
— Есть, — твердо, с чувством внутренней гордости ответил мужчина, — мизерные, но все-таки есть. Да большего мне и не надобно. У меня своя маленькая цель и свой небольшой угол. У всех есть угол. Вот вы давеча гонялись за юродивым, а ведь и у него есть свой приют. Не будь у него пристанища — давно пропал бы.
— Мир от этого ничего не потеряет.
— Мир никогда ничего не теряет. Но все имеют право на существование, все равноценны пред ликом господа. Этот юродивый, до которого никому нет забот, любит самого себя не меньше, нежели, к примеру, вы любите себя, и поэтому имеет право на существование и любовь, а в его умственной неполноценности виновата не его личность и человечность, а его плоть, его телесная субстанция, которая была сотворена с изъяном, независимо от его желания. И не стоит взвешивать, нужен ли он, полезен ли он миру и обществу, он все равно достоин любви, ибо сотворен природой.
— Ну и что же? Природой создано многое, но не все достойно любви.
— Все, созданное природой, надо любить.
— По-вашему выходит, что надо любить и смерть и мучения, ведь и они созданы природой?
— Смерть и муки неотделимы от жизни, необходимы ей и порождены ею. Поэтому следует с терпением принимать их, смириться с ними.
— Легко сказать, притерпеться…
— Человек ко всему привыкает, мой дорогой… ко всему.
— Человек может привыкнуть ко всему, кроме несправедливости. А сколько на свете несправедливого, с чем человек никогда не примирится?!
— Надо примириться, следует набраться терпения. Все, что сотворено, имеет полное право на бытие, ибо ниспослано свыше, поэтому ко всему следует приспосабливаться, даже с точки зрения биологии приспособляемость есть признак силы.
— Зато с точки зрения человеческой гордости и достоинства — слабость. Только достоинство украшает человека. Приспособленчество — низость.
— В подобной слабости и заключается сила духа, потому что гордость и достоинство мешают духу преодолевать соблазн и приближаться к богу. Случайно ничего не создается. Вот вы давеча гнались за юродивым ради забавы, а он так же любит себя, как и вы — себя, поэтому…
— Откуда вам знать, люблю ли я себя? — прервал юноша, взглянув мужчине в глаза.
— Это я так, к слову. Дороже собственной персоны ничего нет.
— Неверно! Может быть, я бы предпочел умереть вместо… вместо, допустим, своего брата.
— И подобное чувство вызвано любовью к собственному «я» и свидетельствует о вашей слабости. Смерть, в данном случае, самозащита от страданий. Неумение приспособиться — есть слабость. От роду немощен и слаб человек. А не имеющий гнезда и цели — слаб вдвойне. Любая тварь имеет свою нору. Птица вьет гнездо. И едва падут сумерки, как она устраивается в своем гнезде на ветвях, складывает крылья и смежает глаза, набираясь сил для грядущего дня.
Мужчина умолк. Юноша выбросил окурок.
— Хорошо, когда каждый волен делать все, что захочет, — сказал он.
— Да, хорошо, — ответил мужчина.
Юноша достал из кармана нож, раскрыл его, воткнул в землю и поднялся. Лицо его было серьезно, даже следа не осталось от недавней насмешливой улыбки.
— Еще лучше, что все это не так, — сказал он, — иначе был бы полный хаос.
— А разве сейчас не хаос? — возразил мужчина. — И сейчас хаос.
— Наверное, существует какая-то закономерность, не познанная до сих пор, — сказал юноша и, нагнувшись, вытащил из земли нож, сложил его и сунул в карман. Было совсем темно. Из лесу, временами нарушая ночную тишину, доносился таинственный свист какой-то птицы. Сквозь тучи, обложившие небо, но проглядывало ни единой звезды.
— Где вы живете? — спросил юноша.
— Здесь, в этой церкви, там так уютно.
Молодой человек взглянул на церковь, затем спросил сидящего на земле мужчину:
— Как ваше имя?
— Антон.
— Антон, не доведете ли вы меня до поселка? Я там никогда не был.
5
Из окна сколоченной из досок парикмахерской просматривалась вся улица. И часто, прервав бритье, тучный парикмахер засматривался на улицу, наблюдая, что там происходит; обслужив клиента, он сам выскакивал за дверь, окидывая улицу взглядом, потом возвращался, усаживал в кресло нового клиента, накидывал ему на грудь белую простыню, взбивал пену в никелированной плошке и долго правил бритву на широком кожаном ремне, прибитом к столику. За время этой процедуры парикмахер даже взглядом не удостаивал клиента, все его внимание было приковано к улице: не дай бог упустить какую-нибудь занимательную оказию.
День был воскресный. Парикмахер наблюдал, как торопились на базар выспавшиеся горожане. Затем он приступал к бритью, успевая перекидываться словом с мужчинами, сидящими здесь же на деревянной скамье, — большинство приходило сюда не бриться, а обменяться новостями. Народ за окном все шел и шел к базару, туда же катились арбы, повозки, фургоны, кое-кто уже возвращался, нагруженный снедью. Слышались нескончаемый шум, шарканье шагов, разговоры.
Торговля была в разгаре. Юноша в черном и Антон ходили между прилавками, проталкиваясь сквозь толпу, ненадолго задерживаясь у лотков. Юноша в черном покупал фрукты, которые они тут же съедали. Потом оба двигались дальше, некоторые из встречных оглядывались на юношу и смотрели ему вслед с удивлением и любопытством, пока тот не терялся в толпе. А юноша бродил по базару, явно придя сюда не для покупок. Антон спешил за ним, не отрывая глаз от светлых, золотистых волос спутника, стараясь не отстать и не потерять его из виду.
Потом оба вышли с базара и заглянули в парикмахерскую. Парикмахер на мгновение прервал бритье, не оборачиваясь, оглядел их в зеркале оценивающим взглядом и снова изогнулся над клиентом. Сидящие на скамье подвинулись, Антон присел. Юноша прислонился спиной к стене, скрестил ноги и закурил. На скамье сидели трое: Антон, одноногий мужчина и еще один — бородатый. Эти двое, пришедшие раньше, о чем-то разговаривали, но юноша не прислушивался к их разговору, наблюдая за колечками дыма от своей папиросы. Антон полуобернулся к говорящим, его так и подмывало вмешаться в разговор, да все не выпадало случая. Парикмахер брил седоватого мужчину.
— Эй, приятели, Мейра бежит сюда! — воскликнул парикмахер, опрометью вылетая за дверь. Бородач и одноногий тоже привстали, выглядывая на улицу. Юноша повернул голову. И только недобритый мужчина продолжал спокойно сидеть в кресле, упорно разглядывая себя в зеркале.
Парикмахер возвратился, размахивая бритвой.
— Видали, каким он сегодня вышел на базар!
— Он вчера шапку потерял, а нам без шапки никак невозможно на улицу выходить, — сказал бородач.
— Это почему? — поинтересовался одноногий.
— Закон не велит.
— На нем есть шапка, — сказал парикмахер.
— Надо думать, снова подарили.
Одноногий заспорил с бородачом.
— Что это за закон, если глядеть в корень? — насмешливо спросил он.
— Нам так писано.
— Кто же это вам писал?
— Господь, да продлит он твои дни.
— Хм, — ухмыльнулся одноногий, — а где он есть, господь-то?
— Чтоб мне и моим сыновьям так жилось, как он есть!
— Откуда тебе известно, есть он или нет?
— Надо верить, тогда будет известно.
— Ты скажи, кто доказал, что бог есть?
— Ты сам лучше скажи, кто доказал, что его нет? — разошелся бородач.
— Ишь ты, — только и нашел что сказать одноногий.
Парикмахер закончил бритье и теперь прикладывал к лицу клиента компресс.
— А вам известно, что вчерашним вечером кто-то отдубасил Шамиля? — спросил он.
— Какого Шамиля? — Одноногий встрепенулся.
— Того задиру, — ответил бородач.
— Шофера? — удивился одноногий.
— Да, да, шофера, — ответил парикмахер, — кто-то вчера так отделал его, что ой-ой-ой.
— Вот те на! — протянул одноногий. — А за что?
Парикмахер освежал клиента одеколоном.
— Как выяснилось, они к Мейре привязались, ну и… — Парикмахер поставил пульверизатор на столик и взял металлическую расческу.
— Мыслимо ли, из-за Мейры человека обидеть? — недоумевал одноногий.
— И Мейра — человек, — сказал бородач.
— Человек-то человек, да кому он такой нужен?..
— Разве дело в том, кому? — вмешался Антон, довольный, что уловил момент ввернуть словечко.
— А в чем? — с удивлением спросил одноногий.
— Совсем в другом! — Антон с досадой махнул рукой.
Теперь все смотрели на него. Он сидел, положив на колени телогрейку.
Парикмахер поднял с кресла побритого и причесанного клиента. Тот надел на влажную голову фуражку, затянулся широким ремнем, расплатился, поблагодарил и, скрипя сапогами, вышел.
— Извольте! — пригласил парикмахер юношу в черном.
Тот сел в кресло и оглядел себя в зеркале. Осунувшееся лицо, воспаленные глаза, жидкая щетина четко выделяется на щеках и подбородке.
— Вам не жарко во всем черном? — угодливо спросил парикмахер, накидывая простыню.
— Нет, — холодно отрезал юноша.
Парикмахер был большим охотником до разговоров, но тут прикусил язык и молча занялся клиентом.
Было жарко.
Пока парикмахер готовил все необходимое, юноша стал прислушиваться к спору одноногого с бородачом.
— Неужели бог есть? — говорил одноногий.
Парикмахер взбил пену, направил бритву и принялся брить юношу.
— Кто его видел, если он есть?
— Его нельзя видеть, — сказал бородач.
— Интересно, почему? — с нарочитой наивностью спросил одноногий.
— Знаешь, что я тебе скажу? Ты о Моисее слыхал?
— О вашем Моисее?
— Да.
— Как не слыхал, слышал. «Моисеи в водичке плыл, переплыл и выплыл».
— Он вывел из Египта род еврейский. Около сорока лет таскались мы по пустыне. Говорят, бог возлюбил Моисея и сказал как-то ему: «Моисей, я имею до тебя дело, поднимайся ко мне на гору, — где-то есть такая гора, Синайской называется, — поговорить надо». Полез Моисей, чтоб тебе так жилось, как он полез, а что ему оставалось делать? Бог позовет — разве откажешься? Поднялся он на верхушку горы и разговаривал с богом, точь-в-точь, как мы с тобой. Только он слышал голос бога, а самого его не видел. И попросил Моисей: «Выйди, бог, покажись на минутку!» Но творец ответствовал: «Нельзя, Моисей, живой человек меня не увидит. А кто увидит, на месте ноги протянет».
— Выходит, я могу увидеть бога только после смерти? — воскликнул одноногий, победоносно озираясь. — Когда я умру, миляга, к чему мне бог? Ты мне его сейчас подай, а когда я умру, какая мне разница, есть он или нет? — громко разглагольствовал он.
— Ты и тому не веришь, что Иисус Навин солнце на небе остановил? — с упреком сказал бородач.
— Солнце?! А мухи — не хочешь! — обозлился одноногий.
— Тогда народ другим был, разве таким, как мы с тобой?!
Парикмахер молча ухмылялся. Между тем на улице собрались какие-то парни и поодиночке начали заглядывать в парикмахерскую. Потом от толпы отделился костлявый жидковолосый верзила. Он вошел в парикмахерскую — парикмахер в этот момент, склонившись, водил бритвой по шее юноши, — оглядел всех, присмотрелся к юноше — тот сидел, запрокинув голову на подголовник кресла, — рванулся к нему и, размахнувшись, наотмашь ударил его по горлу. Кресло опрокинулось, юноша навзничь растянулся в углу, но тут же вскочил на ноги. Нападающий успел вылететь на улицу. Парикмахер, выронив бритву и открыв рот, никак не мог прийти в себя. И прежде чем парикмахер смог выдавить из себя крик, прежде чем зашумели сидящие на скамье, прижавшиеся к стене от растерянности и страха — все это произошло в одно мгновение! — юноша кинулся к зеркалу, сорвал простыню и увидел, что кровь, залив все горло, стекает ему на грудь. Боли он не чувствовал и только подумал: «Сонная артерия». Оторвавшись от зеркала, он кинулся на улицу. Верзила, который воровски проник в парикмахерскую, теперь, так же воровски оглядываясь, бежал к грузовику. Юноша кинулся за ним. Дико закричала женщина. Прохожие переполошились, шарахались прочь при виде окровавленного человека, а тот изо всех сил гнался за длинным костлявым парнем. Юноша увидел, как тот вскочил в кабину, машина рванулась и понеслась, мотались незахлопнутые дверцы кабины. Юноша остановился, тяжело перевел дыхание, пошатываясь, пошел обратно, но, пройдя несколько шагов, прислонился к столбу. Затем он достал из кармана охотничий нож и раскрыл его.
— Зажми рану! — кричал столпившийся поодаль народ, но никто не решался приблизиться к раненому.
Откуда-то появилась Алиса, расталкивая толпу, бросилась к юноше, но тот не позволил дотронуться до себя и погрозил ножом:
— Не подходи!
— Что ты делаешь, брат, ты в своем уме?! Кровью истекаешь! — чуть не плача, уговаривала его Алиса.
— Оставьте меня в покое, — отчетливо проговорил раненый, — я не хочу жить!
Он стоял у столба, устремив глаза в небо, и походил на мученика. Постепенно все меркло и туманилось. Перед глазами плавали шарики, которые, начиная вертеться, разрастались до широких колец. Кольца исчезали и появлялись вновь, улетали вдаль и возникали снова, и снова уплывали и пропадали. Длинные широкие линии мелькали перед глазами, и высокие тополя на той стороне улицы превращались в эти линии и шатались. Юноша чувствовал страшную, пронзительную остроту этого необычайного превращения, мысленно понимал, что сейчас солнечное утро, но глаза видели только тьму, и он ощущал, что тело уже не принадлежит ему. Он не чувствовал тела, как своего, но разум, который сейчас словно существовал отдельно и самостоятельно, пока еще принадлежал ему, разум здраво воспринимал все, что происходило, и необычайность происходящего воспринималась, как необычайное… Потом он сполз на землю, свалился в пыль и почувствовал ту грань между душой и телом, тот промежуток, который, вероятно, ощущают только на пороге смерти. Тело исчезло, его не было вовсе, тьма загустела до полной черноты, предметы смешались, но разум, еще не оставивший его, подчинялся ему и четко воспринимал эту невыносимо тяжкую минуту… Силы покинули его.
Нож выскользнул из пальцев, юноша уронил голову, Алиса подбежала к нему и зажала рукой рану. Толпа сомкнулась тесней. Улица заполнялась народом.
— Что случилось? — спрашивали повсюду.
— Человека убили! — разнеслось по базару.
— Кто этот несчастный?
— Не знаем, приезжий какой-то…
Потом юношу подняли, уложили на чью-то подводу. Алиса, одной рукой зажимая рану, другой поддерживала его голову. Ее руки и новое праздничное платье были в крови. Народ расступился, и подвода направилась к больнице. Лошадь была стара, еле передвигала ноги.
— Дорогу, — кричал народ, — дайте дорогу!
У столба, где недавно свалился юноша, растекалась кровавая лужа. Все сторонились этого места, чтобы не видеть крови. Откуда-то прибежала свинья и, чмокая, принялась поедать кровь. Ее прогнали пинками. Бледный парикмахер, бородач, одноногий калека и Антон стояли у дверей парикмахерской. Парикмахера обступили люди, засыпали вопросами, а тот стоял с трясущимися губами, не в силах выдавить и слова.
— Ах, какого молодца загубили, — говорил Антон. — Ах, какого прекрасного человека ухлопали! Еще вчера он повел меня в поселок, угостил обедом, за все расплатился сам… Давеча на базаре угощал… Ах, до чего добрый, до чего замечательный человек был… Но что поделаешь?!
— Звали-то его как? — спросил одноногий.
Антон задумался.
— Не знаю, не назвался он.
Одноногий плюнул от негодования.
— Поил он тебя, милейший, кормил, неужели так трудно было поинтересоваться, как зовут его?!
6
Прошла неделя. Август катился к середине. Жара не спадала. Городок продолжал свою обычную жизнь. Со станции доносились гудки локомотивов, составы громыхали по рельсам. Утром люди шли на работу, вечером возвращались домой. Несмотря на сущее пекло, из окон ресторанчиков рвались песни любителей застолья. Не очень приятно пить в такую жару, но кого одолевает охота, разве им помеха жара? В общем, каждый был занят своими делами.
Все эти дни, как и всегда, Алиса с утра шла в больницу. Только Ясон больше не поджидал ее у подъезда с велосипедом, теперь девушку сопровождал Джемал. Студент Джемал был смуглым красавцем, изысканно вежливым, с хорошими манерами. Жил он в гостинице, у самой железной дороги. Из окна его номера виднелись железнодорожное полотно и маленький стадион, обнесенный кирпичной стеной. А дальше, за густыми купами деревьев простиралась пойма реки. Чем-то безгранично родным, вольготным, радостным и одновременно печальным, таинственным и манящим всегда веяло от нее. Однако Джемал никогда не задерживался у окна, глядя вдаль.
Дом, в котором жила Алиса, находился напротив почты. Окно ее небольшой, аккуратно прибранной комнаты выходило на главную улицу, а с балкона, на противоположной стороне, открывался вид на базар и дорогу, идущую к поселку. Уже второй раз в довольно позднее время замечали прохожие Джемала, стоящего на этом балконе, причем в комнате не горел свет, а из распахнутой двери доносилась музыка, там играла радиола.
По утрам Алиса и Джемал вместе шли в больницу. Они каждое утро встречались у почты, напротив дома Алисы. Эти встречи происходили на виду у всех. Потом они, весело болтая, шли по главной улице, здоровались по пути со знакомыми, особенно Алиса, — Джемал жил в этом городе без году неделя и своих знакомых мог пересчитать по пальцам, — они шли смеясь, весело болтали, около парка переходили на ту сторону проспекта и скрывались за дверями больницы.
Больница была в самом центре города, фасад ее побеленного двухэтажного здания выходил на главную улицу. Из окон виднелся городской, издавна запущенный парк. Вечнозеленые магнолии прикрывали ветвями эстраду, когда-то синюю, а теперь побуревшую и облупившуюся от времени. Прошлым летом здесь по вечерам гремел оркестр, и несколько пар кружились на площадке перед сценой. Танцевали в основном «стиляги», а остальные наблюдали за ними. Но каждодневный шум и музыка раздражали больных, поэтому танцплощадку перенесли на территорию Дома культуры, где проводились всевозможные массовые мероприятия. Теперь редко кто захаживал в парк по вечерам. Между парком и больницей лежал тихий переулок, воробьи щебетали и возились в листве деревьев. Больным доставляло удовольствие глазеть на деловую суету и жизнь других людей, в которой они не могли принять участия.
На главной улице, разумеется, ничего особенного не происходило. Просто гомон жаркого летнего дня будоражил больничную тишину, и больных тянуло к улице, к жизни, полной зноя и движения, ее гомон рождал надежду, что ничего еще не прошло, что вне этих стен все сильны и счастливы, что стоит стремиться вырваться отсюда. Поэтому окна не закрывались круглые сутки.
Только в одной из палат окна держали закрытыми. Там лежал не знакомый никому юноша в черном, раненный около базара.
Неделя прошла с того дня, как Алиса доставила его в больницу. В тот день до самой темноты народ толпился перед больницей. Городок был взбудоражен. Каждый стремился узнать, выживет ли незнакомец, столь внезапно объявившийся в городе и сразу попавший в центр внимания. Незнакомец, который может исчезнуть так же внезапно и неожиданно, как и появился. Очень многие простояли до темноты у больничного подъезда, чтобы узнать, чем закончится операция. Прибыла и милиция. Всех допросили, но оказалось, что никто не может толком рассказать о случившемся.
Всему есть предел, и когда совсем стемнело и людям надоело, как надоедает любое развлечение, торчать перед больницей, они разошлись. Все уже знали, что состояние больного чрезвычайно тяжелое и ждать попусту не имеет смысла, тем более, что завтра понедельник, рабочий день, и разошлись по домам.
Длинная неделя прошла с того дня, как все это случилось. Рана больного затянулась. Своевременная помощь или необъяснимый счастливый случай спасли ему жизнь.
— Все зависит от стечения обстоятельств, — философствовал врач Коция, который зашивал рану, — не подвернись в тот момент Алиса или поспей я вечером на поезд, — я собирался в Поти к родственникам, — ему бы не выкарабкаться.
Так думал врач Коция. Но как бы там ни было, светловолосый юноша вернулся к жизни. Уже было известно, что его зовут Вамех, фамилия — Гурамишвили. Всю неделю пролежал он в палате, не произнося ни слова, упрямо уставясь в одну точку на стене. Всю неделю промолчал он.
Настала пора выписываться. Коция, сопровождаемый Алисой и Джемалом, вошел в палату, попросил Алису снять бинты и внимательно осмотрел длинный фиолетовый рубец на горле Вамеха. Борода, неровно выросшая на лице, светлые волосы и худоба придавали ему сходство с мучеником. Пока Джемал осматривал рану, Коция выпрямился и улыбнулся.
— Чудом спаслись, — сказал он и посмотрел на Алису, — это ее заслуга.
— Спасибо, — сказал Вамех.
— Короче говоря, судьба, сынок, — подытожил Коция, — счастливое стечение обстоятельств. Не опоздай я к поезду или не окажись Алиса в тот момент на базаре — мог махнуть на себя рукой…
Вамех приподнялся.
— Вся жизнь зависит от случая, — сказал он. — Непредвиденный случай переворачивает всю жизнь человека… — Он улыбнулся и добавил: — Все это бессмыслица.
— Что?
— Все! Жизнь, существование…
— Жизнь?! — удивился врач.
Наступал вечер. Мягкий, теплый августовский вечер, с косыми лучами заходящего солнца, с пурпурным на западе небом, с птичьим щебетом, когда становится жаль уходящего радостного и приятного дня и хочется, чтобы это ненарушаемое ощущение покоя длилось как можно дольше. Опускался вечер. Вамех снова надел свою черную одежду, которую, выведя кровавые пятна, постирали сердобольные нянечки, и вышел из больницы. Он вышел на улицу, в вольный мир, живущий тысячами различных жизней, вернуться в который надеялись все больные, облепившие сейчас подоконник.
Вамех выписался, и Алиса почувствовала — что-то кончилось с его уходом. Она стояла у окна и смотрела вслед Вамеху, который уходил по главной улице в полинявшей от стирки рубахе. Шел он медленно, неизвестно куда и зачем, и Алиса поняла вдруг, что каждое утро, пока Вамех находился в больнице, ее по дороге на работу не покидало ожидание чего-то важного, решающего, могущего случиться сегодняшним же днем, случиться и все решить. Всю неделю, переполненная особой радостью, бежала она в больницу, и ни разу за весь день не могла равнодушно пройти мимо палаты Вамеха. За эти дни она успела поссориться с Ясоном и подружиться с Джемалом, но все это как-то между прочим, всю эту неделю она жила иным интересом, так, по крайней мере, казалось ей, а теперь, когда Вамех выписался из больницы, когда он так равнодушно ушел, пересек главную улицу и пропал за аптекой, Алиса ощутила горечь неудовлетворенного любопытства: что-то закончилось, жизнь снова приобретает окраску привычной повседневности, и наступающие дни не сулят ничего, чего можно было бы ожидать с радостным нетерпением.
— О чем задумалась? — спросил Джемал, который незаметно подошел к ней и встал рядом.
— Ни о чем, просто так, — Алиса очнулась.
Джемал выглянул на улицу:
— Ушел Вамех?
— Да, ушел, — ответила Алиса. — Странное впечатление оставляет этот парень, не правда ли? — задумчиво проговорила она.
— Да, он кажется немного странноватым, — закивал Джемал и предложил: — Пошли сегодня в кино?
— Что там?
— Музыка отличная, послушаем.
— Что ты все про кино да про кино, ты же знаешь, что я не хочу встречаться с Ясоном.
— Почему?
— Почему? — Алиса промолчала. — Эх, да ладно! Пойдем ко мне, если тебе хочется музыку послушать. У меня ведь отличные пластинки.
7
Шамиль два дня провалялся в постели, и даже на третий день, когда он смог встать, челюсть ныла так сильно, что трудно было разговаривать.
Во всем городе только один человек не боялся Шамиля, и этим человеком был косоглазый Дзуку. Что же касается остальных, то они никогда не осмеливались перечить Шамилю, дружили с ним или сохраняли добрые взаимоотношения, одни преклоняясь перед сильным, другие — труся, третьи — гордясь таким приятелем. И только Дзуку ни в грош не ставил Шамиля, и Шамиль это знал. Знали и другие, это сразу бросалось в глаза. Разумеется, и Шамиль не боялся косоглазого Дзуку. Дзуку слыл покладистым малым, он терпеливо сносил дружеские подтрунивания, никогда не стремился в главари, но в бешенстве или под пьяную руку был способен на самые дикие выходки. В такие минуты, в отличие от Шамиля, который никогда не терял хладнокровия, он уже не ручался за себя, и Шамиль, зная это, остерегался сталкиваться с Дзуку, понимая, что сладить с ним будет не так-то просто. Несмотря на осторожное отношение к Дзуку, Шамиль слыл в городе за первого головореза и силача, и не без оснований. Сил хватало, дрался он отменно, и никто не помнил случая, чтобы кто-нибудь мог одолеть Шамиля. Все остерегались его, предпочитая с ним не связываться.
И вот в городе объявляется незнакомец, который двумя ударами укладывает Шамиля на двое суток в постель. Шамилю были известны все события, последовавшие за этим, но он отлично понимал, что его авторитет пошатнулся.
Так оно и было. Городские парни втихомолку поговаривали о некоем незнакомце, который так отделал Шамиля, того самого Шамиля, которого знал весь город, что его бесчувственного пришлось на руках отнести домой. Правда, и тому парню досталось, теперь он в больнице, но все знали, что Резо, дружок Шамиля, подкрался к нему сзади, когда он брился, и ударил исподтишка. Всем было известно, что юноша в черном с порезанным горлом, истекая кровью, все же выскочил из парикмахерской и погнался за Резо, чтобы отплатить ему, а Резо трусливо удрал, не то бог знает, что бы с ним было. Поэтому общие симпатии были на стороне незнакомца. Новый герой появился на арене, и все ожидали дальнейших событий.
А Вамех, выписавшись из больницы, шел по вечерней улице, даже не подозревая, да и откуда ему было подозревать, какие страсти кипят вокруг него, чем он является для городских парней.
Задумавшись, шел он по улице, в черном, как и прежде, и фиолетовый шрам резко выделялся на его горле. Прохожие останавливались, с нескрываемым любопытством провожая взглядом неторопливо шагающего Вамеха. Их лица застывали в глупом удивлении. Стоило ли удивляться тому, что человек спасся от смерти? Разумеется, нет, но все удивлялись, хотя досконально знали историю его спасения, изумленно оглядывались вслед Вамеху, который неторопливым шагом проходил по улице. Вамех шел по направлению к базару и испытывал чувство облегчения от того, что все меньше прохожих попадается навстречу.
Он остановился перед парикмахерской у базара, перед той самой, в которой его ранили. Тот же самый парикмахер, что брил его в то злополучное утро, сидел в кресле и читал газету. Улица была пуста. Вамех перешел дорогу и вошел в парикмахерскую. Парикмахер обернулся на шаги и замер, открыв рот.
Вамех рассмеялся.
— Тогда нам помешали, — сказал он, — надо бы добриться…
Растерянный, обомлевший парикмахер суетливо поднялся, свернул газету, положил ее на край стола и выдвинул кресло.
— Я тут ни при чем. Вы же видели, как все произошло, — говорил он, зачем-то суетливо роясь в ящике стола.
— Кто вас винит? — засмеялся Вамех, усаживаясь в кресло и разглядывая свое лицо в зеркале. Выросшая за неделю щетина — да и выросла она странно — на одной щеке гуще, чем на другой, совершенно изменила его. Парикмахер, понемногу приходя в себя, принялся взбивать пену.
— Так, значит, все обошлось благополучно? — осторожно поинтересовался он.
— Выжил…
— Ох, эти сукины дети, чуть не подвели меня под монастырь.
— Вы-то здесь при чем?
— Ни при чем, да все же чуть в переплет не попал.
Успокоенный парикмахер усердно скреб щеки Вамеха, а Вамех смотрел на себя в зеркало.
— Не скажете мне, кто был тот парень? — безразлично спросил Вамех.
— Тот парень? — Парикмахер задумался.
— Угу.
— Кто-то из дружков Шамиля.
— Как его зовут?
— Зовут? — Парикмахер снова задумался.
— Да.
— Не знаю.
— Знаешь ведь, — сказал Вамех и посмотрел в зеркало на парикмахера.
— Нет. Ей-богу, не знаю! — Парикмахер скривился.
Вамех понял, что парикмахеру известно имя того плешивого верзилы, но он боится назвать его. Пожилого человека было жаль, и Вамех не стал допытываться.
Бритье продолжалось.
Парикмахер лез из кожи, стараясь угодить Вамеху, поминутно направлял бритву и трижды намылил его щеки.
— Осторожней у раны, — попросил Вамех.
— Не извольте беспокоиться.
Долго старался парикмахер и наконец закончил бритье.
Вамех встал, разглядывая себя в зеркале. Он показался себе осунувшимся и бледным, но остался доволен, потому что бледность и худощавость только красили его. Все портил фиолетовый шрам, неприятно и страшно выделяясь на горле. Вамех долго разглядывал его.
— Какой рубец остался, — покачивая головой и всем видом выражая сожаление, посочувствовал парикмахер. — Ох, уж эти подонки!
Вамех достал деньги и заплатил вдвое.
— Премного благодарен, — поблагодарил парикмахер, — заходите еще.
— Больше не удастся, — сказал Вамех, — я сегодня уезжаю.
— Куда путь держите?
— Уезжаю от вас. В другие места.
— Значит, плюнули на того парня? — воскликнул парикмахер, поглядывая на шрам.
Вамех усмехнулся, похлопал парикмахера по плечу и направился к двери:
— Плюнул. Черт с ним! Всего хорошего.
Он вышел из парикмахерской и направился к станции.
Вечерело. На перроне, как всегда в вечернее время, было много народу. Одни ждали поезда, другие проводили время просто так, собравшись в кружок и беседуя. У багажного отделения стоял Шамиль в окружении друзей. Они курили и хохотали, что-то обсуждая. Шамиль держался степенно и, слушая болтовню, изредка улыбался.
— Знаете, что потом утворил этот чокнутый Дзуку? — говорил смуглый крепыш.
— Ну-ка!
— Нализался в стельку, он и за день до этого еле на ногах держался, начал буянить и перебил в столовой бутылки. Знаете Таурию, что с ним механиком работает, сына Валико Габечава?
— Что за Таурия?
— Прозвище такое, головастик, значит.
— Что за прозвище?
— У него башка с ведро, вот и прозвали головастиком. Ну, вот, даже тот Таурия не мог его угомонить. Дзуку прямо на стенку лез. Тут подходит официант Гвачи и спрашивает: «Что с тобой?» — «Брата моего убили, ух, я этих!..» — «А как его звали?» А Дзуку лупит себя по роже, аж кровь из носу хлещет. «Кого убили, сынок? — не отстает Гвачи. — Как его зовут?» Тут Дзуку как вскочит, как двинет Гвачи, и уложил его. «Откуда мне знать, — орет, — как звать, при чем тут имя, дело вовсе не в имени!..»
Все расхохотались.
— Дальше, дальше…
— А дальше — заграбастали его, сволокли в отделение, утром выпустили, а за побитую посуду потребовали, чтобы денежки выложил. Теперь зверем на всех глядит.
— Поделом ему.
— Кого оплакивал, идиот, если даже имени его не знает?!
— Кого, да того парня!..
— Какого парня?
— Того…
Рассказчик, а за ним и все остальные поглядели на Шамиля.
— Того, которого Резо порезал, — вполголоса сказал один.
— А-а! — протянул другой.
— Мало я ему дал, выскользнул из рук, — сказал Резо, — Дзуку во всем виноват.
— Эй, ребята, Мейра прискакал! — воскликнул один из парней.
— Где?
— Вон!
— Смотрите, и впрямь он! — Парни оживились.
— Все посмотрели за платформу, там, вдоль железнодорожного полотна, опустив голову, бежал Мейра, торопясь к поезду.
— Посмотрите, что я сейчас с ним сотворю! — сказал один, расплываясь от удовольствия.
А Мейра уже вступил на платформу и степенным шагом шел среди народа, привычно покрикивая:
— Носильцик! А вот холосий носильцик! Кому надо холосий носильцик!
Издали голоса Мейры не было слышно, но все знали, что́ он кричит. Парни поджидали Мейру, который постепенно приближался к белому сарайчику багажного отделения, предлагая свои услуги народу, волнующемуся в ожидании поезда.
— Ну, холосий носильцик! Холосий носильцик! Кому носильцик! — кричал Мейра, шлепая босыми ногами по бетонным плитам платформы. Маленький, сутулоплечий, в закатанных до колен брюках, из которых спичками торчали ноги, с седой, свалявшейся бороденкой, которая выглядела сейчас, как продолжение кудлатой папахи, — несмотря на жару, на Мейре была облезлая папаха, — живо и проворно семенил он, энергично, но в то же время жалко и смешно выкрикивая тонким голосом:
— Ну, холосий носильцик! Кому холосий носильцик?!
— Совсем состарился, горемыка! — заметил один из приятелей Шамиля.
— Конечно, состарился, не мальчик же…
— Кто состарился? Мейра? Вот посмотрим сейчас, как он затанцует! — сказал один из парней, отделяясь от других. — Мейра! — громко позвал он.
Мейра вздрогнул и замер на месте, недоверчиво поглядывая на парней. Он не мог понять, зачем позвали его люди, у которых нет никакой поклажи.
— Иди сюда!
Мейра заколебался. Он никак не мог сообразить, зачем его зовут, то ли подсобить с багажом, то ли поиздеваться над ним, и хотя он не видел никакого багажа, надежда заработать не оставляла его. Он стал медленно приближаться, но в это время раздался строгий голос Шамиля:
— Оставьте его в покое! Оставь, говорю!
Парень, который звал Мейру, отошел в недоумении. Мейра приблизился еще шага на два и робко сказал:
— Вот холосий носильцик!
— Иди, иди, не надо нам носильщика! — махнул рукой Резо.
Мейра побежал обратно. Парни приумолкли. По станционному радио сообщили, что поезд вышел с соседней станции. На перроне появился Вамех, держа руки в карманах. Так же медленно и спокойно, глядя прямо перед собой, прошел он мимо Шамиля и его дружков, даже не заметив их. Подошел к кассе, взял билет и, немного отойдя, прислонился к столбу.
Друзья Шамиля безмолвно провожали глазами Вамеха. Потом все разом обернулись на Шамиля. Издали засвистел приближающийся поезд. Народ забегал, засуетился. Шамиль вздрогнул, побагровел, однако подавил волнение, прокашлялся и направился к Вамеху.
— Что будем делать? — спросил кто-то.
Поезд вошел на первый путь. Толпа, шумя, кинулась к вагонам. Шамиль подошел к Вамеху и встал перед ним. Они в упор взглянули друг на друга. Вамех равнодушно перевел взгляд за спину Шамиля, в сторону зеленых вагонов, из окон которых высовывались пассажиры, а внизу народ, сбившись, осаждал подножки, все пытались пролезть разом, без очереди и порядка. Поезд стоял здесь недолго, и каждый боялся остаться.
— Узнаешь? — спросил Шамиль.
Вамех кивнул, холодно посмотрел на него, достал папиросу, чиркнул спичкой и закурил. Картонный билет он держал в руке, вертя его в пальцах.
— Счастливо отделался, — сказал Шамиль, уставясь на шрам Вамеха.
Тот выпустил струю дыма прямо ему в лицо. Шамиль кинул взгляд на билет, который вертел Вамех, и посмотрел в сторону поезда.
— Отбываешь? — спросил он.
Вамех не ответил. Он затянулся папиросой и окинул взглядом перрон. Все уже успели подняться в вагоны, и на перроне было тихо и непривычно спокойно. Раздался свисток. Вот-вот поезд тронется.
— Езжай, милый, а то ты нас плохо знаешь, как бы тебе вконец ноги не переломать в нашем городе.
Вамех закусил папиросу, взглянул Шамилю в глаза, разорвал билет пополам, аккуратно сложил половинки и порвал еще раз. Бросив картонные обрывки к ногам Шамиля и подавшись всем телом вперед, проговорил:
— Кто тебе наболтал, будто я уезжаю? Никуда я не собираюсь, мне и здесь очень нравится.
Поезд тронулся, вышел за станцию, постепенно набирая скорость, и перестук колес затих вдали.
8
Поезд ушел. Отстучали и смолкли вдали колеса. Народ разошелся. Минутное напряжение, ожидание или иное подобное чувство, которое бессознательно охватило всех, пока поезд стоял у перрона, теперь улетучилось. Мейры не было видно. Он, надо думать, уже летел домой старой своей дорогой через кукурузное поле. Линейный милиционер в красной фуражке прогуливался по пустой платформе. И только перед багажным отделением застыла компания парней. Шамиль и Вамех молча стояли лицом к лицу. Потом Вамех повернулся и, не произнеся ни слова, направился к выходу.
— Погоди! — окликнул его Шамиль.
Вамех обернулся. Шамиль подошел к нему:
— Тебе известно, мальчик, что бык, схватившийся с буйволом, рискует остаться комолым?
— Это кто же буйвол, не ты ли? — Вамех рассмеялся.
Шамиль стиснул зубы и угрожающе покачал головой.
— Ладно, запомним.
Вамех вышел на привокзальную площадь и остановился. Идти было некуда, впереди — никакой цели. Он дошел до длинной скамейки, сел на нее и стал смотреть вокруг, всем существом своим ощущая грустную тишину захолустного городка, которую еще больше подчеркивал хриплый голос репродуктора, торчащего высоко на столбе. Сначала передавали последние известия, потом полилась музыка. Репродуктор дребезжал, и все звуки воспринимались Вамехом, как зов любимой, но далекой, полной жизни счастливой страны, которая недоступна ему сейчас и оттого кажется еще милее. Он сидел и рассматривал прохожих.
Тяжело переставляя ноги, прошел толстый старик с палкой в руке. Было видно, что каждый шаг дается ему с трудом. Вамех взглядом проводил его. Медленно преодолевая ступеньки и часто отдыхая, старик поднялся по лестнице и скрылся в здании вокзала. Вамех повернул голову и увидел небритого смуглого мужчину, присевшего на другом конце скамейки. Мужчина печально глядел перед собой, придерживая руками корзину, стоящую у него на коленях. Потом он вздохнул, вытащил из корзины булку и кусок колбасы и принялся за еду с такой жадностью, что у Вамеха защемило сердце, и невыносимая жалость к самому себе, ко всем вокруг внезапно овладела им. Такой холод, такое чувство одиночества навалилось на него, что ком подкатил к горлу, не давая вздохнуть. Где-то зашелся в плаче ребенок. На противоположной стороне улицы худой, совершенно седой мужчина в военном кителе, смешно и нелепо растопырив руки, пытался загнать в калитку выбежавшую на тротуар курицу.
Сумерки наплывали на город. Вамех закрыл глаза. Всеобъемлющая жалость переполнила его. Он весь проникся необычайной, невесть откуда налетевшей теплотой, и ощущение ее пронзило его, как током. Он с удивлением ощущал, как скапливается и растет в нем грустное, пронзительное и в то же время приятное чувство, которое относится ко всему, что окружает его, ко всему, что видят его глаза. Этим чувством было пропитано все, что являлось его взору, и ощущение его рождало в Вамехе что-то невыносимо дорогое, невыносимо милое, невыносимо достойное жалости, но что это было, он не мог понять, не знал, оно возникло вдруг и сразу же обернулось острой болью. Слезы текли по лицу Вамеха, скорбная фортепьянная музыка звучала над площадью, словно глас вопиющего в пустыне.
Музыка оборвалась внезапно, разом спугнув настроение Вамеха. Он поднял глаза, увидел Шамиля и его приятелей, которые выходили из здания вокзала, и пожалел, что не уехал. Эти парни показались ему жалкими, беспомощными людьми, которые через какие-нибудь тридцать — сорок лет превратятся в разбитых стариков и умрут. Сам Шамиль начнет ковылять, волоча ноги, как тот толстый старик, который недавно прошел мимо Вамеха. Кто знает, каким молодцом был он прежде? А теперь у него даже нет сил сделать лишний шаг… Наступит миг, когда сегодняшний день представится Шамилю несусветной глупостью, ему покажется, что только теперь проник он в смысл бытия, но будет поздно. Проходят годы, и все начинают понимать, как следовало жить, как следует жить отныне, но, к несчастью, прозренье посещает нас тогда, когда уже невозможно осуществить желаемое. К тому же, люди мешают друг другу, у каждого свое представление о сущности и истинности жизни, а истина познается тогда, когда невозможно ничего изменить, потому что жизнь уже прожита. Насколько велико сходство между людьми, настолько велико и различие, и в то время, как одного интересует нечто определенное, второй обеспокоен совершенно иным. Может быть, это является причиной всех столкновений? Может быть, они вызваны потерей первобытной простоты?
Вамех глядел вслед Шамилю и его дружкам и никак не мог понять своего отношения к ним. Парни удалялись. Вамех встал и вдруг услышал, что кто-то окликнул его.
9
Это был Ясон. Он пересек площадь и подошел к Вамеху. Уже по походке можно было определить, что Ясон успел пропустить не один стаканчик. Лицо его показалось Вамеху знакомым, но он не мог вспомнить, где он видел этого человека. Тщетно напрягал он память. Ясон, застенчиво улыбаясь, остановился перед ним, стройный и высокий, на целую голову выше Вамеха.
— Извините, что я окликнул вас, — сказал Ясон.
— Ничего, — ответил Вамех.
Он не мог понять, что нужно от него этому парню, и поэтому держался скованно и напряженно.
— Вы меня не знаете, но я вас знаю, — начал Ясон.
Вамех молча слушал.
— Меня зовут Ясоном. Может быть, мы пройдемся, прогуляемся немного, если вы располагаете временем?
— А здесь вы не можете сказать, что вам от меня нужно?
Ясон улыбнулся.
— Г-хм, — откашлялся он. — Вы Алису знаете?
— Алису?
— Да, которая спасла вас. Она в больнице работает.
— Знаю.
— Г-хм, — снова откашлялся и виновато улыбнулся Ясон. — Я вас не задерживаю?
— Нет.
— Мне бы хотелось поговорить с вами. Это касается Алисы и…
Тут Вамех неожиданно вспомнил, где он видел Ясона. Ну, конечно же, в сумерках у заброшенной церкви. Он проехал на велосипеде, а на раме сидела девушка с красивыми ногами. Видимо, то была Алиса. Вамеху смутно припомнилось лицо девушки. Конечно же, Алиса. И стоило ему вспомнить, как напряжение прошло.
— Я с удовольствием выслушаю вас, — облегченно сказал Вамех.
Ясон заметно повеселел.
— Зайдем, ради бога, в столовую, что ли, на улице неудобно.
Они срезали угол площади, прошли тихой улицей, ведущей к центру, свернули в переулок с разобранной мостовой и уперлись в небольшую столовую. Ясон пошел первым. В столовой не было никого, кроме буфетчика. Ясон откинул занавес одной из ниш и жестом пригласил Вамеха. Они уселись за стол, на котором стояла тяжелая солонка, полная толченой каменной соли. Ясон тут же поднялся, вышел, и вскоре послышалось, как он дает буфетчику заказ. Когда Ясон вернулся, Вамех в прежней позе сидел за столом, ломая голову над тем, зачем он понадобился этому человеку. Молчаливый буфетчик выставил на стол две бутылки вина, разложил хлеб, зелень и лобио. Ясон наполнил стаканы. Первый тост выпили за знакомство. Закурили.
— Давайте выпьем еще, — предложил Ясон.
Они выпили еще раз. Вамех поставил стакан и посмотрел на Ясона.
— О чем вы собираетесь говорить со мной?
— Не знаю, с какого конца подступиться, дело уж очень щепетильное…
И снова наполнил стаканы:
— Выпьем за благополучное завершение всех дел, которые привели вас сюда.
— Я здесь случайно, и никаких дел у меня нет.
— Тогда — за случай, который свел нас.
— Идет, — кивнул Вамех и осушил стакан.
Ясон выпил, перевел дыхание и начал:
— Я руковожу драматическим кружком в местном Доме культуры. Как вы, возможно, почувствовали, я не здешний, я сухумский уроженец, там у меня дом. А в этом городишке я около полутора лет…
Вамех слушал.
— Ах, что за город Сухуми! Сколько там у меня было пассий. Их и здесь навалом, но…
— А в Эшерах вы бывали? — перебил Вамех.
— Еще бы!
— Фейхоа видели?
— Не раз.
— Это нечто прекрасное, дерево фейхоа…
— Да, прекрасное, — удивляясь, поспешил согласиться Ясон и придвинулся к Вамеху. — Женщин и здесь с избытком. Ты ведь понимаешь, наше дело такое… Сцена — это да… Ты знаком с Алисой?
— Знаком.
— Ну, как деваха?
— Хороша.
— Более современной с огнем не сыщешь в этом городе. Уже год, как она моя любовница.
Вамеха покоробило такое бахвальство, но он постарался не выдать себя.
— Алиса тоже не совсем местная… Некоторые здесь с ума по ней сходят, а мне, по правде говоря, она уже приелась. Давно бы расплевался с ней, да она единственная баба, с которой можно потрепаться.
Вамех молчал.
— Неделю назад мы поцапались, но не в этом дело, помиримся, она без меня не сможет. Она обожает культурных, а таких здесь раз, два и обчелся… Я не настаиваю, попадаются здесь и светлые личности, но одни — семейные, другие… Ты представить себе не можешь, что за дыра этот городишко, а Алиса не любит играть в прятки, я для нее самый подходящий.
— Вы, должно быть, очень культурный человек, раз служите в Доме культуры, — с серьезным видом заметил Вамех.
— Ты прав, — согласился Ясон, не вникая в замечание Вамеха, — знаешь, из-за чего мы с ней на ножах?
Разумеется, Вамех не знал.
— Знаешь, из-за чего мы поругались? — снова спросил Ясон.
— Откуда мне знать?
— Из-за тебя!
— Из-за меня?!
— Именно! Теперь я должен, как мужчина мужчине, открыть тебе одну вещь… Дай руку.
Вамех протянул руку и заинтересованно заглянул в лицо Ясону.
— Я виноват перед тобой! — высокопарно произнес Ясон, преисполненный чувством собственного достоинства, приданным ему вином.
— В чем?
— Было дело… Нет… Даже не то, чтобы виноват… Мне хочется, чтобы ты понял меня, как мужчина мужчину. Ты настоящий мужчина, я знаю…
— Да скажете вы наконец, в чем дело?
— Минуточку!
Ясон выпил и осмелел еще больше.
— Я, возможно, во многом ошибаюсь, но никому не дано упрекнуть меня в трусости или подхалимстве. Я, как мужчина, пригласил тебя и все высказываю прямо. Поймешь ты или нет, зависит от тебя. Но мне хочется, не таясь, выложить все, и ты, надеюсь, поймешь меня, как мужчина мужчину, и все передашь Алисе, что явится еще одним подтверждением твоего мужского достоинства.
— Послушайте, оно ни в каких подтверждениях не нуждается, — отрезал Вамех, которому надоело чересчур затянувшееся вступление, — скажите, наконец, в чем дело?
— Видишь ли, я косвенно виноват в том, что тебя ранили. — Тут Ясон осторожно, испытующе заглянул в глаза Вамеху.
— Как? — шепотом переспросил Вамех.
— А ты выслушаешь меня до конца? — так же шепотом спросил Ясон.
Вамех кивнул.
— Это я сказал Резо и тем ребятам, что ты в городе… Но тогда я не знал тебя, не знал, что ты такой славный парень…
— Ты этого и сейчас не знаешь.
— Нет, нет! Теперь я знаю! Теперь!.. — громко зачастил Ясон.
— Хватит, — оборвал его Вамех, — начал, так досказывай.
— Вы не обиделись? — заискивающе спросил Ясон.
— Нет, — Вамех с отвращением засмеялся. Ясон ничего не замечал.
— Я видел тебя накануне. Я ехал с Алисой, а ты стоял на обочине около церквушки и разговаривал с этим дьяконом… Как его?.. С Антоном. И вот, когда мы вернулись из поселка, я и растрепал ребятам, что видел тебя. Они кинулись искать тебя и на следующий день подкараулили у базара.
— Дальше?
— Тут-то и взбесилась Алиса: зачем я тебя выдал?! Теперь пойми меня, как мужчина мужчину. Тебя я видел впервые, их знаю давно, вот черт и дернул меня за язык. Виноват ли я? А? Скажи, виноват? Если виноват, прости, все, что хочешь для тебя сделаю…
Вамех расхохотался.
— Не обижаешься? — Ясон приободрился.
— Нет, — искренне ответил Вамех. Рассказанное Ясоном совершенно не задело его, просто Ясон не понравился ему. Не будь Ясона, нашелся бы другой, и что случилось, случилось бы все равно, потому что Вамех не собирался прятаться, а кроме того, все, что должно произойти, так или иначе происходит само собой. Вамех ни капли не обиделся на Ясона, он с насмешкой и отвращением разглядывал его.
— Только поэтому я пришел к тебе, — уверял Ясон. — А теперь что я должен сделать?
— Теперь, — Ясон отвел глаза, и пальцы его задрожали, — теперь мне хочется… — Язык не подчинялся ему, — мне бы хотелось, чтобы… — жалко и беспомощно лепетал он, — чтобы ты помирил меня с Алисой! — И вдруг, словно он сбросил с плеч тяжелую ношу, речь его полилась легко и свободно. — Точнее, чтобы ты пошел со мной к Алисе, пусть она убедится, что ты не таишь на меня зла, что я подошел к тебе, как мужчина к мужчине, и открылся во всем, что я натворил…
Вамех рассмеялся:
— А ты, оказывается, в самом деле артист. Любишь ее?
— При чем тут любовь, дело касается мужского престижа.
Вамех снова рассмеялся:
— Ладно, пошли… Пусть это называется престижем.
Они вышли из-за стола. Ясон расплатился с буфетчиком, а лицо у него было такое несчастное, что Вамех невольно пожалел своего нового знакомого.
10
Теплый приятный вечер встретил их на улице. Со стороны вокзала доносились пыхтенье и свистки маневрового паровоза. В домах зажгли свет, и за окнами можно было видеть людей, которые проводили этот вечер в своих уютных, залитых светом комнатах, где по стенам развешаны красивые ковры, где за стеклянными дверцами старинных буфетов, задвинутых в угол, сверкает фарфор и лежат глянцевые, словно керамические, гранаты, а на столах, сияющих белизной крахмальных скатертей, стоят графины с водой и вазы с фруктами. Негромкая музыка из радиоприемников кружит по комнате, а стенные часы монотонно и невозмутимо отсчитывают мгновенья, порой нарушая уютную тишину звонким боем и предупреждая людей, что прошло определенное время, что от их беззаботного размеренного бытия отделилась какая-то неведомая частица, сгинул какой-то отрезок незримой целостности, и приближается минута, которая может перевернуть всю их жизнь. Разумеется, никто не воспринимал так недобро бой стенных часов. Эти звуки представлялись всем обычным и повседневным явлением, недостойным внимания. К ним относились безо всяких философских раздумий, ценя их практическую необходимость.
Благодаря такому взгляду жизнь во всех этих домах протекала безмятежно, в уюте и умиротворенности, и человеку, не имеющему ни пристанища, ни душевного покоя, быт этих людей и надежные семьи их представлялись вершиной желаний.
По главной улице, освещенной многочисленными лампионами, прогуливались горожане. Молодые люди развлекались, собираясь вместе и прохаживаясь под низкими ветвями магнолий. Все они были из приличных семей и поэтому одевались модно и аккуратно. У каждого за ворот белоснежной сорочки был засунут вчетверо сложенный носовой платок, чтобы защитить от пота и грязи исподнюю сторону воротничка. Все держались гордо, полные чувства собственного достоинства, и некоторые действительно могли гордиться им, у других же оно возникло от возможности следовать моде, и это настолько бросалось в глаза, что вызывало невольную улыбку. Смешны были не только скрупулезная погоня за модой, но и движения молодых людей — степенные жесты и покачивание плечами, — которые совершенно не соответствовали их костюмам. Этим юношам больше бы подошли строгие черкески с кинжалами на поясе, но в такую теплынь изнурительно носить шерстяную черкеску, да и не будь жары, кто надевает сейчас черкески, кроме сохранившихся кое-где стариков, упрямых в традициях, закостеневших в своих привычках, хотя жизнь изменилась в корне. Кроме них, только солисты ансамблей народных песен и танцев выступают в старинных костюмах, да и то наряжаются в них для недолгого появления на сцене, а кончится концерт, и всех этих танцоров невозможно отличить от какого-нибудь лондонского денди.
Именно так и щеголяла молодежь в этот вечер — белоснежные сорочки, отутюженные брюки, остроносые мокасины. Они беззаботно фланировали по главной улице, и довольство сегодняшним днем было написано на их лицах, и, вероятно, все это — одежда, движения и выражение лиц — разительно отличало их от Вамеха, который вместе с Ясоном шел по главной улице уверенным широким шагом, словно весь этот городок принадлежал ему и в нем у него не было ни одного врага. Не только своей черной рубахой, черными, словно жеванными брюками и грубыми ботинками отличался он от местных парней — не все же одевались с иголочки, — но и холодным безразличием ко всему этому параду, которое нельзя было не почувствовать, стоило лишь приглядеться к Вамеху. Тщательно выбритый, со светлой челкой и набухшим фиолетовым рубцом на горле, он мог показаться хладнокровным и жестоким, когда бы не теплое выражение глаз, которое, впрочем, не замечалось многими. Зато чрезмерная гордость приезжего заставляла с опаской сторониться его. Разумеется, он переменился после драки с Шамилем. Сейчас Вамех держался в постоянном напряжении. Тот рассеянный, блуждающий взгляд, которым он в день приезда рассматривал, прохожих, стал цепким и зорким. Но что бы там ни случилось, он не мог переродиться совершенно.
Многим в этом городке Вамех пришелся по душе, и симпатии их были на стороне этого дерзкого незнакомца, но никто не высказывал их открыто, потому что Шамиль продолжал жить здесь, и переметнуться на сторону приезжего представлялось не слишком порядочным, тем более, что тот мог исчезнуть не сегодня-завтра, ничего не оставив о себе, кроме воспоминаний, а Шамиль никуда не денется, и не стоит обострять отношений с ним.
Только косоглазый Дзуку плевал на подобные соображения. Вамех ему нравился, а Шамиля он ни капли не боялся. Косоглазый Дзуку вообще никого не боялся. Сейчас он наслаждался отдыхом в ресторанчике поселка. Рядом с ним сидел Таурия, его стажер, семнадцатилетний сирота. Вот уже несколько лет их видели только вместе. Никто не помнил настоящего имени сироты. Таурией — Головастиком — его прозвали в детстве сверстники за необычайно крупную голову. Это прозвище прилипло к нему, и, несмотря на то что юноша возмужал с годами и величина его головы уже не бросалась в глаза, все продолжали звать его Таурией, а он, словно нарочно, всегда стригся почти наголо, оставляя только длинный чуб. Таурия постоянно улыбался, словно радостное ощущение жизни ни на минуту не оставляло его. Он любил пошутить, за словом в карман не лез, частенько подтрунивал над Дзуку, за что тот неоднократно награждал его подзатыльниками, хотя в глубине души нисколько не сердился на него. А Таурия, зная отношение Дзуку, вовсе не боялся притворного гнева друга, и стоило тому отойти, как он сызнова начинал свои шутки. Однако Таурия никогда не переходил границ, потому что они любили друг друга и были преданными друзьями.
Отец Таурии — Валико Габечава — тоже работал шофером, он-то и обучал Дзуку шоферскому ремеслу. За пятнадцать лет службы в Заготконторе Валико не только ни разу не попал в аварию, но и не был замечен ни в одном дорожном происшествии. Однако лет семь назад он на своей полуторке повез жену и десятилетнего сына в деревню, и до сих пор ходят только одни догадки, как его угораздило сверзиться в овраг. Сам Валико и его жена погибли моментально, а Таурия уцелел чудом. У него не было ни родственников, ни близких, и друзья Валико решили отдать мальчика в детдом. Взбешенный Дзуку разругался со всеми и забрал ребенка к себе. Отличаясь редкостным легкомыслием, двадцатидвухлетний парень тем не менее свято хранил заветы дружбы, а кроме того, считал Валико своим учителем, все это и заставило его взвалить заботу о мальчике на свои плечи. Таурия переселился к нему, и в течение трех лет, пока была жива мать Дзуку, не знал никаких забот. Он регулярно посещал школу и, хотя ленился учиться, все равно под присмотром матери Дзуку исправно тянул школьную лямку, вовремя возвращался домой, вовремя ел и одевался чище и аккуратнее, чем многие одноклассники. Все это благополучие рухнуло в один миг. Неожиданное кровоизлияние в мозг за три дня свело в могилу мать Дзуку, молодую еще, добрую и полную сил женщину. Таурия осиротел вторично. Дзуку не под силу оказалось воспитание подростка, находящегося к тому же в сложном переломном возрасте. Дзуку запил, иногда сутками пропадал на работе, и Таурия, вышедший из-под систематического надзора, забросил учебу и остался на второй год. И надо было случиться, чтобы в это время Дзуку откомандировали на три месяца в Сванетию. Он подумал и решил взять Таурию с собой. Все равно учеба того пошла насмарку, а так его можно обучить специальности шофера и все это время ребенок будет на глазах. Так он и сделал. С тех пор они не разлучались. В любое время их можно было увидеть вместе: то промчатся на машине по главной улице, норовя проскочить впритык с прохожими и до столбняка пугая их, то, обнявшись и пошатываясь, бредут пьяно и орут песни. Некоторым, особенно пожилым, не нравилось, что Дзуку приучает подростка к вину, но он насмешкой встречал их упреки и гнул свое: мужчина должен уметь пить. Пусть своих по-другому воспитывают, если пороху хватит. Мужество, считал он, определяется умением пить. Поэтому он и старался, чтобы Таурия пил вровень с ним, стремясь воспитать того мужественным и закаленным человеком. Дзуку и в голову не приходило, что такая закалка подрывает здоровье парня, он любил Таурию и старался научить его всему, что считал хорошим.
В этот вечер они пили в ресторанчике поселка. За одним столом с ними сидел Леван, высокий, печальный юноша, сын того врача, который зашивал рану Вамеху. Леван работал шофером в соседнем городке. Он приехал в поселок по каким-то своим делам и случайно наткнулся на Дзуку. Кроме них, в ресторанчике ужинали еще двое рабочих. Дзуку послал им от себя две бутылки вина, и они, сидя в углу, неторопливо попивали вино и степенно беседовали. Дзуку вспоминал о Сванетии, где они с Леваном работали несколько лет тому назад.
— А помнишь, Леван, каким молодчагой был бедный Астамур? — спрашивал раскрасневшийся Дзуку. Косые глаза его блестели.
— Хороший был парень.
— Другого слова не скажешь. Однако и Кочия не подкачал, а?
— Да, конечно… И он был славным парнем.
— Скажи, пололо руку на сердце, странно устроена жизнь?
— Да, смерть их была удивительной. Такое совпадение, — задумчиво проговорил Леван.
— Ты знаешь эту историю? — Дзуку повернулся к Таурии, который молча сидел рядом. — Если не знаешь, послушай. — Дзуку склонился к Таурии и уставился на него. — Астамур и Кочия были двоюродными братьями. За день до беды поцапались они из-за какой-то мелочи…
— Из-за каких-то копеек, — вставил Леван, потому что Дзуку теперь перевел взгляд на него.
— Да, — продолжал Дзуку, — Астамур ударил брата. В ту же ночь…
— Это вечером произошло, — поправил Леван.
— Поздним вечером, — уточнил Дзуку и снова пристально посмотрел на Таурию. — Едва Кочия отъехал от Хаиши, как у крутого поворота над Ингури его машина пошла юзом и загремела в пропасть.
— Несчастный, — вздохнул Таурия.
— Погоди, я еще не кончил, — остановил его Дзуку. — На другой день мы узнали об этом, всем было не по себе, быстренько собрали деньги семье. Астамур каялся, места не находил, что обидел брата. В тот же день отправился он в рейс, и в сумерках на том же самом повороте, где за день до этого разбился несчастный Кочия, перевернулся и упал в пропасть. Их трупы лежали рядом на берегу реки. Разве это не судьба?
— Поругались и погибли, — сказал Леван и тоже посмотрел на Таурию, — на одном и том же месте нашли свою смерть.
— Чего им было ссориться, чего делить?! Эх, — вздохнул Дзуку, — и славные были ребята. Выпьем за их память! — Он поднялся, осушил стакан, вытащил платок, вытер шею, обернулся к окну, вгляделся во что-то и засмеялся. Таурия вскочил и тоже выглянул в окно.
— Побратима увидел! — захохотал он и сел.
— Укороти язык, пацан! — гневно обернулся Дзуку.
Таурия принял серьезный вид. Дзуку уставился в окно.
— За их память! — Леван выпил, поставил стакан и, выждав, спросил Дзуку: — Кого ты там увидел?
Дзуку сел и еще раз грозно посмотрел на Таурию:
— Мейру.
— А, Мейра. Жив еще горемыка…
— Не только жив, из-за него чуть война не началась.
— Какая война? — удивился Леван, достал папиросы и закурил.
— Шамилю морду намылили, — Дзуку ухмыльнулся. — Досталось ему, не так ли? — Он обернулся к Таурии. Таурия захохотал.
— Два дня с постели подняться не мог.
— Шамиль? — окончательно изумился Леван. — Кто же это решился?
— А кто такой твой Шамиль, что его нельзя избить? — вызывающе спросил Дзуку.
— Ты прав, лучше лучшего не переводится, но все-таки?
— Они, как всегда, начали над Мейрой потешаться, а тут какой-то приезжий подоспел. Вамех, кажется, — Дзуку кинул взгляд в сторону Таурии. — Так?
— Ага.
— Он-то и вступился за Мейру и пару раз так шарахнул Шамиля, что того чуть живого отволокли домой! — Дзуку расхохотался.
— Не слыхал, — сказал Леван.
— А почему, спрашивается, надо измываться над Мейрой, что он, не человек, что ли?!
— Разумеется, человек.
— Скулу свернули Шамилю.
— И Шамиль стерпел?
— Того парня подкараулили и ранили в парикмахерской, когда он брился, сейчас он в больнице.
— Ух, какая мерзость! Откуда он?
— Не знаю.
— Тяжело ранили?
— По горлу полоснули, — показал рукой Дзуку. — За день до этого я выручил его — отвез за город, да ты знаешь приезжих, черт потащил его на базар, решил побриться, те подкрались и резанули. Твой отец спас его. Если бы не он…
Леван опустил голову.
— Выпьем за твоего отца. — Дзуку разлил вино по стаканам. — Я в ваши дела не встреваю, но, по-моему, он — мужик что надо и врач хоть куда. За благополучие доктора Коции.
Леван не шелохнулся.
Найдется ли на свете человек, которым бы все были довольны? Нет, невозможно отыскать такого, который был бы одинаково приятен всем. Даже самый красивый, самый справедливый, добрый и талантливый человек кому-нибудь — хотя бы одному, если не больше, — покажется неприятным. Такова жизнь. Нет ни одного абсолютно плохого или абсолютно хорошего человека. Даже во всеми признанном подлеце кто-то находит положительную черточку. Поэтому доброту или зловредность человека определяет не его поведение, а та любовь или неприязнь, которые они вызывают в окружающих. Чем больше любишь человека, тем лучше кажется он. Но что рождает любовь? Проявление характера или натуры человека, которые отвечают твоему характеру и твоей натуре. Натура или характер часто проявляются в поведении. Но и поведение не всегда выдает истинную сущность человека. Многие сознательно или бессознательно носят разнообразные маски. Однако любовь настолько зорка, что никогда не обманывается в оценке предмета, на который она направлена.
Все в городке любили отца Левана, и он, по мере своих возможностей, помогал всем, всем протягивал руку, слывя честным, отзывчивым и образованным человеком. В глазах общественности он являл собой образец истинного интеллигента, потому что в городке интеллигентностью считалось определенное социальное положение, а не благородство души и разума. Но вот единственный отпрыск этого достойного человека несколько лет живет отдельно и даже не наведывается в отчий дом. Что послужило причиной подобного отчуждения? Почему этот молодой человек, воспитанный в культурной семье, одаренный несомненным талантом, вдруг становится заурядным шофером? Почему случилось так, что Леван жил впроголодь, нуждался в самом необходимом, попустился мечтой, не получил образования, а его отзывчивые родители, которые, по их словам, заботились о каждом в этом городке, махнули на него рукой и пальцем о палец не ударили, чтобы помочь ему твердо встать на ноги и выйти в люди? Трудно остановиться на какой-либо одной причине, потому что причин было множество.
Сам доктор Коция вырос в нищей многодетной семье. Отец его отличался скандальным, драчливым и забулдыжным характером, во всяком случае таким помнили его старики. Вечно раздраженный похмельем и угнетенный безденежьем, он махнул рукой на семью и целыми днями рыскал по улицам в поисках дармовой выпивки. Убили его в пьяной драке. Между многочисленными братьями и сестрами царили грубые, напряженные и странные отношения. Эти издерганные молодые люди по любому пустяку готовы были вцепиться в глотку друг другу. Ни на минуту не утихали в доме скандалы, проклятья, рыдания. Повзрослев, Коция понял, что необходимо бежать из дому, если он хочет добиться чего-нибудь в жизни. Он уехал в Тбилиси, закончил там институт и возвратился в родной город с дипломом врача. Отныне он стал одним из самых уважаемых людей города. В те годы специалистов с высшим образованием можно было пересчитать по пальцам, а профессия врача считалась одной из самых редкостных, врачи пользовались необычайным уважением, и молодой доктор стал неким идолом для всех друзей и родственников. Его тут же назначили главным врачом только что открывшейся больницы, что еще больше укрепило его авторитет в глазах окружающих. Сам Коция постепенно привык к особому почтению, забыл, что был таким же человеком, как все вокруг, и что умение врачевать недуги отличает его от остальных. Неожиданное возвышение так подействовало на него, что он возомнил себя сверхчеловеком, хотя никогда не забывался перед теми, кого считал выше себя по положению, перед сильными мира сего. Зато с остальными держался грубовато и надменно, не стесняясь подчеркивать свое превосходство, свои личные достоинства, которые бог весть куда исчезали, стоило ему столкнуться с начальством. Однако доктор считал свое поведение вполне естественным, не задумывался, надо ли быть со всеми одинаковым, таким, каков ты есть на самом деле. Он был убежден, что тот пьедестал, на который возвели его родственники и члены семьи, полностью соответствует его природной недюжинности, мнил себя выдающейся личностью, гордостью не только рода, но и города. Именно поэтому он не терпел возражений. Он считал, что его мнение по всем жизненным вопросам должно приниматься без колебаний. Мягкий и податливый от природы, с годами он сделался вспыльчивым и упрямым. А в общем это был добрый, чувствительный человек, заблудившийся по обстоятельствам. Раздувая свою значимость, он в то же время не ощущал себя цельной и самобытной личностью, а поэтому панически боялся встать на одну доску с простым человеком, снизойти до общения с ним, видя в этом угрозу собственного падения, опрощения, ординарности. Точно так же держался он и с сыном. С высоты собственного величия Коция насмехался над детскими увлечениями мальчика. Леван с детства любил рисовать и сочинять стихи. Но стоило ему показать свои произведения родителям, как отец начинал иронически щуриться, всячески высмеивать мальчика, а его увлечение называл финтифлюшеством. Следует добавить, что доктор считал непростительной ветреностью занятия поэзией или живописью, к тому же он полагал, что любое одобрение работ сына тотчас уронит в глазах ребенка высокий вкус отца. В действительности же все оборачивалось иначе. Ребенок чувствовал себя пасынком. Мать вторила супругу, потому что авторитет Коции казался ей непререкаемым, правота — не подлежащей сомнениям, а безграничное чувство признательности за ту любовь, благодаря которой она — простая, необразованная женщина — превратилась в одну из самых достойных и уважаемых дам городка, никогда не угасало в ней. Ребенок же не разделял восхищения родителей самими собой и своей жизнью. Книги открыли перед ним иной, более привлекательный мир, и он стремился подражать не родителям, а героям этих книг. Атмосфера, в которой жили и действовали те нереальные герои, поразительно отличалась от домашней обстановки, и мальчик начал ненавидеть дом, перестал воспринимать замечания отца и матери, потому что те ни во что не верили и не понимали многого из того, что по книгам было хорошо и достойно подражания. А доктору и его супруге и в голову не приходило, что ребенка необходимо всесторонне подготовить к жизни. Помилуйте, он сыт, одет, посещает музыкальную школу, чего же еще? Они в детстве и мечтать не могли о таком счастье, а если этот оболтус не хочет учиться — туда ему и дорога. Виноваты ли они, что ему взбрело в голову бросить музыкальную школу, что даже побои не направили его на правильный путь? Так рос Леван. Чем чаще ругали его, тем больше он замыкался в себе. На грубость стал отвечать дерзостью, и между родителями и сыном пролегла пропасть взаимного недоверия и неуважения. Леван мучительно переживал любое наказание, инстинктивно чувствуя, что не был таким выродком, злодеем и дикарем, каким считали его близкие, благодаря наговорам отца и матери видевшие в нем порочное и неуравновешенное существо. А ребенок, отлично сознавая подобное отношение, все больше убеждался в собственной неполноценности.
Это были тяжелые годы, и Леван старался не вспоминать о них, особенно теперь, когда прошло столько лет. Потом все переменилось. Едва ему минуло шестнадцать, как он после очередного конфликта ушел из дому и порвал все связи с родителями и теми из родственников, которые поносили его и старались ограничить его свободу. Впервые в жизни ощутил он полную раскрепощенность и понял, что каждый человек — личность. Рухнули препоны, которые столько лет мешали ему наслаждаться жизнью, он был волен делать все, что ему хочется, выбирать друзей по душе, не опасаясь ущемить отцовский авторитет, в который давно не верил. Он не находил, что его отец отмечен прозорливым умом, величайшими достоинствами и непогрешимостью, но теперь старался не думать об этом. Он наслаждался жизнью, не обращал внимания на свою неустроенность. Отныне не было ничего зазорного в том, что он заходил в пивную и беседовал за кружкой пива с каким-нибудь землекопом, знакомился и встречался с девушкой, будь она хоть дочерью ночного сторожа. Мир для него делился на достойных и недостойных, а не на выбившихся или не выбившихся в люди, как рассматривали человечество в его семье. Но иногда на него находила хандра, наваливалась тоска, ему недоставало тепла и сердечного участия, которые он наблюдал в отношениях других, и стоило Левану заметить чье-то внимание и ласку, как слезы невольно наворачивались на глаза, начинало казаться, что он обделен жизнью, и чувство обиды долго свербило в душе. Эти внезапные приступы обиды развили в нем склонность к меланхолии, он досадовал и даже пугался их, но однажды, вычитав у какого-то философа, что меланхолия — самое возвышенное и благородное настроение, он наполнился гордостью за свою невольную отверженность и одиночество и с тех пор предпочитал свое сиротство общению с кем попало. Он пребывал в состоянии постоянной грусти и задумчивости, а в редкие минуты веселья оставался тем же небойким, замкнутым человеком. Только общение с природой наделяло его подлинным счастьем, он забывал, кем или чем был, откуда пришел, как звали его, чьим сыном является и на каком языке разговаривает. Он ощущал себя человеком — такой же частицей этого непознаваемого мира, как дерево и река. Он чувствовал, что он — сын земли и создан теми же законами, которыми созданы небо и земля, горы и поля, леса и животные — то есть все, что сотворено когда-то. В такие минуты он с особой остротой проникался значением всего, что видел и ощущал. Он наслаждался тем, что существует, потому что это ощущение вытесняло память о повседневности, казавшейся мелочной и ничтожной по сравнению с чувством собственного бытия. Это чувство было мгновенным, а потому более пронзительным и глубоким. Он проникался трепетом листвы и дуновением ветерка, и ветер в такую минуту был для него не просто воздушным потоком, лишенным осмысления самого себя, а чем-то иным, живым и полным жизни, подобно богу, о котором говорили, что он тоже незрим, но ощутим во всем. Это были счастливейшие минуты, но не меньшее счастье испытывал он, когда пытался передать все в словах или в красках, и если ему удавалось воплотить свое на холсте или бумаге, — он бывал опустошен счастьем, утомлен им до той поры, пока жизнь не наполняла его душу каким-нибудь новым своим проявлением и не вызывала желания постичь новую тайну природы. Леван был поэт и художник, поэзия и живопись приносили ему счастье, но он никому не показывал своих работ, не ждал, что его поймут и оценят, потому что с детства свыкся с попреками и насмешками, а ведь, быть может, его ругали от неосознанной зависти к таланту, перед которым возрастное различие теряет всякое преимущество. Правда, иногда, подвыпив в компании, Леван читал свои стихи шоферам и рабочим, с которыми ему приходилось общаться, удивляя их и заставляя прослезиться. Иногда друзья по работе навещали его, разглядывали висящие по стенам рисунки и восторгались ими, хотя совершенно не разбирались в живописи, но благодаря своей непосредственности понимали, что имеют дело с незаурядным человеком. Народ этот был без претензий. Они не боялись попасть впросак, оценивая работы Левана, не боялись осрамиться, обнаружив собственный вкус. Они прямо говорили, что им нравится, а что нет. Их искренне удивляло, что простой шофер может сочинять такие душевные стихи и рисовать такие прекрасные картины. Друзья гордились Леваном, чувствуя, что талант, как и красота, дается свыше, потому что человек способен достичь всего, кроме таланта. Только филистеры завидуют одаренности и не любят ее, а эти грубые парни любили Левана, потому что терпеть не могли филистеров. А Левана окрыляла похвала друзей и очень огорчало, когда они браковали его стихотворение или рисунок.
Таков был Леван. Сейчас он сидел в ресторанчике поселка и, опустив голову, слушал косоглазого Дзуку. За окнами темнело. Странные тени бродили по белым стенам столовой. Дзуку держал на весу полный стакан. Они уже успели выпить за всех, за кого диктовал выпить закон застолья, — за родину и за родителей, за братьев и сестер, за сотрапезников, за буфетчиков и официантов этого ресторанчика, за живых и мертвых, за всех ангелов и святых. Теперь Дзуку собирался произнести тост за предков, потому что вспомнил о нем с опозданием, хотя требовалось произнести его одним из первых.
— Наши предки достойны всяческой похвалы, — говорил он. — А? Что скажешь, Леван, чего голову повесил?
— Истинно так! — отозвался Леван.
— Мужественны были наши предки?
— Мужественны.
— А разве это дело, подкрасться к человеку, когда он бреется, и перерезать ему глотку?
— Позор! — ответил Леван.
Дзуку поставил стакан:
— Должен сказать тебе, Леван, испохабился наш город, все поддакивают сильному и никто не заступится за слабого. Наоборот, над ним же измываются. О чем можно говорить, когда добро, благородство, честь считаются дуростью и губошлепством? Разве такими были наши предки? Разве позволили бы себе напасть со спины? А, что скажешь, Леван?
— Откуда мне знать?
— Как это откуда? Разве стоит говорить, что они не опустились бы до такой подлости и низости? А нынче тот же Резо, или как его там, выпендривается перед народом, бахвалится, будто невесть какой подвиг совершил! Строит из себя героя, вместо того чтобы сгореть от стыда, юлит перед Шамилем. Дай срок, я доберусь до него…
— Наш город действительно испортился, — сказал Леван.
— Испортился! — взревел Дзуку. — Распустились, твари! Но не выйдет по-ихнему, правый должен победить, таков закон природы. Я люблю правду, правду! — во весь голос кричал он.
— Правда — это самое основное, Дзуку! Что может быть лучше правды?!
— Я за справедливость! Душу отдам за того парня, который из-за Мейры против всего города выступил. Мог же он вильнуть сторонкой, но душа ему не позволила, потому что он настоящий мужчина, а то стоило ли рисковать жизнью за какого-то Мейру?!
— Почему же не стоило, и Мейра — человек!
— Э, какой он человек!.. Однако и такого не обижай! Со слабым любой недоносок справится. А ежели ты такой герой, то наступи сильному на мозоль. — Дзуку выдержал многозначительную паузу и продолжал. — Тот парень вступился, и весь город окрысился на него… Он настоящий мужчина!
— Почему же весь? Ты на чьей стороне?
— Что за вопрос? Конечно, на стороне того парня. Пусть он приезжий, незнакомый, но я все равно за него, потому что он прав.
— И я за него, хотя и в глаза его не видел, — сказал Леван, — а сколько таких, как мы?
— Наберется…
— Выходит, что и в нашем городе порядочных много?
— Хорошие и плохие есть во всех городах, во всех семьях. Мне обидно, что подонки хорошим на шею сели. Испортился наш город.
— Не вечно же так будет! Давай, Дзуку, выпьем за хороших людей! — Леван поднял стакан и уперся взглядом в стол. — За здоровье добрых и справедливых! Что скажешь?
— Что я могу сказать? Отличный тост! — Дзуку поднял стакан. — Только я добавлю: за здоровье всех хороших людей во главе с тем парнем, который сейчас лежит в больнице, но скоро выйдет… Его Вамехом зовут, не так ли? — Дзуку повернулся к Таурии.
Таурия спал, уткнувшись лбом в стол.
— Смотри-ка, он уже храпит! — удивился Дзуку.
— Не буди, намаялся, наверное, за день.
— Какое намаялся, пить не умеет! Эй, парень, поднимайся! — заорал Дзуку, тряся Таурию за плечо.
Таурия поморщился, пробормотал что-то и продолжал спать.
— Пей, Дзуку! — остановил его Леван.
— О чем я говорил?.. Да! За здоровье хороших людей во главе с Вамехом! — сказал Дзуку и выпил.
— За здоровье всех во главе с Вамехом! — поддержал Леван.
Долго беседовали они. Закончив пить, едва держались на ногах. Седобородый официант проводил их до двери. Прощаясь, Дзуку трижды облобызал его. На дворе стояла ночь. Луна еще не взошла, и прохожие проплывали странными, сумеречными тенями. Таурия прислонился спиной к дереву, сложил руки на груди и застыл, печально глядя на черное небо. Леван попрощался, залез в кабину и тронул грузовик. Дзуку пересек улицу, зашел за свою полуторку, послышалось журчание, потом все смолкло. Немного спустя хриплый голос Дзуку нарушил мертвую тишину улицы:
— Таурия!
В ресторанчике с грохотом убирали стулья. Таурия поплелся к машине, залез в кабину и сел рядом с Дзуку.
— Где ты, парень? — с усмешкой поинтересовался Дзуку, удобнее устраиваясь на сидении.
— Куда мы едем? — тихо спросил Таурия.
— Куда? Домой пора.
— Домой? — переспросил Таурия.
— Куда же еще?! Что с тобой?
— Ничего, — протянул Таурия. Он был бледен, удивленно и задумчиво озирался по сторонам, и голос его звучал приглушенно. — А где мы были?
— Как где? В ресторане. Ты что, спишь еще? — вскипел Дзуку, нащупал переключатель и включил фары. — Болтаешь, как пьяный.
Ровная дорога молочно заблестела в свете фар, словно стрела, бесцельно пущенная во мрак. Друзья сидели в темноте и смотрели сквозь ветровое стекло кабины.
— Вспомнил, мы в еврейском поселке.
Дзуку выключил фары.
— Что с тобой, малыш, ты еще не пришел в себя?
— Знаешь что, Дзуку? — прошептал Таурия, — мне почудилось, будто меня не было на свете, будто время обошлось без меня. Как будто я вывалился из жизни, сгинул куда-то, а куда — не знаю. Как будто я не жил в эти часы. Страшно…
— Чего ты испугался, как тебе не стыдно? — Слезы закипали на глазах Дзуку. — Что за страсти ты городишь? Напридумывал…
— Не знаю.
— И не совестно тебе? — Дзуку обнял Таурию, прижал к себе, встряхнул и завел мотор. — Садись за баранку. Гони, как мужчина. Ты теперь сам должен сидеть за рулем.
Он спрыгнул на землю. Слезы текли по его щекам. Он обошел машину и сел рядом с Таурией.
11
В этот же вечер, как раз в то время, когда машина Таурии и Дзуку, непрерывно гудя, с грохотом промчалась по дороге и вылетела на главную улицу, по тротуару шла Алиса под руку с Джемалом. Они направлялись к ней слушать пластинки. Джемал рассказывал девушке о прекрасной Одессе, где он уже пятый год учится в медицинском институте, о море, которое из приморского парка обозревается до горизонта, о кораблях, входящих в порт или уплывающих куда-то в дальние страны. В солнечный день, словно белые лебеди, скользят пассажирские теплоходы по голубой глади моря. Джемал рассказывал, как отрадно прогуливаться под каштанами Дерибасовской, и Алиса, казалось, ловила каждое его слово. В действительности же, ни того, ни другую не трогали ни Одесса, ни ее достопримечательности. Совсем иной смысл таился под каждым словом. Все их внимание было сосредоточено не на рассказе о приморском городе, а на том, что происходило между ними вне разговора. И чем красочней описывал Джемал Одессу, тем вернее — казалось ому — достигает он своей цели, тем яснее дает понять Алисе, что́ ему хочется сказать. И чем прилежней внимала ему Алиса, тем отчетливей чувствовала она невысказанные соображения спутника, потому что в самые патетические моменты разговора он стискивал локоть девушки, прижимал ее к себе, останавливался в тени, будто увлекшись воспоминаниями, и близко склонялся к девушке. Алиса прекрасно понимала его игру: она хорошо изучила мужскую натуру. Со многими доводилось встречаться ей, и в мужчинах она разбиралась. Все они стоили один другого, хотя попадались и исключения. Некоторых она раскусывала сразу и впоследствии убеждалась в своей правоте. Другие, напротив, менялись со временем, опровергая первое представление о них. Но в глубине души Алиса сразу и точно определяла, кто что представляет из себя. Алисе доводилось знавать мужественных красавцев, у которых ни на грош не было ни мужества, ни твердости, ни настойчивости, хотя вначале их поведение, казалось, отвергало даже возможность подобных предположений, но Алиса интуитивно угадывала их суть, и предчувствия никогда не обманывали ее. Лучшее подтверждение тому — Ясон. Попадались и другие, решительные и резкие, как, например лейтенант милиции Бено, который хамовато обходился со всеми — с подчиненными, с задержанными, с горожанами — и только с начальством бывал почтителен и сдержан. Однако Алиса предпочитала его многим, потому что на него можно было положиться, и когда он находился рядом, никто бы не решился обидеть ее. Ухаживали за ней и культурные, воспитанные юноши, которые всегда одевались с иголочки, сдували с себя пылинки и питали страсть к беседам о возвышенных материях, например, об искусстве, и хотя Алиса не разбиралась ни в литературе, ни в живописи, но обожала кино и театр и свое обожание переносила на тех, кто был способен поддержать разговор на эти темы. Таков был Ясон, да и Джемал не уступал ему. Алису нимало не интересовала новизна мысли или оригинальность мышления собеседника, она не старалась проникнуть в смысл его рассуждений, довольствуясь складной речью и не более. Этим и подкупал ее Джемал. Кроме того, внутренне Алиса почему-то верила, что ее новый поклонник не способен опуститься до такой подлости, какую совершил Ясон по отношению к Вамеху. И безусловно, одной из главных причин того, что Джемал нравился Алисе, была его внешность. Алиса, как и всякая женщина, придавала ей немалое значение, Джемал, под стать Ясону, был высок, строен и широкоплеч, но производил впечатление более воспитанного и разбирающегося в жизни человека. А помимо всего прочего, немалую роль играло и умение одеваться: опрятного и подтянутого человека Алиса считала более культурным, нежели неряху. В ней жило твердое убеждение, что только темные, некультурные люди способны одеваться кое-как, она даже остерегалась их, пример тому — Дзуку и Шамиль. Ее удивляла одежда Вамеха, но она смутно понимала, что он не чета таким, как Шамиль или Дзуку. Юноша в черном сразу заинтриговал ее, она никак не могла понять тогдашнего его поведения, когда он, истекая кровью, с перерезанным горлом, никого не подпускал к себе. Но как прекрасен был он, когда кинулся на помощь Мейре и преградил дорогу Шамилю. Ах, до чего красив был он в тот миг! Как мальчишка, увлеченный своей дерзостью, один против всех!
Но сегодня Алисе нравился Джемал. Что ни говори, а женская натура брала свое: ей доставляло удовольствие, когда за ней ухаживали. А в том, кто не скупится на учтивость и постоянное внимание, она готова была найти массу достоинств. Джемал же с первого дня знакомства всячески старался угодить ей.
Сейчас они медленно шли по главной улице, иногда останавливались в тени деревьев, смеялись или, приняв серьезный вид, спорили по совершенно незначительному поводу. Чудесная, теплая ночь опустилась на город. В освещенных окнах виднелись люди, перед подъездами на низеньких скамеечках или на приступках лестниц сидели женщины в легких сарафанах и переговаривались. Дети носились вокруг них, а мужчины в пижамах громко беседовали и басовито хохотали. Ночь была так хороша, что никому не спалось, и все, от центра до самой почты, провожали взглядами эту увлеченную разговором парочку. Внезапно Джемал увидел, что из подъезда Алисиного дома вышел Ясон. Джемал замер под деревом, тронул Алису за руку и показал глазами на Ясона. Тот уже выбрался на середину улицы и, задрав голову, разглядывал темные окна дома.
— Что ему нужно?
— Не знаю, — ответила Алиса, не сумев скрыть довольной улыбки.
— Ты же говорила, что между вами все кончено, — строго напомнил Джемал.
— Так оно и есть. Ума не приложу, что ему надо? — почему-то начала оправдываться Алиса и пожала плечами.
Тем временем Ясон подошел к почте. Там кто-то ждал его, стоя в тени. Ясон остановился и принялся что-то объяснять ему. Затем оба вышли на середину улицы и зашагали прочь. Когда они прошли под фонарем, хоронившийся за деревом Джемал узнал спутника Ясона.
— Смотри, это же Вамех! — воскликнул он.
Алиса кивнула головой и задумчиво проговорила:
— Интересно, зачем они приходили?
12
А потом прошла ночь, и снова наступило утро. На востоке порозовело. Постепенно голубело небо, и свет озарял землю. Город пробудился. На улицах появились первые прохожие. Каждый из них по-своему провел ночь и по-своему встречал день. Многие продолжали спать, совершенно не зная, что принесет им это утро, какими переменами по сравнению с прошедшим отметится новый день. Взошло солнце. Началось его извечное путешествие вокруг земли, да, да, вокруг земли, а не наоборот, потому что все люди видят это явление природы именно так, как воспринимают его наши органы чувств. Мы только разумом понимаем, что происходит нечто противоположное Только мысль постигает то, чего не в силах уловить глаз.
Но есть тупики и для мысли. Ведь всем известно что многое, совершенно естественное с точки зрения сложных законов жизни, часто представляется нам необычайным, странным, и мы не в силах проанализировать подобное явление, потому что нам непостижима его логика. Справедливая необходимость многих явлений скрыта от нас, и то, что для высшего разума является логичным и стройным, представляется нам загадкой. Ужасным и необъяснимым предстает перед нами преждевременная гибель живого, жизни, которая обрывается не после закономерной старости, а в пору, когда благодатные силы природы начинают пробуждаться, расти, расцветать, то есть жить. Никто не понимает, почему в природе случается такая непоследовательность, такая нелогичность, которая противоречит общим нормам развития. Человек во всем ищет закономерность. Мы считаем, что все происходящее в мире подчинено определенному закону, а потому и справедливо, и мы приспосабливаемся ко многим явлениям, законам и нормам природы — рождению, росту, старению и смерти, вызванной старостью. Понятие естественности старения и умирания вошло в нашу плоть и кровь. Мы приспосабливаемся к будущей смерти. Но почему мы должны погибать прежде, чем достигнем той точки, после которой смерть необходима? С этим мы не можем смириться, хотя подобное случается сплошь и рядом и считается в порядке вещей. Но почему такое считается обычным, не знает никто.
Наутро после выпивки в поселке Дзуку и Таурию снова потянуло выпить. Почему? Трудно сказать. Еще не протрезвевшие, выехали они из дому, остановили машину около закусочной у базара, зашли внутрь, позавтракали, выпили по стаканчику водки.
— Повторим, Дзуку? — спросил Таурия.
— Повторим.
Выпили еще по триста. Не подействовало. Пили молча. Буфетчик видел, как они сидели за столом, чокались и пили. Потом подозвали его рассчитаться. Когда он подошел, они, казалось, не собирались вставать. Опорожненные тарелки были отодвинуты, соль, просыпанная из солонки, смешалась с хлебными крошками, немного водки было пролито, и Таурия небрежно поставил локоть в эту лужицу, подперев голову. Ногти его были черны от грязи, рукава закатаны, и на руке выделялись фиолетовые буквы Т и Г — его инициалы. Буфетчик прикинул на счетах. Дзуку бросил деньги на стол. Все почему-то посмотрели на них — и Таурия, и буфетчик, и Дзуку. Одна рублевка намокла в водке, к ней прилипли крошки. Дзуку и Таурия поднялись и вышли на улицу. Солнце поднималось над домами. Они остановились у магазина, закурили и вдруг, словно соревнуясь, сорвались с места, вскочили в машину и скрылись за углом. Буфетчик унес пустые тарелки, мокрой грязной тряпкой обмахнул стол, отошел к прилавку, опустился на табуретку и погрузился в полусонное раздумье. Мухи тотчас облепили солонку.
Дзуку и Таурия подъехали к Заготконторе. Таурия остался ждать, а Дзуку пошел в контору за нарядом.
Все это происходило утром. Ранним утром. Солнце поднималось и припекало, и каждый, кто находился на улице, с удивлением провожал взглядом полуторку Дзуку, за рулем которой сидел Таурия. Бог знает, почему ему взбрело в голову погнать машину, может быть, всему виной водка, может быть — вчерашнее разрешение сесть за руль, но он с бешеной скоростью промчался по главной улице, и в конце ее, как раз напротив школы, в которой учился когда-то, врезался в телеграфный столб, искорежил кабину, пробил себе висок и тут же умер. Все это случилось в одно мгновение, и лишь минуту спустя опомнились люди, закричали, смешались, побежали к Таурии, которого выбросило из кабины — он лежал на земле, истекая кровью. Лицо, руки, одежда были в крови. Кровь окропила машину и землю, и расплывалась в луже, у которой лежал Таурия. Народ сбегался со всех сторон. Все это случилось на глазах людей, которые вовсе не желали Таурии смерти, но и помочь уже не могли. Остывающее тело парня валялось на земле.
Вамех уже знал о происшедшем. Он торопливо шагал по главной улице в том направлении, куда бежали все. Он замечал среди бегущих своих знакомых — у него уже появились знакомые в этом городке, — видел взволнованные, объятые ужасом лица и, взбудораженный, сам торопился за людским потоком. Вамех был совершенно выбит из колеи — когда такое случается, человек сразу теряет чувство реальности, почва уходит из-под ног, повседневные заботы лишаются всякого значения, и некоторое время человек склонен считать, что у него раскрылись глаза, что он увидел истинное лицо жизни, скрытое до сих пор покровом обычности и каждодневности. Все ему видится в тщете до той поры, пока не минует это потрясение, это внезапное нарушение душевного равновесия и пока он заново не свыкнется с жизнью, с ее радостями и напастями. Чем ближе тебе человек, с которым стряслось несчастье, тем дольше сохраняется такое настроение, чем он отдаленнее, тем быстрее забываешь, что и тебя ждет такой же конец.
Вамех стоял, скрестив руки на груди, и смотрел на народ. Он не пытался пробиться сквозь толпу, чтобы взглянуть на мертвеца. Женщины рыдали, ударяя ладонями по коленям, мужчины скорбно качали головами. Крики и рыдания слышались со всех сторон. Шамиль, выбравшись из самой толчеи, невидящим взглядом уставился на Вамеха и, не узнавая его, сказал:
— Оказывается, он был вдребезги пьян…
Вот и тот верзила, который ранил Вамеха. Вамех почувствовал, как у него заколотилось сердце, невольно стиснул кулаки, но тут же разжал пальцы. Еще один из этой же компании, стоя рядом с Шамилем, исподтишка косился на Вамеха, притворяясь, что не замечает его. Шамиль стоял спиной к Вамеху и разговаривал с какими-то людьми. Подлетела «скорая помощь», из нее выскочили доктор Коция, Алиса и Джемал. На ходу запахивая белые халаты, они бросились сквозь толпу, а Вамех продолжал стоять, скрестив руки и наблюдая. Заверещали тормоза еще одной машины, из нее с диким воем выпрыгнул Дзуку, который уже знал все. Народ в страхе расступился, Дзуку в изодранной рубахе, весь в слезах, с мутными покрасневшими глазами бросился к трупу, увидев, застыл на миг и тут же с нечеловеческим ревом ударил себя по глазам, повернулся и изо всей силы стал биться головой о грузовик.
— Удержите его! — закричали в толпе.
Шамиль и плешивый Резо, тот самый, что ранил Вамеха, сорвались с места и бросились к Дзуку. Но тот, снова намереваясь ударить разбитой и окровавленной головой в искореженный борт машины, с такой силой двинул Резо в лицо, что парень покатился по земле. Теперь Дзуку отбивался ногами, силясь вырваться из рук Шамиля, обхватившего его сзади.
Вамех подскочил к Дзуку, схватил его спереди за пояс.
— Пустите! — закричал Дзуку, оказавшись между Шамилем и Вамехом. Никто не решался приблизиться к ним. Они сплелись, свалились на землю. Вамех ощутил сивушное дыхание Дзуку, внезапную и острую боль в ноге — должно быть, напоролся на что-то, — но не разжал рук. Все трое, напрягая силы, катались по земле, с трудом удерживая обезумевшего Дзуку.
— Дзуку, уймись, стыдно! Дзуку, чего ты взбесился! — кричал Шамиль, безуспешно пытаясь поднять Дзуку на ноги. Улучив момент, Вамех поднялся на колени и заломил руки Дзуку назад. Лицо Вамеха случайно коснулось лица Шамиля, руки их переплелись, и Вамех ощутил, что в нем нет ни малейшей ненависти к Шамилю, наоборот, тот сейчас казался близким и почти родным… Это неожиданное чувство, жалость к Дзуку, боль в ноге, напряжение схватки, крики вызвали слезы, и Вамех с трудом сдержал их. Дзуку выбился из сил, только хватал воздух раскрытым ртом. Вамех и Шамиль с большим трудом отвели его на другую сторону улицы.
— Разве так можно, уймись, ты же в своем уме, стыдно! — тяжело переводя дыхание, проговорил Шамиль. Дзуку обмяк, уронил голову и не делал больше попыток вырваться. Лицо его было залито потом и слезами, кровь с разбитой головы текла за шиворот. Вамех протянул ему папиросу. Губы Дзуку дрожали, но он все же затянулся, глотая дым и всхлипывая. Они стояли у края дороги. Тут подошли доктор Коция, Алиса и Джемал и принялись успокаивать Дзуку.
— Разве мыслимо убиваться подобным образом, дорогой вы мой?! — качал головой доктор. — Вы же мужчина! Перевяжи ему голову…
Дзуку покорно наклонил голову, и Алиса стала бинтовать ее. Бинт тут же пропитывался кровью. Джемал попросил у Вамеха закурить.
— Вы видели, как это произошло? — спросил он.
— Нет, я пришел позднее.
Джемал покачал головой и отошел к доктору.
— Вы же мужчина, извольте держаться в рамках, разве можно так распускать себя? — продолжал строгим тоном выговаривать доктор Коция, глядя на Дзуку.
Вамех уловил, как глупо и почти смешно звучат слова доктора Коции и его нарочито строгий голос, ведь доктор не чувствовал и сотой доли того, что чувствовал сейчас Дзуку, который был совершенно убит и при всем желании не мог взять себя в руки, но что еще оставалось делать доктору Коции? Как можно утешить словами, как можно выразить ими то, что переживает человек? Слова — только символы чувств, той непостижимой и непередаваемой глубины переживаний, которая подразумевается под ними. Эти символы становятся понятны обоим только в том случае, когда слушающий переживает чувство, о котором говорит ему другой. Именно поэтому в особенно горькие минуты люди часто понимают друг друга без слов, молча, — переживания ясны и не нуждаются в разъяснениях. Разъяснения чувств ничего особенно не меняют, не сближают людей, не открывают одному душу другого, каждый остается при своем, потому что человек способен понять другого лишь тогда, когда их желания, переживания, страсти совпадают, становятся общими, или, говоря более точно, одинаково направленными, но тогда любые объяснения — излишни. Подобное проникновение в душу другого не легкое дело, но сейчас Вамех отлично воспринимал чувства Дзуку.
Задумавшись, молча стоял Вамех. Алиса бинтовала голову Дзуку, закончив, встала рядом с Вамехом.
— Представляете, какой ужас! — сказала она.
— Испытал, — глухо проговорил Вамех.
— Неужели? — с интересом спросила Алиса, заглядывая ему в глаза.
— Что неужели? — Вамех пристально и удивленно посмотрел на нее.
Алиса смутилась, покраснела, наверное, ей стало неловко за свое любопытство, и она замолчала.
Люди продолжали толкаться вокруг них. Подъехал мотоцикл автоинспекции, и милиционеры закружили вокруг разбитой машины. Доктор Коция и Джемал что-то втолковывали Дзуку. Шамиль стоял возле них.
— Нет, нет, только домой! — раздался голос Дзуку.
— Хорошо, хорошо, как вы пожелаете, — ответил Коция, посмотрел по сторонам, приказал: — Грузите покойного, — и направился к машине «скорой помощи».
Шамиль и Джемал последовали за доктором. Дзуку направился было за ним, но замешкался, оглянулся на Вамеха, задержал на нем взгляд, словно собираясь что-то сказать, потом решительно повернулся и пошел к телу своего друга. Вамех двинулся за ним. Народ расступился.
Кто-то накрыл лицо Таурии заскорузлым от крови носовым платком. Не верилось, что он мертв. Безвольно разбросался он по земле в парусиновых брюках и в одной парусиновой туфле. Носок был продран, то ли не успел он заштопать его, то ли не обратил внимания. Одна пуговица на брюках была оторвана. Раскинув руки, словно прося у кого-то прощения, лежал он, и яркое солнце освещало его… В головах трупа стояли Джемал и Шамиль, в ногах — понурый Дзуку. Вамех остановился возле него. Он старался не глядеть на покойного и смотрел вдаль, поверх людей. Шамиль и доктор Коция вполголоса совещались, как удобнее поднять тело и погрузить в машину «скорой помощи». Солнце припекало шею, и Вамех, запрокинув голову, удивляясь тому, что может сейчас обращать внимание на такую чепуху, грустно улыбнулся. Так и стоял он, глядя в пространство и не замечая никого вокруг.
Подошли милиционеры и помогли положить тело Таурии в машину, туда же сели доктор Коция, Шамиль, Джемал, Дзуку и какой-то незнакомый Вамеху пожилой мужчина. Прежде чем захлопнуть дверцу, Дзуку снова обернулся к Вамеху и долгим, просящим взглядом посмотрел на него. Машина тронулась. Густая пыль клубами покатилась вслед за ней, а когда пыль осела, все вокруг открылось в своей обыденности, словно в мире не существовало ни смерти, ни страха перед ней. Дорогу, гогоча, переходили гуси. Дети шли к школе. Они были испуганы и встревожены, но все же, как и ежедневно, поднимались по ступенькам с портфелями в руках и скрывались за дверями школы. Прозвенел звонок, начались уроки. Разбитую полуторку Дзуку прицепили к другому грузовику и увезли. Толпа начала расходиться. Не осталось даже следов, которые напоминали бы о недавней трагедии. «Прахом ты был и в прах обратился», — промелькнуло в голове Вамеха, и он вновь усмехнулся.
— Чему вы радуетесь? — услышал он знакомый голос.
Вамех обернулся. Рядом стояла Алиса, успевшая снять халат и сейчас, в это солнечное утро казавшаяся еще более красивой и привлекательной. Несмотря на тяжелое настроение, Вамеха обрадовало, что она нашла время поговорить с ним.
— Я вовсе не радуюсь, — ответил он.
— Но вы улыбались.
— Возможно. Хотя это не означает, что я чему-то радуюсь, — сказал Вамех, глядя на нее, и, наперекор своей подавленности, решился на комплимент. — Разумеется, кроме встречи с вами.
Глаза девушки блеснули, но она нахмурилась, стараясь скрыть невольное удовольствие от его слов, и вздохнула:
— Эх, скверно начался день… Однако пора возвращаться на службу. Нам не по пути?
— По пути, — ответил Вамех.
13
Магазины и закусочные уже открылись. Люди торопливо шагали по своим делам. Продавцы собрались на тротуаре и обсуждали случившееся. Громыхая, проехал фургон, груженный железом. Политые цветы и пальмы струили приятную свежесть.
— Вы знали Таурию? — спросила Алиса.
Они шли по теневой стороне главной улицы.
— Нет, не знал.
— А косоглазого Дзуку?
— Его знаю.
— Это он воспитал Таурию.
— Мне уже рассказали.
— Между прочим, этого Дзуку чуть не арестовали из-за тебя, — неожиданно сказала Алиса, совершенно естественно перейдя на «ты».
— Из-за меня? — удивился Вамех.
— Представь себе. Когда тебя ранили у базара, ему показалось, будто ты умер. — Алиса искоса взглянула на Вамеха. — Он напился в ресторане, переколотил посуду, избил официанта, рыдал, кричал, что потерял брата…
— Должно быть, предчувствовал, что скоро потеряет, — тихо проговорил Вамех.
— Потом выяснилось, что он оплакивал тебя. Его успокоили, а за посуду потребовали заплатить.
— Не знал я этого.
— Терпеть не могу Дзуку! Настоящий зверь. Это он погубил мальчишку.
— Дзуку тут ни при чем, несчастного подстерегла судьба.
— Какая судьба, когда он систематически приучал парня к выпивке и в конце концов довел его до могилы?
— И это судьба.
— Глупости, ни в какую судьбу я не верю!
— Зато я верю, — сказал Вамех. — Жизнь человека не строится так, как он хочет. Случается, что совершенно невинный порой беспричинно страдает.
— Откуда ты знаешь, что невинный? Без причины никто не страдает…
— Это верно, в любой беспричинности можно уловить скрытую причину, которая заметна постороннему взгляду, но тот, на кого свалилась беда, не видит ее…
— Что ты говоришь? Да будь Таурия трезв, он и сейчас был бы жив.
— Правильно. Но именно судьба толкнула его напиться.
— Зачем же он пил? Кто его заставлял? Все, что случается с человеком, зависит от него самого.
— Несчастный случай от него не зависит. Здесь что-то иное…
— Что именно?
— Не знаю. Иногда все оборачивается так, что человек не в силах понять, как что-то произошло и почему. Это и есть судьба.
— Не понимаю я твоей судьбы. Только пьянство сгубило Таурию. Будь он трезв, разве налетел бы на столб?
— Правильно, — ответил Вамех, — причиной смерти было пьянство, причиной пьянства — сиротская доля и неверное воспитание… Но почему он осиротел, что послужило причиной этому? Никто не ответит, потому что виной всему случайность. Субъективно Таурия не заслуживал от жизни кары, выпавшей на его долю, но жизнь, независимо от него, распорядилась так, что несчастный парень, закономерно — с нашей, с общей точки зрения — подошел к своей гибели, хотя этот безвредный, неоперившийся юнец вовсе не заслуживал такой страшной преждевременной смерти. Но он все-таки погиб. Почему?
— Потому, что Дзуку приучил его пить, — отрезала Алиса.
Вамех взглянул на нее и промолчал. Девушка поняла, что ее ответ не понравился Вамеху, но она все же решила продолжить разговор, чтобы понять Вамеха.
— Отчего же он погиб? — спросила она.
— Не знаю. Судьба, — сухо ответил Вамех.
Тем временем они дошли до аптеки. Алиса попросила подождать ее и толкнула стеклянную дверь. Вамех отошел к дереву, прислонился спиной к стволу и закурил. Одноногий мужчина, проходя мимо, поклонился Вамеху. Вамех вежливо ответил ему. Этого инвалида он мельком видел в парикмахерской в тот день, когда произошла та пакостная история. Но как бы ни были неприятны воспоминания о ней, Вамеху все же стало радостно, что с ним поздоровались. Скверное настроение, не оставлявшее его с момента гибели Таурии, как-то сглаживалось приятным чувством, что его уже знают в этом городке, здороваются с ним, что он познакомился с Алисой и сейчас ждет ее. В этом чужом городке у него уже завелись знакомства, и сознавать это сегодня было особенно приятно, хотя и вчера его не обходили вниманием. «Никуда не тронусь отсюда, — подумал он, — куда мне ехать?»
— О чем задумался? — спросила незаметно подошедшая Алиса. Она остановилась рядом с Вамехом, приподняла ногу, поставила на колено сумку, набитую какими-то пакетами, и стала прикрывать их свернутым халатом. Вамех невольно залюбовался ее красивыми, сильными ногами, и вдруг ему ясно припомнилось то волнение, которое охватило его у дороги перед церковью, когда он впервые увидел эти ноги, белеющие в полумраке. Ему вспомнился сумеречный вечер, и невольная зависть кольнула сердце оттого, что тогда ее вез Ясон.
Алиса заметила, как Вамех посмотрел на ее ноги, выпрямилась, взяла его под руку и сказала:
— Пошли.
«Да, никуда я не уеду, — решил Вамех, — до каких пор мне мотаться по свету?»
Они продолжали путь.
— Эх, несчастный паренек, — вздохнула Алиса, — в аптеке только о нем и говорят…
Вамех молчал.
— Странно устроена жизнь, — сказала Алиса, убрав руку и взяв сумку.
— Чем? — спросил Вамех.
— Подожди, я куплю журнал, — Алиса остановилась у газетного киоска. Продавец подал ей глянцевый иностранный журнал. Вамех достал деньги.
— Подожди, подожди, — останавливала его Алиса, пытаясь одной рукой найти в сумке кошелек, но Вамех уже заплатил.
— Спасибо, — Алиса развернула журнал.
— Не за что, — ответил Вамех, — ты знаешь польский?
— Нет, я покупаю их ради мод. Как тебе нравится такое платье? — Алиса показала ему яркую цветную страницу.
Вамех равнодушно посмотрел на красивую женщину с сигаретой во рту.
— Симпатичная женщина, — сказал он. — Почему жизнь так странно устроена?
— Потому!
Вамех рассмеялся.
— Что ты все смеешься?! — Алиса захлопнула журнал. — Если бы не я, тебя бы в живых не было. Кто тебя спас?
Вамех опустил голову. Алиса сунула журнал под мышку. Некоторое время они шли молча.
— Все-таки в чем же тогда было дело? Ты всерьез хотел умереть? — спросила Алиса, пытливо вглядываясь в Вамеха.
— Почему бы нет? — ответил он. — Рано или поздно это случится с каждым.
— А для чего умирать рано, когда можно позже?
— Все равно.
— Все равно?
— А какая разница?
— Если бы было все равно, тогда были бы оправданы войны, убийства и прочие мерзости. Если все равно, когда умирать, тогда жизнь лишена всякого смысла.
— Конечно, не все равно, это у меня случайно вырвалось, — попытался улыбнуться Вамех, — человек должен умирать тогда, когда ни физически, ни духовно уже не в состоянии продолжать жить.
— Физически ты выглядишь отменно, а духовно… Какой же грех гложет тебя? — Алиса рассмеялась.
— Кто знает, — ответил Вамех, — может, я великий грешник. — Он достал папиросу, сунул ее в рот и чиркнул спичкой.
— Что-то не верится мне, — сказала Алиса. — Хотя в тот день ты был совершенно трезвым. Никак не могу понять, почему ты так вел себя тогда.
Тут Вамех заметил Ясона, спешащего к ним через дорогу, и остановился. Алиса отошла в сторону. Ясон подошел, поздоровался с обоими.
— Слышал, что произошло? — взволнованно спросил он.
— Слышал, — спокойно ответил Вамех.
Ясона прямо-таки трясло от волнения.
— Как же это случилось, а?
Вамех и Алиса не ответили. Вамех, держа руки в карманах, чуть откинулся назад, щуря глаза от едкого папиросного дыма. Ясон, глядя на Алису, спросил его:
— Чего ты чуть свет поднялся? Проснувшись, я так удивился, что тебя нет.
Вамех, не отвечая, посмотрел в лицо Ясону, тот опустил глаза.
— Эх, бедный парень, как он погиб! — вздохнул Ясон, глядя в сторону. — А ты что решил, уезжаешь сегодня?
— Нет, — ответил Вамех, — я передумал.
— Великолепно! — радостно воскликнул Ясон. — Я бегу к Дзуку, надо выразить ему соболезнование, если ты придешь без меня, ключ на обычном месте… — Ясон уже не глядел на Алису.
— Если надумаю, приду.
Ясон заговорщически подмигнул ему и деловито ушел. Вамех и Алиса молча пошли дальше. Расстались они у больницы.
— Ты, значит, живешь у Ясона? — спросила вдруг Алиса.
— Да, прошлой ночью ночевал там.
— Как же ты к нему попал?
— Случайно.
Алиса задумалась. Потом подняла глаза и взглянула на Вамеха.
— Долго ты думаешь пробыть у нас?
— Не знаю.
— Я бы тебе кое-что сказала…
— Говори.
— Нет, не стоит, — Алиса отворила дверь больницы, обернулась, помахала рукой и скрылась.
Вамех остался один. Что она хотела сказать ему? Может быть, то, о чем вчера рассказал Ясон? Если так, значит она не любит Ясона. А! Какое ему дело, кто кого любит? Пусть сами в этом разбираются. Вамех стоял на краю тротуара, по привычке сложив на груди руки. Через дорогу, на той стороне улицы, впритык друг к другу выстроились одноэтажные дома — столовая, книжный магазин, универмаг, гастроном, парикмахерская. Люди входили в двери и выходили обратно. За магазинами тоже стояли дома. Над домами возвышалась зеленая крыша вокзала. Там заканчивался этот маленький городок. И по городку совершенно не заметно, что сегодня здесь произошло несчастье. Вамеху стало невыносимо тоскливо, захотелось покинуть этот город, но он все не мог решить, уехать ему или остаться. Его удерживала какая-то обязанность по отношению к некоторым в этом городке, и хотя она была бесформенной и неопределенной, но настолько сильной, что не давала ему права покинуть этих людей и снова затеряться где-то.
14
Невыносима жизнь того, кто живет только прошлым и не находит в себе сил преодолеть минувшее. Только надежда и стремление к новизне делают жизнь привлекательной и интересной. К счастью, обычный человек удивительно быстро забывает прошлое, и лишь немногое из пережитого смутно сохраняется в его памяти. Едва ли десяток дней из десятка прожитых лет помнится ясно и отчетливо. В этом есть свое значение, потому что в противном случае жизнь была бы невыносимой, и все-таки странно, что человек забывает примечательные в свое время минуты, забывает былые увлечения, страсть, волнение, разочарование, боль и радость, которые казались такими значительными, когда он переживал их. Все стирается в памяти, все обесцвечивается. Время и вправду лучший лекарь. Время уносит прошлое, вымывает из памяти хорошее и плохое, совершившееся когда-то. Все забывается, и время заставляет нас жить реальной жизнью. Но пока рана свежа, человек не знает, как залечить ее, не находит путей, ведущих к исцелению, потому что он переполнен случившимся, принадлежит ему, а не сиюминутному, и поэтому представляется, что боль никогда не утихнет.
Два месяца скитался Вамех. Много городов и местечек сменил он за это время. Ночевал, где попало, — на скамьях вокзалов, в скверах на траве, в старых, заброшенных домах… Со множеством людей сводил его случай — со стариками и молодыми, с плохими и хорошими, с тружениками и бездельниками, но ни с кем не заводил он дружбы. Иногда сутками маковой росинки не бывало во рту, иногда он разделял компанию со случайными знакомыми в какой-нибудь столовой, или на базаре, или в винном погребе, у штабелей пустых ящиков. Выпадали дни, когда Вамех безобразно напивался, случалось, неделями не брал в рот хмельного. Иногда приходилось драться. Он даже старался нарваться на поножовщину, но судьба хранила его. Бродил он по каким-то дорогам, ездил на попутных машинах. Трясся в товарных или пассажирских поездах, совсем не печалясь о том, куда забросит его судьба, в какой край занесет, что ожидает его и как сложится завтрашний день. Он искал забвения, и частая перемена мест помогала ему — не оставалось времени на воспоминания, на раздумья, на углубление в самого себя.
Все кончилось больницей в провинциальном городке. Целую неделю, лежа на больничной койке, пока его тело, измученное беспорядочной бездомной жизнью, набирало сил, Вамех размышлял о том, как ему жить дальше, потребно ли все то, что он делал до сих пор? В конце концов, должен же он набраться смелости и взглянуть действительности в глаза, какой бы тяжкой ни была она? Он знал, что человек привыкает ко всему, приспосабливается к сегодняшним обстоятельствам, и стоит миновать вчерашнему — хорошему или плохому, — как ему кажется, что всегда было так, как сегодня. Он знал, что прошедшее забывается скоро, и чем быстрее исчезает память о прошлом благополучии или злоключении, тем счастливее человек. Вамех понимал разумность этих умозаключений, но чувства его, в противовес разуму, не только не разделяли правомочность такой точки зрения, но и не верили в возможность забвения. Вамех не надеялся, что сможет забыть случившееся однажды, и с недоверием относился к мысли о возможном конце мучений. Он твердо знал, что никогда не изгладится из его памяти случившееся и воспоминания не позволят ему смириться с жизнью. Как быть? Он не находил ответа.
Был единственный путь, единственный выход, единственное спасение — не бегство, не стремление забыть прошлое, но забвение личного. Вамех должен отрешиться от своего собственного «я», вернее отречься от своего права на счастье. В конце концов, человек существует не только для того, чтобы самому быть счастливым. Может же он приносить счастье другим? Может быть, в этом жизненное назначение Вамеха? Но какое счастье способен он дать другим, когда принес величайшую беду самому близкому человеку? Чтобы облегчить бремя других, надо быть чистым, а Вамех казался самому себе чудовищем. Именно поэтому терялся он, раздумывая, на что решиться, какую из дорог предпочесть? Уехать из городка или обосноваться здесь? Уехать? Тогда водоворот, который швырял его, как волна щепку, и наконец вверг в больницу, снова начнет носить его по свету, по ночным вокзалам, по замызганным забегаловкам бог весть каких окраин… Остаться здесь? Начать все сначала? Попытаться облегчить жизнь незнакомым людям? Как? Он не знал. Может быть, продолжать жить, руководствуясь старым принципом, который он считал единственно справедливым, благородным и приемлемым для себя: охранять добро и противостоять злу? Но ведь он и раньше придерживался его? Однако сейчас многое представало в новом свете. Он должен отказаться от личного счастья, не пытаться устроить личное благополучие, потому, что они невозможны. Всю свою энергию он должен направить на то, чтобы приносить пользу другим, а не себе, это должно стать его трудом, его каждодневной обязанностью, отличительным признаком его бытия, а не средством наслаждения собственной добродетелью. Только такая жизнь позволит ему забыть грех, тяжесть которого не дает ему распрямить плечи. Однако Вамех так и не решил, уехать ему или остаться.
И вот гибнет Таурия. Все взбудоражены этой смертью. Вамех забыт, забыта его стычка с Шамилем. Незначительной и мелочной выглядит случившееся с ним перед лицом смерти.
Вечером Вамех пришел к Дзуку. Он сел на скамью в дальнем углу двора и смотрел на народ, который до самой ночи приходил сюда. Почти все были знакомы. Алиса и Джемал пришли вместе. Явился доктор Коция. Шамиль, Резо и еще несколько парней, которых Вамех видел впервые, сгрудились под деревом у веранды и вполголоса переговаривались. Ни один из них даже не оглянулся на Вамеха, хотя все знали, что он здесь. Теперь было не до него. Одноногий инвалид, тот самый, что утром раскланялся с Вамехом, снова кивнул ему. Вамех сидел и думал о Таурии. Вот кто действительно был несчастным. Все для него кончилось. Тело его пока еще существует, как некий предмет, обладающий определенной формой, но потерявший всякое назначение.
Люди поднимались в дом, пожимали руку Дзуку, уверенные, что искренне выражают сочувствие, ободряют убитого горем человека, отдают свой последний долг покойному, и, немного помешкав, спускались во двор и после недолгого разговора расходились по домам.
Все эти дни приходил Вамех к Дзуку и каждый день видел одно и то же, — во дворе ни на минуту не утихала суматоха. Приятели и соседи Дзуку с деловым видом носились по двору, спорили по поводу всяких пустяков, каждый старался главенствовать, отдавать приказания, все без причины раздражались и с такой бурлящей энергией готовились к поминкам, словно они имели решающее значение как для покойника, так и для его единственного друга, словно помимо поминок невозможно выразить свое горе и уважение к памяти погибшего, словно и вправду зазорно придать тело земле без непременной попойки. Возможно, что в свое время этот обряд был необходим, иначе он бы не возник, но сегодня в нем виделось что-то неестественное, неприятное, варварское. Это застолье, которое непременно сопровождает похороны, сейчас представлялось всем куда более важным, нежели то, что Таурия покинул этот мир, что его нет и никогда больше не будет. Измотанные люди с утра до вечера носились по городу в поисках вина, риса, фасоли, не задумываясь над трагедией Таурии, охваченные одним беспокойством — хватит ли провизии, чтобы накормить ораву соболезнующих. А горемычный Таурия лежал на столе посреди комнаты и не подозревал, сколько людей заняты его похоронами, сколько их носится, суетится и беспокоится, сколько времени и энергии расходуют эти люди, которые раньше, пока он был жив, ни разу не позаботились о нем, не знали, в чем он нуждается, да и кто он такой вообще… Безмерным было бы удивление Таурии, если бы он увидел, сколько людей считают себя его ближними.
В день похорон народ переполнил двор. От стен до забора протянулся брезентовый навес. Беспрерывно подходили все новые и новые люди. Весело беседующие женщины, едва войдя в калитку, внезапно, словно по чьему-то неприметному знаку, принимались кричать и причитать. Потом вся процессия направлялась в зал, где лежал покойник, обступали Дзуку, рыдая и голося еще пронзительней, и, наконец, успокоясь, с чувством выполненного долга спускались во двор, где специально поставленные люди приглашали всех под огромный брезентовый навес, натянутый над столами. И те, кто минуту назад убивались и рыдали, сейчас спокойно и смачно уминали фасоль и рис и степенно беседовали. Нельзя сказать, что никто из них не скорбел, не жалел Таурию, напротив, все были искренне огорчены, но печаль не отбивала аппетита и не мешала набивать брюхо.
Вамех стоял, все так же скрестив на груди руки, с грустью и огорчением наблюдая за происходящим.
Потом он вышел со двора и направился к кладбищу. Там не было ни души. Могильщики куда-то отошли, оставив готовую четырехугольную яму. Грустью веяло от стройных кипарисов. Огромная, оплетенная плющом липа замерла и оцепенела в таинственной тишине. Вамех опустился на чью-то могильную плиту. Внизу расстилалась долина, виднелся городок, железная дорога, шоссе, река и бесконечные нивы. Выше по косогору, на котором разбили кладбище, на обрывистой и неприступной вершине высилась старинная, крепкая еще, но заброшенная крепостная башня с обвалившимися зубцами, по преданию, резиденция одного из колхских царей. Плющом и мхом заросли ее стены, и на фоне лесистых хребтов она проступила где белой, а где зеленой, словно замаскированная неумелой рукой. Вамех сидел на надгробном камне и думал. Кто расскажет, какой вид открывался отсюда века назад? Дремучие леса были богаты зверем, болотный пар застилал низину. Жил здесь народ, совершенно отличный от современного, кутался в звериные шкуры, расписывал свое тело охрой, но уже умел ковать превосходную сталь и отменно владел ею. Иным был тогда мир, иными были стремления людей, иной была оценка всех явлений. Но какое значение имеет сегодня то, что было? Никакого. Что есть «было» для сегодняшнего дня? Ничто. Жил некий человек, был красив, счастлив, но что означает для нас это «жил»? Ничего, абсолютно ничего! Только то, что существовал он и нет его. Реально ли это «был» сегодня?
Вамех сидел на надгробной плите. Кто покоится под этим надгробием, сколько веков лежит под ним? Время стерло надпись на камне. Но там, в глубине, находятся останки того, кто некогда назывался человеком, ходил по земле, дышал, смотрел на мир, обладал своеобразным лицом и голосом, был личностью, по своей внутренней сущности единственной среди всего народонаселения земли, и думал о смерти, ибо он был человеком. Миллионы и миллионы лет существовала вселенная до его появления на свет. Но вот он родился, жил и умер. Он умер, и с момента его смерти прошел миг, потом еще один, пролетели минута, месяц, год… Обтесали это надгробие, высекли на нем надпись: кто лежит здесь, сколько лет было его жития. Пронеслись еще годы, течение времени и ненастье стачивали камень, смывая буквы, и сейчас никто не знает, кто покоится под этим камнем, мужчина или женщина, юноша или старик, злодей или святой… Прошли десятилетия, пролетят еще миллионы и миллиарды лет, бесконечно протянется время со дня его смерти, как бесконечно тянулось оно до дня его рождения, но этого человека не будет больше никогда и не будет ему места во вселенной. Вамех терялся в сомнениях — да существовал ли этот человек вообще? Не минутным ли миражом вспыхнул он в бесконечности мирозданья, потому что бесконечность времени поглотила краткое мгновение его жизни? Может быть, все странная иллюзия? Ведь и само понятие «время» так же приблизительно, как, например, «начало» и «конец»? Все условно, и темна истинная сущность явлений. Не существует предмета, который воочию являл бы себя со всех возможных точек зрения. Таков и человек. Что же в таком случае реально? Что есть действительность?..
Траурная музыка вторглась в раздумья Вамеха и вспугнула их. Похоронная процессия с гробом Таурии подходила к кладбищу, Вамех поднялся и пошел прочь. Идя между могилами, он подумал, что жизнь все-таки нечто иное. Главное — это человек, боль и горе человека. Человек — центр мироздания, — думал Вамех, — ему подчинено все, его разумом рождены все проблемы, которые он поставил и теперь старается решить. Невозможно, чтобы над ним довлело нечто более могущественное, чем он сам. Размышления о законах мироздания нужны человеку, чтобы понять свою роль и место в мире. Не отвлеченность, а земная, каждодневная жизнь человека волновала Вамеха, и ему захотелось облегчить ношу каждого. Жизнь — это действие, а не только размышление, — так теперь думал он.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Сентябрь напоминал раннюю зиму. Шли дни, а небо не переставало хмуриться. Беспросветные дожди и похолодание напугали всех, и разговоры шли только о погоде. Страда была на носу, а ненастью не предвиделось конца, и с трудом верилось, что удастся еще погреться на солнце. В последних числах сентября случилось наводнение, поля залило. Непогода угнетала, удивленные и озадаченные люди то и дело поглядывали на небо и не могли понять, надолго ли зарядили дожди, скоро ли разойдутся обложные тучи? Улицы опустели, редкие прохожие, спрятав головы в воротник, норовили побыстрее укрыться под крышей. Городок притих, словно вымер. На дневные сеансы в Дом культуры собиралась ребятня, вечерами же ни одна живая душа не заглядывала сюда.
Никаких происшествий не случилось за это время, лишь скончалась одна древняя старушка. Могучий ливень разразился в день ее похорон, и немногие родственники да двое-трое соседских мужчин — в плащах, с которых ручьями стекала вода, в резиновых сапогах, до голенищ заляпанных грязью, — провожали покойницу в последний путь. С могилой намучились — стоило копнуть, и яма тут же заполнялась водой. Поминки были скомканы. Мужчины прямо из-за стола завалились в духан и пили до ночи.
Что же еще случилось? Ничего примечательного. Дзуку готовился к сороковинам по Таурии. Те деньги, которые он был обязан уплатить за перебитую посуду, внес Вамех. Во всяком случае такой слух распространился по городку. Это известие дошло и до Дзуку, а как он поладил с Вамехом, никто не знал. Но однажды, когда дождь лил, словно из ведра, Дзуку и Вамех выпивали в вокзальном ресторане. С ними был и официант Гвачи, которого Дзуку беспричинно побил месяц тому назад. Все трое изрядно набрались, особенно Дзуку, но, в отличие от прежних попоек, на этот раз он не шумел, не веселился буйно.
Поезда привычно грохотали по рельсам, тоскливая картина открывалась из окон вагонов — сплошная пелена дождя и залитые водой поля. Понуро, словно виноватые, поникли густые деревья за вокзалом. На перроне не суетился, как прежде, народ, Антон и Мейра куда-то исчезли. Ясона в любое время можно было найти в Доме культуры, а Джемал, завершив практику, вернулся в Одессу. Алиса проводила его, они поцеловались и расстались с улыбкой. Через год после окончания института Джемал намеревался вернуться сюда и начать здесь службу. Алиса была горда и счастлива. Наконец-то нашелся мужчина, достойный ее любви и уважения! Многим придется поприкусить языки, когда она станет супругой врача. Никто в городке не сомневался, что дело клонится к свадьбе, все уже знали, что Джемал переговорил с доктором Коцией и тот обещал во всем посодействовать Джемалу, когда он получит диплом и приедет.
В этом сентябре женился Леван, сын доктора Коции. Роза, так звали его жену, была дочерью ночного сторожа. Миловидная, тоненькая девушка взяла всем, только имя ее было несколько странноватым для слуха местных жителей. Леван справил скромную свадьбу, не решился пригласить Дзуку, хотя и очень хотел… Разумеется, доктора Коция тоже не было в числе приглашенных, и это еще больше отдалило отца от сына, хотя они и без того были безнадежно далеки друг от друга.
Дожди лили ежедневно. Невозможно было понять, сентябрь на дворе или март. Старики в один голос твердили, что не помнят похожей осени. Погода действует на человека: в холод он становится более вялым и замкнутым, а нынешний сентябрь смахивал на раннюю зиму. Однако постепенно все свыклись с ненастьем, забылась летняя жара, и жизнь покатилась по привычной колее. Скука непогожих дней не нарушила городской жизни: по утрам, как всегда, люди шли на работу, вечерами возвращались обратно. Наконец дожди приутихли, но капли все продолжали стекать с листьев деревьев и звонко шлепались в лужи.
В тот день, когда Вамеха снова заметили в городе, дождя не было. Всего два раза за этот месяц видели его горожане: первый раз — когда он с Дзуку и Гвачи пил в вокзальном ресторане, а куда они делись потом, не знал никто, потому что эта троица вышла из ресторана заполночь, и, как назло, лил проливной дождь; во второй раз Вамех объявился на вокзале в тот самый час, когда Алиса провожала Джемала. Он проходил по перрону, поздоровался с ними на ходу и, заметив, что Джемал и Алиса рады видеть его, подошел. Их, в самом деле, почему-то обрадовало появление Вамеха. Может быть, потому, что они долго не встречались с ним? Но стоит ли докапываться до причины чужой радости? Они с улыбкой повернулись к нему. Трудно сказать, почему они были веселы в тот миг. Может быть, от ощущения собственного счастья, возможно, от того, что хотели скрасить горечь прощания, но не исключено, что Вамех теперь был из тех людей, которым рады все… Алиса выглядела бодро, казалось, отъезд Джемала нисколько не печалил ее. Как ни странно, но в глубине души Алиса и в самом деле не была огорчена, хотя, вероятно, могла бы обидеться, если бы кто-нибудь вслух предположил такое. Ведь будущее представлялось ей в радужном свете, и сейчас, стоя на перроне рядом с Джемалом, она наслаждалась осенним, пропитанным дождевой влагой воздухом, улыбалась и ничуть не скорбела.
— Уезжаете? — спросил у Джемала Вамех.
— Что делать? Пролетела моя практика, — с некоторой застенчивостью, в которой чувствовалась и гордость, ответил тот. Он явно гордился тем, что завоевал сердце Алисы, что она пришла проводить его и Вамех застал их вместе.
В эту минуту снова хлынул дождь. Джемал сбросил плащ, накинул его на голову и притянул к себе Алису. Девушка прильнула к нему, закуталась полой плаща и, выглядывая из своего убежища, внезапно пожалела Вамеха. Развернув плечи, с совершенно спокойным лицом стоял он под проливным дождем, мягко и добро глядя на Джемала и Алису. В чьем-то потрепанном, насквозь промокшем пиджаке — ворот рубахи распахнут, и дождь хлещет по груди, в грязных солдатских ботинках, с длинным фиолетовым шрамом на шее, он показался Алисе человеком, перенесшим немыслимые страдания, что, впрочем, совершенно не бросалось в глаза, — он всегда оставлял впечатление твердости и силы, даже сейчас, когда мок под дождем и мерз, явно мерз — губы у него посинели, но держался он так, словно дождь и холод были ему нипочем, мягкая улыбка не сходила с его лица, он тепло и добро смотрел на влюбленных. Алисе захотелось ободрить его, высказать свое сочувствие, непонятная, щемящая жалость охватила ее, она не удержалась и расплакалась.
Джемал, заметив, что она плачет, еще крепче обнял ее.
— Будет тебе, не плачь, успокойся! — взволнованно говорил он, но горделивая нотка еще явственней, чем минуту назад, прозвучала в его словах.
Алиса высвободилась из его рук, откинула плащ, отошла немного и подставила лицо дождю. Потом взглянула на Джемала чуть покрасневшими глазами, перевела взгляд на Вамеха и рассмеялась. Она вытирала слезы и смеялась.
— Умница, так-то лучше! — похвалил ее Джемал с несколько растерянной улыбкой, — он смутно почувствовал, что происходит не то, что представлялось ему.
— Ты на каком курсе? — спросил Вамех, рассеивая внезапную неловкость.
— На пятом, — ответила за Джемала Алиса, — на будущий год кончает, станет врачом в нашем городе, — сквозь смех проговорила она, переводя взгляд с Джемала на Вамеха.
— Хорошо, — улыбнулся и Вамех, — буду жив, свидимся.
— Непременно увидимся, непременно, — горячо ответил Джемал и обернулся к Алисе, — только не плачь, прошу тебя, не надо…
— Ты не знаешь, почему я плакала, — отрезала Алиса. Она в самом деле не плакала, да и смеяться перестала. Лицо ее было холодно и спокойно.
— Знаю, — самоуверенно и в то же время с тревогой заявил Джемал.
— Ничего ты не знаешь! Никто ничего не знает, глупости это! — оборвала Алиса, не глядя на него.
Вамех невольно усмехнулся.
— А ты чего смеешься?! — обернулась к нему Алиса, строго и сурово взглянув на него.
Вамех спокойно выдержал ее вызывающий взгляд и ответил той же насмешливой улыбкой:
— Знаете, что я вам скажу, Алиса? Не для всех же отъезд Джемала трагедия.
Девушка опустила глаза. Блестящая от дождя платформа была пуста. Все укрылись в вокзале. На дальнем пути стоял товарный состав. Вдоль него шел железнодорожник, постукивая длинным молоточком по колесам вагонов.
— И поезд куда-то запропастился, — нервно сказала Алиса.
— Через две-три минуты подойдет, — Джемал взглянул на часы, и в ту же секунду послышался далекий гудок электровоза.
Вамех пожал руку Джемалу, пожелал ему счастливого пути и удалился, чтобы не мешать прощанию влюбленных, широко шагая, стуча тяжелыми, подкованными ботинками. Поезд с грохотом ворвался на первый путь.
2
Поезд набирал скорость. Долго простоял в тамбуре Джемал, провожая взглядом знакомые места. Мимо окна проплывали красивые дворы, обсаженные кустарником, дощатые дома, ворота, дорожки. Джемал смотрел на размякшую от ливней землю, на зеленую траву и мокрую, высокую кукурузу, на деревья, заслоняющие дома предместья; пропадали за окном последние дома, оставались позади часть жизни, многие сладкие минуты, — все уходило в прошлое. Джемал грустил, но то новое, что ждало его впереди, предвкушение скорых перемен развеивало грусть, и мысли его постепенно покидали и этот городок, и Алису, и доктора Коцию, и Вамеха, всех и все, что было связано с его недолгой практикой. Мысленно он уже перенесся туда, куда сейчас уносил его поезд.
И Алиса долго стояла на перроне, провожая взглядом последний вагон. Наконец он скрылся из глаз, пропал вдали. Дождь прекратился «Ну и погодка!» — Алиса зябко поежилась и почувствовала, что ее совершенно не тянет домой, не хочется возвращаться в свою пустую комнату. Что-то угнетало ее, чего-то хотелось, а чего, она и сама не знала. Зажав под мышкой сумочку, она направилась к выходу, но едва вступила на лестницу, как заметила Шамиля. Он стоял на привокзальной площади и курил. Первой мыслью, которая мелькнула у Алисы при виде Шамиля, была: необходимо срочно разыскать Вамеха, предупредить, что этот бандит подстерегает его на площади. Алиса повернула обратно, обежала платформу, заглянула в зал ожидания — Вамеха не было. Девушка отворила дверь парикмахерской — и здесь нет. Оглядела зал ресторана — напрасно. Куда же он исчез? Куда вообще исчезает этот тип, чем занимается? Уже второй месяц околачивается Вамех в городе, но где он живет, на какие деньги? И что у него за дела, зачем он вообще приехал сюда? Огорченная Алиса вышла на площадь, внимательно оглядела прохожих. И здесь не видно. Шамиль уже ушел, но ей все равно хотелось найти Вамеха, предупредить, что на площади только что околачивался его враг, однако то, чего очень хочешь, никогда не случается…
Медленно направилась она к дому. Ей было грустно. Свое огорчение она приписывала отъезду Джемала, и ей захотелось тут же написать ему, что она страшно скучает, хотя они расстались всего десять минут назад. Ей хотелось, чтобы Джемал сейчас почувствовал, как у нее опустились руки, когда его поезд скрылся вдали, как опостылел ей этот городишко, как страстно желает она изменить свою монотонную, тусклую жизнь, вечно безрадостную, в сто раз худшую, чем погода в нынешнем сентябре.
3
Все на свете имеет конец. Хорошее сменяется плохим, плохое — хорошим. Нескончаемого нет. В первых числах октября восточный ветер пришел на смену дождям, разогнал тяжелые тучи и подсушил землю, Сразу потеплело. Люди ободрились, снова ожили улицы, а к середине октября почва просохла и щедрая, благодатная осень вступила в свои права.
Ароматом молока и меда потянуло с полей. Золотыми нитями заткало солнце пространство между землей и небом. Быстрее заструился сок в жилах деревьев, и налились плоды. Запахом спелости пропитался прозрачный, как хрусталь, воздух. Золотистой осенней желтизной подернулись дали и смягчились краски земного простора. Люди двинулись на поля. Такой благодатью был преисполнен каждый день, что все ощутили перемену и в самих себе — небывалый прилив сил и радости переживал народ. А вечерами удовлетворение согревало сердца слаще первого любовного томления. Опадала пожелтевшая листва. Разнолистье пестрым ковром накрыло землю, и глазу была отрадна его красота, она заставляла забыть, что ты — свидетель последних дней этой прелести, что зимний холод медленно подбирается к ней, и эти прекрасные в своей предсмертной красе листья скоро истлеют и распадутся. Но пока еще торжествовала жизнь, переполняя человека желанным умиротворением. Душа искала любви, тепла и простора. От солнечного тепла мускулы наливались силой, и вольная песнь рвалась из груди. Гимн труду гремел в долинах, и величественное солнце не сводило взгляда со счастливой земли.
Солнце — наш отец. Солнце — творец жизни. Солнечные лучи — это душа, которая, слившись с землей, матерью нашей, рождает жизнь. Не потому ли поклонялись древние солнцу, радостными возгласами приветствуя утреннюю зарю?
Почти такую же языческую радость испытывал Вамех по утрам, когда просыпался и видел солнце, облекающее мир в радужные покровы. Каждое утро спешил Вамех на поля, над которыми из конца в конец развернулась безоблачная лазурь, успокаивающая и смягчающая душу, избавляющая от скорби и мучительных дум. Он испытывал радость при виде полей, в которых кипела страда, при виде бесконечных деревьев, размежевывающих нивы, зеленых еще или уже сбросивших летний наряд. В прогалинах между стволами открывалось бескрайнее пространство цвета спелой хурмы. Вамех радовался пению иволги, с отрадой наблюдая, как съезжаются сюда колхозники из ближайших деревень. Сейчас он сам был тоже крестьянином, убирал хлеба, и труд заставлял забывать о многом. Все здесь уже знали Вамеха и считали его своим. Занятые работой люди не имели досуга для излишнего любопытства, труд роднил всех.
Крытыми арбами свозили с полей хлеб. Обломанные стебли кукурузы срубали под корень и складывали рядами. Нагруженные кукурузными початками арбы, скрипя, разъезжались по проселочным дорогам. Всюду, куда ни глянь, янтарный простор, и уставший Вамех разогнет, бывало, спину, смахнет пот со лба, да так и застынет с серпом в руке, радуясь, что смешался с трудовым людом и совсем иными глазами видит жизнь. Он жаждал вольной жизни сына природы, его молодая душа требовала действий, он не желал больше мириться с ролью стороннего наблюдателя, он рвался творить жизнь своими руками, чтобы оправдать собственное существование и искупить свою вину.
Весь октябрь проработал Вамех в колхозе. С утра до вечера, не разгибаясь, трудился он в поле и получил на трудодни столько, что этого за глаза хватило бы на целую зиму. Уставший и обессиленный, возвращался он вместе со всеми в деревню. Он уже сжился с новыми людьми и этими местами, его смятенная душа успокоилась, потому что он не был слабым человеком. Кто силен, кто более остро воспринимает происходящее, в том скорее происходит перелом, чем в том, кто покорно следует за однообразным течением жизни. Для сильного, одаренного человека время полно перемен, каждый миг для него отличен от предыдущего, и всякое, незначительное на первый взгляд явление оборачивается для него источником вдохновения, потому что такая личность на лету схватывает смысл и постигает значение происходящего, в то время как заурядному человеку не хватает нескольких лет, а порой и всей жизни, чтобы понять суть явления. Поэтому сильный и одаренный человек легко меняется, и эти изменения всегда способствуют его росту.
Новая жизнь увлекла Вамеха, и он стал иным в течение двух последних месяцев. Это вовсе не означает, что он полностью переродился, такого не бывает, корни прошедшего настолько глубоко проникают в сегодняшний день, что мы принадлежим прошлому не меньше, чем будущему. Эхо прошлого, его отпечаток определяют наши стремления, а наше сегодняшнее бытие обусловливает незримый союз с будущим.
Так или иначе, но Вамех полюбил широкие поля, на которых трудился и уставал, полюбил деревню, в которой жил сейчас, и совершенно не жалел, что судьба занесла его в этот край. За весь октябрь он ни разу не показался в городе. Он был очень благодарен Дзуку, уступившему ему свой домик в деревне, который пустовал после смерти родителей. Отныне Вамех поселился здесь, здесь было его гнездо.
Да, вправду трудно существовать, не имея цели и гнезда. Гнездом Вамех обзавелся, а в голубоватой дымке будущего постепенно проявились черты того неясного и неоформившегося, что представлялось Вамеху целью его жизни.
4
А в городе ничего не менялось. По-прежнему толкался и шумел народ на улицах. Стояла осень, и во всем ощущалась осенняя сырость. Перегруженные урожаем грузовики один за другим подкатывали к заготовительным пунктам и порожняком летели обратно. Базары ломились от обилия товаров и покупателей. Крестьяне из окрестных деревень заваливали прилавки всевозможными дарами садов — черным и янтарным виноградом, грушами и поздними яблоками, айвой и хурмой. Снова вприпрыжку носился между прилавками Мейра, в засученных до колен штанах, в новой лохматой папахе. Снова, кряхтя, таскал он мешки. В маленькой парикмахерской у базара, где пару месяцев назад ранили Вамеха, беспрерывно и монотонно жужжала электрическая машинка. Парикмахер приобрел ее месяц назад и чрезвычайно гордился своей новинкой. Загорелые, лохматые и небритые крестьяне громко переговаривались и, хохоча, ждали очереди, толстый, но проворный парикмахер вертелся волчком, до поздней ночи наводя красоту на деревенских работяг.
Дом культуры временно закрыли, там начался ремонт. Ясон с головой ушел в хлопоты, командовал, торопил маляров и штукатуров, ему хотелось завершить работы до наступления холодов. Множество забот свалилось на него, что было как нельзя кстати. Правда, у него хватало выдержки скрывать свои чувства, но в глубине души он мучительно переживал разрыв с Алисой. На людях он старался не подавать виду, держался спокойно и равно, однако, кто знает, не было ли это профессиональным мастерством? Ясон ведь был актер, лицедей. Несомненно одно, он раскаивался, проклинал в душе свою невольную ошибку, но, увы, ничем не мог помочь себе. У Алисы появился новый обожатель по имени Джемал, ни в чем не уступающий Ясону. Алиса терпеливо и с гордостью ждала его. Да, да, с гордостью! Она гордилась, что ждет возлюбленного, который через год возвратится из Одессы и женится на ней. А Ясон при встречах с Алисой держался так, словно, несмотря ни на что, они остаются искренними друзьями. Девушка не противилась этому. Виделись они редко. Ясон был загружен работой и за делами забывал об Алисе.
Алиса каждое утро шла главной улицей в больницу, по обыкновению очень вежливо и приветливо здороваясь со знакомыми. Возможно, что благодаря этой приветливости ее и любили в городе, хотя чего только не болтали о ней за глаза. Целый день она проводила в больнице, где постоянно хватало больных. Одни выписывались, другие поступали…
Все эти дни Алиса пребывала в непрерывной тоске. Нельзя сказать, что ее раздражали капризы больных, нет, она давно привыкла к их брюзжанью и научилась не придавать ему значения. Видимо, какие-то личные переживания не давали ей радоваться. Чем они были вызваны? Со стороны казалось, что у нее не было ни малейшего повода впадать в хандру. Наоборот, она не могла пожаловаться на судьбу, по милости которой все складывалось как нельзя лучше. Алиса ничем, не выказывала своего недовольства жизнью, но она не могла больше выносить постоянного одиночества. Как ей хотелось, чтобы Джемал вернулся до срока! Нет ничего тягостнее ожидания, долгого и постоянного ожидания, даже если оно обещает принести счастье. По вечерам, вернувшись с работы, Алиса включала радиолу, выносила на балкон стул и допоздна сидела, глядя на городок, на снующих по улицам обитателей его, на прелестные, аккуратные домики с красными черепичными крышами. Что делать, куда бы сбежать отсюда? Из вечера в вечер повторялось одно и то же. Иногда забегала Лейла, давнишняя подруга Алисы, тогда они усаживались на балконе рядом и развлекались разговорами о прохожих: в городке они знали подноготную почти каждого человека.
Шамиля и его компанию они терпеть не могли. Какими только словами не награждали их подруги, когда те проходили по улице под балконом Алисы, гогоча и сквернословя, с таким отношением к окружающим, словно весь мир принадлежал им одним и они могли вести себя, как заблагорассудится. Ни Алиса, ни Лейла не опускались до общения с ними, но знали каждого, да и кто в городе не знал этой шайки? Лейла дружила с Ясоном, но теперь стеснялась упоминать о нем, — стоит ли попусту тратить слова, если Алиса любит Джемала? Странно, что-то очень быстро потянуло их друг к другу. Лейла почти досконально знала историю их романа. На первый взгляд все произошло случайно. Ну и что из того? В жизни все происходит случайно. Если бы Ясон не донес дружкам Шамиля, возможно, Алиса и не заметила бы Джемала, но именно подлость Ясона толкнула Алису к студенту-практиканту. Она явно затеяла эту историю, чтобы досадить Ясону. Джемал нравился ей, но она ни в коем случае не изменила бы Ясону, не запятнай он себя. Алиса не из тех, кто ищет развлечений. Нет, Лейла прекрасно понимала, что Алиса ищет преданного друга и ничего не пожалеет для него. Поэтому-то Алиса так часто переоценивала людей, доверчиво относясь ко всем. Но ей не везло, ее не ценили те, для кого она жертвовала всем, а народ распускал сплетни, выдумывая всяческие небылицы. Одна Лейла знала, насколько честной и искренней была Алиса, как преданно и самоотверженно умела она дружить. Народ все истолковывает по-своему, стоит ли обращать внимание на сплетни? Ты сам должен быть убежден в собственной правоте, тогда и другие поверят в нее. Поскольку Алиса твердо верила, что через год вернется Джемал и они поженятся, все в городке тоже думали, что так оно и случится, хотя до Джемала Алиса крутила со многими, и с Бено, и с Ясоном, и бог знает с кем, но до свадьбы дело еще ни разу не доходило.
Лейла любила Алису, Джемал произвел на нее хорошее впечатление, и она радовалась счастью подруги. По мнению Лейлы, Джемал был глубоко порядочным человеком. В отличие от местных, он не придавал никакого значения прошлому Алисы и искренне привязался к ней. В городке многие, вернее большинство, считали, что девушка, чем-то запятнавшая себя, никогда не станет верной женой и хорошей матерью. Джемал же придерживался иных взглядов, возможно, что усвоенные им чужие нравы сыграли в этом свою роль, но так или иначе, а Джемал систематически писал Алисе, что, по мнению Лейлы, наглядно подтверждало его порядочность. В каждом ответном письме Алиса передавала ему привет от подруги. Они были знакомы, Лейла несколько раз приглашала в гости Алису и Джемала, когда он был здесь. Что же удивительного, что Алиса грустит без друга, что ни наряды, ни общество не интересуют ее? Куда ей пойти, чем заняться, для кого наряжаться в этом треклятом городишке?! Кто здесь оценит ее красоту? Что говорить, и самой приятно выглядеть красивой, но вдвойне приятнее, когда твоя красота предназначается другому, тому, в ком ты стремишься вызвать восхищение и кто нравится тебе. Это гораздо отраднее, чем быть красивой только для себя. Красота — основа любви, в особенности для для женщин; мужчины часто воображают, что существует нечто более важное, чем любовь к женщине. А для женщин жизнь без любви — не жизнь. Бессмысленно прозябать на свете, если ты не творец жизни. Впрочем, жизнь и существование — две различные вещи. Жизнь — это то же существование, только поднятое на более высокую ступень, которая, помимо желания существовать, содержит в себе глубокие страсти, порой те, что по природе своей зачастую противоречат смыслу существования.
Лейла, полнотелая тридцатилетняя женщина, давно развелась с мужем и жила одна, воспитывала десятилетнюю дочь и работала в редакции местной газеты. Личная жизнь ее не удалась. Муж Лейлы оказался подонком в полном смысле этого слова. Достойный и солидный с виду мужчина, он кутил и развлекался напропалую. На службе не держался, и куда бы ни поступал, через неделю его просили освободить место. Он совершенно не заботился о семье, ему льстило считаться беспримерным кутилой и повесой. Можно ли терпеть рядом человека, у которого на уме нет ничего, кроме вечного стремления напиться и обратить на себя внимание, да к тому же доставляющего постоянные неприятности близким? Уж коли обзавелся семьей, так изволь хоть немного заботиться о домочадцах, ведь и на пирушку надо идти с легкой душой! Только черствый, эгоистичный и ограниченный человек сводит к бутылке весь смысл своего существования. Сама Лейла вовсе не отличалась монашеским нравом, умела поддержать компанию, повеселиться, даже могла пропустить рюмочку, но муж ее только на людях казался терпимым человеком. Дома он изводил всех мелочными придирками, своей скандальной въедливостью, зато в обществе, особенно за столом, разыгрывал из себя беспечного и галантного кавалера. Весь заработок он тратил на стороне, не вносил в семью ни копейки. Будь у него причина искать забвения, Лейла смогла бы смириться, но причины не было, зато гонору, желания пустить людям пыль в глаза, выставить себя этаким героем, гусаром, бретером… хоть отбавляй. Он не стыдился ничего, хотя в основном жил за счет жены. Надо еще добавить, что их развод был вызван не экономическими причинами, а лишь безответственностью и полной никчемностью мужа. Лейла долго терпела, долго сносила все, но когда убедилась, что муж ее неисправимый забулдыга и фанфарон, ее терпение лопнуло, она забрала девочку, вернулась в родной город и устроилась в редакцию газеты. С тех пор прошло шесть лет. Буквально через несколько месяцев после ее отъезда муж впутался в какие-то махинации, попал под суд и сгинул. Лейла старалась не вспоминать о нем, потому что, кроме грязи, хамства и унижений, замужество ничем ее не порадовало. Сейчас она жила скромно, незаметно, вкладывая все силы в воспитание дочери. Ни о какой любви она, разумеется не мечтала. Молодость с ее надеждами давно прошла. В ее ли годы думать о любви?! Чужая душа — потемки, но после развода Лейла общалась с мужчинами только на деловой почве. Этого никто не мог отрицать. Вполне возможно, что она нравилась многим, но даже самый злоязычный сплетник не мог бы сказать о ней ничего предосудительного, хотя она и предпочитала иметь дело с мужчинами, нежели с женщинами, Алиса была ее единственной подругой. Лейла любила и жалела Алису, лучше всех знала ее.
И Алиса делилась своими печалями только с одной Лейлой, Ни Алиса, ни Лейла не любили жаловаться на судьбу, но у женщин всегда есть потребность раскрыть душу, посвятить кого-то в свои переживания. Они ничего не утаивали друг от друга, и когда Лейла забегала в гости, подолгу просиживали на балконе, обсуждая свои проблемы. После отъезда Джемала и Алиса зачастила к Лейле. Она всегда приносила девочке какой-нибудь подарок, помогала подруге по хозяйству, а управившись со всеми делами, они отводили душу в долгих разговорах. О чем только не говорили они? О докторе Коции и его сыне, о многих других людях, вспоминали несчастного Таурию, а заодно и Дзуку. Лейла терпеть не могла Дзуку.
— Не напоминай мне об этом пьянице, об этом мерзавце, этот зверь сгубил мальчика, — с отвращением говорила Лейла.
— Не надо так строго судить, Лейла, — урезонивала ее Алиса, — это судьба виновата.
— Какая судьба, дурочка? Ты что, очумела? Он постоянно подбивал мальчонку на выпивку.
— Дзуку тут ни при чем, так уж у несчастного на роду было написано.
— На каком роду? Тем, что мы называем судьбой и объясняем судьбой, можно оправдать любую гадость. Сказал — «судьба» и вышел чистеньким. Разве так можно?
— Все-таки судьба существует, — со странной грустью произносила Алиса и задумывалась.
— Не могу видеть пьяниц, не хочу видеть рожу этого косоглазого, своими бы руками растерзала его! — злилась Лейла.
А город жил своими заботами, люди сновали по улицам, и никому в голову не приходило, что это о них разговаривают две женщины, отдыхающие вечерами на балконе.
И Дзуку не знал, что подруги склоняют его имя. Мог ли он подозревать, что Лейла вспоминает его? Откуда там? Если бы он знал…
Но не стоит останавливаться на этом. Интересно лишь, что Дзуку в последнее время отпустил бороду и капли не брал в рот хмельного. Знакомые рассказывали, что он копит деньги на сороковины и потому постится. Наконец настал этот день, Дзуку поставил памятник на могиле Таурии и пригласил народ на поминки в один из последних дней октября, к трем часам дня.
5
Сороковины отметили как нельзя лучше. Множество народу стекалось на панихиду, в том числе и доктор Коция, и директор школы Вахушти, и директор заготконторы. Кто бы мог подумать, что столько людей не поленятся прийти на кладбище, не пожалеют времени в это прекрасное, солнечное воскресенье, чтобы помянуть несчастного парня? Высокое, безбрежное небо было чистым и голубым, как заветная мечта, и белые, опрятные облака ангелами взирали с высоты. А почерневшие от времени ангелочки с отбитыми крыльями, безмолвно сторожащие могилы, печально возвращали человека к земле, отрывали его от созерцания небесной выси, напоминали о смерти, о мучениях, о бремени земного бытия. Но все же многие собрались на кладбище отдать последний долг Таурии. Играла музыка. Народ стоял группками, одни — вплотную к могиле, другие — в отдалении. Все терпеливо слушали скучные, монотонные звуки расстроенных инструментов и вполголоса переговаривались. Скрипка выводила одну и ту же невыносимую мелодию, которая вовсе не вызывала ни тоски, ни скорби, а навевала одно лишь уныние. Совершенно невыносимо было внимать ей, и что оставалось делать людям, если не разговаривать? Почему бы не найти общей темы, например Ясону и доктору Коции, которые стояли бок о бок, и притом Ясон ведь с почтением относился к доктору.
— Батоно Коция, вы не находите, что смерть — ужасна? Медицина пока еще бессильна перед ней…
Доктор был отзывчивым человеком, мнение горожан на этот счет было единодушным, — он не пропускал ни одной панихиды, близко к сердцу принимая чужие горести, в меру своих сил сочувствовал каждому, однако обладал одной странностью: он совершенно не терпел, когда его называли Коцией. Его всего передергивало, когда к нему так обращались; он считал, что в этом обращении есть провинциальное панибратство, нечто даже барски-покровительственное, и человек, которого вместо полного имени Константин называют собачьей кличкой «Коция», не может быть ни серьезным, ни уважаемым. Он считал, что его должны называть «батоно Константин», или, на худой конец, «уважаемый Котэ», он впрочем, всего этого не показывал явно, не желая афишировать свою слабость, но выходил из себя, когда слышал фамильярное и общераспространенное обращение «Коция». Поэтому он только окинул Ясона взглядом и промолчал.
— Уважаемый Коция, вероятно, ощущать смерть ужасно, верно ведь? — снова спросил Ясон.
Доктора так и подмывало осадить нахала, нагло называющего его Коцией, но он снова сдержался и ответил:
— Смерть — не ощущение, она — исчезновение ощущений, освобождение ото всех ощущений и чувств! Такого мнения придерживаются медицина и философия.
Раздражение, звучавшее в его голосе, озадачило Ясона, но, не зная, чему это приписать, он решил продолжать беседу:
— Однако, уважаемый Коция, человек перед смертью испытывает ужасные боли, очень мучается.
— После страданий и мук наступает минута полного освобождения и покоя, за которой безболезненно, даже более того, в некотором роде приятно следует чувство полного облегчения, вот это и есть смерть… Во всяком случае, такого мнения придерживается один итальянский философ и ученый, — сухо произнес доктор.
— Вам, конечно, лучше знать, уважаемый Коция, но все же я сомневаюсь в справедливости подобного умозаключения…
— Никто не ответит вам определенно, что есть смерть, ни медицина, ни философия, но мы именно так представляем течение ее процессов.
— Батоно Коция…
Тут уж доктор не выдержал:
— Молодой человек, да оставьте меня в покое! Прилично ли столько пустословить на панихиде?! — выпалил он и отвернулся, кипя негодованием.
Ясон опешил, но сноровка артиста, привыкшего и к неожиданным провалам, и к успехам, помогла ему скрыть обиду, сделать вид, будто он совершенно не задет грубым окриком доктора. Он осмотрелся. И вправду, сколько народу сошлось на панихиду! Неужели все они так горячо любили несчастного Таурию? Некоторые и знать-то его не знали, однако и они огорчены. Невозможно не горевать, когда гибнет молодой! Вамех, например, совершенно не знал Таурию, но и он пришел, притом раньше всех, и сейчас стоит особняком, прислонясь к металлической ограде на чьей-то могиле. Ясон не сомневался в искренности его переживаний. Ему захотелось подойти поближе к Вамеху, встать рядом, он сделал уже шаг, но тут ему на глаза попался Шамиль и вся его братия, и он предпочел остаться рядом с доктором. Чуть подальше директор школы Вахушти беседовал с директором заготконторы. Занятная личность этот Вахушти. Ясон никак не мог понять, что он за человек? Всегда гладко выбритый, в роговых очках, он выглядел моложе своих пятидесяти лет. Постоянно аккуратный, седоватые волосы уложены волосок к волоску, внешне он истинный европеец, всегда обходительный, порой до фамильярности. На уроках он редко повышал голос. В городке слыл культурным, образованным и чрезвычайно мягким человеком, но… Детей у него не было, и лет пять назад он удочерил детдомовскую девочку. Можно представить себе счастье ребенка, внезапно обретшего родителей. Однако года два спустя у Вахушти родился сын, и тогда Вахушти с супругой явились в детский дом и вернули приемыша. Теперь вообразите отчаянье ребенка, в котором уже пробудилось чувство любви к новым родителям, — наверное, еще более обостренное, чем у детей, росших в родной семье, — когда он снова лишился их. Представьте горе ребенка, этой девочки, привыкшей за два года к семье и со всей ребячьей искренностью привязавшейся к приемным мамочке и папочке!
Но, как бы то ни было, Вахушти прекрасно справлялся со своими обязанностями и считался одаренным педагогом и превосходным воспитателем. Он свободно изъяснялся по-немецки и по-французски, прекрасно знал грузинскую и русскую литературу. Выказывал глубокие познания в вопросах искусства. Таково было всеобщее мнение. А как он умел подойти к людям, какая заученная улыбка сияла, бывало, на его лице!..
— Я не опущусь до спора, внешне Вахушти джентльмен, но в действительности он лицемер и проходимец, пробу негде ставить! — заявил однажды доктор Коция, который, будучи приглашенным в одну семью, испортил ей торжество, плюнув во время заздравного тоста в лицо директору школы во имя гуманизма. «Да, да, во имя гуманизма!» — восклицал доктор, считавший себя воинствующим гуманистом. Этот скандал очень нашумел в городке, однако его постарались замять, объяснив все чрезмерным количеством выпитого. В действительности, будь даже доктор Коция совершенно трезв (оговоримся, что пил он крайне редко и не больше одной рюмки), то и в этом случае он непременно плюнул бы в лицо проходимцу, так как, по его словам, его обязывала к этому профессия. При чем тут профессия? Но и после этого случая никто не усомнился в человечности Вахушти, потому что в личных взаимоотношениях директор школы был сплошным обаянием, а до остального никому не было дела. Если бы слова и улыбка выражали истинную сущность человека! Они, напротив, скрывают ее. Находились, однако, в городке и такие, кто, надо думать, совершенно беспричинно презирал Вахушти, отворачивался, завидев его, хотя он никогда не упускал случая сказать им что-нибудь лестное при встрече. Наверняка это была интуитивная неприязнь. И Дзуку терпеть не мог Вахушти. Дзуку вообще с презрением относился к тем людям, — пусть самым безобидным, — которые ни разу не нарушили общественный порядок. Дзуку не верил в добросердечность чрезмерно угодливых людей. Он считал Вахушти маленьким крохобором, ни на йоту не доверял ему, но все же пригласил на сороковины, потому что Вахушти директорствовал в школе, где недолго учился Таурия, и Дзуку хотелось, чтобы представители школы пришли на панихиду и на поминки и отдали последние почести своему бывшему ученику.
Ясон разглядывал собравшихся. Все сегодня приоделись, но никто не мог соперничать с ним. Черный креповый костюм подчеркивал снежную белизну сорочки, а завязать галстук так мастерски, как Ясон, не умел ни один человек в городе. Вся местная молодежь, носившая галстуки, была либо учениками Ясона, либо его последователями. Уж на что уважаемый человек доктор Коция, а посмотрите вы, как безобразно повязан галстук на его шее. А взять директора заготконторы, где он откопал эту пеструю тряпку, которая совершенно не идет к его дорогому костюму? Вот Вахушти, тот в самом деле выгодно отличается ото всех. Серый галстук его совершенно в тон костюму. «Да, и одеться умеет, и во вкусе ему не откажешь», — подумал Ясон. А что до Шамиля и его компании, так они и не нюхали, что такое галстук, у них вечно ворот нараспашку. Дзуку тоже никто еще не видел при галстуке. И Вамеха… Вамех вообще не снимает той черной одежды, в которой прибыл сюда три месяца назад. Три месяца уже! Как быстро летит время! А ведь словно вчера Вамех на глазах всего города избил Шамиля из-за Мейры. Он первый решился поднять на Шамиля руку. Но что этим доказал?! Абсолютно ничего! Мейру по-прежнему мучают шалопаи, где поймают, там и заставляют плясать или тащат в «тюрьму». Он, как и прежде, боится всех, и некому за него заступиться. Хотя нет, это не совсем верно… Шамиль и его дружки уже не забавляются, мучая Мейру, и не притворяются, будто не замечают его, а даже заступаются, и так иногда обложат пацанов, что только держись. Поразительно, но Шамиля, кажется, раздражает, когда он видит, что старика окружили, — так рявкнет, что мальчишки не знают, куда удрать! Шамиля по-прежнему боятся все. Правда, сейчас и к Вамеху относятся уважительно, но Шамиль все же остался прежним Шамилем. Впрочем… Впрочем, ведь обнаружилось, — есть люди и поотчаяннее, чем он. Теперь многие отдают предпочтение Вамеху, видя его силу даже в том, что он невольно повлиял и на Шамиля. Теперь и Шамилю не по нутру, когда измываются над сумасшедшим стариком. Может быть, потому, что вспоминает о собственном поражении? Никто не знает, что думает Шамиль, какими мыслями терзается. И Мейра не имеет представления, что произошло из-за него. А ведь многое изменилось именно благодаря старику. Не случись той стычки, и Ясон не потерял бы Алисы, они по старому продолжали бы дружить. Ах, что за девушка Алиса! Когда еще встретишь такую? Да и встретишь ли? Но человек никогда не ценит того, что имеет, — сейчас Ясон остро чувствует справедливость этой истины. Какого дурака свалял он, вообразив, будто Алиса надоела ему! Иногда их отношения в самом деле казались ему слишком затянувшимися. Заелся, а теперь хоть волком вой! Вернись Алиса, и он станет самым счастливым человеком в мире. Ясон знал, что простит ей все, лишь бы она вернулась. Только теперь он понял, как любит ее, как она нужна ему. Поздно, что теперь кусать себе локти, — он потерял ее, и плевать ему на Джемала, никакой Джемал не заставит его разлюбить Алису, она стала теперь еще более желанной. Всем бы он поступился, только б вернуть ее. Иногда так схватит сердце, что он всю ночь не спит, места себе не находит, кажется, так бы и убил ее, и Джемала, и себя…
Панихида продолжалась. Траурная музыка плыла над кладбищем. Ясон вдруг подумал, что за этот час он и не вспомнил о Таурии. Да разве кто-нибудь вообще думает о несчастном парне? Нет, вроде бы никто… Все увлечены разговорами. Некоторые даже хихикают исподтишка. И Вамех, вероятно, не вспоминает Таурию, хотя стоит молча и задумчиво. У него, скорее всего, свои заботы. Вероятно, размышляет о Шамиле и о Резо, который тоже появился; может быть, строит планы, где и как отплатить ему за все? Наверное, и Дзуку не думает о Таурии. Вон он, застыл у могилы с поникшей головой, небритый. Он, поди, доволен, что столько людей собралось на панихиду. Несомненно, Дзуку проявил заботу о памяти Таурии. Сколько он ухлопал на поминки, но разве кто-нибудь сможет постигнуть ужасную участь погибшего? Это невозможно. И доктор Коция такой, как все, несмотря на свою гуманную профессию, по милости которой он постоянно сталкивается со смертью и борется с ней. Смерть привычна для него, и теперь он наверняка думает о своем сыне Леване, который стоит под деревом и рассматривает ватные облака над вершинами вековых лип. Леван — художник, он, надо думать, соображает, как бы лучше изобразить эти облака.
Играла музыка. И правда, трудно стоять у могилы, думая только о человеке, который покоится в ней. Мысль о покойнике должна быть мыслью о его душе, но никак не об останках, а могила напоминает именно об останках. Образ человека создает душа, слившаяся с телом, и вовсе не от черствости невозможно по желанию представить того, над чьей могилой вы стоите. Его образ всегда живет в вас, где бы вы ни были, он имеет свойство вспоминаться неожиданно в минуты одиночества или в любое иное время, а вовсе не тогда, когда вы захотите представить себе именно его. Сегодня, в теплый осенний день, никому не хотелось думать о смерти, и никто не думал о ней. Солнце склонилось низко, и по ту сторону ограды виднелась сияющая золотом земля. Люди старались укрыться в тени, устраивались поудобнее: некоторые поставили ноги на могильные плиты и облокотились о колени, другие оперлись локтями о железные ограды, одни курили, иные почесывались. Вдруг кто-то обернулся к калитке. Потом еще несколько мужчин повернули головы. Ясон тоже посмотрел и увидел Алису, медленно идущую по дорожке. На ней было новое черное платье, украшенное белым воротничком. Густые черные волосы, отброшенные на спину, оттеняли светлую и нежную кожу лица, губы были чуть тронуты помадой. Алиса приближалась медленно, за ней шла Лейла. Черные туфли на высоких каблуках подчеркивали стройные ноги Алисы. Замечательно красивой выглядела она. Когда Алиса подошла, люди почувствовали аромат духов. У Ясона защемило сердце, и туманная надежда шевельнулась в нем. Почему она пришла? Что у нее общего с Дзуку? Или это Лейла привела ее? Не может быть, та еще больше Алисы не терпит Дзуку. Что же привело сюда Алису? Скука? А может быть… Неясная надежда теплилась в душе Ясона, но он не отважился поверить в нее. Все невольно оборачивались к Алисе и взглядами провожали ее, пока она не остановилась под старым кипарисом. Она остановилась, подняла голову, кивнула знакомым и длинными пальцами пригладила упавшую на висок прядь. Она кивнула и Ясону, он ответил, не отводя от нее глаз, и ему сейчас не верилось, что когда-то они были близки.
— Давно началась панихида? — подойдя к нему, шепотом спросила Лейла.
— Вот-вот закончится, — ответил он.
И тут музыка оборвалась. Музыканты устало опустили инструменты. Дзуку поднял голову и обвел глазами толпу. Он тоже заметил подошедших. Взгляд его задержался на Лейле, слезы хлынули из глаз, он поднес к лицу платок и уронил голову. Воцарилась тишина, лишь глухие всхлипывания Дзуку нарушали ее. Потом музыканты заиграли «Таво чемо»[43], и произошло что-то необъяснимое. Кладбище было охвачено необычной тишиной. Люди перестали шептаться, задумчиво понурив головы, похожие друг на друга, они стояли у могилы Таурии. Беспорядочные звуки, которые издавали расстроенные струны скрипки, разносились во все стороны, и, кто знает, быть может, многим запало в сердце их звучание, быть может, некоторые со всей полнотой почувствовали ту боль, которая объединяла эти звуки, давала им строй и создавала мелодию грусти, мелодию, которая на миг делала для всех близкой ту горесть, что незримо существовала где-то.
6
Панихида кончилась. Толпа пришла в себя, вздохнула, зашевелилась. Люди переглянулись. Недавнее ощущение себя, как детей смерти, улетучилось, и в силу вступили каждодневные законы взаимных симпатий и антипатий.
Панихида закончилась, и обыденное, житейское снова разделило людей. Забылось, то, что минуту назад объединяло всех, Люди повернули к выходу, заговорили в полный голос. Музыканты сложили инструменты в футляры и с тупым равнодушием разглядывали окружающих. Мужчины достали папиросы, задымили. Знакомые собрались группами. Все потянулись к выходу, то с уважением уступая кому-то дорогу, то косо поглядывая на идущего рядом. Около узкой кладбищенской калитки мужчины пропускали женщин вперед, а сами выходили следом. Самые разные чувства были обозначены на их лицах.
Единственным человеком, не испытывающим ни неловкости, ни удовольствия, был Вамех. Он медленно брел позади, рассматривая могилы и постепенно отставая от толпы. Кое-где на могилах поднимали головки последние осенние цветы, другие могилы были запущены и заброшены. Тень старых лип лежала на земле. Влажно пахло преющими листьями, они мягко поддавались под ногой. Несмотря на нестройные голоса, доносящиеся из-за кладбищенской ограды, ничто не нарушало безмолвия, царящего здесь. В такой тишине, неподвижности и покое смерть вовсе не казалась страшной, напротив, она представлялась чем-то прекрасным, словно нет ничего слаще, чем успокоиться в земле, под сенью вековых лип, словно смерть обещает тебе такое же облегчение, как и забвение. По мнению некоторых, так оно и есть. Но кто постиг смерть? В самом ли деле она — забвение или нечто более глубокое? Человек не должен думать о смерти, никогда не должен думать о ней, потому что он все равно ни до чего не додумается. Он должен забыть о смерти и думать только о жизни. Мудрость не в том, чтобы ответить на все вопросы, а в том, чтобы примириться с существованием всего того, в чем ты никогда не сможешь разобраться. Смерть непонятна нам. Облик ее страшен. Сущность ее неведома. Но настолько отраден, тих и безмолвен мирок маленького кладбища, чуть сумрачного от вековой тени огромных лип, что он заставляет нас забыть о предназначении кладбища, навевает приятную грусть, к которой не подмешивается ничего личного и конкретного, и такая грусть возвышает нас и очищает, потому что любое движение человеческого духа, отрешенное от собственного «я», и есть истинная чистота. Ты должен удовлетвориться тем, что грустишь, и забыть о причине грусти. Забыть не из чувства страха, а потому, что это поможет тебе бороться и жить.
«Нет, не надо думать о смерти, — решил Вамех, запрокинув голову и глядя в высокое небо, — не стоит обманываться, корчить из себя оптимиста, убеждать себя, будто я все могу оттого, что я — человек, и возможности мои безграничны. Думать так глупо, хотя бы потому, что желания человека всегда превышают его возможности. Но не стоит думать и о смерти, хотя о ней и интересно думать. Нужно только и только справедливо жить. Что случилось — случилось, и ничего не исправишь. Впредь я буду думать только о жизни».
Внезапно Вамех почувствовал, как скорбит душа его по тому, кого невообразимо хотелось вернуть, о ком он не забывал ни на минуту, чей образ всегда стоял перед глазами, кто был так необходим ему, однако сейчас то место, которое занимал тот человек, было пустым, до боли пустым.
7
Вамех шагнул за калитку. Все уже разошлись, и он остался один. Ему было приятно стоять у самого обрыва и видеть, как внизу лежит, словно на ладони, открытая во все стороны долина, преображенная осенью. Вамех стоял и разглядывал поля, ряды деревьев, железную дорогу, по которой бежал поезд. Он проследил за крошечным отсюда составом, ползущим на восток, туда, в те края, откуда случайность занесла его в этот городишко, и почувствовал, что его потянуло назад, к родным местам, которые он покинул. Вамех закурил и задумался. Что, если жажда жизни, которая овладела им, вызвана только переменой обстановки и недолгим подъемом духа? Сомнение болезненно отозвалось в сердце, и он понял, как соскучился по дому… Но о возвращении нельзя и мечтать.
Отставшие люди спускались к дороге. Было тихо. К кладбищу примыкал покатый выгон, обнесенный ивовым плетнем, там пасся скот. Склон густо порос щирицей и портулаком… Вамех стал спускаться. По обеим сторонам тропинки стояли желтые кукурузные снопы. Прохладно пахло кукурузными листьями. Уже второй раз сходит Вамех этой тропой, уже второй раз посещает он это кладбище. Что-то будет в третий? «Может быть, меня самого принесут сюда», — подумал Вамех, и ему стало неловко от сентиментальной мысли, которая нужна была, чтобы вызвать сострадание к самому себе. Иногда приятно пожалеть самого себя, но разве такая жалость к лицу мужчине? И чтобы рассеять тоску, он принялся насвистывать задорную мелодию. А ведь его и в самом деле чуть было не принесли сюда однажды. Тогда он и не подозревал о существовании этого кладбища. В те дни он ни в грош не ставил свою жизнь, а теперь, несмотря на все, что было, хочется жить. Да, жить. Он жив, и хочет жить. А так как он жив, душу одолевают самые различные чувства. Вамех считал, что не имеет права тосковать по родным местам, а все же больше всего в этом городке любил вокзал, не мог равнодушно пройти мимо него. При чем тут вокзал?.. Вокзал напоминал ему о родных местах, которые он покинул, с вокзала в любой момент можно было вернуться туда, стоило только вскочить на подножку любого вагона, пока поезд стоит у перрона, ожидая отправления.
Вот и сейчас Вамех идет к вокзалу. Остались позади пустынные переулки, главная улица, и вот открылась привокзальная площадь, Вокзал живет переменами, вечно здесь толпятся люди, каждый день новые, каждый день озабоченные по-своему, не похожие на вчерашних, но общее не меняется, вокзал остается вокзалом. Все на свете подвержено переменам. Неизменно только постоянное движение.
Вамех вступил на платформу, окинул взглядом пустые пути и опустился на скамейку. По ту сторону насыпи пропадали вдали голые поля и откуда-то очень издалека доносилось кваканье лягушек, где-то там было болото. Смеркалось. На западе пурпурное небо пересекала вытянутая гряда облаков, молочной рекой уплывающая за горизонт. Чуть ниже за далью полей поднимались горы, уже одетые в белое. «Надвигается зима», — подумал Вамех.
Пока еще стояли солнечные дни, и только к ночи становилось свежо. И сейчас, сидя на скамейке, Вамех ощутил прохладу. Как сладостно последнее тепло осенней поры, ты словно провожаешь в далекий путь родного и любимого человека. Грустно, но сердце полно энергии, и жажда деятельности овладевает тобой с такой же силой, как и в конце весны.
Долго сидел Вамех на перроне и уже собрался было пойти к Дзуку на поминки, когда увидел Антона. Он прошел мимо Вамеха, стуча по асфальту разбитыми сапогами, с телогрейкой под мышкой, в тех же полосатых, залатанных на коленях брюках. Вамех ни разу не встречал его после того злосчастного дня, обрадовался и окликнул. Антон приблизился к скамье и вежливо поздоровался.
— Узнаете меня? — спросил Вамех.
— Как же, — ничуть не удивившись, равнодушно протянул Антон, — а я, признаться, думал, что вас убили.
— Обошлось, как видите.
Маленькими бесцветными глазками Антон ощупал шрам на горле Вамеха, помялся немного и присел рядом.
— Очень приятно, что вы выжили.
— И мне тоже. — Вамех улыбнулся.
— Много подлых людей еще обременяют землю, — завел Антон, и Вамех снова улыбнулся: знакомый говорок Антона вернул его ко дню первой встречи. Словно ничего не произошло с того дня, будто не прерывалась их тогдашняя беседа, а продолжается после короткого молчания. — Если человек совершает зло неведомо для себя, его можно прощать, но когда он сознательно творит зло…
— Его необходимо зарезать, — смеясь, закончил за Антона Вамех.
— Нет, нет, что вы! У меня и в голове подобного не возникало. Как можно поднять руку на живое существо? Я даже мысленно не могу допустить ничего подобного, ибо именно с мысли начинается падение человека…
— Прекрасно, а как вы прикажете поступать с человеком, который отравляет жизнь другим?
— Необходимо воздействовать на него, наставить его на истинный путь, примириться с ним.
Вамех заметил, что Антон сам не уверен в правоте своих слов, и развеселился. Беседа с Антоном доставляла ему удовольствие.
— А вы все такой же, Антон, ничуть не изменились, — сказал Вамех.
— Зато вы изменились, вид у вас цветущий.
— Это от того, что я всю осень вкалывал вместе с колхозниками, собирал урожай, — ответил Вамех и поинтересовался: — А вы чем занимаетесь?
Вамех гордился, что труд наложил отпечаток на него, и радовался, если это замечали.
— Я по-прежнему скитаюсь…
— То есть ничего не делаете?
Вамех почувствовал раздражение, хотя беседа с Антоном и забавляла его.
— Нет, почему же? Я наблюдаю жизнь, учусь… — Антон откашлялся. — Однажды приболел, видно, простудился, но, благодарение богу, снова чувствую себя сносно…
— Почему вы не наденете телогрейку?
— Еще не время…
— Помнится, летом вы не снимали ее.
— Не хочу баловать плоть.
— Но летом-то вы не снимали ее, а сейчас прохладно, вы переболели…
— В том-то и суть, что летом в ней жарко, а зимой — наоборот. Потрогайте, какая она жидкая…
Вамех пощупал телогрейку, она и в самом деле просвечивала насквозь.
— Ну и что? — не понял Вамех.
— Она помогает мне подавлять плоть; летом в ней жарко, а зимой она не греет… Видите, как хитро придумано? — хихикая, пояснил Антон и снова аккуратно сложил телогрейку на коленях. На нем была легкая ситцевая косоворотка, застегнутая на все пуговицы.
Вамех тоже улыбнулся и снова взглянул на собеседника, словно проверяя что-то.
— Не следует потакать плоти, — продолжал Антон, — ибо плоть препятствует духу познавать самого себя для того, чтобы, откинув страсти, достичь полного блаженства, то есть такого состояния, выше которого немыслимо никакое счастье, а достигается оно исключительно полным раскрепощением духа.
— А что значит полное раскрепощение?
— Отвержение желаний.
— А разве дух это не совокупность желаний и страстей?
— Ни в коем случае! Дух по сути своей свободен от страстей и желаний. Основное свойство его — познание и самопознание. Прочее же — жажда славы, гордость, удовольствия, гнев, зависть, честолюбие, алчность, скаредность — побочные качества, вне которых дух остается духом, однако вне познания и особенно самопознания его существование немыслимо, это — стержень духа и вне их духа попросту нет.
— А что такое жизнь, лишенная страстей и желаний, лишенная гордости и достоинства?
— Жизнь? Жизнь есть средство достижения идеального совершенства, совершенство же есть цель духа.
— Хм, — усмехнулся Вамех, — как достичь совершенства, если ни к чему не стремишься, как, вообще, можно достичь чего-нибудь без стремления к нему?
— Освобождением от страстей.
— Разве стремление не страсть?
— Совершенный дух свободен ото всех страстей. Он постигает высшее блаженство, когда ничто не гнетет его, и проникает во все, когда страсти не мешают ему познавать. Стремление к совершенству не есть необходимость, но необходимо отринуть желания, отринуть страсти, и тогда дух, пребывающий в незамутненной чистоте, одарит нас небывалым блаженством.
— То есть не надо предпринимать никаких действий?
— Да, забыть о них.
Вамех даже выпрямился и, пораженный, наклонился к Антону.
— А что ты будешь тогда жевать?
— Как что? — удивился Антон.
— Да, что ты будешь есть? — подчеркнул Вамех. — Без еды невозможно существовать, а как ты добудешь еду, если намереваешься сидеть, сложа руки? Ноги протянешь, не дождавшись блаженства, разве что кто-нибудь догадается сунуть тебе кусок в рот.
— Необходимо приноравливаться, да не в этом дело!
Вамех расхохотался:
— Как же приноравливаться, если не работать?
— Работа — разновидность забвения. Она препятствует познанию самого себя, заставляет забывать о том, что ожидает нас, преграждает путь к достижению абсолютного блаженства, то есть такого состояния, когда ничто не тревожит нас.
— Труд — источник существования. Человек создан, чтобы существовать, и высшее блаженство есть радость труда, — сказал Вамех.
Тут ему на глаза попался Мейра, который только что вбежал на платформу и теперь во весь дух несся к ожидающим поезда. Вамех замахал рукой:
— Мейра! Мейра! Иди сюда!
Мейра остановился.
— Иди сюда! — снова позвал Вамех, достал из кармана деньги и показал их старику. Мейра впился глазами в десятку, которую протягивал ему Вамех, недоуменно затоптался на месте и затянул:
— А вот носильцик, холоси носильцик!
— Бери! — сказал Вамех.
— А вот холосий носильцик, носильцик, чего надо подсоблю, давай быстло…
Мейра подпрыгивал от нетерпения, вовсе не собираясь брать деньги.
— Возьми же! — настаивал Вамех.
— Цто?
Мейра никак не мог взять в толк, почему ему дают деньги, ведь он же еще ничего не отнес? Ему никогда не дарили денег, и он не представлял, что их можно получить просто так. Можно подарить старую шапку, штаны или рубаху, когда зима — дарят калоши, старые босоножки, носки, иногда кто-нибудь кинет драную куртку, но деньги!.. Он нетерпеливо подпрыгивал на месте, горя желанием быстро взвалить на плечи любой, пусть десятипудовый тюк, чтобы скорее заполучить заманчивую десятку, он был уверен, что просто так никто ничего не даст, а от работы он никогда не отказывался.
Вамех повернулся к Антону:
— Хотите, Антон, я отдам деньги вам?
— Нет, зачем же? Лучше ему…
— А возьмете, если я вам предложу?
— Почему не взять, я не гордый.
«Омерзительно, когда человек поступается самолюбием, достоинством, гордостью, утверждая, что дух его выше этих мелочей. Нет, я предпочитаю Мейру», — Вамех встал, подошел к Мейре, сунул ему десятку, повернул его и легонько шлепнул по спине.
— Ступай, Мейра, мне не нужен носильщик.
Мейра удивился, но долго раздумывать не стал, с радостью спрятал десятку в карман и понесся к дверям вокзала.
— А вот носильцик, холосий носильцик, кому носильцик! — кричал он на бегу.
8
Большой и богатый поселок находился всего в четырех километрах от городка. И, как мы уже говорили, Мейра каждые утро и вечер, кроме субботы, бегом покрывал это расстояние. Что и говорить, четыре километра не бог весть какая даль, и, наверное, поэтому поселок всегда поддерживал с городом теснейшие связи. Трикотажная артель, возникшая в поселке около двадцати лет назад, превратилась в крупное предприятие, на котором в две смены работали женщины из окрестных деревень, она именовалась теперь ткацкой фабрикой. С раннего утра до полуночи на фабрике стучали станки, и этот шум, особенно по вечерам, далеко разносился окрест. Со всех уголков Грузии сюда шли заказы на хлопчатобумажные и шерстяные изделия, и фабрика давно уже снабжала не только свой район, но и всю республику. Помимо фабрики, поселок был знаменит своими кооперативами, и за многим, что невозможно достать в городе, приезжали в поселок. А то, чего не оказывалось в поселковых магазинах, непременно можно было купить на базаре у частников.
В центре поселка стояла красивая каменная синагога. По второму этажу ее был пущен широкий балкон в грузинском стиле с колоннами, откуда превосходно обозревался просторный зеленый двор, дорога, ведущая на базар; а по ту сторону дороги огромное, заботливо ухоженное кладбище с железными воротами и высокой каменной стеной. Возле ограды — мясная лавочка. На задах лавочки резали скот в присутствии хахама[44] и парное мясо раскладывали на прилавке. Надо сказать, что некоторые жители поселка всячески старались придерживаться древних традиций и веры. На улицах часто можно было встретить длиннобородых стариков, направляющихся в синагогу в сопровождении мальчиков, несущих под мышками священные книги. На балконе часами сидели старики, громко распевая псалмы.
Раньше синагога была самым примечательным зданием в поселке, а сам поселок состоял из десяти серых хибар. Но потом он так разросся, такие хоромы отгрохали себе некоторые, что приезжие даже не замечали синагогу среди этого великолепия. Особой пышностью выделялся дом у самой дороги. Построил его Абрашка Ботерашвили, который, как говорили, греб деньги лопатой. Младший брат Абрашки Рафаэль Македонский слыл за поэта и проживал теперь в Тбилиси. Прежде и Рафаэль носил фамилию Ботерашвили, но потом, когда получил высшее образование и стихи и поэмы его стали появляться на страницах журналов, он выбрал себе сей псевдоним. Нельзя сказать, чтобы псевдоним был плохим. Наверное, он напоминал Рафаэлю далекую Элладу, царство муз. В своих произведениях Рафаэль Македонский отражал жизнь тбилисской интеллигенции, и жители поселка надеялись, что вскоре их земляк станет совсем знаменитым. Рафаэль редко наведывался в родные места, но сейчас гостил у брата. Между прочим, его брат был тем самым Абрашкой, который подарил Мейре шапку, именно ту шапку, которую около трех месяцев назад, в первый день приезда Вамеха, сорвали с головы Мейры дружки Шамиля, она-то и послужила невольной причиной столкновения Вамеха с Шамилем…
К сожалению, отдых Рафаэля Македонского омрачился досадным происшествием. Именно в тот день, когда он прибыл к брату, на Абрашку свалилась ревизия, и в поселке распространился слух, будто дотошные ревизоры копнули так глубоко, что тому не миновать отсидки. Абрашка выглядел, как говорится, краше в гроб кладут.
— Донесли! — поднимали палец жители поселка.
— Не сойти мне с места, погиб Абрашка! — качали головами поднаторевшие в торговле люди.
Уйма народу сбежалась к дому Абрашки, в нижнем этаже которого находился магазин. Все галдели, и любопытные, и соболезнующие, и, конечно, довольные завистники. Легко представить, в каком состоянии пребывала вся семья Ботерашвили, на глазах у которой ревизоры копались в товарах и составляли акт, семья, которая видела своего убитого горем кормильца и понимала, какая пропасть разверзлась у них под ногами. Что и говорить, такой оборот дел коробил поэтическую натуру Рафаэля Македонского, но куда денешься? Поэт стоял на балконе, невидящими глазами уставясь в пространство…
Все это случилось в пятницу, а по пятницам множество народу стекалось в поселок из городка и ближайших деревень. Леван, сын доктора Коции, приехал с женой. Хотя поселок гордился доморощенным поэтом, но художником не мог похвастаться, Леван, тем не менее, знал, что здесь можно достать необходимые ему краски и кисти. Он оставил свою полуторку у сельсовета и вместе с Розой направился к базару. Они миновали синагогу, прошли еще немного, но тут дорогу им преградила толпа, запрудившая улицу против дома Абрашки.
— Что случилось? — удивился Леван. Какой-то юнец, издали узнавший его, в нескольких словах сообщил, в чем дело. Левана совершенно не интересовали обстоятельства падения Абрашки, и он, расталкивая толпу и ведя за собой Розу, с большим трудом пробился сквозь многоголосую ораву, выбрался на свободу, но тут кто-то окликнул его.
— А, Лейла! — сказал, обернувшись на зов, Леван.
Лейла выходила из магазина.
Кого только не встретишь по пятницам в поселке?!
Лейла знала Левана с детства, очень уважала его отца, и сейчас, на правах старого знакомства, бесцеремонно разглядывала Розу, которую еще не видела, но о которой была наслышана, а поэтому весьма заинтригована. Сегодня как раз представлялся подходящий случай познакомиться с ней. Лейле уже рассказали, что Роза была дочерью ночного сторожа, и хотя она, подобно Алисе, Ясону и многим другим, осуждала недостойный выбор Левана — она осуждала его не только за это, но и за многое другое, в частности за уход из семьи, — Роза сразу понравилась ей, а врожденная искренность и непосредственность не позволили скрыть свой восторг — совершенно, впрочем, противоречащий как ее мнению о Леване и его жене, так и ее взглядам на жизнь, — она подбежала к Розе и горячо расцеловала ее.
— Как только тебе доверили такую красавицу?! — по обыкновению громко воскликнула Лейла, прижимая Розу к груди.
У Розы был вид испуганной лани, она ничего не могла понять, растерянная и довольная одновременно.
— Ты почему не познакомил нас с женой?
Леван промолчал.
— А с отцом ты познакомил ее? — бесцеремонно спросила Лейла, и, не дожидаясь ответа, повернулась к Розе: — А ты, милая, знаешь свекра?
— Да, издали, — застенчиво ответила та.
Лейла грозно уставилась на Левана и воскликнула:
— Убить тебя мало, убить!
Она не стала объяснять, за что его надо убить. Леван терпеть не мог, когда вмешивались в его личные дела, но сейчас он даже не подумал рассердиться на Лейлу, он никогда не принимал ее всерьез.
— Лейла, а ты похудела, — с улыбкой заметил Леван, стараясь перевести неприятный разговор на другое и зная, что его слова доставят женщине удовольствие.
— Ха-ха-ха, да ты смеешься надо мной?! — расхохоталась Лейла. — Какое там похудела, я на четыре килограмма поправилась за лето. Не всем же быть такими стройными, как твоя жена! — Лейла тепло улыбнулась Розе и взяла ее под руку.
Втроем они пошли дальше, мимо кирпичных двухэтажных домов, с обеих сторон обступивших дорогу.
— Что тебя привело сюда, Лейла, материал собираешь для своей газеты?
— Нет, на днях день рождения Алисы, ищу ей подарок. А вы зачем?
— Краски хочу купить, — ответил Леван.
— Слушай, ты бы хоть показал одну из твоих картин, до нашей редакции дошли слухи, что ты начал рисовать.
— Верно.
— Чего же ты скрываешь? Или уже не считаешь интеллигенцию нашего города интеллигенцией?
— Ты права, в нашем городке нет настоящих интеллигентов.
— Кроме тебя, разумеется?
— Я ничего собой не представляю, — едко отозвался Леван, — но и вы не лучше. Лезете вон из кожи, а сами как были мещанами, так и остались.
— И отец твой мещанин? — вызывающе спросила Лейла.
— А кто же еще?
— Вот, имей такого сына! — останавливаясь, воскликнула Лейла. — По-твоему, и Вахушти мещанин? Тебе наплевать, что человек знает три языка…
— Почему бы нет?
— Да, я же забыла, ты ведь гений! Правда, пока еще подпольный… И дружков выбрал себе под стать. Один косоглазый Дзуку чего стоит!
— Дзуку лучше всех нас.
— Чем, скажи на милость, чем?
— Непосредственностью. Вы же, корча из себя интеллигентов, все время оглядываетесь, как бы чего не вышло, только и способны, что антимонии разводить.
— Я лично не считаю себя интеллигенткой, но желаю тебе добра. Всем обидно, что ты с алкоголиками водишься. Тебе следует выбирать друзей из своего круга.
— Я выбираю друзей по душе, — ответил Леван, взглянув на Розу. — Это кто же мой круг?
— Мы, — гордо заявила Лейла, — я, Алиса… Тебе что, всех перечислить?
Леван прекрасно понимал, что Лейла подразумевает под «всеми» Вахушти, Ясона и еще некоторых, которых он терпеть не мог. Леван разозлился, и его нарочито громкий издевательский смех, которым он ответил на слова Лейлы, прозвучал так, что даже Роза с укоризной на него посмотрела.
— Ха-ха-ха! Мой круг! Да Дзуку в тысячу раз лучше вас всех.
Лейла с иронией человека, убежденного в своем превосходстве, и одновременно с деланным сожалением поглядывала на Левана, не пытаясь возразить ему. Взбешенный ее хладнокровием, Леван хохотал еще громче.
Почему же Лейла так ненавидела Дзуку, чем он не угодил ей? В детстве они учились в одной школе, правда, Лейла — двумя классами старше. Дзуку никогда не позволял себе нагло или просто грубо обойтись с Лейлой. Наоборот, весь городок знал, что однажды он, рискуя жизнью, спас ее. Лейла училась в десятом классе. И той весной, как бывало всегда, учеников отвезли в колхоз, помогать на сборе чая. В свободные часы девушки бегали купаться на реку. И вот как-то вздувшаяся от паводка вода сбила Лейлу с ног и понесла. Плавать девушка не умела. Подруги закричали, поднялся переполох, все припустились к реке — и учителя, и ученики, и колхозницы, — но никто не отважился броситься в бурлящую воду. Прибежав, Дзуку увидел, как Лейла взмахнула руками, закричала и тут же ее накрыло волной. Не раздумывая, он кинулся в воду. Через несколько мгновений он вынырнул далеко от того места, где сгрудился народ, широко замахал руками, и стремительное течение понесло его. Люди, крича, бросились вслед за ним по берегу, но голова Дзуку уже скрылась за излучиной реки. Люди, сокращая дорогу, пустились напрямик через кусты. Со всех сторон сбегались испуганные и переполошенные мужчины, женщины, дети, старики. Когда же все, крича и задыхаясь, высыпали на пологий берег за излучиной, они увидели Дзуку, который ничком лежал около потерявшей сознание Лейлы. Некоторые и сейчас вспоминают белые, пышные бедра Лейлы, ее налитые груди, растрепанные густые и вьющиеся волосы. «Она лежала на песке, как роза…» Некоторые и сейчас не могут забыть ее обнаженное юное тело и, вспомнив, причмокивают губами: «Как было бы жаль, если бы такая конфетка досталась реке!» А Дзуку, вырвавший ее у волн, в беспамятстве покоился рядом, словно верный до смерти рыцарь. Однако Лейла ни тогда, ни потом не нашла для него ни одного благодарного слова. Когда Дзуку перевернули, сорвали с него рубаху и стали приводить в чувство, все увидели на его груди татуировку — пронзенное стрелой сердце, над которым было выколото: «Лейла».
Много лет прошло с того дня. Тогда Дзуку был еще мальчишкой. А Лейла в том же году окончила школу и уехала в Батуми учиться. Поступила она в педагогический институт и вскоре вышла замуж. Дзуку махнул рукой на учебу, окончил курсы шоферов и с тех пор не расставался с машиной. Давно это было. Лейла родила девочку, потом развелась и вернулась в родной городок, где все знали, что, не спаси ее Дзуку, ей бы и замужем не бывать, и ребенка не иметь, и в редакции не работать. Много воды утекло с той поры, и Лейла, видимо, запамятовала добро. Ни разу не находилось у нее доброго слова для Дзуку. В чем провинился он? Чего она хотела?
А в это время, когда Лейла препиралась с Леваном и склоняла имя Дзуку, сам Дзуку находился в каких-нибудь ста метрах от них, он бродил по толчку и высматривал, где бы купить новый карбюратор.
Этим утром они с Вамехом приехали на базар раньше всех. Выгрузили из машины мешки с кукурузой и сложили у прилавка. Неделю назад Вамех отдал Мейре последние деньги и остался без копейки. Именно поэтому и решил он продать кукурузу, заработанную осенью. Сейчас Вамех стоял за прилавком на поселковом базаре, рядом с другими крестьянами, и ждал покупателей, с интересом наблюдая за всем, что происходило вокруг. Высокая кладь мешков сложена рядом. Он загорел за осень, густые белокурые волосы уже не свешиваются на глаза, а ровно зачесаны назад, продолговатое лицо с небольшим, правильной формы носом и красивыми губами кажется изменившимся, и только зеленовато-серые глаза глядят на мир по-прежнему, то пронизывающе внимательно, то иронично.
В прежнем окружении Вамеха считалось унизительным стоять за прилавком, но он ничуть не гнушался тем, что торгует на базаре кукурузой.
Разумеется, Вамех никогда не предполагал, что займется таким делом, но положение человека не зависит от его желаний. И Вамех не смущался. В последнее время он ощущал гораздо большую свободу, нежели раньше, опыт его обогатился, он словно переступил какую-то преграду и поднялся на ступень выше. Теперь он одинаково принадлежал ко всем слоям общества, потому что невольно отделился от общества вообще, и был отверженным, обособленным и совершенно одиноким наблюдателем. Он сам не мог бы определить, какое место он занимает в жизни. Он не был ни крестьянином, ни рабочим, ни служащим. Он оторвался от своей среды, от своего, как говорили в прошлом, окружения и не прибился к иной среде, к иному положению, но тем не менее ощущал ту необыкновенную свободу и ту отраду, которую может принести только независимость, а желание познать новые стороны жизни дарило ему радость, и теперь, стоя за прилавком возле мешков с кукурузой и нуждаясь в деньгах, он недовольно наблюдал все, что происходило вокруг, и торговля казалась ему уроком жизни, а вовсе не средством заработать на жизнь. Он следил за суетящимся базаром, за покупателями, старающимися сбить цену, и продавцами, прилагающими все силы и красноречие, лишь бы продать подороже. Сам он не умел торговаться, отдавал за столько, сколько предлагали, и, хотя кукуруза досталась ему по́том, он не мог набраться того упрямства и терпения, которое проявляли во время торга крестьяне, знавшие цену своему труду.
На базаре нельзя было протолкнуться. По пятницам здесь всегда столпотворение. Верующие евреи с утра закупали продукты, чтобы спокойно провести субботу. Сколько знакомых лиц промелькнуло перед Вамехом, сколькие видели его! Многие поражались его нынешнему занятию. Многие не знали, откуда у него кукуруза и почему он торгует ею на базаре в этом поселке. Несмотря на то, что люди привыкли к Вамеху, ведь уже три месяца минуло, как он объявился в городке, несмотря на то, что все почти знали его, никто не похвастался бы осведомленностью о его прошлом, о причинах его появления здесь или о дальнейших его намерениях. Любопытные и всезнайки заглядывали в рот друг другу, когда разговор заходил о Вамехе, сам же Вамех не мог или не хотел рассказать о своей прошлой жизни. С некоторых пор ему казалось, будто прошлого вообще не существовало и словно все случавшееся раньше стерлось в памяти, затянулось ряской забвения и исчезло в темной глубине памяти, как давнишний сон. Реальным был только сегодняшний день. И вот сегодня Вамех продает кукурузу на колхозном базаре поселка, а его друг Дзуку рыщет в толпе, пытаясь найти спекулянта, торгующего запчастями, у которого можно купить новый карбюратор.
Все покупатели, и мужчины, и женщины, подходившие к Вамеху, пригоршней зачерпывали кукурузу, смотрели в глаза продавцу и непременно браковали зерно, предлагая меньшую цену, чем оно стоило. Вамеха смешила их примитивная хитрость, и тем, кто ему нравился, он, не торгуясь, отсыпал, сколько они просили. Потом подходили другие, одни с сомнением оглядывали продавца, вторые старались брать гонором, третьи — деликатностью, но каждый раз повторялось одно и то же.
— Здесь, сынок, народ в торговле собаку съел, каждый норовит цену сбивать, смотри, проторгуешься, — предупредил Вамеха седой крестьянин, стоящий за прилавком рядом.
— Не век же мне здесь торчать? — Вамех засмеялся.
Неожиданно откуда-то издали донесся пронзительный крик. Именно с него все и началось. Словно током ударил он по толпе, и после секундного оцепенения все всполошились. Взбудораженная толпа вывалила на улицу. Народ бежал мимо прилавка, и Вамех почувствовал, как все напряглось у него внутри и как заколотилось сердце.
— Что случилось? — крикнул он, но никто не ответил ему. Удивленный, он вышел из-за прилавка и спокойно пошел за бегущим людом. Отчаянный крик нарастал, вызывая у насторожившегося Вамеха ассоциации со стихийным бедствием. Был солнечный день. Оголенные поля ясно проглядывались до горизонта. Бегущий народ галдел в голос, и панический страх искажал лица людей. Метались и воздевали руки длиннобородые старики и черноволосые женщины, и Вамеху казалось, что перед ним ожили библейские картины, словно орды Навуходоносора врубаются в Иерусалим и полонят иудеев. Вамеху почудилось даже, будто он сам превращается в библейского героя, но ему вовсе не хотелось ни попадать в плен, ни быть завоевателем. Неким спасителем хотелось ему возвыситься над толпой.
— Что случилось? — обращался он ко всем, но никто не обращал внимания на его вопросы.
Он видел смятенных людей, бегущих в одном направлении, и пронзительный, невыносимый вопль не затихал ни на миг. Затем над толпой, где-то впереди нее, взвились клубы дыма. Там, уже не так далеко, извиваясь, взметнулись в небо языки огня, с безмолвной яростью угрожал всему живому.
— Абрашка горит! Погиб Абрашка! Погиб! — закричали со всех сторон.
Вамех обгонял всех, не глядя, мчался вперед, сбивая с ног людей. Промелькнули синагога и стена кладбища. Все ближе и ближе пожар. Издали Вамех увидел галдящую, бездействующую толпу, частые искры, взлетающие над дымом, услышал треск горящего дерева и лопающейся черепицы, а вскоре ощутил жар огня и запах гари. Неистовая страсть толкала его вперед — совершить доброе дело, спасти кого-нибудь, пусть ценой собственной жизни, хоть этим искупить свое невольное преступление, вырвать кого-нибудь из объятий огня, дабы поверить, что в руках судьбы он — носитель добра, что он может давать добро и этим оправдать свое существование. Ему хотелось бросить вызов чьей-то безжалостной воле, которая обрубает крылья благим намерениям, препятствует благородным порывам, противопоставить ей свою волю, повернуть колесо судьбы, которое до сих пор не подчинялось ему. Он не желал быть простым наблюдателем игрищ судьбы. Он стремился к опасности, словно фанатик к своей цели. Он сшиб еще кого-то и, не оглядываясь, побежал дальше.
Упавшим оказался Леван.
— Это что еще за таран? — разозлился он.
— Это Вамех, — помогая Левану подняться, ответила Лейла.
— Вамех? — Леван отряхнул одежду. — Я побегу за ним, а вы стойте тут, не потеряйтесь.
И он припустился за Вамехом.
— Леван! Леван! — чуть не плача, закричала Роза, но Леван не слышал ее. — Как бы с ним чего не случилось!
— Не волнуйся! — успокоила ее Лейла.
Тут мимо них стрелой промчался Дзуку.
— Посмотрите, и этот сумасшедший тут как тут! — воскликнула Лейла и потянула Розу за руку: — Пошли скорее, Роза, скорее!
И они побежали вслед за всеми.
Народ запрудил улицу. Жена и дочери Абрашки жались друг к другу и протяжно кричали. Бледный, босой Рафаэль Македонский застыл в одной пижаме посреди улицы. Около этого дородного мужчины, который, открыв рот и выставив все свои золотые зубы, не сводил глаз с пожара, топтались, бессмысленно озираясь вокруг, растерянные, еще не пришедшие в себя ревизоры. Вся документация осталась в огне, они сами едва унесли ноги. Те немногие домашние вещи, которые успели спасти, валялись у дороги. Сам Абрашка, поджав губы, стоял здесь же в окружении нескольких мужчин, которые молча смотрели на горящий дом. Кто-то ведрами тащил воду и издали окатывал раскаленные кирпичные стены. Весь поселок сбежался сюда, но огонь бушевал с такой силой, что бессмысленно было бороться с ним, а пожарники, которых вызвали из городка, все еще не появились. Злая овчарка Абрашки, поджав хвост и скуля, старалась отползти подальше от стены, но цепь держала ее. Никто не решался освободить собаку, потому что немыслимым казалось приблизиться к горящему дому, да и тяжелая цепь крепилась к скобе, вцементированной в стену. Несчастная овчарка была обречена. Она чувствовала приближение смерти, чувствовала, как она, придвигаясь, опаляет ее, как дымится шерсть, и именно тут-то Вамех вылетел из толпы и остановился перед самым огнем, за той невидимой чертой, которую все боялись переступить.
— Назад, куда ты лезешь?! — закричали ему, но Вамех не шелохнулся.
— Назад, сгоришь! — кричали люди. Вамех обвел глазами бурлящую толпу, перевел взгляд на пылающий дом и медленно направился к собаке.
Все затаили дыхание. Пламя тянулось к Вамеху, словно собиралось обхватить его, накрыть своим широким красным рукавом.
— Стой! — подбежав, отчаянно закричал Леван. Но Вамех ничего не слышал, заслонив лицо, он бросился в огонь.
В этот миг стены дома дрогнули, с грохотом рухнула крыша. Вихри черного дыма пальнули во все стороны, искры осыпали людей, все ринулись прочь, чуть не давя друг друга. Вопли и суматоха охватили улицу. А пламя тут же опало, осело, словно угомонив свою бешеную прыть. Толпа, откатившись подальше, напряженно всматривалась в огонь, люди поднимались на цыпочки, выглядывая из-за стоящих впереди, и ждали, когда развеется дым, черной пеленой стлавшийся по земле. Потом все, кто в этот день был на пожаре, увидели, как от дымовой завесы отделились две тени — собаки и человека, и с облегчением перевели дух.
От прекрасного дома Абрашки осталась груда дымящихся кирпичей.
9
Остались только кирпичи. Пожарные прибыли слишком поздно. Почти сразу по прибытии они поворотили, потому что тушить было уже нечего.
— Поздно сообщили. Позвони они вовремя, отстояли бы, — сказал брандмайор, пока машины разворачивались.
— А почему вовремя не сообщили вам? — спросил кто-то из толпы.
— Растерялись, наверное…
— Еще бы не растеряться. Всю жизнь гнешь спину, тащишь в дом, и в одну минуту все идет прахом. Хорошенькое дело.
— Не перенесет Абрашка!
— Еще как перенесет!
— Абрашка свое дело знает, на будущий год еще лучше хоромы отгрохает, — усмехнулся кто-то.
— И ревизия свалилась на голову!
— Мне бы столько здоровья! Как он от десяти лет избавился.
— Кто, Абрашка?
— Чтоб ты так жил, если я вру…
— Не лучше было отсидеть, зато добро уцелело бы?
— Что ты мелешь, на что тебе добро, если ты за решеткой? Чтоб моим детям так жилось, лучше нагишом и голодным на воле, чем… По себе знаю.
— Абрашка отдышится, и Рафо поможет, влиятельный человек. Был бы жив, а барахло наживется.
— Видал, что тот парень сотворил?
— Который собаку спас?
— Ну да.
— Лучше бы не спасал, от этого волкодава весь поселок…
— И собака — живая душа. Жалко.
— Доброе дело сделал, доброе, дай ему бог здоровья.
Так судачил народ. Красные пожарные машины, непрерывно воя, развернулись и унеслись. Все было кончено. Толпа подошла к пепелищу, некоторые бродили среди развалин и ковырялись в золе. На улице все разбились на группки, на компании и продолжали обмениваться мнениями. Абрашку и его семью увел к себе какой-то родственник. Уцелевшие вещи унесли. Ревизоры давно уже ушли в поселковый Совет. Только Рафаэль Македонский остался у пепелища, глубоко задумавшийся и отрешенный от всего. Овчарка Абрашки лежала у ног Вамеха. Шерсть ее была опалена, прижавшись к ногам спасителя, она зализывала ожоги.
Вамех стоял у дороги, прислонившись спиной к тополю. Он отделался пустяками, лишь опалил волосы, перемазался в саже да кое-где прожег одежду, и сейчас совершенно невозмутимо слушал Дзуку.
— Как ты успел тут очутиться? — расспрашивал удивленный Дзуку. — Кукурузу на кого оставил?
— До кукурузы ли было? — рассмеялся в ответ Вамех.
— Он, как танк, пер, — улыбнулся Леван и повернулся к Дзуку, — чуть не раздавил меня.
Люди, бывшие свидетелями спасения овчарки, толпились поодаль, с жадным интересом разглядывая Вамеха. Всякий, проходя мимо, непременно оборачивался к нему. Жители поселка были любопытны и никогда не скрывали своего любопытства.
Любопытство заставило подойти к Вамеху и Лейлу, хотя она отлично видела, что около него околачивался Дзуку, но там же стоял Леван, поэтому Лейла сочла вполне удобным присоединиться к ним, тем более что и Роза была с ней. О Вамехе Лейла наслышалась от Алисы, та с какой-то странной смесью насмешки и тепла рассказывала о нем, и поэтому Лейле хотелось познакомиться с этим героем. Десять минут назад она явилась свидетельницей того, как Вамех бросился в огонь и, рискуя жизнью, спас собаку. Возможно, такой поступок выглядел довольно безрассудным; никчемной, что и говорить, была эта зряшная самоотверженность, но Лейла втайне больше одобряла подобную безрассудность, нежели практическую осмотрительность. Она затаив дыхание смотрела на клубящийся дым, в котором скрылся Вамех. Потом она видела, как он, победив огонь, спокойно прошел сквозь расступившуюся толпу, встал под деревом у обочины дороги, как подбежали к нему Дзуку и Леван и принялись что-то доказывать. Собака, перепуганная и растерянная, благодарно жалась к его ногам. Злостью овчарка превосходила всех поселковых собак. Говорили, что она многих покусала. Некоторым, возможно, не нравилось, что ее вытащили из огня, но теперь она смирнехонько лежала у ног Вамеха, зализывая ожоги и жалобно скуля.
Лейла обняла Розу и решительно приблизилась к мужчинам. Вамех учтиво улыбнулся незнакомкам, что очень понравилось Лейле. Несмотря на то, что изо всех горожан Вамех удостоил дружбой только одного пьяницу Дзуку, все же ему никак не скрыть, что он человек иного круга, иного уровня.
Леван познакомил с Вамехом сначала Розу, потом Лейлу.
— Оказывается, вы очень любите собак, — улыбнулась Лейла, словно укоряя Вамеха.
Он засмеялся, нагнулся и потрепал овчарку по голове. Собака заскулила, замахала хвостом, подняла голову и лизнула руку Вамеха. Он долго ласкал собаку.
— Гляди-ка, как изменилась эта псина, — поразился Дзуку. — Раньше ее весь околоток боялся.
— По-видимому, опасность переделала ее, — рассмеялся Вамех и выпрямился. — Она получила от жизни такой удар, что пересмотрела свои прежние воззрения…
Все засмеялись.
— Впечатления оказывают решающее воздействие на всех, — сказал Леван, — они целиком меняют душу.
— Одному впечатлению не под силу изменить душу, но оно, несомненно, оставляет глубокий след, — возразил Вамех, глядя куда-то вдаль так, словно он подразумевал и нечто иное.
— То есть, по-вашему, собака все же останется злой? — спросила Лейла.
— Посмотрим.
— Вот-вот, а вы подвергали себя опасности ради нее. Вообще я люблю смельчаков, но… — Лейла запнулась, — собака все же…
— Собака есть собака, хотите вы сказать? — засмеялся Вамех.
— И собака живая, и ее жалко, — быстро вставил Дзуку.
— Именно, — подхватил Вамех, — животные имеют очень много общего с людьми, — он повернулся к Лейле: — Им знакомы страх, тоска, удивление, отчаянье, радость, любовь…
Все молча согласились с Вамехом и разом посмотрели на овчарку. Вокруг них шумел народ, не желающий расходиться. Казалось, никогда не утихнут крики, разговоры, обмен впечатлениями и не успокоится весь этот водоворот. Вамех взял у Дзуку папиросу и закурил.
— Славно провел время Абрашка! — захохотал Дзуку, который почему-то особенно развеселился.
— Грандиозный пожар, как он разом испепелил такую громадину! — сказал Леван.
— Бывают чудеса. Ведь сегодня Абрашку прихватила ревизия, — Дзуку ухмыльнулся. — Как говорится, несчастного и на подъеме камень настигает.
— Не беспокойся, не такой уж несчастный твой Абрашка! — резко оборвала его Лейла.
Вокруг все говорили о пожаре. Всех удивляло, что огонь занялся так скоро, хотя ветра не было, будь ветер, куда бы ни шло. Но чтобы такой домина сгорел, как спичечный коробок, только руками разведешь!
Босой Рафаэль Македонский перешел улицу.
— Мура! — позвал он собаку.
Мура повернула голову на зов, заскулила еще жалобней и прижалась к ногам Вамеха. Все обернулись к Македонскому.
— Я только бросился спасать ее, но вы опередили меня, — подойдя, с учтивой улыбкой молвил Вамеху поэт. — Слепым щенком подарили мне ее в горах пастухи. Я не располагал временем возиться с ней и оставил ее Абраму.
Вамех промолчал. Все смотрели на поэта. Поэт же беззастенчиво врал, потому что никогда не был в горах у пастухов, хотя посвятил им несколько стихотворений. В то время романтика гор была в моде среди молодых писателей. Многие из них, никогда и в глаза не видевшие гор, с исключительной непосредственностью, прямо-таки с сердечным умилением строчили опусы на эту тему. Нелишне заметить, что все их творения как две капли воды походили друг на друга, что часто случается, когда у писателя за душой нет ничего, о чем бы он мог поведать людям, но он все же не в состоянии отказаться от сочинительства. Писали о горах все знакомые и не знакомые с ними, это считалось хорошим тоном, и Македонский отдал посильную дань модному поветрию. Что же касается Муры, то поэт выпросил ее у приятеля, завзятого охотника, которому щенка действительно подарили пастухи. Но Македонский всем раззвонил, будто именно ему преподнесли щенка в горах, и он настолько часто повторял свою выдумку, что поверил в нее и сам. А так как он не сбивался ни на одной мелочи, рассказывал, приводя подробнейшие детали, каждый раз одни и те же, то многим его болтовня казалась убедительной. Что же касается второй части заявления поэта, что он не мог возиться со щенком и поэтому оставил его брату, это было чистейшей правдой.
— Отменная собака, — повторил Македонский, — я собирался было сам кинуться в огонь, но вы опередили меня. Чрезвычайно признателен. Благодарю вас.
Вамех молчал.
— В тяжелое время вы приехали, Рафаэль. Такое несчастье! — посочувствовала Лейла поэту. Она была знакома с его творчеством и, хотя стихи его не вызывали у нее восторга, все же считала Македонского поэтом.
— Какие пустяки! Напротив, я очень доволен, что стал свидетелем этого п…п…прекрасного зрелища, — беспечно заявил Македонский, гордо взглянув на Вамеха.
Но Вамех не был знаком с Македонским, не знал, что тот доводится Абрашке братом, не подозревал, что этот толстяк пишет стихи, и поэтому не мог оценить сдержанность, невозмутимость и чувство юмора поэта так, как тому этого хотелось.
— Это зрелище настолько увлекло вас, что вы забыли надеть ботинки и брюки? — с открытой улыбкой заметил Вамех.
Краска залила лицо Македонского, но не убавила гонору. Он с достоинством опустил глаза, взглянул на свои голые ноги, потом поднял голову и словно прицелился взглядом в Вамеха.
— Между прочим, ваше лицо мне очень знакомо.
Вамех, скрестив на груди руки, насмешливо посмотрел на поэта, затянулся, щуря от дыма глаз.
— Кем вам доводится Миха? — не отставал поэт.
— Кто? — Вамех вдруг нахмурился.
— Миха Гурамишвили. Вам знакомо это имя?
Вамех, вздрогнув, вынул изо рта папиросу, Кровь отхлынула от его лица.
— Нет! — холодно ответил он.
— Вы необычайно похожи на одного из моих друзей, на Миха Гурамишвили. Он — замечательный парень. Его весь Тбилиси знает!
— Не знаю такого.
— У вас поразительное сходство, поэтому я и спросил…
Остальные с интересом прислушивались к их разговору и сразу подметили замешательство Вамеха. Его выдали глаза и изменившееся выражение лица. Все поняли — что-то произошло, но что именно, никто не мог понять. Вамех нагнулся и стал играть с собакой, и это было понято окружающими, как уловка, чтобы прийти в себя, вернуться к обычному состоянию, которое нарушил своими вопросами Рафаэль Македонский.
Сам же поэт пребывал все в том же отличном расположении духа.
— А теперь, мой юный друг, позвольте увести мою овчарку, — фамильярно заявил он, когда Вамех выпрямился. Поэт поднял цепь и потянул собаку за собой. Огромная кавказская овчарка уперлась и снова жалобно заскулила. Македонский дернул цепь, собака прижалась к ногам Вамеха. Поэт рванул цепь изо всей силы, собака вскочила и так злобно зарычала на хозяина, что Рафаэль выронил цепь и отпрыгнул в сторону. Вамех расхохотался.
— Пусть собака останется со мной, зачем ее принуждать? Она и без того натерпелась сегодня, — сказал он.
— Хорошо, хорошо, — поспешил согласиться Македонский, — все равно не идет…
10
Кто же такой Миха Гурамишвили?
Именно этот вопрос интересовал Лейлу. По словам Рафо Македонского, Миха знает весь Тбилиси. Крайне подозрительным показалось ей сходство между Вамехом и Миха — Македонский ведь сказал, что они необычайно похожи, — тем более что оба Гурамишвили. Какое отношение Миха и Вамех имеют друг к другу? — раздумывала Лейла. — Может быть, знакомы друг с другом, может быть, даже родственники, чем черт не шутит? Но если ее предположения верны, почему Вамех отнекивался, почему побледнел, услышав имя Миха? Все это показалось Лейле крайне подозрительным, ей хотелось раскрыть тайну Вамеха, существование которой не вызывало никаких сомнений. И Алисе было интересно, кто такой Миха? Но подруги могли только строить догадки, потому что Рафо Македонский, у которого можно было все выведать, укатил в Тбилиси, и бог весть, когда он вернется. Тайна оставалась тайной.
Подруги стояли в кухне. Алиса мыла тарелки и протягивала их Лейле вытирать. К ужину все было готово. На столе лежали хачапури, жареные куры пока еще плавали в масле, а от жаркого с овощами поднимался аппетитный пар. Яства были сложены на столе в кухне и накрыты бумагой. Под столом, в ведрах с холодной водой покоились бутылки с вином. Все было готово к столу, и Алиса радовалась, что дела уже позади.
Сейчас они мыли, вытирали тарелки и разговаривали о пожаре. В эти дни все разговоры в городке сводились к одному: в семьях, на улицах, в учреждениях только и слышалось: «Пожар… Абрашка… Ревизия… Абрам Соломонович… собака…» Одни утверждали, что Абрам сам спалил дом, другие возражали:
— У самого бы рука не поднялась!
— Еще как поднялась!
— Но, черт возьми, для чего надо было строить такой дворец, если он собирался сжечь его?
— Когда он строил, то и предположить не мог, что через пять лет его застукает ревизия.
— При чем тут ревизия?
— При том, дорогой мой, что у Абрашки такой товар откопали, что полагалось ему-ровно десять лет с конфискацией имущества. Усек? Однако Абрашка не будь дураком взял да и сжег и дом, и товар, и документы. Сейчас беги, доказывай, что он в самом деле промышлял левым товаром.
Народ удивлялся этой истории, очень удивлялся.
— И милиции известны его делишки, но что она может сделать? Не пойман — не вор, за здорово живешь не посадишь человека. А барахлом Абрашка скоро обрастет, — говорили дальновидные.
Наивные же покачивали головами, не уставая удивляться этому происшествию.
Повсюду, где заходил разговор о пожаре, непременно вспоминали и Вамеха. Весь город уже знал, что он спас овчарку Муру, причем некоторые скептически посмеивались, услышав о подвиге, другим же нравилась такая смелость. Лейла и Алиса обсуждали случившееся на кухне. Лейла подробно пересказала Алисе все, что увидела и услышала в тот день. Женщин страшно интересовало, кто такой Миха Гурамишвили и почему Вамех смутился, когда о нем упомянули. Может быть, Лейле показалось?
— Что ты! Стоило Рафо Македонскому произнести это имя, как Вамех вздрогнул и переменился в лице.
— Ты думаешь, он знает его и скрывает?
— Ума не приложу.
— Три месяца здесь Вамех, но я никак не могу раскусить, что он за человек? — Алиса вздохнула.
— Знаешь, что мне кажется? Не беглый ли он преступник?
— Как у тебя язык повернулся, Лейла, и не совестно тебе? — в сердцах воскликнула Алиса.
— Чего ты кричишь, что здесь невероятного? Может быть, он скрывается здесь? И с какой бы стати он связывался с Дзуку.
— Что ты взъелась на Дзуку? Если хочешь знать, Дзуку самый порядочный человек в нашем городе. Это он спас Вамеха, когда тот подрался с Шамилем, он посадил его в машину и отвез за город.
— Отвез! Как будто на другой день тому не перерезали горло!
— Это произошло потому, что в нашем городе подонки, подобные Ясону, считаются мужчинами.
— Не тебе бы так говорить.
— Почему это, позволь спросить? — горячилась Алиса.
— Сказать? — со значением спросила Лейла. — Так знай, что сейчас твоих Ясона и Вамеха водой не разольешь.
— Потому что Вамех и не подозревает, какую свинью подложил ему Ясон. Если мне выпадет случай, я ничего не утаю.
— Выдашь Ясона?
— Еще как! Человека чуть было на тот свет не отправили, а этот наглец к нему в друзья затесался, словно он тут ни при чем. Таковы вот мужчины в нашем городе!
Лейла удивилась, с какой злостью говорила Алиса. Многое довелось испытать Лейле в жизни, опыт у нее был немалый, но тут она терялась, не понимая, почему Алиса принимает ту давнюю историю так близко к сердцу. «Наверное, совсем разочаровалась в Ясоне», — думала Лейла, догадываясь: тут что-то не то. Выждав немного, она сказала:
— Вообще подозрительно, почему Шамиль все спустил Вамеху?
— Во-первых, ничего он не спустил, парня чуть не укокошили. Не будь меня… Но оставим это. Во-вторых, откуда тебе известно, что Шамиль не боится Вамеха?
— Ха-ха-ха! — расхохоталась Лейла. — Признайся чистосердечно, ты неравнодушна к Вамеху? — Она быстро взглянула на Алису.
— Вот еще, какие глупости, — Алиса передернула плечами, опустила голову, избегая внимательного взгляда подруги и продолжая старательно мыть тарелки.
— С чего бы Шамилю бояться Вамеха? Шамиль никого не боится, — сказала Лейла.
— А ты откуда знаешь?
— Убеждена. Что же касается Вамеха, то он явно подозрительная личность, и милиции не мешало бы заинтересоваться им. — Лейла все не сводила с Алисы испытующего взгляда.
— Некрасиво, Лейла, подозревать человека, людям надо верить.
— Никому не следует верить! Что мы знаем о нем, кто он, что? Может быть, скрывается здесь, заметает следы? — и она снова внимательно посмотрела на подругу.
— Если бы он скрывался, то и паспорта никому бы не показал! Я сама видела паспорт в больнице, там ясно написано, что зовут его Вамех, фамилия — Гурамишвили, и адрес указан, только я его не запомнила. Если бы он скрывался, то после той драки ни за что не остался бы в нашем городе! К тому же и милиция проверяла его документы и нашла, что все в порядке.
— Может быть, это не его имя и фамилия? Может быть, он по чужому паспорту живет? — подзуживала подругу Лейла.
— Не говори глупостей! Если это не его имя, тогда он вообще не может иметь никакого отношения к Миха Гурамишвили, и чего бы ему смущаться, когда упомянули о том.
— А он в самом деле смутился. Я заметила, как он смешался, даже побледнел. Мне кажется, он знает Миха, только не захотел признаться.
— Как же ты у Рафо не разузнала, кто такой Миха?
— Не успела. Он уже в Тбилиси укатил, говорят, в чужом костюме проводили бедного.
— Не верю я, чтобы Вамех оказался преступником, достаточно хоть раз взглянуть на него, — сказала Алиса, склоняясь над краном.
Послышался плеск пущенной воды.
— Знаешь что? — заявила Лейла. — Я тоже думаю, что он не способен на плохое, и вообще он симпатичный человек, не так ли?
— Так.
— В нем чувствуется благородство, он чем-то притягивает к себе. Было бы ужасно обидно, если бы мои сомнения подтвердились. Хочется, чтобы он оказался порядочным человеком с незапятнанным прошлым. По правде сказать, он мне очень понравился.
Алиса долго мыла под краном руки, потом вымыла лицо, шею. Подруги прошли в маленькую комнату Алисы. Алиса вытиралась, радуясь, что в комнате чисто и прибрано, что воздух здесь после кухонной духоты свежий. Все вещи расставлены по местам, только у тахты стоят белые туфли на высоких каблуках, и на тахте расстелено новое белое платье, в которое Алиса нарядится к вечеру. Сегодня ее день рождения. А в этот день из года в год у нее собираются одни и те же гости: Лейла, доктор Коция с супругой, директор школы Вахушти, лейтенант Бено, а с тех пор, как его перевели в Батуми, — Ясон. Сегодня Ясона не будет. Вероятно, не придет и доктор Коция, потому что после ссоры с Вахушти, когда доктор плюнул ему в лицо, они избегают встреч. Алиса не могла не пригласить доктора Коция, своего доброго покровителя, а иначе его не стоило бы звать. Доктор Коция человек славный, но за столом его трудно переносить, он совершенно не умеет поддержать компанию, всерьез воспринимает шутки; сядет как истукан с озабоченным видом и к стакану не притронется — правда, здоровье не позволяет ему пить, но не умрет же он от пары глотков, — ест мало и привередливо, в самый разгар веселья, надутый, дает всем понять, что своим присутствием он осчастливил общество. Пока доктор Коция за столом, всем как-то не по себе, но, к счастью, он всегда уходит рано. Вот тогда и начинается настоящее веселье. На этот раз Алиса сама не знала, кто придет к ней, кто вспомнит о дне ее рождения? Вахушти, несомненно, будет, о нем и говорить нечего. Ясон? Тот бы со всех ног примчался, да вчера, когда он позвонил ей на работу, заранее поздравив ее, она дала понять, что его присутствие нежелательно. Хорошо, если бы Джемал был здесь. Поздравительная телеграмма от него лежала на книжной полке на самом видном месте. Дней десять назад Алиса написала ему и просила приехать, пусть достанет денег только на билет сюда, а отсюда она сама отправит его. Но ему, видимо, не удалось вырваться, скорее всего не отпустили с лекций. Алиса огорчилась, но что поделаешь?
Прохладный ветерок влетел в комнату с балкона. Лейла стояла у открытой двери, прислонясь спиной к косяку.
— Знаешь, какая идея пришла мне в голову? — сказала она вдруг.
Алиса сбросила домашний халатик и полуголая стояла посреди комнаты.
— Какая? — спросила она, присела на тахту и стала натягивать на ногу длинный, телесного цвета чулок. У нее были красивые, стройные ноги. Женская красота иногда волнует и самих женщин, и Лейла с удовольствием глядела на привлекательные ноги подруги.
— Какая же идея пришла тебе? — повторила вопрос Алиса.
— Так… Какие красивые у тебя ножки.
— Первый раз заметила? — с удовольствием засмеялась Алиса.
— Послушай. Я вот что придумала: пригласим Вамеха на твой день рождения?
Алиса застыла, с удивлением уставясь на Лейлу.
— Чего ты так смотришь? — рассмеялась Лейла.
— Пригласить Вамеха? — переспросила Алиса.
— Да.
— А как его пригласишь?
— Попросим Ясона, пусть приведет.
— Я не хочу сегодня видеть Ясона.
— Хорошенькое дело! В чем он провинился? Он тебе ничего плохого не сделал, пусть придет и приведет Вамеха.
— Вамех с Ясоном не придет, — уверенно сказала Алиса.
— Почему ты так думаешь?
— Знаю.
— А я уверена, что Вамех с удовольствием придет к тебе.
— Почему?
— Потому что такие, как он, любят красивых женщин.
— При чем же тут я? — Алиса покраснела.
— Не притворяйся! Настоящих мужчин всегда прельщает то, чего трудно добиться, а что труднее, чем завоевать красивую женщину?
— Если хочешь знать, меня совсем не интересует твой Вамех.
— Именно поэтому он может заинтересоваться тобой. — Лейла лукаво улыбнулась.
— Я вовсе не желаю, чтобы Вамех интересовался мной, — смущенно выдавила Алиса, и Лейла снова хитро улыбнулась.
— Ты же хочешь, чтобы мы узнали его подноготную?
— Почему же нет? Одно к другому не относится. — Улыбнувшись, Алиса поднялась с тахты, надела платье и подошла к зеркалу.
— Именно поэтому необходимо пригласить Вамеха, — развивала свою мысль Лейла, — мы должны сблизиться с ним и заставить его проговориться.
— Я согласна — приглашаем! С новым человеком всегда интересно!
— Разумеется, а то всегда одни и те же лица, я уже по горло сыта ими. Иногда так хочется новизны, что, кажется, совсем бы не огорчилась, если бы кто-нибудь из знакомых умер, хотя бы встряхнулась немного.
— Что ты болтаешь, не стыдно тебе?
— Ни капли! Ничего нет невыносимей однообразия.
— Ладно! Зовем Вамеха!
— Но как?
Алиса стояла перед зеркалом, застегивая пуговицы.
— Твоя идея, ты и придумывай, — залилась она смехом, — раз начала, доводи дело до конца.
— Я бы сама с удовольствием пригласила его, да со мной он вряд ли пойдет. К тому же где мне искать его?
— Я знаю! Ты разыщи Дзуку и уговори его прийти к нам и привести Вамеха.
— Ты с ума сошла! — воскликнула Лейла.
— Это единственная возможность. Дзуку тебе ни за что не откажет, а Вамех с ним придет обязательно.
— Он так удивится, если я приглашу его, что боюсь, как бы остатков разума не лишился, у него и без того с умишком не густо. — Лейла расхохоталась.
Поразительным было отношение этой женщины к Дзуку, ей почему-то казалось, что он опозорил ее, выколов на груди над дурацким сердцем со стрелой имя «Лейла», словно Дзуку не был волен татуировать на своей груди все, что захочет. Даже то, что Дзуку спас Лейлу от смерти пятнадцать лет назад, она вменяла ему в вину — он вытащил ее на берег совершенно голой, а ведь туда прибежали и знакомые, и незнакомые мужчины, и ребята, ее сверстники, и все беззастенчиво глазели на нее. Лейлу до сих пор жжет стыд при мысли о том, в каком виде она очнулась. Лучше было утонуть, чем пройти через такое! И за все это она должна благодарить Дзуку. А сколько насмешек пришлось пережить из-за его дурацкой татуировки! Большинство женщин гордилось бы этим, а Лейла умирала со стыда. С тех пор она не хотела и видеть Дзуку, не переносила его, хотя он не был ни в чем виноват. Кто знает, может быть, у этой неприязни были более глубокие корни, чем кажется с первого взгляда? Может быть, Лейла вовсе не была против того, чтобы полюбить Дзуку? Ведь Дзуку так сильно и преданно любил ее. Кто знает, может быть, она не выносила Дзуку потому, что он не отвечал ее идеалу, и неосуществленная возможность раздражала ее? Неприязнь к нему зародилась давно, но прошли годы, многое, имевшее раньше значение, сгладилось, и сейчас Лейла чувствовала, что совершенно несправедливо невзлюбила Дзуку, а точнее говоря, она его уже не ненавидела, но чтобы не признаваться в этом даже самой себе, еще ожесточенней нападала на Дзуку, когда о нем заходил разговор.
— Пропади он пропадом, этот косоглазый, говорить о нем не желаю! — сердито сказала Лейла.
Алиса застегнула на шее кулон и накрасила губы. Потом включила радиолу, присела на тахту и принялась полировать ногти. Журчала музыка. С грохотом промчался поезд, стук колес ворвался в комнату, но его тут же заглушил пронзительный гудок. Лейла вышла на балкон, оперлась о перила и стала глядеть на городок.
Стоял прекрасный день. Мирно и спокойно ожидал городок недалекую уже зиму. Где-то за домами лаяла собака. Откуда-то слышалось разудалое пение. Гудок электровоза на миг покрыл все звуки. Юноша на велосипеде затормозил против дома Алисы, спрыгнул с седла, прислонил велосипед к дереву, вбежал по каменным ступенькам и скрылся за дверями почты. «А если кто-нибудь уведет велосипед? Вскочит в седло, и поминай, как звали!» — представила Лейла. Она-то, конечно, поднимет крик, и вора обязательно поймают. Хотя кто его будет ловить, когда на дороге — ни души? Дорога тянется до самого поселка. Далеко-далеко, среди пожухлых полей виднеется арба, еле-еле ползущая по шоссе. Еще дальше — горбатые горы. Их уже занесло снегом. Скоро нагрянет зима, жизнь в городке совсем замрет, чем занять себя в тоскливую зимнюю пору? Живешь так, что ничего интересного ждать не приходится. Лейле стало тоскливо.
Она вернулась в комнату. Нежная, приглушенная музыка рождала смутное настроение спокойствия.
— Где мне найти этого Дзуку? — спросила Лейла, не глядя на Алису.
— Дзуку? Легче легкого. Он наверняка околачивается на главной улице. По воскресеньям он всегда там. Ты можешь пройти, как бы случайно и…
— Чтоб ему провалиться, рискну! — решилась Лейла.
11
Перед тем как пойти на день рождения к Алисе, куда Лейла пригласила друзей, точнее Дзуку, которого она отыскала на главной улице и уговорила прийти к Алисе нынешним вечером и привести с собой Вамеха, оба они напились. Они выпивали в закусочной на первом этаже гостиницы. Сквозь широкие окна виднелась железная дорога и высокие, пепельные осины за насыпью. За осинами разбросаны небольшие озерца, и всегда, если проходить здесь в вечернее время, непрерывное лягушачье кваканье навевает чувство одиночества и пустоты. В голубой закусочной тускло горел свет. Вамех и Дзуку стояли у стойки и пили водку. Усталый, грустный буфетчик сидел напротив них.
Говоря по совести, Вамеху вовсе не хотелось пить, но он постеснялся отказаться. После встречи с Лейлой Дзуку был взволнованным и растерянным. Он никак не мог понять, почему его вдруг пригласили на день рождения к Алисе и почему именно Лейла передала приглашение, та самая Лейла, которая и здоровалась-то с ним сквозь зубы, хотя, кроме добра, он ничего ей не сделал? Иногда она даже и здороваться не хотела. А сегодня, когда Дзуку, по обыкновению, стоял с приятелями у аптеки и глазел по сторонам, она издали поприветствовала его. Дзуку ответил. Но он до сих пор не мог сообразить, почему, вместо того чтобы, как всегда, пройти мимо, Лейла внезапно остановилась и заговорила с ним.
— Кого ожидаешь, Дзуку? — приветливо спросила она, и эта приветливость еще больше поразила его.
Дзуку отшвырнул папиросу на газон и вежливо ответил:
— Никого, сегодня воскресенье, отдыхаю.
— Мучаешься от безделья? — Лейла улыбнулась.
— Почему же? — обиделся Дзуку. — Вамех обещал подойти. Если придет, пойдем куда-нибудь.
Дзуку старался говорить как можно учтивее, а Лейла нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, словно спешила куда-то, задержалась на минутку и снова должна бежать.
— Хороший парень этот Вамех, — сказала она.
— Да, очень хороший, — согласился Дзуку.
— В последнее время ты завел порядочных друзей, молодец!
— Хе-хе! — горделиво усмехнулся Дзуку. — Правда, некоторые на меня косо смотрят, но и я не такой уж плохой.
— Кто говорит, что ты плохой? — излишне громко запротестовала Лейла. — Вот если бы еще не пил…
— Я бросил пить.
— Если так… Сегодня день рождения Алисы, приходи!
— Когда я это ходил к Алисе на праздники? — от души расхохотался Дзуку, полагая, что с ним шутят, и не в силах понять, в чем же соль шутки.
— Дурачок, я тебя серьезно приглашаю. Мне будет очень приятно, приведи и Вамеха, — сказала Лейла.
— Если тебя обрадует мой приход, только пожелай — весь город приведу с собой! — воскликнул Дзуку.
— Нет, весь город — слишком много, а Вамеха непременно приведи, — улыбнулась Лейла. — Значит, придешь?
— Обязательно приду! — радостно гаркнул Дзуку.
Это было в полдень. Но с приближением вечера Дзуку все сильнее тянуло выпить. Он ощущал отчаянную робость и удивлялся своему состоянию. «Почему меня пригласили?» — ломал он голову. Когда это бывало, чтобы его приглашали к Алисе? Что у него общего с ней? По мнению Дзуку, Алиса была из легкомысленных, падких до мужчин бабенок, часто менявшая хахалей, но ни разу не подцепившая стоящего мужика. Дзуку не выносил тех, с кем якшалась Алиса. Скажите на милость, что за мужчина Ясон? Или тот же мильтон Бено? Пошел он!.. Его счастье, что убрался отсюда. Может быть, сама Алиса и воображала, будто что-то представляет собой, но Дзуку плевать на нее. Он вообще не любил женщин. Ну их! — думал он, нисколько не обижаясь, что Алиса смотрит на него свысока. Дзуку знал, что у него с Алисой ничего не может быть, хотя и считал себя ничем не хуже Бено, Ясона и всех других. Он понимал, что ему никогда не гулять с Алисой, и не имел к ней никаких претензий. Встречаясь, они, бывало, здоровались, Алиса приходила на похороны и сороковины Таурии, вот и все. А может быть, Алиса имеет виды на Вамеха? Догадка мелькнула, на минуту испортив всю радость. При чем тут Вамех, когда Лейла приглашала именно его, Дзуку? — успокаивал он себя. Ее приглашение казалось ему очень значительным. Так много лет прошло с той поры, когда однажды на пляже соседский парень по просьбе Дзуку выколол ему на груди имя Лейлы. Жизнь изрядно потрепала и изменила Дзуку, многое забылось, во многом разочаровался он, но что-то из давнего прошлого сохранялось в душе и сейчас, когда Лейла ни с того ни с сего вдруг остановилась перед ним — чего она раньше никогда не делала — и пригласила на день рождения Алисы. Забытое пробудилось снова, и Дзуку чувствовал, что у приглашения была какая-то причина, неизвестная ему, но ждал он хорошего, потому что люди склонны толковать в свою пользу каждое явление, причины и следствия которых неведомы им.
Дзуку и Вамех решили пойти к Алисе. Но прежде чем отправиться туда, Дзуку захотел выпить — водка придает смелости. Они молча опорожнили бутылку. Буфетчик отказался разделить с ними компанию, сославшись на нездоровье. Кроме них, в закусочной никого не было, только у порога широко развалилась мохнатая кавказская овчарка Мура, которая после спасения всюду сопровождала Вамеха, где бы ни появлялся он, Мура была рядом. Весь городок видел их вместе, некоторые посмеивались, однако всех трогала эта дружба, недолгая, как оказалось впоследствии, но пока никто еще не подозревал об этом. Горожане прониклись еще большим уважением к Вамеху. Все только диву давались, как переменилась собака. Она уже не кидалась на людей, не рычала, не скалила зубы. Свобода переродила ее. Мура трусила за Вамехом, куда бы он ни шел, терпеливо ожидала его у дверей столовых и магазинов, куда ей запрещалось заходить. Хотя нрав овчарки переменился, люди все же побаивались ее и, завидев этого лохматого зверя, растянувшегося на тротуаре перед входом в парикмахерскую или в библиотеку, старались обойти ее стороной, переходили на противоположную сторону улицы, с опаской косясь на собаку. Но Мура ни на кого не обращала внимания, спокойно лежала, положив морду на лапы, и ждала хозяина.
Осень катилась к концу, и по утрам подмораживало. Солнце с особой нежностью грело напоследок землю. Светлое, прозрачное небо было спокойным, воздух очистился, и далекие вершины гор, белые и холодные, четко вырисовывались на голубом небосклоне. Давно убрали кукурузу, закончился сбор винограда. В полях по пожухлой траве и сухим кукурузным листьям бродил скот. Давно свезли с полей ометы кукурузных стеблей, заготовленные на зиму. У разрушенных изгородей по обочинам грязного шоссе молчаливо застыли обнаженные тополя. Их безрадостный вид наполнял душу теплой и нежной грустью, словно воспоминания о мечтах отроческих лет. Сухие ветви деревьев, сбросивших листву, золотом отливали под солнечными лучами. Последними красками светилась земля, последние листья кружились в воздухе, но дневное тепло не убывало, и стоящая у порога зима еще не напоминала о своем приближении. В селах столбы балконов были переплетены гирляндами инжира и желтого шафрана, вывешенного для просушки. Охотники в высоких сапогах, с ружьями под мышкой, бродили по полям. Легавые, мокрые до последней шерстинки от обильной утренней росы, осторожно тыкались носом в кусты и валежник, принюхивались к земле. Внезапный выстрел вспарывал порой тишину полей и озер. Затем слышался всплеск воды, резкий вскрик, но скоро все затопляло безмолвием необозримого пространства.
Вамех вместе с Мурой часто гуляли в полях. Он надевал солдатские сапоги и старый, продранный на локтях пиджак. Ружья у него не было, да ему и не хотелось обзаводиться им, он наслаждался этим безмолвным простором и старался ничем не нарушить его необыкновенный покой. Он осторожно шагал по траве, прислушиваясь к кваканью лягушек, населявших водоемы, к чириканью и пересвисту птиц, всем существом своим сливаясь с окружающим. Мура трусила рядом. Вамех привязался к собаке, которой в жизни не перепало ни ласки, ни любви. Она родилась в ином краю, и судьба, подстерегающая каждого, забросила ее сюда, где нет ни овец, ни скупых на слова чабанов, ни гор, ни пастбищ. Ей не довелось испытать морозных ночей, к которым она была подготовлена природой, и теперь, когда из лесу доносился веселый собачий лай, Мура молча трусила рядом с хозяином, так, как должна была трусить, охраняя по бесконечным дорогам отару овец. Почему на ее долю выпала такая участь? Почему лучшие годы она вынуждена была провести, посаженная на цепь? Ведь по рождению она не была дворовым псом? Ее призвание заключалось в ином, природа создавала ее для неустанной борьбы, но жизнь не использовала по назначению. Ее благородная и полезная энергия пропадала втуне, потому что ее посадили на цепь. Почему случилось так, чем вызвана такая несправедливость? — думал Вамех и не находил ответа: кто может точно решить, что справедливо, а что нет?
Они с Мурой гуляли по полю, держа путь на дальний лес. У железной дороги устраивались на траве и глядели на небольшую деревеньку по ту сторону озера, неподалеку от леса. У околицы пасся табун. Жеребята, навострив уши, замирали порой около кобылиц, но ничто не нарушало их покоя. Время от времени оттуда доносилось ржание. Мура и Вамех подолгу наблюдали за табуном. Царила тишина. Вамех отходил здесь душой, но какая-то заноза в сердце мешала ему полностью раствориться в этом покое, принять его таким, каков он есть, без стремления понять, что за ним. Да есть ли за ним что-нибудь? Я так устал, думал Вамех, я не желаю знать ничего иного, кроме того, что вижу!
Подолгу просиживал Вамех у насыпи, уйдя в свои раздумья. Иногда над его головой проносился поезд, и его диковинный в этой пустыне грохот отрезвлял Вамеха, рассеивал думы и возвращал к действительности. Он видел пространства, за которыми ничего не было. Потом опускались сумерки, и Вамех, сопровождаемый Мурой, возвращался домой.
По вечерам бывало так же прохладно, как и ранним утром, но в тот вечер, когда Вамех и Дзуку, допив бутылку, вышли из закусочной, они не почувствовали холодка. На улице не было ни одного прохожего. Под деревьями — сплошная тьма. Они медленно шагали по тротуару, расстегнув на груди сорочки, возбужденные водкой, и лишь звук их шагов нарушал тишину.
Вдруг из темной подворотни, пошатываясь, выступил худой мужчина и загородил приятелям дорогу. Лицо его невозможно было разобрать в темноте. На нем были телогрейка и теплая шапка. Вамех и Дзуку остановились, с удивлением уставясь на незнакомца.
— Извините, — произнес тот, — извините за беспокойство, — он закашлялся, — помогите, чем можете…
Вамех узнал знакомый голос и машинально протянул руку к карману, он никогда не отказывал нищим. Дзуку же терпеть не мог попрошаек.
— Проваливай! Работать надо, мать твою так!.. Чего побираешься?! — заорал он, скривившись.
— Извините, — сказал человек, — извините…
— Насобирают, а потом водку хлещут, ух, мать вашу!.. — еще раз выругался Дзуку.
— Простите, простите, — испуганно залепетал оборванец, пятясь к стене, он хотел отойти, но Вамех окликнул его:
— Подожди, Антон!
Да, это был Антон, тот самый Антон, который мечтал увидеть фейхоа, тот самый, который старался освободиться ото всех человеческих страстей и достичь духовного совершенства. Он ничуть не был сумасшедшим, но, по его же словам, все принимали его за душевнобольного, потому что мечты Антона были оторваны от деятельной жизни, и он никак не мог отыскать разумной середины между материей и духом.
Антон остановился. Вамех подошел к нему. Мура заворчала, но Вамех цыкнул на нее, и она унялась. Антон прислонился к стене, испуганно глядя на приближающегося человека, а, узнав его, обрадовался.
— Ах, это вы! — горячо воскликнул он, согнулся, схватил руку Вамеха и покрыл ее поцелуями.
Вамех оторопел. Дзуку хлопал глазами, не понимая, что происходит. Потом, оправившись, Вамех резко вырвал руку, согнутый Антон пошатнулся и грохнулся на колени. Вамех схватил его за плечи и поставил на ноги. Дзуку подошел ближе, неприязненно глядя на Антона.
— Что с вами? — спрашивал Вамех. — Вам нужны деньги?
Антон не отвечал, тяжело переводя дыхание.
— Он нализался, не видишь, что ли? Языком не ворочает, — пробурчал Дзуку.
— Ты пьян, Антон? — спросил Вамех.
Антон покачал головой, печально ухмыляясь.
— Таким и копейки давать не стоит, ненавижу побирушек! — грубо сказал Дзуку.
— Почему? Нищего всегда жалко, — возразил Вамех и вытащил из кармана деньги. — Сколько вам нужно, Антон?
— Я два дня ничего не ел, — глухо проговорил тот.
— Плоть требует своего, — улыбнулся Вамех.
— К тому же недомогаю, у меня, кажется, температура, — у Антона был охрипший, как у пьяного, голос.
— Наверное, нализался, сукин сын, — не унимался Дзуку.
— Напрасно вы так. Я непьющий. Я совсем не пью. Вот он меня знает, — возразил Антон и умоляюще поглядел на Вамеха.
— Когда люди опускаются до попрошайничества, их убивать надо, — сказал Дзуку.
— Надо жалеть всякого, кто опустился до того, что решается протянуть руку, — отвечал Вамех, — надо помогать каждому, кто просит о помощи.
Он обнял Антона и повел к свету, который падал на тротуар из окон закусочной.
— Тем, кто в безвыходном положении, я всегда помогу, — говорил Дзуку, шагая рядом с Вамехом, — но некоторым лень пошевелиться, пристрастятся к водке и стреляют по копейке, таких надо истреблять.
— Ты не прав, Дзуку. К чему докапываться до причин? Когда человек бедствует и просит — помоги ему без колебаний. Ведь ты слышал: «Стучите, и вам откроется».
— Слышал я эти бредни. Попробуй расхлебянь дверь, столько гостей сбежится, что места не останется, дадут тебе коленом под зад и вышвырнут за порог. Излишняя доброта только вредит, когда следует, надо и Твердость проявить.
Антон снова зашатался. Ноги его подкосились. Вамех и Дзуку подхватили его и опустили на тротуар у стены. Сидя на земле, Антон запрокинул голову и взглянул на Вамеха.
— Кажется, умираю, — прошептал он, — очень рад, что свиделся с вами перед смертью.
Вамех ладонью коснулся его лба.
— Не бойтесь, Антон. У вас просто жар, сейчас мы отвезем вас в больницу, там вас подлечат и накормят.
— Напрасные хлопоты, — шептал Антон, — поздно… А если даже и не поздно, к чему?
— Дзуку! — крикнул Вамех. — Беги, найди машину!
Дзуку полагал, что попрошайка недостоин стольких забот, но во всем доверял Вамеху. Ему теперь казалось, что он любил Вамеха задолго до того, как им пришлось встретиться, задолго до их знакомства. Всю жизнь ему хотелось иметь настоящего друга, и наконец он нашел его в Вамехе, поэтому Дзуку безоговорочно верил ему. С первого же дня он поверил в искренность Вамеха. На второй или на третий вечер после похорон Таурии, когда Дзуку в одиночестве коротал время, в дверь постучали и в комнату вошел Вамех. Дзуку не удивило его появление, хотя они почти не знали друг друга, мало того, он не мог представить, чтобы Вамех навестил его, но стоило тому появиться в дверях, как Дзуку понял, что все эти дни ждал Вамеха. Тот, не спрашивая разрешения, придвинул к себе табуретку. Они разговорились. Ни один из них не ощущал ни скованности, ни неловкости; перевалило за полночь, а они сидели, как старые друзья, и вели беседу. Вамех ни словом не обмолвился о Таурии, он избегал даже намека на случившееся, но Дзуку читал в его глазах бесконечное сочувствие, проникался какой-то болезненной признательностью и благодарностью и верил, что он всегда и во всем сможет положиться на этого человека.
Потом они сдружились. Это вышло словно бы нечаянно, само по себе. Дзуку еще больше поверил в Вамеха. Именно Вамех толкнул его на примирение с официантом Гвачи. По настоянию Вамеха Дзуку пошел в ресторан, попросил у Гвачи прощения за свою недавнюю выходку. Что нашло на него в тот день, как он решился ударить этого безобидного человека? Что забавного в беспричинном избиении пожилого мужчины, который содержит семью — жену, детей, дряхлых родителей — и готов многое снести, стерпеть, лишь бы его близкие не нуждались ни в чем? Почему он должен мириться с незаслуженными оскорблениями, разве мало приходится терпеть ему и без них? Стоило возникнуть разговору об этом случае, как Вамех такими злыми и беспощадными глазами впивался в Дзуку, что тот не на шутку опасался, как бы Вамех не двинул его — у Вамеха это не заржавеет. Тогда и дружбе придет конец, а Дзуку не представлял, как он сможет жить без Вамеха. Он молча сносил все обвинения, чувствуя, что не миновать потасовки, начни он доказывать свою правоту. Да была ли правота? Из того разговора Дзуку вынес одно — Вамех ненавидит несправедливость, все равно, кем совершена она, другом или недругом, и никакие доводы при этом не принимаются в расчет. В течение тех пяти минут, пока шел разговор о Гвачи, Вамех больно язвил, и искры вспыхивали в его глазах. Дзуку понимал, что Вамех видит не его, а ту несправедливость, которую он совершил; оторопев от этой ярости, издевок и совершенного отчуждения, он понимал правоту Вамеха и собственную вину, чувствовал, что ему стыдно самого себя. Именно поэтому извинился он перед Гвачи и ощутил невыразимое облегчение, когда тот простил его. Раньше во всей этой истории он увидел бы только забавный случай. Теперь он прозрел и лишний раз убедился, что Вамех прав.
Не противореча, он побежал на поиски машины.
Улица была пуста. Свет в закусочной погасили, и непроглядная тьма залила все вокруг. Потом слабо засветились рельсы. Донесся гудок электровоза, и вскоре пассажирский поезд с грохотом влетел в город. Освещенные окна вагонов сыпали пучками свет, и прыгающие, яркие квадраты проносились по земле. За окнами были видны пассажиры. Некоторые уже разделись и готовились ко сну. Никто не смотрел в окна, потому что, сколько ни вглядывайся, ничего не увидишь в такой темноте. И ни один пассажир не видел, как сидел на земле Антон, привалившись к холодной каменной стене дома, не видел Вамеха, присевшего перед ним на корточки, не видел Муры… Было слышно, как поезд затормозил у вокзала, и снова наступила тишина.
— Душа расстается со мной, — вдруг скорбно произнес Антон, — давеча, когда я узнал вас, мне все еще хотелось сохранить душу в моей нынешней плоти, но сейчас я понимаю, что все это — нелепо; я не должен был обращаться к вам за помощью, не из чувства стыда, нет, но потому, что мой поступок противен душе… Он — слабость. Голод терзал меня, и я не устоял перед искушением, но сейчас… — Антон зашелся в кашле, отдышался и продолжал: — Должен признаться, мне прискорбно… Но что поделаешь? Все мы уходящи…
Вамех молчал.
— Вы замечательный человек, — сильно и отчетливо произнес Антон.
— Чем? — удивился Вамех.
— Тем, что возитесь со мной, хотя это, надо думать, очень противно вам.
— Что вы! — запротестовал Вамех.
— Я понимаю, понимаю… Вы — святой, вы делаете то, от чего вас воротит, но вы все-таки делаете. Разве приятно вам возиться со мной? Но вы видите во мне человека, хотя и не похожего на вас. Другие принуждали меня быть таким же, как они сами, стремиться к цели, которую они признавали нужной. Помыкали мной за то, что я жаждал узреть дерево фейхоа.
— Фейхоа растет в Эшерах…
— Да, в Эшерах. Великолепное дерево фейхоа. Кто знает, может быть, после смерти моя душа переселится в дерево фейхоа.
— Вполне возможно.
— Моя душа возродится в дереве фейхоа… Не потому ли я так любил это дерево?
Помолчав, Антон спросил:
— Вам не кажется, что я брежу? — Нет, — ответил Вамех.
— Да, душа так же вечна, как и материя. Один вид материи переходит в другой, но она не исчезает, не пропадает, так и душа. Именно поэтому я думаю, что моя душа перенесется в дерево фейхоа.
— Может быть, Антон, может быть. Счастливый вы человек, если верите этому.
— А вы не верите?
— Если бы я верил, счастливее меня не нашлось бы, — улыбнулся Вамех. — Может, все это и так, но я сомневаюсь…
— Это — истина, истина. Я верю. Поэтому смерть для меня — второе рождение. Но все же сердце мое переполнено болью, ибо я не увижу больше такого прекрасного человека, как вы.
— Может быть, увидите еще лучшего, — пробормотал Вамех, он чувствовал, что хмель одолевает его.
— Да, так и будет. Я убежден. Главное — не знание, а вера. Что можно знать? Кто знает наверняка, существует бог или нет? Но я верю, что он существует. Главное — вера… Я верю, что, возможно, душа моя перейдет в дерево фейхоа.
— Так и будет, Антон!
Вамех был пьян и, может быть, поэтому с такой непосредственностью воспринимал все, что видел. Вамех догадывался, что Антон умирает и невозможно воспрепятствовать его смерти. Он видел неестественно расширенные глаза Антона, которые с жадностью осматривали все вокруг, слышал его торопливые слова, хрип и одышку. Лихорадочное, торопливое поведение Антона было таким, словно он готов пуститься в далекий путь, но силится успеть что-то сделать прежде, чем уйдет навсегда.
— Я верю, что существует бог и ничего, кроме него, — падали в тишине слова Антона. — Все — бог, все в боге. Все мы — в боге… И планеты, и звезды — все в боге… Когда душа моя покинет плоть, кончатся мои мучения, но душа моя сохранится в боге и возродится в дереве фейхоа…
Антон умолк.
Вамех сел на тротуар. «Куда запропастился Дзуку?» Бог, о котором толковал Антон, представлялся Вамеху чем-то туманным и неопределенным. Вамеха беспокоило, что Антон может умереть на улице. Как его фамилия? Есть ли у него родители, братья, сестры, дети, жена? Где они, в каком краю его родина? Есть ли у него близкие, что они чувствуют сейчас, когда Антон умирает на пустынной улице, а с вокзала доносится лязг и грохот отходящего поезда? Наверное, Антону холодно в этой жиденькой телогрейке, которую он никогда не снимал, чтобы мерзнуть зимой, исходить потом в жару и тем подавлять плоть. Наверное, он простыл в старой церковке, когда спал на соломе, и за ним некому было ухаживать. Когда Антон родился, кто-то нянчил его, кто-то заботился о нем, кормил, баюкал, а он был малышом и не подозревал о существовании души. В самом деле, что такое душа? — задумался Вамех. Шум поезда постепенно отдалялся. По ту сторону насыпи снова заквакали приумолкшие было лягушки. Среди переплетенных ветвей деревьев низко, как паук, висела новая луна, и ее холодный свет не доходил до земли. Вамех сидел на холодном тротуаре и думал о том, что, если Антон умрет сейчас, им с Дзуку не удастся попасть на день рождения к Алисе. Да, такие мелочные мысли приходили ему в голову, когда под боком умирал человек. Его, сидящего рядом с умирающим, тянуло к Алисе, на торжество, в теплую, залитую светом комнату, где веселятся люди, где пьют вино, где улыбаются женщины. Лучше бы ему не встречаться с Антоном! Тогда Антон умер бы сам по себе, и Вамех не знал бы о его кончине. Такие мысли одолевали Вамеха, и он не стыдился их. Антон говорил, что все ниспосылается свыше. «Наверное, и такие мысли, и такое настроение ниспосланы свыше», — думал Вамех и не испытывал угрызений совести. Он понимал, что не в состоянии помочь Антону, пока Дзуку не пригонит машину. А Дзуку пропал. Видимо, Антону судьба умереть на улице.
Внезапно Вамех ощутил всю тяжесть своего греха. Он вскочил на ноги, полный желания сопротивляться хладнокровию, ниспосланному свыше. Он решил взвалить Актона на спину и бегом отнести его в больницу. Он не мог больше ждать, сложа руки. Он обхватил Антона за плечи.
— Вставай, дружище.
Антон очнулся:
— А?
— Вставай, пойдем, — возбужденно торопил его Вамех.
Антон еле поднялся на ноги, оперся о подставленное плечо Вамеха и, пошатываясь, сделал несколько шагов. Он показался Вамеху необычайно тяжелым, и острое чувство вины пронзило его: как он мог равнодушно смотреть на умирающего?! Только сейчас осознал он, что это смерть, протрезвел и ужаснулся. Быстрее, надо что-то предпринять, не дать умереть Антону!
— Дзуку! — изо всех сил завопил он.
Но Дзуку не было. Мура залилась лаем. И тут из ближайшего дома вышел мужчина. Услышав голоса, он остановился.
— Подойдите! — крикнул Вамех.
— В чем дело? — издали откликнулся тот, не трогаясь с места.
— Помогите, человек умирает, давайте донесем до больницы!
— Я не врач, товарищ!
— Не надо врача, подсобите мне поднять его на спину.
— Мне некогда, у меня неотложное дело!
Мужчина зашагал прочь.
Вамех привалил Антона к стене и погнался за мужчиной. Мура, словно поняв, в чем дело, рванулась с места, опередила хозяина и в три прыжка настигла незнакомца — тот уже сворачивал в освещенный переулок, ведущий к центру.
— Ату, Мура, ату! — крикнул Вамех.
Собака сшибла мужчину с ног, стащила в грязную канаву и, наверное, растерзала бы, но тут Вамех услышал визг тормозов, обернулся и бросился к Антону, возле которого остановилась пригнанная Дзуку машина. Овчарка оставила свою жертву и с лаем помчалась за хозяином.
12
На день рождения они не попали. Когда выбрались из больницы, Дзуку почему-то расхотелось идти к Алисе, и они не пошли.
Напрасно прождали их Алиса и Лейла. Время было позднее, и Лейла поняла, что они не придут. Поняла и невероятно обозлилась на Дзуку, она и представить себе не могла, чтобы тот не соизволил явиться и не привел с собой Вамеха. Всего она ожидала от Дзуку, но такого!.. К злости примешивались досада и удивление, а самым удивительным было то, что и Вахушти как в воду канул.
— С Вахушти-то что стряслось? Что за фокусы? — бесилась Лейла. — Ясон! Сходи на почту, позвони ему, узнай, что с ним приключилось?
Вахушти не пропускал ни одного дня рождения Алисы. Надо сказать, что нравились ему обе подруги, и он ловко волочился за обеими, заранее обеспечивая себе путь для отступления — обратить все в шутку, если его замыслы сорвутся. Женщинам нравились его комплименты, но они не принимали его ухаживаний всерьез, потому что слишком велика была разница в возрасте, да к тому же у Алисы был поклонник, а Лейла пренебрежительно относилась к подобным ухаживаниям. Кроме того, Вахушти производил впечатление порядочного человека, семьянина, и подругам в голову не приходило, что он преследует определенную цель. Их самолюбию льстила дружба с таким культурным человеком, они непременно приглашали его на дни рождения Алисы и дочери Лейлы, на свои именины, словом, на всяком торжестве он был желанным гостем, но сегодня он не пришел. Его отсутствие окончательно испортило подругам настроение и очень удивило их.
Ясон сбегал на почту и вскоре вернулся.
— Ну, что? — кинулась к нему Лейла. Между прочим, это она позвала Ясона, несмотря на протесты Алисы.
— Ничего, дома сказали, что он пошел к вам.
— Где же он?
Этого Ясон не знал.
— Интересно, куда он мог деться?
Вечер был испорчен. Только на следующий день Алиса узнала, что стряслось с Вахушти.
Она встала рано, прибрала комнату и пошла на работу. Скверное настроение из-за вчерашнего скомканного празднества не покидало ее. Она, не замечая прохожих, дошла до больницы и опомнилась только в гардеробе, повесив плащ и натянув белый халат. «Так и живешь, словно из одной комнаты переходишь в другую», — невесело подумала она, выходя в коридор, и столкнулась с доктором Коция. Тот, разумеется, знал, что вчера был день рождения Алисы.
— Как прошел вечер? — поинтересовался доктор.
— Ничего, — нехотя ответила Алиса.
— Я собирался к вам, да вчера мне нездоровилось, — сказал Коция, обнимая Алису за плечи и подводя к одной из палат. — Пройдем-ка, сейчас покажу нечто такое, что развеселит тебя. — Он остановился у двери. — Тут лежит твой друг Вахушти.
— Вахушти?
— Ты знаешь, по мне его хоть бы и вовсе не было, но вчера часов в девять мне звонят, срочно вызывают в больницу. Прилетаю, и что же вижу? Лежит преподобный Вахушти, весь в грязи и крови, на загривке вырван кусок мяса, оказывается, собака покусала.
— Собака?
— Да. Залатал я его. Ничего страшного. Сегодня выпишу. А тебя попрошу, сделай ему сейчас инъекцию от бешенства, лучше тебя никто с этим не справится.
— Хорошо, — сказала Алиса.
После инъекции жена и кто-то из педагогов повели Вахушти домой. Алиса узнала, что приключилось с ним прошлой ночью, и почему-то рассердилась.
— Я спокойно направлялся на день рождения к вам, и вдруг набросилась на меня огромная собака. И представьте себе, я слышал, как хозяин науськивал ее. Понятия не имею, кто он, но кое-какие подозрения у меня возникли, — многозначительно заявил Вахушти.
Алиса проводила его до подъезда и пошла на задний дворик. Под лучами утреннего солнца стены больницы сияли белизной. Каменная лестница с железными перилами спускалась со второго этажа, у лестницы на нижней площадке лежала мохнатая собака, но Алиса не обратила на нее внимания. Маленький дворик позади больницы напоминал свалку, чего только там не было — разбитые ящики, почерневшие горбыли, груды угля и шлака, куча старого железа; на проволоке, натянутой уборщицей между двумя столбами, сушились простыни, а голубые байковые пижамы за отсутствием места на проволоке были навешаны на ограду, За оградой — тихий тупичок, упирающийся в лесопилку, откуда постоянно доносился яростный визг электропилы. Однако сегодня было тихо, и Алиса услышала разговор двух проходящих за оградой мужчин, которые обсуждали какие-то служебные дела, пересыпая речь площадной бранью. Столяр Валико строгал в углу дворика доску; топча пахучие золотистые стружки, Алиса подошла к нему:
— Ну как, закончил тахту?
— Готова, сегодня принесу.
Алиса пошла обратно и увидела Вамеха, стоящего на верхней площадке лестницы. Алиса сделала вид, что не замечает его, и все внимание сосредоточила на Муре, лежавшей у лестницы.
— Валико! — крикнула она столяру. — Чья это собака?
— Какая еще собака? — спросил тот, отрываясь от рубанка.
— Это моя! — громко сказал Вамех и стал спускаться.
— Чья бы ни была! — Алиса не глядела на него. — Валико, прогони собаку, развели тут псарню!
— Чем она вам помешала? — спросил Вамех.
— Чем? — Алиса взглянула на Вамеха, и в глаза ей бросился фиолетовый шрам, который все еще жутко выделялся на его горле. — Тебе известно, что Вахушти вчера покусала чья-то собака? Что за напасть, человек ночью не может на улицу выйти!
Вамех промолчал. На верхнюю площадку, где он только что стоял, вышла санитарка.
— Молодой человек, это вы интересовались Антоном? — крикнула она.
Вамех поднял голову, и она узнала его:
— Умер ваш Антон.
— Когда? — тихо спросил Вамех.
— Только что.
Санитарка исчезла за дверью.
— Бедняга, — проговорил Вамех, толкнул Муру, собака вскочила и побежала вперед.
Алиса смотрела вслед Вамеху. Вот он вышел за ворота, вот свернул и пошел по улице. Алисе хотелось заплакать.
Но она сдержалась. «Кто такой Антон? — подумала она. — Что у него общего с Вамехом, почему он справлялся о нем?..» Она взбежала по лестнице, изо всех сил сдерживая слезы, нашла дежурного врача и спросила:
— Кето, милая, кто сегодня умер?
— Бродяга, какой-то несчастный…
— Бродяга?
— Да, если бы не забота тех парней, которые ночью привезли его…
— Каких парней?
— Один — косоглазый Дзуку, у которого брат летом разбился, другой — приятель его, со шрамом…
— Вамех?
— Да, да, Вамех. Они ночью привезли его. Пневмония и сердечная недостаточность. Только что скончался.
«Антон, — подумала Алиса. — Кто же такой Антон? Бродяга. Как бы с Вамехом, упаси господи, чего не случилось, ведь и он… Хотя, кто знает, может быть, по нему кто-нибудь плачет, может быть, у него есть сестра, брат, родные, может быть, невеста ждет его где-нибудь?» Алиса чувствовала, что слезы вот-вот хлынут из глаз, но огромным напряжением воли — так человек, поскользнувшийся на краю пропасти, съезжающий в нее, умудряется удержаться в последний момент — сдержала себя. «В самом деле, какой идиоткой я предстану перед всеми, если разревусь сейчас! Что подумают врачи!»
Но дежурному врачу было не до нее, заканчивалась смена, и врач торопился домой. Тем временем Алису позвали на операцию. Она медленно двинулась к операционной, но столкнулась с санитаркой, которая недавно разговаривала с Вамехом, и схватила ее за руку.
— Скорее покажи мне покойника… Ну, того, что недавно умер…
Они почти вбежали в палату, небольшую, пустую комнату с закрытыми ставнями-окон. Странная, белая тишина ударила в уши. Покойник, покрытый простыней, лежал на койке. Санитарка приподняла угол простыни, открылось желтое, словно костяное, лицо Антона, и Алиса узнала его. Это с ним разговаривал Вамех у дороги перед заброшенной церковью после драки с Шамилем. Алиса вспомнила, как они с Ясоном проехали мимо, а взгляд Вамеха еще задержался на ее ногах. Именно в тот вечер Вамех впервые заметил ее. Алиса смотрела на желтое лицо покойника, и перед ней вставали бескрайнее поле и белая заброшенная церковь… Выйдя из палаты, она почувствовала, что не Антона жалела сейчас, а почему-то Вамеха. Не потому ли, что представила его лежащим на этой койке-После операции Алиса побежала в Дом культуры, чтобы увидеть Ясона, он жил там в одной комнатушке. Ремонт уже закончили, и сейчас Дом культуры выглядел празднично и нарядно. Три месяца не была здесь Алиса, многие удивились ее появлению. Кое-кто улыбнулся. Но Алиса, вместо того чтобы прямо направиться в комнату Ясона, — Алиса отлично знала, где она находится, не раз в былые времена заходила туда и подолгу оставалась там — попросила какого-то мальчугана позвать Ясона. Обрадованный Ясон примчался, начал приглашать Алису к себе, но та отказалась.
— Ты знаешь, почему Вахушти не пришел к нам? — сразу спросила она.
— Нет.
— Его покусала собака.
— Как покусала?
— Не знаю. Ясон, помоги мне, узнай, где был Вамех прошлой ночью, не произошло ли с ним чего-нибудь?
— Ты что, Муру подозреваешь? — воскликнул Ясон. — Что ты! Вамех не тот человек, чтобы беспричинно науськивать собаку на человека.
— Откуда ты знаешь о причине? Разузнай для меня, Ясон, спроси Вамеха, где он был прошлой ночью, хорошо?
— Непременно узнаю. Вамех ничего от меня не утаит, — прихвастнул он и добавил с робкой надеждой: — Зайди ко мне, поболтаем, посмотришь, как похорошела моя комната после ремонта.
— Не могу, тороплюсь. Смотри же, не подведи! — И все видели, как Алиса сбежала по лестнице и удалилась. Те, что недавно многозначительно улыбались, были разочарованы.
После визита Алисы Ясона стали чаще видеть в компании Вамеха. Они вместе пришли в больницу, чтобы проводить в последний путь Антона, но оказалось, что несчастного уже погрузили на машину и отвезли на кладбище.
А несколько дней спустя случилось нечто такое, что снова взбудоражило город, наполнило слухами, смутило его покой. Горожане от мала до велика обсуждали случившееся, но никто не знал, кого обвинять, потому что все произошло в полночь, когда на улицах не встретишь живого человека. Женщины бог весть по какому разу с плохо скрываемым удовольствием принимались судачить о новом необычном случае, но стоило им заметить Вамеха — после происшедшего он целыми днями кружил по улицам, — как они поджимали губы, разом оборачивались, жадно разглядывали его, словно он мог удовлетворить их любопытство и ответить на вопросы. Но Вамех не меньше, чем все, был озадачен. Он не знал, чья рука навела на него ружье, когда внезапный выстрел разорвал тишину осенней ночью и сраженная Мура свалилась у ног хозяина и, не успев даже застонать, издохла. Еще не укатилось эхо первого выстрела, как раздался второй, и Ясон, шедший рядом с Вамехом, качнулся словно от толчка, и правая рука его повисла сломанной ветвью.
Вамех мгновенно сообразил, что стреляют по нему, а не по Ясону, но не понимал, кто хочет убить его. Он растерялся. Было ясно, что кто-то старается застрелить его, в этом он не сомневался, и наступившая после второго выстрела тишина показалась ему пронизанной ненавистью, которую он вызывал в неведомом стрелке. Тишина держалась недолго, тут же со всех сторон донесся заливистый лай, но это лаяла не Мура, а взбудораженные выстрелами, стосковавшиеся по охоте многочисленные охотничьи собаки. Мура неподвижно валялась у ног Вамеха.
— Вамех, спрячься где-нибудь, — услышал он напряженный, но бодрый голос Ясона. Вамех подивился его трезвости в такую минуту, перешагнул через труп собаки и неторопливо направился к Ясону. Тот сидел на корточках, укрывшись за телеграфным столбом и левой рукой прижимал к боку правую.
— Спрячься скорей! Скорей, пока снова не выстрелили!
Но Вамеху не верилось, что смерть подстерегает его. Он не мог понять, кому он насолил так, чтобы его решили отправить на тот свет. И все же он был уверен, что целились именно в него, а не в Ясона. Опершись руками о колени, он склонился над Ясоном:
— В тебя попали?
— Нашел, о чем думать! — буркнул Ясон и с такой силой дернул Вамеха левой рукой, что тот свалился рядом. Сейчас оба лежали на земле под прикрытием телеграфного столба.
— Попали в тебя? — снова спросил Вамех.
— В руку…
Вамех почувствовал, что лежит в крови, в крови Ясона.
— Еще хорошо, что не убили, черт с ней, с рукой, — сквозь зубы процедил Ясон.
Вамех не мог понять, искренен ли Ясон или играет роль какого-нибудь героя из пьесы.
13
Той ночью, когда все это случилось, они оба были под хмельком. Но, придя на следующее утро в больницу, Вамех увидел, что Ясон по-прежнему держится молодцом, хотя заметно ослаб от потери крови и временами морщился от жгучей боли. После операции доктор Коция заявил, что рана чрезвычайно серьезная, повреждены кость, сустав и главная артерия и лично он не уверен, удастся ли сохранить руку. Тем не менее Ясон не пал духом, и врачи восхищались его выдержкой. Надо сказать, что и Алисе понравилось, как он держался. Она присутствовала при операции и видела, что Ясон покрывался потом от нестерпимой боли, но не ныл, даже стона не сорвалось с его закушенных губ. Операция длилась долго, и другой на его месте, даже несмотря на обезболивание, извел бы всех криком. Ясон же молча перенес операцию, и Алиса, не ожидавшая от него такой силы воли, была приятно удивлена.
В то время, когда Ясон лежал на операционном столе, Вамех находился в милиции. Всю ночь продержали его там, а утром допросили еще раз. Но что мог рассказать Вамех, кроме того, что кто-то стрелял из темноты, убил Муру и ранил Ясона?
— Где это произошло? — расспрашивали его.
— Около школы.
— Откуда стреляли?
— Из кустов. Там, на обочине, густые кусты граната, и, по-моему, кто-то прятался за ними.
— Вы никого не видели?
— Никого.
— Может быть, все-таки видели, но не хотите выдавать? Подумайте хорошенько.
— Никого я не видел, было очень темно.
— Если было так темно, то как же стрелявший ухитрился попасть в Ясона и в собаку?
— Мы стояли на свету, под фонарем.
— Хорошо, а теперь скажите, что вы предприняли сразу, как услышали выстрел?
— Ничего, продолжали стоять.
— На кусты не посмотрели?
— Никуда я не смотрел. Я стоял, пока Ясон не окликнул меня. Он укрылся за телеграфным столбом, а когда позвал меня, я тоже спрятался за столб.
— Дальше?
— Потом выстрелы прекратились. Я разорвал рубашку, перевязал руку Ясона и повел его в больницу.
— Собаку где оставили?
— Там же.
— Она и сейчас там?
— Откуда я знаю? Может быть, кто-нибудь отволок ее в сторону, что же еще с ней делать?
— И вы никого не видели?
— Никого.
— А куда, по-вашему, делся стрелявший, что он, сквозь землю провалился?
— Не знаю, я же сказал, что очень удивился, услышав выстрелы, и растерялся от неожиданности.
— Допустим. Откуда вы шли?
— Мы были на именинах в поселке, там немного выпили и на попутной машине доехали до города. Когда приехали, я расплатился с шофером и мы пошли пешком.
— По пути никого не встречали?
— Встретили какого-то мужчину. Ясон сказал, что это директор школы.
— Куда вы шли так поздно?
— Ясон — домой, а я собирался переночевать у Дзуку, он обещал сегодня устроить меня на работу, вот я и решил остаться у него.
— Кого вы подозреваете? Кто мог стрелять в Ясона?
— Ума не приложу.
Пауза.
— Кто это вам оставил такую метку на горле?
— Поранили.
— Где, когда?
— В парикмахерской, около трех месяцев назад.
— Кто?
— Не знаю.
Улыбка.
— То есть никого не подозреваете?
— Нет.
— А вы уверены, что стреляли именно в Ясона?
— Не знаю.
— Хорошо. Распишитесь. Вы свободны, но если появится необходимость, мы вас вызовем.
Прямо из милиции Вамех отправился в больницу. Он прошел в палату, и когда увидел Ясона — а в палате помимо Ясона находилось много больных, они сидели кто на койке, кто на стуле и болтали — бледного, с заострившимся лицом, то убедился, что прошедшей ночью Ясон не играл героя, а проявил скрытую до сей поры твердость характера, и это по-хорошему поразило Вамеха. Ясон обрадовался его приходу, спокойно рассказал, как протекала операция, как доктор Коция предупредил его, что, может быть, придется отнять руку (доктор Коция был человек прямой). «Выдержу пару дней, а затем, возможно, придется отправить тебя в Тбилиси». Ясон, видимо, смирился с судьбой, и только боль беспокоила его, обыкновенная физическая боль.
— Не думай об этом, — сказал Вамех, но Ясон не нуждался в ободрении.
— «Страх от смерти не спасает», — улыбнувшись, процитировал он. — Чему быть, того не миновать, — он спокойно ждал, что принесет грядущее, не злился, не нервничал перед неизбежным. — Такая уж у меня судьба, — добавил он.
— Неужели все так серьезно? — спросил Вамех.
— Говорят. Ты мне лучше скажи, кто стрелял в нас?
Вамех пожал плечами.
В палату вошла Алиса. Она напустилась на больных, которые сгрудились у койки Ясона и разинув рот с жадным интересом ловили каждое слово приятелей, разогнала их по местам, присела в изголовье Ясона, поправила одеяло и положила руку на его лоб.
— Ясон, у тебя температура, тебе вредно много разговаривать.
Вамех посмотрел на Алису и поднялся.
— Уходишь? — возбужденно спросил Ясон, и голос его прозвучал почти весело. — Алиса, попроси его остаться.
— Я никого не гоню, — обронила Алиса.
Но Вамех ушел. Смех разбирал его; он понял, что Ясон доволен его уходом. Странная мысль пришла в голову Вамеха. Он подумал, что после этого ночного ранения Алиса, чего доброго, откажет Джемалу и вернется к Ясону, потому что сочувствие, пробудившееся в сердце женщины, может обернуться возобновленной любовью. Вполне возможно, что, потеряв руку, Ясон будет вознагражден раскаяньем и возвращением Алисы. Видимо, и он бессознательно рассчитывает на это и потому держится так мужественно, не теряет присутствия духа. Поэтому ему и хотелось, чтобы Вамех ушел и оставил его наедине с Алисой. «Ясон пока не сознает, что такое потерять руку, и его радость, вызванная надеждой на возвращение Алисы, не омрачается ничем», — думал Вамех. Но так или иначе, Ясон показал себя молодцом, мужественно встретил испытание, и Вамех стал искренне уважать его.
Погруженный в размышления, Вамех проходил коридором, когда услышал за спиной знакомые шаги. Он медленно сошел по лестнице и, ступив на последнюю ступеньку, резко обернулся. На верхней площадке стояла Алиса и смотрела на него. Потом она спустилась и остановилась на ступеньке выше Вамеха. Она стояла, спрятав руки в карманы белого ладного халата, аромат ее духов особенно ощущался среди больничного запаха лекарств и медикаментов. Ее большие ласковые глаза вызывающе, но тепло смотрели на Вамеха.
— Все-то вы в истории попадаете, — с улыбкой произнесла она, — то стреляют в вас, то режут…
— Моя ли здесь вина? — улыбнулся и Вамех.
— А чья же?
— Почем я знаю. Неужели я такой человек, что меня непременно следует убить? — Он рассмеялся и взглянул в глаза девушки.
Алиса отвела взгляд, потому что, как ни старалась придать своему лицу строгое, серьезное и осуждающее выражение, не могла сдержать улыбки, странной улыбки, в которой не было ни обвинения, ни порицания, а только одобрение и поощрение. Вамех заметил это.
— Защити вас бог от смерти! — сказала Алиса.
— Мне и самому не хочется умирать.
— Но однажды, насколько мне помнится… — лукаво прищурилась Алиса.
— То время прошло.
— Однако в кого же все-таки стреляли, в тебя или в Ясона?
— Не знаю.
— Ясон не тот человек, чтобы кто-нибудь стал покушаться на его жизнь. Я уверена, что стреляли в тебя.
— Кому надо стрелять в меня? Я никому плохого не делал.
— Иногда вовсе не обязательно делать плохое, часто людей не выносят за их искренность и доброту. Но это к тебе не относится. — Алиса рассмеялась. — Это твоя собака чуть не загрызла Вахушти?
— Выходит, тот негодяй действительно был Вахушти?
— Выходит, так, — ответила Алиса.
— Поделом ему.
— Я все знаю, мне Ясон рассказал.
— Ясон?
— Да, ты же рассказывал ему, что произошло той ночью.
— Рассказал.
— А он рассказал мне. Я все знаю. Но ты все-таки не прав. Если так строго подходить к людям, то каждого второго придется затравить собаками. Вахушти — просвещенный и культурный человек, три языка знает, а ты…
— Сколько просвещенных были палачами и злодеями, — прервал ее Вамех, — некоторые по десятку языков знали, но это нисколько не оправдывает их.
— Разве плохо быть культурным?
— Хорошо, но не все культурные и образованные люди добры. Внешняя культура не имеет к добру никакого отношения.
— Не знаю, во всяком случае твой метод натравливания собак мне не нравится.
— А чем такой метод плох? — усмехнулся Вамех. — Увы, отныне он для меня заказан, бедной Муры больше нет.
— Что тут смешного? Тебе не жаль ее?
— Как не жаль? Но что изменится, если я буду хранить траурный вид? Замечательной собакой была Мура, и Ясон замечательный парень.
— Ясон ведь не собака, что ты сравниваешь его с Мурой? — Алиса притворилась рассерженной.
— Я не сравниваю. Ясон безо всяких сравнений отличный парень.
— Ты уверен в этом?
— Без недостатков никого нет. Споткнуться может каждый. Ясон — молодец.
Алиса улыбнулась, вытащила из кармана руку и взглянула на часы.
— Я побежала! — крикнула она, и ее каблуки быстро застучали по ступенькам.
Она действительно спешила, пора было делать Ясону перевязку, доктор Коция обещал в полдень еще раз осмотреть рану.
Все эти дни горожане беспокоились за Ясона. Лейла, Вахушти, заведующий клубом, местные артисты, театралы и еще много всякого народу перебывало в больнице, и каждый умолял доктора принять все меры, словно без просьб доктор Коция пустил бы лечение на самотек. Он не надеялся, что удастся сохранить руку Ясона, и поэтому считал, что раненого следует непременно отвезти в Тбилиси.
А в городе не утихали пересуды. Всех удивляло, что кто-то поднял руку на Ясона. Ясон был безобиднейшим человеком. Сколько времени живет он здесь, и никто от него громкого слова не услышал. Многие уверяли, что его ранили случайно — пуля предназначалась Вамеху. Но кто хотел убить Вамеха? Тут уже все терялись. Всех интересовали подробности, строились всевозможные противоречивые предположения, каждый считал, что его версия покушения наиболее верна. Некоторые подозревали, что Вамех беглый преступник, скрывающийся здесь от мести, и вот его, по-видимому, выследили, стреляли, но промахнулись и попали в Ясона. Если это так, будут стрелять еще. Но толком никто ничего не знал. Даже Дзуку терялся в догадках. «Кто мог стрелять?» — перебирал он в уме разных людей, но определенно никого не мог обвинить, а Вамех молчал, храня подозрения, и целыми днями, засунув руки в карманы, широким ленивым шагом мерял тихие уголки городка.
Он ждал чего-то, что неизбежно должно случиться.
14
Было за полночь, когда частый стук лошадиных копыт нарушил тишину полей. Огромная желтая луна лениво плыла над черным лесом, обходя макушки высоких деревьев. Затаившись в дуплах и норах, лесные твари ворочались и глухо вскрикивали во сне. Ночное безмолвие отнюдь не было безмолвным, дыхание огромной вселенной ощущалось в нем, и в этом дыхании улавливались звуки молчаливого и упорного столкновения разобщенных сил на грани тьмы и света. Рассеянные по полю отдельные деревца походили на разбойников, присевших на корточки и накрывшихся с головой бурками. Белесый туман выползал из лесу, стлался по низине, и земля представлялась взгляду странной и холодной, какой ее можно увидеть только во сне.
Стук лошадиных копыт вспугивал ночные тени. Бешено мчался конь по полю, и всаднику слышался свист рассекаемого воздуха. Проносились нахохлившиеся деревья, а впереди, как море, надвигалась освещенная луной низина, и наездник, крепко сидящий на неоседланном жеребце — одной рукой он вцепился в гриву, а другой размахивал прутом — всем существом отдался безудержному порыву, бесшабашной страсти бешеной скачки, которая приближала его, как он думал, к последней цели. Дорогу пересекла река, и сейчас галька дробилась под копытами умерившего бег коня. Вот конь встал. Слабый, приглушенный плеск воды наполнил безмолвие. Наездник, покачиваясь согласно с шагом коня, осторожно сводил его по спуску, глядя в темное пространство. Словно первобытным сном спала земля, не обремененная людьми.
Всадником был Вамех. Он окончательно потерял надежду, убедился, что не в силах повернуть колесо судьбы, не в состоянии управлять собственной жизнью. Все, что находится в рамках времени, имеет неизбежный конец, и именно поэтому неподвластно человеческой воле. Всесильны только время и вселенная; вопреки человеческому ощущению собственной независимости, безбрежная свобода немыслима для него, и природа каждую минуту может играть им по своей прихоти, перечеркивая все усилия его воли. Два выстрела разрушили обретенное недавно душевное равновесие Вамеха. Теперь он уже знал, кто стрелял в него, хотя не мог понять, зачем и для чего? Едва Вамех сумел начать новую жизнь, едва рассудок преодолел непримиримость к жизни и подавил в себе возмущение ею, тень смерти снова легла на его пути, непредвиденный случай снова замутил его. И вот сейчас Вамех сам, собственной волей следовал за тем, что вело его туда, куда ему не хотелось идти. Спящая земля пребывала в мире и молчании. На миг его поразил этот безбрежный покой, но плеск воды нарушил это очарование. Конь прошел по мелководью и поднялся на берег. Копыта заклацали по камням, потом мягкая и влажная земля приглушила поступь лошади. Конь фыркнул, вытянул шею, заржал, перебирая задними ногами, и вдруг замер, опустил голову к земле и принялся щипать траву. Вамех не знал, чей это конь. Выйдя из дому и направляясь к лесу, он случайно наткнулся на него, не раздумывая, вскочил на спину и поскакал. Только теперь, когда конь наклонился к траве, Вамех почувствовал в нем живое существо и потрепал по шее — холка была скользкой от пота. И Вамеху стало радостно, что он не один. Как славно было бы и дальше этой лунной ночью медленной рысцой пересекать поля, вдыхая настоянный на аромате растений воздух, чувствуя на себе изумленный взгляд всего живого, что притаилось в темноте, смотреть на усыпанное звездами небо и думать о любви и счастье. А к рассвету, когда небо начнет бледнеть, высокие звезды станут исчезать одна за другой, а лунное сиянье — таять и терять яркость, подъехать к дому, где тебя ждут, с любовью и радостью встретят, примут коня, проведут в комнату, дышащую теплом, усадят у раскрытого окна, за которым видны хвойный лес, зеленые склоны гор и красивые, нарядные дома, все сядут рядом, будут смеяться, расспрашивать о странствии, слушать твой рассказ, положив руку тебе на плечо, с любовью подтрунивать над тобой; а ты будешь сидеть у окна, довольный тем, что все осталось позади, и ты вернулся в этот дом. А за окном хвойный лес и зеленые склоны…
Мечта недолго согревала Вамеха. Ржанье коня, которое недавно мирным теплом отзывалось в душе Вамеха, снова напомнило ему о том, зачем он сел на коня этой лунной ночью и что привело его в эти широкие поля, на просторе которых он совершенно один. Вамех ударил пятками жеребца и, вцепившись в гриву, погнал его вперед. Снова ветер засвистел в ушах, пропали луна и покой, снова убегали назад нахохлившиеся деревья, смахивающие на разбойников, притулившихся на корточках, снова летела навстречу и стлалась под копыта обширная низина, и желание свершить задуманное снова подхватило его и понесло вперед за бесшумным полетом лунных теней. Долго скакал Вамех по полю, двужильный конь и наездник одинаково покрылись потом; затем они вылетели на проселочную дорогу, сжатую плетнями, собаки с лаем кинулись по пятам, потом и они отстали, поселок кончился, Вамех повернул коня к лесу и скоро очутился в чаще, в неожиданной и резкой темноте. Однако Вамех узнал эти места, пустил усталого коня шагом, направляя его к реке, и напряженно вслушивался, стараясь поймать далекий рокот воды. Ветви деревьев, задевая, царапали лицо. Валежник с треском переламывался под копытами. Стояла пронзительная тишина, и сколько ни вслушивался Вамех, он ничего не слышал, кроме нее. Он вытянул жеребца прутом по крупу, конь рванулся, испугался чего-то, шарахнулся в сторону, вскинулся на дыбы, сбросил Вамеха на землю, скакнул и пропал в зарослях.
Вамех сморщился от резкой боли в боку. Некоторое время он старался не шевелиться, потому что от движений дикая боль отдавалась в голову. Потом боль спала, он открыл глаза и увидел клочок неба между вершинами деревьев. Этот клочок был таким маленьким и таким далеким, что Вамеху почудилось, будто он лежит на дне глубокого колодца. Он попробовал было встать, но не мог пошевелиться, потом собрался с силами и поднялся на ноги. Бок отчаянно болел — падая, он ударился о пень, затянутый в колдобине грязью. Спотыкаясь, Вамех сделал несколько шагов — коня не было. Из чащи не доносилось ни звука. Длинные стебли ломоноса путались в ногах, и каждый шаг давался с трудом. Вамех знал, что где-то неподалеку проходит наезженная дорога, и пожалел, что, думая сократить расстояние, свернул с нее. Одежда порвалась. Он съехал еще в одну колдобину, чуть не упал, и всплеск воды вспугнул какую-то птицу. Послышалось хлопанье крыльев, качнулась ветка, и снова все стихло. Вамех прошел дальше. Не скоро увидел он далекий просвет между деревьями и услышал рокот реки. Приободрившись, поспешил выйти из лесу, оступился, упал в яму и расшиб грудь. Когда поднялся и вышел на опушку, то увидел, что это была именно та дорога, с которой он свернул за поселком. Радостно зашагал он по дороге, потому что знал, что она выведет его к цели. Но чем ближе становилась эта цель, тем большее волнение охватывало его. Он ни о чем не думал. Шум реки слышался совсем рядом, хотя ее и не было видно. Сердце часто стучало от волнения, а он шагал вперед, стараясь ни о чем больше не думать, так как знал, начни он размышлять о своем намерении, которое словно помрачение, гнало его вперед, он, чего доброго, повернет обратно. Тут он заметил сторожку, в которой ночевали приехавшие последним рейсом шоферы. Здесь заготовляли лес и машинами отвозили его в город. Многие шоферы, не желая терять времени, приезжали сюда затемно, ночевали в тесной сторожке, а чуть свет грузились и везли лес в город.
Перед сторожкой у горки скатанных бревен стоял грузовик. Вамех задержался перед ним, и сердце снова застучало от волнения. Он узнал машину и обрадовался, что не напрасно вытерпел столько мучений, пока добирался сюда.
Он подошел к сторожке и отворил дверь. Она заскрипела. В нос ударил кисловатый запах потных носков. Вамех осторожно переступил порог. На нарах кто-то спал, разбросав руки. В сторожке было темно, свет луны не проникал сюда. Вамех чиркнул спичкой, засветил стоящую на полке коптилку и узнал того, чье дыхание сразу услышал от двери.
На нарах у стены сладко спал Шамиль. В тусклом свете коптилки его лицо казалось бледным, спокойным и почти добрым. Волосы растрепались, чуть припухлые губы хранили тень улыбки, словно всегдашнее настроение оставило его, и он видел счастливый сон. Вамех вглядывался в спящего, не ощущая ни злобы, ни сострадания. Достал из кармана охотничий нож и, щелкнув, открыл его. Шамиль поежился во сне, должно быть, свет коптилки обеспокоил его, и повернулся на бок, лицом к стене. Вамех долго стоял и смотрел на спящего.
Почему он избрал именно Вамеха? Чем вызваны его ненависть, его вражда? Почему он покушался на его жизнь? Почему он хотел убить его именно тогда, когда Вамех никого больше не чуждался, хотел помочь всем, поддержать всех, облегчить тяжесть других? Вамех чувствовал, как он ненавидит ту бессмысленную ненависть, которую питал к нему Шамиль. После ночных выстрелов, одним из которых был ранен Ясон, Вамех заподозрил Шамиля, старался встретиться с ним наедине, но тот избегал Вамеха. Шамиль видел его кружащего по городку целыми днями, но уходил, отводя глаза. Почему он опускал глаза? Потому, что чувствовал за собой вину, или потому, что был невиновен? Кто же совершил это мерзкое преступление?
Всем было известно уже, что Ясону скорее всего отнимут руку. Завтра вечером Лейла и косоглазый Дзуку повезут Ясона в Тбилиси на операцию, и вполне возможно, что оттуда он вернется с одной рукой. Кто виноват перед Ясоном? Никто ничего не знал. Не знал и Вамех. Целый день простоял он на улице, куря папиросу за папиросой. Он старался представить, кто в городке мог бы решиться на такой шаг? Правда, люди поговаривали, что Шамиль в заключении убил человека, но Вамех не доверял этим рассказам. Он верил в добро, и поэтому отвергал даже мысль о причастности Шамиля к стрельбе. Но, если не Шамиль, кто же тогда? Кого винить? Единственным человеком в городе, ненавидящим Вамеха, был Шамиль… И вот вчерашним вечером Вамеха, словно ужасом, поразила уверенность, что на такое мог решиться только он. И Вамех, еще недавно вроде бы примирившийся с жизненной и людской несправедливостью, вышел из себя, — может быть, больше всего его разозлило свое чувство примирения — и помчался сюда, к этой лесной сторожке, он знал, здесь он найдет Шамиля. Вамех случайно услышал, что Шамиля послали вывозить лес, и, как только поверил, что именно Шамиль, и никто другой, подстерег его с Ясоном ночью, помчался сюда. Сейчас он стоял в темной сторожке над спящим врагом и сжимал в руке раскрытый нож.
Шамиль мирно спал. Легкий сквозняк колебал огонек коптилки, и на стенах сторожки трепетали тени, прозрачные, словно крылья бабочки. Вамех коленом ткнул Шамиля.
Шамиль тотчас проснулся и сел. Он сразу узнал Вамеха и так посмотрел на него, словно вовсе не спал, взгляд его был цепок и трезв, вероятно, жизнь приучила его ко всяким переделкам, и ничто не могло поразить его. Увидев в руках Вамеха нож, он стрельнул глазами по сторонам, ища, чем бы защититься, но не заметив ничего подходящего, откинулся к стене. Вамех швырнул нож в колченогий стол, стоящий в углу. Нож вонзился в доску, задрожал, и дребезжание металла нарушило тишину. Вамех поставил ногу на нары, оперся локтем о колено и заглянул Шамилю в глаза.
— Это ты стрелял в меня? — Его голос напоминал рычание зверя.
— Как стрелял? — не понял Шамиль.
Вамех зло усмехнулся:
— Из ружья. Не помнишь?
— Откуда я могу помнить то, чего не делал.
Шамиль хотел спрыгнуть с нар, но Вамех с такой силой ударил его по челюсти, что тот стукнулся головой о стенку и застыл.
— Хотел убить меня? — прошипел сквозь зубы Вамех.
— Ты что, чокнулся?
— Я тебе покажу чокнулся. — Поддавшись звериному инстинкту, Вамех размахнулся и ударил так, что Шамиль слетел с нар и растянулся на полу.
Вамех рванулся к столу, выдернул нож, но тут Шамиль вскочил и кинулся в дверь. Однако Вамех оказался проворней, подставил ногу, Шамиль по инерции вылетел за порог и растянулся на земле. Вамех выскочил за ним и словно наткнулся на открывшееся перед ним бесконечное пространство, ярость его, будто вырвавшись из прорана, выхлестнула наружу и развеялась в пространстве, подобно туману, низко стелющемуся сейчас над землей. Это ощущение было болезненным и горьким, как прощание. Луна зашла, и тьма сгустилась вокруг. Где-то рядом стрекотала цикада да слышалось, как река мерно катит в своем русле. Величественная земля лежала в ночи, и Вамеху показалось совсем нестрашным смешаться с ней прахом.
Он помог подняться Шамилю, протянул ему нож и спокойно сказал:
— На, ударь меня, если хочешь.
Шамиль вырвал нож, зашвырнул его подальше и ударил головой в лицо Вамеха.
Вамех упал, почувствовал, как от пинков Шамиля дергается его тело, хлынувшие слезы смешались с кровью, и он потерял сознание. Очнувшись, удивился, что стоит на ногах. Шамиль размахивал кулаками и кричал:
— Дерись, если ты мужчина, ударь меня!
— Что мне с тобой драться, блаженный…
Шамиль снова ударил его головой, и снова Вамех упал и потерял сознание. Все исчезло. Все успокоилось. Потом мрак постепенно рассеялся, и Вамех увидел небо. На краю его радостно и влажно мерцала утренняя звезда. Было холодно.
— Ты думаешь, я ранил Ясона? — донесся до Вамеха голос Шамиля, вернее, не голос, а какой-то хриплый клекот. — Ты думаешь, это я стрелял?
Вамех молча смотрел в небо. Он видел, как там, наверху, слабый предутренний свет теснит тени.
— Почему я блаженный? Я человек…
Радостно мерцала в вышине утренняя заря. Тоска сжала сердце Вамеха.
Шамиль обнял его, посадил и сам опустился на колени.
— Это не я стрелял! Ты веришь? Не я!
Вамех опустил голову и рукавом вытер лицо, Рукав перепачкался в крови.
— Это не я стрелял, — повторил Шамиль.
— Подними меня, — попросил Вамех.
Шамиль помог ему подняться и подставил плечо. Вамех обвел взглядом светлеющее пространство и глубоко вздохнул.
— Ты поверь, я не из тех, — безнадежным голосом умолял Шамиль. — Поверь мне!
Нервы, напряженные, как тетива, внезапно ослабли, Вамех почувствовал необычайное облегчение, хотя все тело ломило от усталости и побоев. Он понял, что этот растерянный умоляющий поверить ему человек в самом деле невиновен. Он обманулся. Нет, судьба не привела его к смерти, хотя, торопясь сюда, он думал, что идет навстречу гибели; однако, кто знает, может быть, он подсознательно питал надежду на благополучный исход, может быть, надеялся, что все выяснится, как это выяснилось сейчас, может быть, поэтому он рвался сюда с таким безудержным стремлением, что втайне надеялся на невиновность Шамиля?
Неожиданная радость переполнила его. Снова любимой сделалась жизнь, снова стал любимым человек. Сейчас ему казалось, что он завершил тот темный путь, который целую ночь вел его сюда. И вот отворилась дверь, и его ввели в теплую комнату, пододвинули к окну стул, посадили, положили руку на плечо, ободрили усталого, разогнали глупые мысли, которые всю ночь не давали ему покоя, коня отвели в конюшню, обтерли ему пот, задали овса, за окном разошелся утренний туман, показались хвойный лес и зеленые склоны, светлые ангелы выступили из тумана, встали кругом и начали славить жизнь. Эту песнь подхватил мир, и черные тени, словно призраки злого сна, рассеялись вместе с исчезающей тьмой. Гимн солнцу гремел над землей.
— Верю! — сказал Вамех и обнял Шамиля за шею.
15
На следующий день Лейла и Дзуку повезли Ясона в Тбилиси на операцию. Множество людей пришло провожать их. Они столпились под окном вагона и, подняв головы, переговаривались с Ясоном и Лейлой. Все старались ободрить Ясона. Дзуку маялся рядом с проводником у ступенек вагона.
Поезд тронулся. Долго все провожали глазами последний вагон. Потом провожающие распались на группы и медленно потянулись к выходу. Громко беседуя, прошли Вахушти, директор клуба и товарищи Ясона. Каждый из них, сославшись на неотложные дела, увильнул от поездки, когда настала необходимость кому-то сопровождать раненого. Только Лейла сразу согласилась, из всех друзей его она оказалась самой верной, остальные ограничились проводами. Однако, несмотря на мужественный и твердый характер Лейлы, ей одной не по силам было возить больного в большом городе. Но, когда Дзуку узнал обо всем, он решил помочь Ясону, выхлопотал отпуск и заявил, что берет на себя все дорожные расходы. Ясон и Дзуку никогда не были друзьями, и поэтому весь город восхищался поступком Дзуку. И вот вечером Лейла и Дзуку ввели Ясона в вагон, поезд тронулся, и долго маячил вдали красный огонек хвостового вагона.
Стоял теплый вечер. Густое солнце окрашивало в пурпур голубое пространство. Вамех стоял, прислонившись спиной к столбу, и смотрел на Алису. Он был небрит и бледен. Кровавые полосы и царапины выделялись на лице, глаза покраснели от бессонной ночи. Сложив на груди руки, стоял он, как всегда, чуть улыбаясь, и, несмотря на усталость, выглядел жизнерадостным.
Алиса не трогалась с места, пока не разошлись последние провожающие. Она стояла недалеко от Вамеха в распахнутом белом плаще, под которым виднелось алое вязаное платье. Губы ее были слегка подведены, а густые черные волосы уложены в красивую прическу. Когда перрон опустел, она медленно направилась к выходу, сердечно улыбнулась Вамеху и спросила:
— Что с твоим лицом?
— Ничего, упал с лошади.
— Идешь?
— Иду.
Они вместе вышли на привокзальную площадь, миновали длинные скамейки у края газона, на которых коротали время люди, ожидающие следующего поезда, и свернули в переулок, ведущий к главной улице. Была суббота, множество людей прогуливались на свежем воздухе. Громко переговаривались женщины, стоящие на балконах. Посреди мостовой несколько пьяных крикливо выясняли отношения. Где-то, видимо, в Доме культуры, гремела радиола, и звуки вальса доносились оттуда. Их перекрывал надоедливый, непрекращающийся сигнал машины. Все видели Вамеха и Алису, некоторые учтиво здоровались с ними, провожая долгими взглядами.
Они разговаривали о Ясоне, о том, что бедный парень может потерять руку. Оба жалели его и надеялись, что в Тбилиси ему помогут. Вамех восхищался выдержкой Ясона. Раньше, при первом знакомстве, у него сложилось неблагоприятное впечатление об этом человеке, но постепенно оно менялось, а после того выстрела Вамех иными глазами смотрел на него. Алиса жалела Ясона, и только. Гораздо больше ее поражала доброта и человечность Дзуку. Она и представить себе не могла, что у него такая щедрая душа. Она постоянно встречала его пьяным и была убеждена в его черствости и равнодушии ко всему. Как видно, нельзя выносить приговор человеку, не зная его хорошо.
— Но, — возразил Вамех, — иногда добро и великодушие проявляются не от щедрой души, а по иным соображениям. Человек понимает, что такой поступок одобрят все, вот и старается. Здесь что-то иное, только не добро. Но к Дзуку это не относится.
— Дзуку умница, — сказала Алиса, — но как все же в жизни темно и запутано.
Потом они заговорили о погоде.
— Временами, особенно осенью, когда тепло, мне бывает так грустно, — делилась Алиса, — не знаешь, куда деться от одиночества…
— Ты не должна чувствовать одиночества, тебя все любят.
— Все?
— Да, все, — сказал Вамех, — ты отличная девушка.
— Ты так говоришь, потому что ничего не знаешь обо мне. Знаешь, какая у меня была жизнь? — тоскливо проговорила Алиса.
— Ты замечательная, я люблю тебя.
Алиса порозовела от удовольствия и засмеялась.
— Ты всех любишь. Ты даже Мейру любишь, — заметила она.
— И Мейру люблю, он не покоряется несправедливости… Но, поверь, тебя я люблю больше. Я твой вечный должник.
— Не стоит об этом вспоминать… Не я, так другой пришел бы на помощь. Это мой долг.
— Тебя все любят, я в этом уверен.
— Счастье не в том, что тебя любят. Счастье, когда ты сам любишь.
— По-моему, для женщин — иначе. Но пусть так, ты же любишь Джемала?
— Да как сказать.
— А если не любишь, зачем же выходишь замуж? Я слышал, что весной у вас свадьба.
— Что сказать тебе, Вамех? Разве все складывается так, как хочется? Любовь не приходит такой, о какой мечтаешь.
Вамех не нашел, что сказать. Некоторое время они шли молча. Потом Алиса пожаловалась на монотонную и скучную жизнь в этом захолустье. Отец ее родился и вырос здесь. Сама же Алиса родилась на Северном Кавказе, где ее родители жили до войны. Мать Алисы была казачкой. До сих пор вспоминает Алиса необозримую степь, закатное небо, такое красное, что казалось, будто где-то на краю степи полыхает невиданный пожар. Черные силуэты ветряных мельниц вырисовывались на фоне неба. Растопырив руки, стояли они в безветрии. Как сегодня, видится ей то время… С детства она была очень привязана к отцу, часу не могла прожить без него. Потом началась война, и отец ушел на фронт. Год спустя кто-то привез известие, что его убили. Мать вышла замуж, привела в дом чужого мужчину, а вскоре, в неразберихе тех лет, они переселились на родину отца Алисы. Здесь их приняли приветливо. Алиса тяжело переносила гибель отца, с трудом привыкла к отчиму, Но война окончилась тогда и выяснилось, что известие о его гибели было ложным. В один прекрасный день он вернулся в свой родной город, что-то подсказывало ему, что там он найдет свою семью, от которой всю войну не имел никаких вестей. Он не ошибся, нашел их здесь, только его жена была уже женой другого. Алиса плакала, не отходила от отца, не спала ночами, ей хотелось, чтобы родители жили вместе. Многого не понимала она… Отец Алисы, обманувшийся в своих ожиданиях, вскоре уехал на север, где стояла его часть. Некоторое время он переписывался с Алисой, а потом, как видно, охладев ко всему, перестал писать, и с тех пор она ничего не слыхала о нем. Ох, как плохо было девочке, ведь она верила, что отец жив! В чем была ее вина, если мать не смогла сохранить верность? Чем провинилась Алиса? Не она ли оказалась обездоленной больше всех? Мать прекрасно устроила свою жизнь, и отцу, видно, не приходилось жаловаться, раз он забыл о дочери. Алиса разочаровалась в родителях, потеряла доверие к людям, замкнулась в себе. Вскоре мать с отчимом переселились в соседний город, а она, окончив школу, осталась здесь и начала работать. Так и жила одна, без родственников, без близких, свыклась с одиночеством.
Вамех молча слушал ее. Они давно свернули с главной улицы и приближались к непривычно пустому и молчаливому базару. У ларька расположились несколько мужчин — пили вино. Среди них был знакомый Вамеху дородный парикмахер. Он окликнул Вамеха, приглашая присоединиться к ним, следом за парикмахером обернулись другие и стали уговаривать Вамеха выпить с ними. Вамех и Алиса подошли к ларьку. Одноногий мужчина, тот самый, что был свидетелем ранения Вамеха, проворно наполнил граненый стакан и преподнес Вамеху. Продавец быстро раскупорил еще две бутылки вина и поставил на прилавок рядом с бумагой, на которой были разложены куски хлеба, сыр, зелень и соленья.
— Не обессудьте за бедное угощение, — извинился одноногий, протягивая Алисе стакан, — не обессудьте, с доброй душой и любовью…
— Спасибо, я не пью, — улыбнулась Алиса.
— Шоколадку уважаемой Алисе, — крикнул одноногий продавцу.
— Ваше здоровье, всего вам доброго, — поднял стакан Вамех.
— Будь здоров, Вамех, будь здоров, — наперебой закричали все, даже продавец налил себе стакан. Чокнулись.
— Будь здоров, Вамех, хороший ты человек. Желаем всегда быть таким. Ваше здоровье, уважаемая Алиса.
Алису смешило, что все называют ее уважаемой и обращаются к ней с подчеркнутым вниманием. Она понимала, они старались угодить Вамеху.
Потом они шли вдоль кирпичной стены гаража. Ветер шевелил рваные афиши, сплошь залепившие ее. Кругом было пусто. Из гаража доносился гул поставленных на ремонт моторов. От двух стаканов вина глаза Вамеха покраснели еще больше. Немного захмелевший, он с любовью и тоской воспринимал все вокруг. Молча шагал он рядом с девушкой. Когда хмель немного выветрился, он заметил красное здание, башней возвышающееся среди других домов. В этом доме и жила Алиса. Вамех тотчас же узнал окна ее комнаты и балкон. Прямая асфальтированная дорога пролегла через желтые поля, блестевшие под последними лучами солнца, словно распущенные женские волосы. Раньше в хорошую погоду Вамех, сопровождаемый Мурой, любил гулять здесь. Он скучал по тем осенним дням, которые уже сгинули, пропали, которых больше нет. С любовью вспоминал он тот отрезок жизни, который провел в этих полях, вместе с колхозниками собирая урожай. Вамех уже собирался рассказать Алисе, как он жил в деревне, в домике Дзуку, как наслаждался жизнью и трудом, но оказалось, что Алиса прекрасно осведомлена, где он пропадал в октябре. Она даже знала, сколько кукурузы продал он на поселковом базаре, и добавила, что прекрасно понимает Вамеха, что нет ничего лучше, чем жить в деревне. Хорошо было бы, если бы исчезли города и все переселились в леса и рощи, к рекам и водоемам, собственным трудом добывая хлеб насущный и деля кров с любимым.
— Хорошо бы, — улыбнулся Вамех.
— Ты собираешься остаться у нас или вернешься туда, откуда приехал? — спросила Алиса.
— Пока еще не решил.
— Я никак не пойму тебя. В нашем городке тебя все знают, все любят и уважают… Но ты очень странный. Никто не знает, кто ты, откуда, что за человек.
— Я — грешник, потому и не знают, — спокойно ответил Вамех.
— Как это — грешник?
Вамех не ответил.
Они не заметили, как остался позади город. Они шли по пустынной асфальтированной дороге, пролегшей среди полей, с одного края которых стоял стеной лес, а с другого — открывалась вырубка и бесконечные, желтые дали за ней, пересеченные далекой вереницей столбов вдоль железной дороги. Отсюда ясно виднелась белая, заброшенная церковь.
— Вамех, хочешь я угадаю, когда ты впервые увидел меня?
— Когда?
— В тот вечер, когда после драки с Шамилем ты стоял перед церковью и разговаривал с Антоном.
— Правильно.
— Я еще раньше заметила тебя, в городе…
— А я, когда ты с Ясоном ехала на велосипеде.
— Вамех, кто был Антон?
— Антон был оторванный от жизни человек. Он больше жил отвлеченными идеями, чем действительностью, и ни во что не ставил жизнь…
— Я терпеть не могу людей, которые ставят отвлеченные идеи выше жизни, мучений и боли. Тех, кто считает, что для достижения цели все жертвы оправданы.
— Дороже жизни ничего нет. Никто не имеет права ставить что-то выше нее.
Они стояли у тропинки, поднимавшейся по склону к лесу. Потом медленно пошли по ней. Птицы улетели в теплые края, и лес казался немым и невеселым. Земля была устлана ворсистым ярко-зеленым мхом. Вамеху нравилось лесное безмолвие. После бессонной ночи он ощущал в усталом и избитом теле непонятную легкость и радовался, что Алиса рядом с ним. Вамех чувствовал, как пробуждается в нем мужское желание, которое он так долго подавлял. Алиса была источником тепла, и к нему его тянуло. Она казалась ему далекой, переливающейся огнями гаванью, которую видит с палубы моряк, перенесший свирепый шторм, рвется к ней и не знает, достигнет ли ее, потому что, привыкший к превратностям судьбы, не в силах поверить в возможное спасение. Вамеха радовала близость Алисы, и он ни о чем не думал. Молча поднимались они по склону.
— А почему ты грешник? — спросила Алиса.
— Я убил брата! — не задумываясь, ответил Вамех, и лесное безмолвие обрушилось на них.
Не доносилось ни звука, не было слышно ни шелеста ветвей, ни далекого гомона долины, ни дыхания двух людей, стоящих вплотную друг к другу. Растерянная, пораженная Алиса своими большими глазами уставилась на Вамеха. Боль, отчаянье, страх и надежда читались в ее взгляде.
— Как убил? — сдавленным шепотом спросила она и проглотила слюну.
— Какое это имеет значение? — сухо ответил Вамех.
— Что ты говоришь?! Как не имеет?! — возразила Алиса, словно утопающий, который хватается за соломинку.
— Ты боишься меня? — устало усмехнулся Вамех.
— Нет, — растерянно произнесла Алиса, — почему я должна тебя бояться?
— Я же убийца, родного брата убил.
— Не верю! — крикнула Алиса. — Не верю!
Но она поверила. Ей показалось, что лес окутался непроглядной темнотой и она ослепла. Когда темнота рассеялась, она увидела — Вамех ушел вперед.
Он уходил, не оглядываясь. Чем дальше он углублялся в лес, тем сумрачней становилось вокруг. Опавшие листья шуршали под ногами. Потом начался ельник, и стало еще сумрачнее. Показалось лесное озеро, такое прозрачное и чистое, что Вамех, не задумываясь, утонул бы в нем. Утонуть бы и лежать на дне, не зная, что над тобой колышутся волны, вид которых доставлял тебе отраду, пока ты был жив. Вамех увидел на берегу стог сена, скошенного с небольшого лужка, подошел, опустился около него, завел руки за голову и откинулся спиной на пахнущий сеном стог.
Долго сидел он. Потом на тропинке, которая привела его сюда, показалась Алиса. Эта девушка в алом платье, с черными волосами, ступившая на лужок, освещенная заходящим солнцем, напоминала распустившийся по весне мак. От неясного смутного желания сердце Вамеха застучало, и тут же освободившаяся и вылившаяся в страсть и боль энергия вдруг схлынула куда-то, и им овладело холодное безразличие. Алиса, заметив его, быстро пересекла лужок, улыбаясь, опустилась рядом с ним на траву, прикрыла колени свернутым плащом и тоже откинулась на сено.
— Что ты за чудище, Вамех, я чуть было не поверила тебе, — сказала она.
С лукавой улыбкой она взглянула на Вамеха. Он молчал.
— Вамех, ты случайно не знаешь Миха Гурамишвили?
— А ты его откуда знаешь? — удивился Вамех.
Алиса прищурилась, звонко расхохоталась.
— Кем тебе доводится Миха?
— Миха — мой брат.
— Ты же говорил, что убил его.
— Миха — мой младший брат, у меня был и старший.
Улыбка Алисы сразу пропала. Послышался комариный писк. Сухая ветка треснула в лесу. Они сидели рядом, откинувшись на сено, и не отрывали глаз от блестящей поверхности озера.
— Это правда? — спросила Алиса.
— Да.
Вода всплеснула в озере, разбежались и исчезли круги. Снова донесся комариный писк. Солнце скрылось. Повеяло влажной свежестью. Не шевелясь, сидели они, словно онемевшие и зачарованные силой страшной правды. Затем Вамех начал рассказывать. Среди лесного безмолвия голос его звучал глухо, и вначале Алиса не могла разобрать слов, не могла уследить за рассказом, но потом она проникла в монотонное течение речи Вамеха и перед ней предстала далекая и незнакомая местность, где нынешней весной Вамех и его старший брат Гурам, после нескольких дней утомительного подъема по каньону наконец-таки выбрались на зеленое плоскогорье, набрели на заброшенную овчарню и остановились здесь на отдых. Они побросали в угол тяжелые рюкзаки, повесили ружья на гвоздь и завалились спать. На следующий день они намеревались продолжить путь к деревне духоборов. В той маленькой деревеньке — в ней было с десяток одинаковых домиков из белого известняка, с двухскатными кровлями, с голубыми ставнями и балконами, стояла археологическая экспедиция, которой руководил брат Вамеха. Неделю назад они вдвоем отправились на поиски древнего городища, затерянного в здешних горах. Однако наутро погода испортилась, хлынул обложной дождь, бурлящие потоки переполнили сухие русла, тропинки развезло. Воздух пропитался сыростью, и все вокруг скрылось в тумане. С трудом пробирались они по грязи. Вамех поскользнулся, скатился в расщелину и вывихнул ногу. Ни души не было вокруг. Лишь голое пустынное плоскогорье. Пришлось возвращаться. Провиант кончился, карту они потеряли, пошли наугад и все-таки добрались до вчерашней ночевки. Вечером, сидя рядом в сырой овчарне, по которой гуляли сквозняки, они развлекали себя песнями. Эта ранняя весна словно ополчилась против них, лило, как во время потопа. Нога Вамеха распухла, но ни на минуту не закрадывались в его сердце страх и сомнение, потому что рядом находился Гурам, который с детства был для Вамеха образцом мужества и смелости, правдивости и доброты, веселости и оптимизма. Не ведая страха, отчаянья или унынья, он всегда был тверд, уравновешен, силен и терпелив. Своим спокойствием Гурам заражал всех, а тем более младшего брата. Гурам был убежден в могуществе человека и с улыбкой встречал любую неожиданность, которую обычно называют ударом судьбы. Он вообще не верил ни в судьбу, ни в сверхъестественные явления — все ему представлялось ясным, подчиняющимся одному закону: воле и способностям человека. Судьбу он считал выдумкой слабых, попыткой оправдаться в своей слабости и недостатком целеустремленности. Случай, даже самый невероятный, был для него лишь случаем, и ничем больше. Вамех тогда разделял его точку зрения, не верил в судьбу. И в душе его царила полная гармония человеческой воли и вселенной. Все рухнуло мгновенно, на другой день после того, как Гурам, взвалив на спину Вамеха, по колено в грязи дотащил его до старой овчарни. Он уложил его на ворох случайно найденного сена, тут же вернулся за брошенной поклажей и принес ее. Всю ночь они тряслись от холода, но тем не менее потешались над своей неудачей, ни капли не веря в серьезность положения. Наутро немного прояснилось, дождь прекратился. Гурам решил подняться на гору, возвышающуюся над плоскогорьем, чтобы разведать местность и установить, где они находятся. Вершина горы отчетливо проступала сквозь слабый туман, и Гурам был убежден, что не собьется с дороги. К тому же он надеялся встретить пастухов или табунщиков. К полудню в разрывы туч выглянуло солнце, безмолвным водопадом хлынули его лучи на ярко-зеленую траву. Далеко-далеко, черной точкой, упрямо ползущей в гору, видел Вамех брата. Потом снова надвинулись тучи, и густой туман поднялся над землей. К ночи заморосило. Вытянув распухшую ногу, сидел Вамех у порога, прислушиваясь к безмолвию, и слышал только, как дождь долбил по крыше овчарни. Опустилась ночь. Гурам не возвращался. Вамех ждал брата. Медленно тянулось время. Тишина не нарушалась ни одним посторонним звуком. Внезапно Вамеху показалось, что кто-то зовет его. Несколько раз повторился зов, все ближе и отчетливей с каждым разом. Вамех крикнул в ответ, но никто не отозвался. Безмолвие трупом лежало на плоскогорье. «Не почудилось ли?» — подумал Вамех. На всякий случай он взял ружье и выстрелил в темноту. Эхо прокатилось по горам, и снова воцарилась тишина. Ничто не нарушало ее до рассвета. До рассвета не смыкал глаз и Вамех. Он наблюдал, как плывут по небу тучи, иногда в прогалинах появлялись звезды. Его трясло от холода, но к утру сон одолел его и он уснул, сидя у порога. Проснулся он от яркого солнца. Туман разошелся. Вамех поднялся, и перед ним открылось посветлевшее плоскогорье, изрезанное ущельями. В двухстах шагах от овчарни навзничь лежал кто-то. Вамех, опираясь на ружье, захромал туда. Постепенно прибавлял он шагу, все лихорадочнее колотилось сердце, он подскочил поближе и узнал брата. Неподвижный, бездыханный лежал тот, уткнувшись простреленным лбом в только что распустившиеся фиалки…
— Он был убит тем единственным выстрелом? — срывающимся голосом спросила Алиса.
— Да, — ответил Вамех.
Взошла луна, и ее отражение засияло в озере. Вамех запрокинул голову, слезы текли по его лицу, и оно блеснуло в лунном свете как маска. Алиса провела ладонью по щеке Вамеха и прошептала:
— Ты не виноват.
Вамех молчал.
— Это не ты, это судьба.
— Я грешник, — шепотом возразил Вамех.
Алиса обхватила его за шею, прижалась лицом к его лицу.
— Ты мученик, — шептала она, целуя в глаза Вамеха, который, словно ребенок, покорно подчинялся ей. — Всякое может случиться… Ты не виноват, ты должен жить, должен любить жизнь…
Она все крепче и крепче обнимала его, прижимая к груди его мокрое от холодного пота лицо.
Что-то давно изгнанное и забытое пробудилось в Вамехе, и все исчезло, кроме этого единственного, всеобъемлющего чувства. Какая-то горячая волна, поднявшаяся из глубины существа, смыла с души горечь и муку. Она подхватила Вамеха, и его, доверившегося ей, прибило к обетованной земле, к долгожданной и светлой гавани. Вамех не помнил, кто он, где он, горячая волна несла и несла его, и вдруг отхлынула, опустошив тело и душу, и счастливая пустота задрожала в них. Вамех ощутил, что лицо его прижато к груди Алисы, что женщина обвивает руками его шею. Вамех глубоко вдохнул аромат сена и волглую прохладу недалекого озера. Потом безмолвное течение времени, как зов, снова прозвучало в ушах, и он услышал из тьмы далекий крик сарыча.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Горный хребет дремлет на краю долины. Верблюжьим горбом выгнута спина его. Вдоль подножья, между лесистых массивов, выползая из ущелья, струится с тихим плеском река, настолько прозрачная, что не разобрать, какого цвета вода в ней, голубая или зеленая? Можно подойти к берегу и часами смотреть на воду, не отрывая глаз от пенных перекатов, можно часами внимать плеску волн, разглядывая светящиеся сквозь толщу воды пестрые голыши, можно проследить взглядом рывки форелей, всегда стремящихся к верховью, к холодным и далеким вершинам, которыми рождена живительная влага горных ключей.
Как прекрасен теплый, солнечный зимний день!
Ты стоишь у реки и наслаждаешься ее сказочным шепотом, словно пением соловья. Ты стоишь у реки, и прохлада текущей с гор воды возбуждает энергию, ослабевшую за зиму, и наполняет тебя чувством приволья и привязанности ко всему земному. Ты стоишь у реки, и отрадны твоему глазу эти деревни — с домами, крытыми дранкой и осокой, с амбарами для кукурузы, приподнятыми над землей на столбиках, — которые разбросаны внизу, вдоль ущелья и по лесистым склонам хребта. Как ты любишь лес! Далеко между стволами обнаженных деревьев твой внимательный взгляд видит зайцев, маленьких, безобидных зверьков, навостривших уши, не вредящих никому на свете, а ведь весь мир — враг им. Из оголенной рощи доносится пересвист дроздов, и яркое солнце заставляет тебя забыть, что сейчас зима. Но ты любишь и снег, и его искрящиеся покровы, потому что в свое время и на своем месте — все прекрасно. Прекрасно все, что ты любишь, и ты любуешься ледовыми вершинами гор, горящими под солнечными лучами.
Ты постигаешь мудрость природы, и поэтому любишь ее! Удивительно мудро созданы каждый камень, каждая песчинка. Мудрость — начало любви. А всеобъемлющая любовь — полная гармония души и окружающего ее мира и есть конечная цель существования и развития человека.
Ты любишь саму любовь, и тебе хочется, чтобы добро и любовь торжествовали на свете. Внезапно ты забываешь о людской вражде, о зависти. Как, почему возникают они? Тебе хочется, чтобы все вокруг было прекрасным и возвышенным, чтобы все было любимо. Но ты сознаешь, что пока еще это невозможно. Мир устроен не так, как тебе хочется, и невольная грусть охватывает тебя, пока ты застыл у реки и глядишь на мир. Ты видишь: природа щедро одарила человека, ничего не пожалела она для его счастья, но какая-то неведомая сила нарушает возможную гармонию. Сколько на земле угнетенных, сирых, страждущих…
Долго стоял над рекой, ушедший в раздумья Вамех, долго глядел на прекрасный мир, расстилающийся внизу.
День угасал, и теплый, синий вечер незаметно подбирался к ущелью. Вамех стоял на каменистом берегу, гордый и свободный. Он видел голубую, неприступную со всех боков гору, поднимающуюся к небу в конце ущелья, и его радовало, что она существует.
Некогда народ верил, что на вершине ее обитают владыка полей и его прекрасная дочь. Богами красоты были они — так гласила древняя легенда. Прекрасна была царевна — дочь владыки полей, столь прекрасна, что высшего совершенства не мог представить ни один из смертных. Сказочным лебедем плыла она над цветами, и белое, прозрачное покрывало трепетало за плечами ее. Она садилась на чашечку цветка и пела. Цветочной пыльцой утоляла она голод, цветочной росой — жажду. Она резвилась среди сверкающего разноцветья, заполнившего просторное поле на вершине горы, радуясь солнцу или лунному свету. Прекрасной голубкой порхала она с цветка на цветок, играла и пела, переполненная счастьем собственного совершенства. Ничто не нарушало ее покоя, потому что, — так утверждала легенда, — всякого смертного, осмелившегося настичь ее и коснуться, тут же ожидала гибель.
Но разве можно назвать человеком того, кто не рвется к непостижимому, кого не одолевает страсть постичь это непостижимое? И вот в далекие времена, — никто не помнит, когда это случилось, — один юноша поднялся на гору, вступил в царство цветов, увидел прекрасную дочь владыки полей и погнался за ней. Он почти настиг ее, но увернулась царевна, скрылась в отцовском дворце, и только прозрачное ее покрывало осталось в руках юноши. С тех пор никто не видел его, не знал, что случилось с ним, какая участь постигла его, погиб он или остался с владыкой полей, как равный среди равных? Может быть, неистовое стремление к непостижимому, убежденность, что ему откроется нечто, скрытое ото всех, бесконечная вера и вправду превратили его в небожителя, обессмертив душу? А может быть, земля не отпустила своего сына и приняла прах его в свое лоно? Никто не знал, что произошло с ним, и легенда умалчивала о дальнейшей судьбе его.
Но Вамеху, стоящему сейчас на берегу реки, отягощенному собственной плотью и притяжением земли, безгранично привлекательным казался тот юноша, тот смельчак, которого, может быть, вообще не рожала земля, и чей подвиг был только символом безудержного стремления к непостижимому. Вамеху был близок тот юноша, и это возвышало Вамеха, и ему самому хотелось взойти на ту голубую вершину, на которую еще не ступала нога человека, подняться на нее и своими глазами увидеть дочь владыки полей и прекрасный мир цветов, в котором живет она.
«Весной обязательно поднимусь туда», — твердо решил он, и жизнь предстала перед ним во всей своей красе, потому что он верил. — жизнь есть то, что происходит в нашей душе, а не где-то вне нас. Это решение наполнило его гордостью, он расправил плечи и, уверенный в успехе, как будущего соперника, смерил взглядом неприступную со всех сторон скалистую гору, возвышающуюся в верховьях ущелья.
Затем Вамех сошел на тропинку и начал спускаться к селу. Синий теплый вечер, оцепенение долин, сельская тишина — все было прекрасно. Тропинка сбегала по склону, издали доносилось позвякивание колокольчиков возвращающегося с пастбищ стада и требовательное мычание отставших телят. На проселочной дороге лаяли собаки, а над домами поднимался из труб ровный, белый дым.
У околицы Вамех заметил женщину, стоящую на шатком мостике через овражек, и узнал в ней Алису. Он обрадовался, вприпрыжку сбежал с тропинки и обнял ее.
— Где ты пропадал? Целый час дожидалась тебя, — ласково попеняла Алиса.
Вамех не ответил, только сильнее прижал ее к себе. Недавнее настроение еще не покинуло его, и ему стало жалко Алису, жалко того тепла, которым она так щедро делилась с ним.
— Пойдем, там Шамиль ждет тебя, — улыбаясь, сказала Алиса и сама обняла его.
— Что ему надо?
— Не знаю, дело какое-то…
2
Шамиль вовсе не был таким отпетым негодяем, каким считался в городке. Все, кто знал его ребенком, еще помнили рослого не по годам мальчика в коротких штанишках, который, бывало, по дороге в школу или из школы вежливо здоровался со старшими, приветливо всем улыбаясь и блестя живыми, смышлеными глазенками, а зимой еще и снимал при этом шапку. Признанный главарь и заводила среди своих сверстников, он никого не обижал несправедливо, хотя иногда в разгар игры мог хлопнуть провинившегося товарища. Да кто в детстве не бывал скор на расправу? Трудно увидеть в этом что-то из ряда вон выходящее, хотя малыши прекрасно могли бы обходиться без потасовок. Так или иначе, но безусловно сразу бросалось в глаза, что Шамиль воспитывался в достойной семье. Его мать до самого ухода на пенсию преподавала грузинский язык и литературу в той самой школе, где сейчас директорствовал Вахушти. До него этот пост занимала мать Шамиля, но потом ее сместили, вручив бразды правления школой Вахушти, как более молодому, перспективному и во всех отношениях более подготовленному педагогу. В свое время мать Шамиля обвиняла Вахушти в коварных интригах, но прошли годы, обида ее забылась сама собой, да к тому же для подобных обвинений не было явных доказательств.
Отец Шамиля жил отдельно. Горожане поговаривали, что в этом виновата жена, которая кичилась своей образованностью и интеллигентностью, совершенно не заботилась о супруге, пренебрегала домашними делами, и систематическое недовольство мужа, вполне, впрочем, справедливое, привело к распаду семьи. Отец Шамиля переехал в Кутаиси, где его поставили во главе какой-то артели, за короткое время обзавелся новой семьей и, как передавали, зажил припеваючи, зарабатывая большие деньги. Подтверждением тому служила материальная помощь, которую он ежемесячно оказывал первой жене и сыну, она была столь значительна, что в детстве, да и позднее Шамиль ни в чем не знал отказа.
Шамиль отлично закончил семилетку и поступил в сельскохозяйственный техникум. Он давно мечтал стать агрономом, хотя мать лелеяла мечту увидеть сына врачом. Это может показаться забавным, но профессия врача считалась в городке самой почетной. Доктор Коция, этот, безусловно, добрый, но довольно взбалмошный и упрямый человек, в то время имел репутацию наиболее уважаемого и достойного представителя человеческого рода, бо́льшим авторитетом пользовались всего двое — секретарь райкома и председатель райисполкома. Как известно, Коция работал главным врачом в местной больнице, и все уважали его, отдавая должное его заслугам, ни у кого не закрадывалось сомнений в достоинствах доктора Коции до той поры, пока молодежь (особенно после ухода Левана из дому) не начала остро подшучивать над странноватым характером доктора. Поэтому, быть может, доктор Коция не терпел молодежи. Он забывал, что все происходящее сегодня вытекает из случившегося в прошлом, и если молодежь не оправдывает его надежд, то в этом есть и вина предшествующего поколения, в том числе и самого доктора Коции. Но он не принимал во внимание этих обстоятельств, когда начинал ругать повадки молодых людей. Он не доверял им, не хотел замечать тех благородных порывов, той новизны и того духа современности, которые вносит в жизнь каждое новое поколение. Доктор был упрямым, консервативным человеком, и, когда разговор касался молодежи, он не находил для них иного словечка, кроме как «желторотые». Да, каждый молодой человек, не достигший устойчивого положения, казался ему «желторотым». Доктор свысока относился к любому, кто годился ему в сыновья, потому что считал высокомерие естественным утверждением собственного достоинства, совершенно не желая думать о том, что высокомерие так же, как и зависть, есть проявление слабости человека, пытающегося скрыть свою слабость. А может быть, его самомнение объяснялось всеобщим поклонением? Кто знает? Однако сам доктор считал, что он на голову выше всех жителей городка. Часто случается так, что неведомая сила выносит человека на поверхность жизни, и такие люди, как воздушные шары, видны отовсюду, они непременные участники всего происходящего, наиболее известны и почитаемы, в то время как истинно достойные люди пребывают в тени.
Следует оговориться, что многие странности доктора Коции были проявлением его непостоянного характера. Иногда он по совершенно непонятным причинам брался опекать кого-нибудь из молодежи. Джемал, например, сразу пришелся ему по душе, и доктор обещал практиканту всяческую помощь и протекцию, если тот после завершения учебы надумает осесть в городке. Возможно, его доброта объяснялась и тем, что он не видел в Джемале конкурента. Этот молодой человек считал себя должником доктора, и, вероятно, подобная признательность и навела Коцию на мысль облагодетельствовать Джемала. Может быть, и его внимание к Алисе вытекало из той безграничной веры и уважения, которые девушка испытывала к нему. А доктору Коции льстила народная любовь. Вполне возможно, что он не пропускал ни одного дня рождения Алисы только для того, чтобы лишний раз упиться атмосферой почтительности и благоговения. Некоторым казалось, что Коция отечески любит и жалеет девушку. Будь это правдой, разве он уволил бы Алису, когда узнал, что она порвала с Джемалом? Почему он вышел из себя, почему взъелся на нее, когда произошло то, чего он не одобрял? Какая уж тут отеческая любовь! Хотя, справедливости ради, следует заметить, что поступок Алисы, помимо доктора, порицало множество людей, даже те, кто искренне любил ее и желал ей добра. Вполне возможно, что и Коция искренне любил ее, но разочаровался, и это толкнуло его на такое безжалостное решение. Ведь и с сыном он обошелся не мягче, хотя кто рискнет заявить, будто он не любил сына? Теперь-то доктор всеми путями старался помириться с Леваном и вернуть его домой. Может быть, виноват был не столько сам Коция, сколько та традиция, которая требует от младшего безоговорочного подчинения и ни во что не ставит его самостоятельность? Но, как бы ни было, профессия врача издавна считалась в городе самой почетной.
Мать Шамиля мечтала увидеть сына в белом халате, но он предпочел стать агрономом, поступил в сельскохозяйственный техникум, намереваясь после окончания продолжать учебу. Сначала он учился прилежно, увлекся спортом и вскоре стал капитаном футбольной команды техникума, довольно сильной в районном масштабе. И здесь Шамиль отличился — его зачислили в сборную города. Потом он со всей страстью отдался борьбе, и в короткий срок этот восемнадцатилетний парень стал знаменитым борцом. Одно за другим завоевал он звания чемпиона города, района, а затем республиканского спортивного общества. Во всей Западной Грузии не было в то время более популярного борца, чем Шамиль. Он рано возмужал и окреп. Теперь его знали не только в родном городе, но и во всех соседних, в этом краю издавна почитали борьбу. Его уважали, как выдающегося борца, но это уважение проявлялось лишь в угощениях. Начались бесконечные пирушки, ужины, банкеты. Понемногу Шамиль забросил учебу, он достиг такой славы, что стоило ему появиться на улице, как все от мала до велика пялили на него глаза. Вино способствовало выявлению дурных наклонностей. Пару раз Шамиль устраивал такие дебоши, что они насилу сошли ему с рук, зато он приобрел репутацию непобедимого драчуна. Число избитых росло, и настал день, когда Шамиля признали первым ухарем в городе. Кто мог сравниться с этим красавцем и богатырем? Уверовав в собственную исключительность, он забыл почти все впитанное с молоком матери, начал преследовать красивых девушек, не давая проходу ни одной, кто бы ни была она — соседка или незнакомая, сестра или невеста приятеля. От былой воспитанности не осталось и следа, и он скатился в пропасть, которая, однако, ему самому представлялась вершиной. Все только руками разводили, не в силах постичь подобную перемену. Что произошло с милым, добрым и отзывчивым Шамилем? Что переродило его? Сложен человек. Многие противоречивые обстоятельства формируют личность, но, каковы бы ни были противоречия, все они объединяются в одном стремлении. Именно это стремление, вбирающее в себя множество противоречий, определяет сущность человека, и поэтому оно должно направляться на правильный путь. Добро, зло, инстинкт, интеллект, страсти, множество сознательных и бессознательных порывов борются в человеке, и все они нуждаются в узде, которая не дает человеку распуститься. Есть тысячи способов, но если скептицизм взял верх, любые ограничения теряют смысл, скептицизм же порождает непрочность убеждений. Человек должен во что-то верить, а Шамиль отмахнулся от всего, кроме собственных желаний, и поступал так, как хотелось ему, ни на кого не обращая внимания. В деньгах он не нуждался. Отец и мать, вероятно, для того, чтобы завоевать его любовь, ни в чем не отказывали ему. Второй его страстью стала игра в кости. Выигрыши сменялись опустошительными проигрышами, и однажды, когда обчистили духан в поселке, в народе распространился слух, что это дело рук Шамиля и его дружков. Однако Абрашка — в те годы он заведовал духаном — занял странную позицию, не назвал грабителей, хотя говорили, что он знал их, и дело прикрыли. Через неделю в полночь ограбили возвращающегося с работы буфетчика вокзального ресторана, человека, как поговаривали, денежного. Буфетчик указал на Шамиля, и на этот раз тому не удалось отвертеться от тюрьмы. Шесть лет протрубил Шамиль где-то в Сибири. Каких только собак не вешали на него. В городке, например, откуда-то узнали, будто бы он в драке зарезал заключенного, но всю вину, якобы, взял на себя какой-то приговоренный к расстрелу бандит, и Шамиль остался чистеньким. Но насколько достоверны были слухи, никто не знал, сам же Шамиль никогда не распространялся о своем прошлом. Шесть лет спустя, когда он вернулся, тело его украшали два глубоких шрама, но как он получил их, можно было только гадать. Он потерял зубы и вставил себе стальные. Ничего не осталось от бывшего спортсмена: мешковатый, с ленивой походкой, он производил впечатление настоящего головореза, желчного и злобного. Одно время Шамиль бил баклуши, и пополз слушок, что он снова пристрастился к костям и картам. Люди со страхом сторонились его. Но потом то ли безделье набило ему оскомину, то ли по какой другой причине, Шамиль устроился шофером и приутих. Все же мало кто верил его исправлению. «Этот за копейку и мать зарежет», — поговаривали в народе. Затем произошел тот случай, когда Вамех схватился с Шамилем из-за Мейры, и на главной улице, на глазах многочисленных зевак, двумя ударами уложил бывшего борца. Теперь все предвкушали, что Шамиль снова развернется, покажет себя во всей красе, но прошло три месяца, и — ничего… Эти, казалось бы, злейшие враги часто встречались на улицах, но даже взглядом не удостаивали друг друга. А вскоре люди уверились — ждать нечего. Все очень просто, — решили горожане, — Вамех не трогает Шамиля потому, что не тот ранил его в парикмахерской; а раз Вамеха поранил дружок Шамиля, то и Шамиль считает, что они с Вамехом в расчете. Так и жили два врага в маленьком городке, настороженно, а возможно, и непримиримо относясь друг к другу, но шли дни, и все оставалось по-прежнему. Затем, на исходе осени, кто-то ранил Ясона. Лейла и косоглазый Дзуку отвезли несчастного в Тбилиси, но и там не помогли ему врачи, он лишился руки и в сопровождении тех же Лейлы и Дзуку вернулся в родной Сухуми, где, как говорили одни, его встретила жена, хотя другие утверждали, что с женой он давно разошелся. Лейла и Дзуку многое сделали для Ясона, но и он оказался достойным такого отношения. Оставшись с одной рукой, он не озлобился, не разочаровался в жизни. «Отдохнули, и довольно», — пошутил он и вскоре устроился на работу. После этой поездки Лейла и Дзуку сблизились, почти подружились, исчезли былые напряженность и недоверчивость. Но самым удивительным было то, что необычная троица встречала Лейлу и Дзуку на вокзале: Вамех, Алиса и… Шамиль. Да, да, представьте себе, Шамиль! С вокзала они вместе отправились к Алисе, а спустя два-три часа прохожие могли наблюдать, как подвыпивший Дзуку выжимал стойку на перилах Алисиного балкона на третьем этаже. Это никого особенно не удивляло, все помнили его пьяные художества, поражало другое — как его пригласили к Алисе, и уж все прямо не верили своим глазам, видя, что рядом с ним стоял хохочущий Шамиль.
Люди только руками разводили, не постигая происходящего, однако вскоре все прояснилось.
Наступила зима. В декабре задули жгучие восточные ветры. Озлобленным зверем примчался холод из дальних студеных просторов, и внезапные затяжные дожди смыли со склонов последнюю гальку. Потом дожди прекратились и ударили морозы. В первых числах января выпал снег. Короткими зимними днями скудный свет едва брезжил с безжизненного неба, и каждый вечер, возвращаясь с работы, Алиса видела одни и те же черные, промокшие стены домов и темное небо над крышами, которое совсем затягивалось мглой и чернело, пока она доходила до дому. Улицы были пусты и безлюдны. По пути Алиса забегала в выстуженные магазины, где не гасло электричество, где за прилавками стояли продавцы в пальто и белых халатах поверх них, красными негнущимися пальцами заворачивая покупки. Придя домой, Алиса включала свет, грелась у батареи и с нетерпеливой радостью ждала… Дотлевали сумерки и по замолкшим улицам начинал гулять ветер, дребезжа оконными стеклами и свистя в проводах. Если ветра не было, она слышала, как грохочут колеса, лязгают тормоза и, после долгой тишины, гудит электровоз — последний поезд покидал вокзал. Алиса вскакивала, стелила свежую скатерть, собирала на стол, в детском нетерпении подходила к окну и замирала, не сводя глаз с тускло освещенной улицы, ведущей от вокзала к почте. Дни сменялись днями, и каждый вечер сердце Алисы готово было выскочить из груди от волнения и счастья, как и той ночью, когда она впервые привела Вамеха в свою комнатушку — отныне она даже мысленно называла ее не «моя», а «наша» — и оставила у себя. Почти месяц прошел с тех пор, как они с Вамехом провели ночь под одной кровлей, лежа рядом, и все же каждый раз в ожидании Вамеха ее сердце колотилось так, словно она впервые дожидалась прихода любимого.
Вамех возвращался поздно. Он работал на строительстве кирпичного завода, и очень скоро весь город узнал, что он живет у Алисы. Новость эта дошла и до доктора Коции, который страшно возмутился, площадными словами обложил «девку» и, наконец, найдя повод, отдал приказ уволить ее. Пустячный случай послужил причиной для увольнения — однажды Алиса на час раньше ушла с работы. Не это было главной причиной увольнения — она и прежде уходила с работы раньше, если у нее не было дел, и Алиса прекрасно понимала подоплеку докторской придирчивости. Она расплакалась, негодуя на несправедливость, но духом не пала. У нее имелись кое-какие сбережения на черный день, но не это поддерживало ее, а безграничная любовь к Вамеху, вера в него и убежденность в правоте собственных чувств. Алиса без оглядки отдалась любви, сама не понимая почему, да и не пыталась в этом разобраться. Алиса ни о чем не думала и была счастлива. Она, не задумываясь, следовала за течением своей безудержной страсти, она верила Вамеху. Сколько раз приходилось наблюдать ей, как изменялись люди под его влиянием. Некоторые, и пожилые и молодые, поддавались влиянию вполне сознательно, потому что правота Вамеха совпадала с их собственными взглядами на жизнь; другие старались противостоять влиянию, чтобы не поддаться ему. Но та основа, на которой прежде они твердо стояли, все равно оказывалась поколебленной — неосознанное сравнение зарождало сомнение в правильности их жизненных взглядов. Сторону Вамеха приняли и Шамиль, и Дзуку, и Леван, и Ясон, и многие другие, особенно молодежь, которая старалась даже внешне подражать ему — неторопливой, широкой походкой, раскачиваньем во время ходьбы, скрещиванием рук на груди… Поэтому-то и раздражал Вамех доктора Коцию, Вахушти и некоторых иже с ними… Но зато Мейра сейчас свободно и безбоязненно разгуливал по улицам, и никто не трогал его. Прекратились дебоши и драки, зачинщиками которых считали Шамиля. И сам Шамиль изменился так, что стал прямо-таки двойником Вамеха. Все поражались перемене, даже внешне преобразившей Шамиля — исчез угрюмый, нахальный взгляд, которым он смотрел на людей после тюрьмы, теперь он смотрел открыто и жизнерадостно, словно в нем ожил прежний Шамиль, Шамиль — мальчик, он снова стал вежливым и внимательным, готовым прийти на помощь каждому. Дружки Шамиля, которые прежде подражали ему, и сейчас, оставшись его друзьями, во всем копировали его новые повадки, и в меру своих задатков старались проявлять благородство. Невозможно было представить себе, что всего лишь два-три месяца назад эти парни развлекались, мучая бедного старика, стягивали с него штаны. Однажды вечером, когда Вамех еще не вернулся с работы, Шамиль привел к Алисе Резо, того плешивого верзилу, который ранил Вамеха в парикмахерской. Вамех пришел поздно, отворил дверь, он оторопел и застыл у порога: прижавшись спиной к стене, понуро и жалко стоял Резо. Увидев Вамеха, Шамиль вскочил со стула и бросился к нему:
— Вамех, он просит простить его. Если ты брат мне, прости!
И Вамех без колебаний ответил:
— Прощаю!
Они засиделись далеко за полночь, пили вино и беседовали, впрочем, и словом не касаясь прошлого. Резо все же несколько раз попытался оправдаться перед Вамехом, но тот переводил разговор на другое. Счастливая Алиса сидела с ними и удивлялась, каким хорошим парнем оказался этот Шамиль.
А несколько дней спустя Шамиль подстерег возвращающегося с работы Вахушти и обвинил его в ранении Ясона. Прохожие, обступившие их, с изумлением наблюдали необычайную картину: бледный, трясущийся, потерявший всю свою солидность и блеск, Вахушти пытался улизнуть и не мог. Шамиль преграждал ему дорогу, осыпая ругательствами. Чем плотнее становился круг, тем больше входил в раж Шамиль, последними словами честя директора школы. Тут он снова напоминал прежнего бандита Шамиля. Почему он все-таки решил, что во всем виновен Вахушти? Оказывается, Резо, которому директор школы доводился двоюродным братом, за день до ранения Ясона, по липучей просьбе Вахушти, одолжил свое ружье, а на следующее утро, когда Ясон уже лежал в больнице, ружье было возвращено хозяину. Резо заподозрил неладное, зная, что после того, как Вахушти потрепала Мура, он буквально лез на стену от злости на Вамеха. Но разве брата выдашь? Когда милиция отбирала у всех ружья для проверки, Резо почему-то обошли, и он был рад этому, чего доброго и его могли заграбастать. Кое-кто, а он прекрасно знал скрытный и мстительный нрав Вахушти, не любил его за это, да разве подведешь брата под тюрьму? Однако после примирения с Вамехом Резо поделился своими подозрениями с Шамилем, и тот, недолго думая, остановил Вахушти на улице — сгоряча он хотел избить его до полусмерти, но передумал, боясь испортить все, — остановил и стал кричать, что такие замаскированные подонки, как он, загадили весь город. Народ окружил их. Некоторые улыбались, видя Шамиля в необычайной роли защитника справедливости, и в то же время упивались его обличительной речью — Шамиль был уверен, что Ясона ранил Вахушти, и не жалел слов. Знакомые принялись успокаивать их и наконец развели в стороны. Вахушти, отойдя подальше от кулаков Шамиля, спокойно и весомо пригрозил ему издали: «Я этого так не оставлю, вы еще понесете ответственность!..»
И он действительно принял меры. Как потом каялся Шамиль, что не прибил на месте этого гада, уж коли сидеть, так хоть за дело! Дернул же черт соблюдать какие-то правила! Да знай он заранее, что ничего не докажет, он бы своими руками удавил эту свинью… Вахушти легко выгородился, убедив всех, что в ту роковую ночь он гостил у родственников жены. Что удивительного, если поверили ему, а не Шамилю? Шамиля предупредили в милиции, что если с Вахушти что-нибудь случится, ответственность ляжет на него. Тем и завершилось правдоискательство Шамиля. Но большинство горожан все же поверило ему. Правда, нашлись некоторые принявшие сторону Вахушти, но, так или иначе, весь город узнал о низости Вахушти, и можно уверенно сказать, что имя его отныне было запятнано. Для начала и это было своего рода победой.
В городке все давно привыкли к Вамеху. Каждое утро он выходил из дому Алисы и торопился вместе со всеми на работу. Мужчины здоровались с ним, вступали в разговоры; его уже считали своим. Вамех так же, как и все горожане — отцы семейств, целый день проводил на работе. Он таскал мешки и ящики в холодный склад, где пахло сыростью, олифой и красками, цифрами помечал каждый ящик и сортировал их. В полдень приходила Алиса и приносила обед. Она теперь не работала и старалась каждую лишнюю минуту побыть с Вамехом. Она раскладывала еду на ящике у стены склада, они пристраивались на других ящиках и обедали. Алиса была счастлива. С каким удовольствием она следила, как Вамех ест, и розовела от радости, когда он хвалил ее стряпню. Ее радовало, что рабочие любят его, ей нравилось их беззлобное подшучивание, их простота в обращении; нравилось, что никто из них не обращает внимания на скромную трапезу влюбленных, — для них все это было естественным, а кроме того, рабочие считали своей и Алису. Она радовалась, что сидит рядом с любимым, а вокруг них кипит работа: каменщики перекликаются и хохочут, снуют люди с тачками и носилками; иногда кто-нибудь подбежит к Вамеху, попросит закурить, иногда Вамех возьмет у кого-нибудь папиросу. Алиса довольна, что ей никуда не надо спешить, что можно, не опасаясь замарать своей репутации, сидеть и есть обед и ощущать полную независимость. Что зазорного в том, что они обедают на ящике, у стены склада? Алиса ничуть не сетовала на судьбу, нет, такая жизнь была ей по душе, она чувствовала себя легко, свободно и раскованно. Иногда они прогуливались по улицам, беседовали, заглядывали в библиотеку и просматривали газеты. Иногда выходили за город, на поля, где лежал искристый снег, такой же белый, как и все вокруг.
По воскресеньям они подолгу нежились в теплой постели, потом завтракали и шли на базар. Весь городок знал их. Иные, вроде Вахушти и подобных ему, теперь не здоровались при встрече, отводили глаза и с отсутствующим видом проходили мимо. Алису это не трогало, кроме Вамеха, для нее не существовало никого на свете. Из старых приятелей только Лейла осталась верна ей. После возвращения из Тбилиси Лейлу словно подменили. Она больше не ругала Дзуку, хотя и с Вахушти не прерывала дружбы. Алиса знала, что Дзуку любит Лейлу, и ей хотелось, чтобы и подруга ответила ему взаимностью, потому что, по убеждению Алисы, Дзуку был достоин настоящей любви, — Алиса теперь подходила к людям с иной меркой, чем раньше. У нее больше не возникало сомнений в достоинствах Дзуку, но еще раз поразила его доброта, когда он без колебаний уступил им родительский дом в деревне.
Это случилось в конце января, когда растаял снег. Строительство кирпичного завода закончилось, и Вамех остался не у дел. Тогда-то он и надумал перебраться в деревню.
— Поедешь жить в село, Алиса? — спросил он, блестя глазами, по-детски увлеченный своим неожиданным решением.
— Почему бы нет? Если ты будешь со мной… — не задумываясь согласилась Алиса.
Она даже решила продать свою комнату и на вырученные деньги купить в деревне домик. Дзуку, узнав о ее намерении, вышел из себя:
— Если уж вам приспичило жить в деревне, живите в моей конуре, пока не надоест.
И через неделю Вамех с Алисой переехали в деревню, где ночами брехали на луну собаки, где перед зарей кричали петухи, где крестьяне поднимались до рассвета, задавали корм скоту, а женщины созывали кур; потом над трубами мирно курился белый дымок, а крестьяне, вскинув на плечи топоры и пилы, направлялись к лесу, откуда целый день слышался стук топоров, шарканье пил, уханье упавшего дерева; мычала скотина, иногда где-то гремел выстрел, и до ночи не утихал радостный и спокойный шум крестьянской жизни; деревенская детвора, краснощекая от солнца и холода, с криками носилась по проулкам; женщины в шалях, идущие к роднику, беседовали о домашних делах; во дворах мычали телята; старики в башлыках и телогрейках собирались у мельницы, усаживались на бревна, дымили трубками и сплевывали, вода гулко катилась по желобу, и скрежету жерновов вторил монотонный скрип воротка, старики курили и посматривали на своих сыновей, внуков и правнуков, которые тащили из лесу прутья и подплетали плетни, копали землю или точили лемех перевернутого плуга, готовясь к весне, к грядущему труду, к грядущей жизни.
3
Вамех и Алиса были счастливы. Они любили друг друга, и все вокруг радовало их. И они понравились сельчанам, хотя тех удивляло, что молодые переехали в деревню, ведь каждый теперь норовил перебраться в город. Крестьяне знали Вамеха с той осени, когда он помогал им собирать урожай, и к Алисе привыкли быстро. Она пришлась им по душе, сжилась с ними, сдружилась с местными женщинами, и больше всего их подкупало, что горожанка не сетовала на деревенское житье.
Домик Дзуку, в котором поселились Вамех и Алиса, стоял на пригорке, у околицы. Сразу за забором начинался лес. Со двора, как на ладони, просматривалась вся деревенька — разбросанные по склону дома, дворы, огороды, а ниже их — бесконечные пастбища и поля.
Вамех с удовольствием втянулся в деревенскую работу. Вместе с соседями ходил он в лес и валил деревья, чуть потеплело — взялся за лопату. Иногда, взвалив на спину мешок, отправлялся на мельницу. Пока мололась кукуруза, он подсаживался к старикам, охотно вступал в разговор и из него узнавал, чем жило село. Одевался он по-крестьянски, любил поболтать со стариками, и удивительный покой снизошел в его душу. Он, как ребенок, со всей непосредственностью воспринимал окружающее. Потом, когда сумерки ложились на поля, он вскидывал мешок на плечи и неторопливо направлялся к дому. Он шел один и внимал сумеречной тишине, которая, как раздумье, захватывала и переполняла его, переносила в какие-то неведомые дали, где забывались земные тяготы, где вольная душа царила в необъятном просторе. Он часто останавливался и долго стоял в задумчивости, глядя на окутанное сумерками село, и не мог объяснить себе странного состояния, неожиданно охватившего его. Переполненный любовью, он и не старался доискаться, отчего происходит с ним такое, не желал понимать, откуда пришла любовь, от которой, словно от совершенного доброго дела, становилось легко на душе. Он не помнил прошлого, оно унеслось за тридевять земель, сгинуло куда-то и он ощущал себя вторично родившимся и только-только начинающим жить.
Потом на тропинке появлялся мальчик, гоня домой запоздавшую с пастбища корову, и учтиво здоровался с Вамехом. Вамех глядел вслед и радовался безобидности и невинности их.
Жизнь была прекрасна! Счастливый Вамех спешил домой, где его ждала Алиса. И необычайное тепло, всплывая откуда-то из глубины, согревало его, когда он останавливался у крыльца и слышал, как в доме хлопочет по хозяйству Алиса. За забором поднимался густой лес, населенный тысячами живых существ, тысячи жизней бились и исчезали в молчаливом течении вечного времени.
Они долго сидели у огня и не тяготились своим одиночеством, потому что любили друг друга. Они мечтали, бесконечные беседы им не приедались — они невольно обогащали друг друга и заполняли ту пустоту, которая раньше мучила обоих, а теперь исчезала. Иногда к ним приходили соседи и засиживались допоздна. Иногда они сами навещали кого-нибудь; их усаживали поближе к пылающему камину, они сидели в кругу друзей, свободные и вольные, отрешенные от мелочных повседневных забот, и слушали рассказы соседей. Душа их мирно всплывала к недосягаемой высоте мудрости сказок и легенд. Кто создал этот вымышленный мир? Кто зрел его? Крестьяне не могли ответить на эти вопросы, от пращуров дошли до них волшебные истории, свидетелями которых им не довелось быть. Здесь Вамех узнал о тайне голубой горы, возвышающейся в конце ущелья, о таинственном владыке полей и его прекрасной дочери, которую во время оно кто-то пытался поймать.
Поздней ночью они, обнявшись, возвращались домой, глядя на утонувший во мраке мир, ощущая величие природы, которое вызывало в них чувство благодарности и снимало с плеч груз земной боли. Потом они вместе ложились и засыпали. За стенами дома шелестела и вздыхала ночь, словно там стенали невидимые души, вышедшие из темного леса, а Вамех и Алиса жались друг к другу впотьмах, забывая о мире, который существовал где-то за пределами их ощущений.
Жизнь была прекрасна! Они довольствовались необходимым и не желали большего. Иногда, когда пригревало, — той зимой часто выпадали теплые дни, — они выходили к опушке леса и гуляли, разговаривая обо всем, о добре и зле, о жизни и смерти.
— Я не боюсь смерти, — говорила Алиса, — и после смерти я буду твоей.
— А если я умру раньше? — улыбался Вамех.
— Этого не может быть.
— Почему?
— Тогда ты сохранишься во мне, и во мне будешь жить.
— А когда и ты умрешь?
— Тогда наши души отыщут друг друга и снова будут вместе…
Словом, жизнь была прекрасна, и ничто не нарушало их покоя до того вечера, когда из городка примчался Шамиль и принес неожиданное известие:
— В город приехал какой-то высокий блондин и всех расспрашивал о тебе, — сказал он Вамеху.
Смеркалось. Бледный свет керосиновый лампы, стоявшей на столе, освещал комнату и взволнованное лицо Шамиля. Алиса застыла у стены, прижав к груди руки, напуганная той таинственностью, с которой говорил Шамиль. От лампы оконное стекло отсвечивало красным, и в напряженной тишине Шамиль, словно колдун, произносящий заклинания, раздельно шептал каждое слово:
— Я не видел его, но ребята сказали, что он приехал сегодня и разыскивает Вамеха Гурамишвили. Тебя все знают, но никто не открыл ему, где ты живешь. Ребята на всякий случай предупредили меня. Кто может интересоваться тобой?
— Блондин? — чуть слышно спросил Вамех.
— Да, здоровый, как говорят, парень, года на три — на четыре моложе тебя. Кто это может быть?
— Наверное, мой брат! — Вамех вскочил. Табуретка с грохотом отлетела в сторону. Невидящим взглядом уставился он на Алису, ее поразила его бледность и сердце сжалось в предчувствии беды.
Вамех повернулся и, не произнеся больше ни слова, кинулся за дверь. Шамиль и Алиса бросились за ним.
— Постой, Вамех, накинь что-нибудь, простудишься! — закричала Алиса, и крик ее остановил Вамеха. Растерянно замер он посреди двора. От села тянуло запахом дыма. На проселочной дороге рычали и грызлись собаки. Месяц золотой ладьей плыл в белом море облаков. Вамех с нетерпением ждал, когда выйдет из дома Алиса. В необычайном волнении взглянул он на Шамиля и сказал первое, что пришло ему на ум:
— Ты знаешь, я убил старшего брата! Это, наверное, младший… Бог знает, с каких пор он разыскивает меня…
Шамиль от удивления раскрыл рот, но ничего не понял. Мелькнул и погас свет в окне, Алиса вышла во двор и протянула Вамеху куртку. Собаки на проселочной дороге рычали и грызлись.
Вамех выскочил за калитку и побежал под гору. Алиса и Шамиль старались не отставать от него. Сердце Алисы надрывалось. — Вамех не нашел для нее ни одного слова. Молча глотая слезы, Алиса бежала за любимым.
Они бежали, переполненные ожиданьем, и ни один не догадывался о том, что творится в душе другого.
Вамех предчувствовал, что рано или поздно Миха отыщет его. Все время он ждал этой встречи, но сейчас, когда приближалась минута их свидания, он боялся. Боялся оттого, что очень любил Миха. Он любил его еще сильнее, чем Гурама, потому что человек крепче привязывается не к тому, кто научил его жить и с кого он брал пример, а к тому, в ком видит воплощение своих надежд и чаяний. Вамех всегда считал, что Миха превзойдет братьев во всем, как в сказках — самый удачливый и счастливый — младший брат. Себя и Гурама он считал прокладывающими дорогу для Миха. Он верил, что всех троих ждут счастье и удача. Но смерть Гурама привела его к убеждению, что уверенность и стремления не управляют ходом событий, которые повинуются иной, неведомой и безжалостной силе. Словно вода между пальцев, уплыли уверенность и надежды, и он сбежал, покинув все, что напоминало ему о трагедии; сбежал, оставив без ответа болезненные вопросы, но они настигали его, где бы ни пытался скрыться он, и не давали ему покоя ни днем ни ночью. Долго метался он в смятении и раздвоенности чувств, не в силах примириться с судьбой. Долго не мог он оправиться от удара, потому что любил жизнь и не того ждал от нее; стал считать, что ненавидит жизнь и не хочет влачить бремя существования. Надежды обманули его, и он разочаровался во всем. Поэтому и не хотелось ему видеть младшего брата, хотя он невыносимо мучился вдали от Миха. Кто знает, может, и единственный оставшийся у него близкий и родной человек считает Вамеха орудием зла, может, он холодно встретит его и пусть бессознательно, но все-таки обнаружит свою неприязнь. Разве не так относились к Вамеху другие? Никто на словах не обвинял его, но сколько невыносимого холода видел он в их взглядах. Все сторонились его, как сторонятся злой стихии, и Вамех не мог выносить этого — всю жизнь он считал, что создан для добра и любви, для жизни, а не для смерти. Он не мог выдержать всеобщего отчуждения и сбежал. Он хотел сохранить в душе светлый образ Миха, ближе которого не было ему никого в этом огромном мире. Вамех понимал, что он ни в чем не виноват, что самое ужасное зло он принес самому себе, что его душа кровоточит сильнее, чем у кого-нибудь. Муки заставили его осознать ту мощь неведомого, которое не подчинено человеку и которое повелевает живым; он осознал свою беспомощность и пал духом. Негодование и злоба кипели в его душе, но таким путем никто еще не достиг истины. Только беспредельная любовь, так же, как и смерть, озаряет незримым светом все уголки души. Смерть пугала его, любить он не мог. Но любовь иногда все же прокрадывалась в душу, недолгим огнем вспыхивала в ней, и от этого становилось еще хуже. Поэтому он не мог сбросить с себя бремя земного, необъяснимого греха и посмотреть в глаза брату, не ощутив себя убийцей. Это был неумышленный стихийный грех, но это был грех, и от него не сбежать никуда. Вамех не знал, как разрушить преграду, отделившую его от брата. Но он был уверен, что брат ищет его и рано или поздно обязательно найдет. И он не сомневался, что тот блондин, который, по словам Шамиля, прибыл утром в город и разыскивает Вамеха Гурамишвили, и есть Миха. Кому же еще быть? Некому.
Вамех бежал по склону, Шамиль и Алиса старались не отставать от него. Темнота объяла землю, и никто не видел слез Алисы. Пробежали село, а Вамех ни разу не оглянулся. Алиса понимала, что он слишком взволнован, может быть даже счастлив, она сама радовалась появлению Миха, но все-таки ей было горько, что волнение заставило любимого забыть о ней, что он убегал, ни разу не оглянувшись на нее. Любовь, которой она отдалась с безудержной самоотверженностью и гордостью, не была возмещена ей во всей полноте; она убеждалась, что Вамех не принадлежит ей всецело, и это сознание, вытекающее из человеческого эгоизма, а может быть, рожденное естественной неудовлетворенностью, причиняло ей боль. У нее было ощущение, что ее счастье ускользает, она страшилась будущего, и все же покорно следовала своим путем, который целиком перечеркивал всю ее прошлую жизнь, хотя сейчас прошлое снова возвращалось к ней. Ей пришел на память Джемал. Поступил бы он так? Но она тут же забыла о нем и посмотрела на Вамеха, который, как чужой, несся вперед.
Шамиль бежал позади. Тысячи мыслей крутились у него в голове. На ум пришли слова Дзуку: «Сегодня в нашем городке людей одолевают низменные чувства». Сам Дзуку перенял это выражение у Левана — сына доктора Коции, оно ему понравилось, и он стал часто повторять его. Но с появлением Вамеха в городке многое изменилось. Шамиль чувствовал расположение к этому парню, хотя другой на его месте показал бы ему, где раки зимуют, но они подружились, и Шамиля порой очень удивляло, как все необычно обернулось. Он полюбил Вамеха и доверился ему. Но то, что он услышал пять минут назад, оглушило его, подобно удару молота. Почему Вамех убил брата? — напряженно пытался угадать он. Неужели?.. Нет, Шамиль не верит этому. Он не мог облечь в слова то, что смутно возникало в его сознании. «Существуют люди, — думал он, — которые должны дружить, и существуют — которые должны враждовать». А то чего бы ему не лобызаться с Вахушти? Если Вахушти лишь ранил Ясона, а Шамиль был уверен, что тот действительно старался его укокошить, то Вамех убил собственного брата, но тут Шамиль готов дать голову на отсечение, что все это не так. Ведь и Вамех не верит, что Шамиль зарезал человека, хотя весь город убежден в этом. Что же тогда такое? Видимо, жизнь по собственному усмотрению сводит и разделяет людей. Жизнь управляет всем, и Шамиль, который совсем запутался, сейчас, словно по зову судьбы, бежал за Вамехом, стараясь не отставать от него.
Они молча бежали по ухабистой тропинке, спотыкаясь о камни, скользя по грязи, тяжело переводили дыхание и таили свои мысли в себе. Кончился лес, крутой склон сливался внизу с полем. Наконец склон остался позади, и они увидели шоссе, сверкавшее под лучами луны, Чтобы сократить дорогу, припустились через поле. Здесь еще не начинали пахать. На дорогу выбрались потные, падающие от усталости, по щиколотку заляпанные сырой землей. Впереди мерцали далекие огни городка. Горожане, наверное, отужинали и готовятся ко сну, сидят в теплой комнате, и настенные часы монотонно тикают в тишине. На улицах разгуливают прохожие, одетые в теплые пальто, хотя холода уже миновали; перед кассой Дома культуры шумит и смеется очередь; собравшийся на вокзале народ всматривается в даль, ожидая поезда; возможно, что по перрону носится Мейра, которого уже никто не мучает, не стращает тюрьмой, не заставляет плясать.
Там, под этими огнями ходит сейчас Миха и ищет брата.
Вамех обстукал сапоги об асфальт, сбил грязь и продолжил путь, Шамиль молча последовал за ним.
— Вамех! — обреченно закричала Алиса. — Я больше не могу…
Мужчины обернулись. Измученная Алиса, уронив руки, стояла у обочины дороги. Беспомощная, жалкая, она утратила всегдашнюю свою привлекательность. Она перевела дыхание, силясь что-то сказать, и вдруг разрыдалась. Вамех подбежал к ней, обнял и прижал к груди. Ему стало жаль ее, но он чувствовал, что сейчас всему на свете предпочел бы полное одиночество.
4
Грузовик въехал в городок и затормозил у аптеки. Шамиль выпрыгнул из кузова, за ним — Вамех, он поднял руки и спустил Алису. Они так торопились, что даже не поблагодарили шофера. Машина укатила, и такой застывшей, привычной и неизменной показалась Вамеху знакомая улица, что он усомнился, точно ли тот блондин, который утром приехал в городок и целый день разыскивал его, был Миха? Слишком неправдоподобным казалось, чтобы в этом заштатном городишке, в этой глухомани, что-то произошло. Было уже поздно. Закрылись магазины. В жалких витринах тускло горит свет. Главная улица пуста. Кто-то, шатаясь, бредет домой, пьяно разговаривая сам с собой. Какая-то пара вышла из аптеки и, деловито переговариваясь, скрылась в переулке. Через дорогу от аптеки у запертой столовой препирались люди. Все было знакомо. Все было привычно и неизменно. И Вамеху не верилось, что скоро он увидит Миха. Сонная, ленивая тишина городка, казалось, в зародыше убивает возможность проявления необычайных страстей, которым тесны рамки здешней размеренной жизни.
— Куда мы теперь? — спросил Шамиль.
— Он, наверное, в гостинице остановился, — предположила Алиса.
— Пошли узнаем, — предложил Шамиль.
Вамех и Алиса последовали за ним.
Они пересекли улицу, у парикмахерской свернули и пошли вдоль парка. Винная лавочка рядом с парикмахерской еще работала, и оттуда доносился басистый хохот. В Доме культуры начался последний киносеанс, и двери закрывали. Улица упиралась в полотно железной дороги, освещенное сверху прожекторами. Красные, желтые и синие лучи семафоров мерцали в дымной темноте. Пахло мазутом, углем и копотью. Маневровый паровоз пыхтел и временами выпускал струю горячего пара. Какие-то люди, перекликаясь, ходили по путям.
Показалась гостиница. Шаги их гулко простучали по мостику через канавку, в которую Мура свалила когда-то Вахушти, и Вамех вспомнил Антона. С невыносимой ясностью предстала перед глазами та ночь, агония Антона, и Вамеху показалось, что несчастный все еще сидит на тротуаре, привалясь спиной к холодной кирпичной стене дома. Он невольно посмотрел в ту сторону, но в темноте ничего не было видно. Бедный Антон давно уже покоился на кладбище, а Вамех даже не знал, где его могила.
Они вошли в холодный вестибюль гостиницы. За конторкой администратора сидела женщина, зябко кутаясь в пальто. Электроплитка оранжево светилась под столом.
— Сегодня кто-нибудь приезжал? — поздоровавшись, спросил Шамиль.
— А кто вам нужен?
— Да молодой парень, блондин такой…
— Как его фамилия? — Женщина раскрыла толстый журнал.
— Гурамишвили, — ответил Вамех и напрягся в ожидании ответа.
— Гурамишвили, — протянула женщина, ведя пальцем по записям, — есть такой: четырнадцатый номер, второй этаж…
— И Джемал жил в четырнадцатом, — удивилась совпадению Алиса.
Вамех кинулся к лестнице.
— Его нет дома, — крикнула женщина, — часа полтора до вас его увез косоглазый Дзуку.
— Куда?
— Не знаю, — тут женщина узнала Алису и раскланялась с ней. — Вы ведь Лейлу знаете? Она тоже приходила с Дзуку, — двусмысленно улыбнулась женщина, поглядывая на Алису.
— Лейла?
— Да, они уехали вместе.
Вамех, Шамиль и Алиса снова вышли на улицу. Теперь не оставалось никаких сомнений, что приехал именно Миха и Вамех сегодня же встретится с ним. Он обхватил за шею Шамиля и Алису, прижал их головы к груди и застонал от радости.
5
На следующее утро вся деревня собралась в доме Вамеха. Крестьяне узнали, что к Вамеху приехал брат, с которым он давно не виделся, и каждому хотелось познакомиться с ним. Разумеется, никто не знал, как встретились братья, о чем говорили они, каким предавались воспоминаниям.
Прошедшей ночью измученная Алиса осталась в городе. Шамиль отправился спать. Лейла, к которой заявилась эта троица, не найдя Миха в гостинице, сказала, что Дзуку повез Миха в деревню и они, видимо, разминулись в дороге. Она рассказала им, как они вместе с Дзуку нашли Миха в гостинице, как он ей сразу понравился, как Дзуку посадил его в машину и увез в деревню. Он бы, конечно, и раньше отвез его, да задержался в рейсе и поздно узнал о приезде Миха. Сначала он верить не хотел, что тот молодой человек, который разыскивает Вамеха, и есть его брат, но в гостинице все выяснилось. Вамех решил, не мешкая, вернуться домой, и как ни уговаривала его Алиса переночевать в городе, — утром чуть свет они поедут вместе, — удержать не смогла.
А Дзуку привез Миха в спящее село, оставил машину у правления колхоза — дальше дороги не было, и по узкой кремнистой тропе, с обеих сторон заросшей бузиной и крапивой, повел Миха к своему дому, в котором сейчас жил Вамех. Они там никого не застали. Такая неожиданность несколько обескуражила их, они ведь не знали, что Шамиль уже известил Вамеха о приезде брата. Было поздно, и они решили, что утро вечера мудренее. Дзуку оставил Миха одного, а сам пошел ночевать к родственникам. Чуть свет он вернулся и застал обоих братьев во дворе. Они стояли рядом и рассматривали село, еще затянутое сумрачным туманом.
Утро было свежее. Сырость, которой тянуло из лесу, пробирала до костей. Братья стояли под старым ясенем и, заложив руки в карманы, беседовали. Дзуку перешагнул через перелаз и подошел к ним. Глядя на них издали, он снова удивился, до чего же они похожи. Их необычайное сходство поразило его и вчера. Как только ему сказали, что какой-то приезжий разыскивает Вамеха, он вместе с Лейлой отправился в гостиницу, и стоило ему увидеть незнакомца, как он сразу понял, что перед ним брат Вамеха. Странно, почему никто не заметил этого сходства! Хотя, возможно, все дело в том, что ни один человек в городке не знал, есть ли у Вамеха брат. Помимо Алисы, только Дзуку был посвящен в тайну Вамеха. И вот прошлой ночью, едва увидев Миха, он сразу понял, кто этот человек, наскоро объяснив ему все, усадил его в машину и повез в село, по дороге рассказав обо всех приключениях Вамеха в городке.
Братья стояли под старым ясенем, поразительно похожие друг на друга лицом, голосом, движениями, Миха лишь был немного повыше и выглядел покрепче. Литые мускулы растягивали распахнутую на груди рубаху. Расправив плечи и подняв голову, стоял он, словно породистый конь, в напряженном спокойствии которого чувствуется скрытое возбуждение, нетерпение, сдержанная готовность рвануться вперед. Короткие волосы были зачесаны набок. Во время разговора он не сводил с собеседника внимательных серых глаз, а стоило ему улыбнуться, как на щеках появлялись ямочки, которые не мешали воспринимать его, как мужественного и волевого человека. У него не было такого резкого и нервного взгляда, как у Вамеха, но, как и брат, Миха мог засмеяться совершенно неожиданно, такой смех кажется беспричинным, но стоит поразмыслить, и начинаешь понимать скрытую его причину. Что может быть лучше смеха и радости? Тот, чье сердце согрето любовью, способен рассмеяться, даже когда глубоко опечален. Эта способность и есть проявление непобедимой любви, ее вещий знак. И вот сейчас, заметив Дзуку, оба брата рассмеялись, но Дзуку понял, что они просто обрадовались. Он и сам засмеялся, поздоровался с ними и стал немного в сторонке.
Дзуку мучился от неловкости, не зная, с чего начать разговор. Он ведь был застенчив. Никто не замечал в нем стеснительности, но на самом деле он был очень застенчивым человеком и сейчас ругал себя, что приперся не вовремя и, наверное, помешал давно не видевшимся братьям. Но одновременно он радовался тому, что Миха отыскал Вамеха. В старом свитере, с отчетливым фиолетовым шрамом на шее, с покрасневшими глазами, с осунувшимся лицом, на котором проступали морщины, непричесанный и небритый Вамех казался только оправившимся после болезни, ослабевшим, но счастливым человеком. Вялый, он ни одним движением не выдавал той радости, которая сияла в его глазах. Наверное, он измотался за вчерашнюю ночь, а может, ожившие воспоминания удручали его?..
Все трое стояли под деревом и любовались живописным расположением деревни.
— Прекрасная местность, — сказал Миха, жадно вдыхая прохладный воздух.
Рассвело. Туман разошелся, и дали очистились. Деревня выглядела совсем иначе, чем ночью, когда Миха вышел из машины и впервые увидел ее. Сейчас казалось, будто он попал в другое место. Удивительная была прошлая ночь! В этой глухомани, о которой он раньше и не слыхал, он нашел собственного брата. Все произошло слишком необычно. В непроглядной тьме поднялся он к лесу за каким-то незнакомым человеком, которого прежде не знал, а тот привел его в пустой дом и оставил одного. Да, было чему удивляться! И сейчас, когда рассвело, он перенесся словно за тридевять земель, в незнакомые места — таким новым казалось теперь все вокруг. Первые слабые лучи солнца упали на вершину холма, и все темное, тонувшее в тени, выступало отчетливо и ясно. Дзуку с удовольствием окинул взглядом лесистые холмы.
— Да, лучше нашей благодати не найти, — гордо подтвердил он.
— Тут нечем хвастаться, — вдруг заметил Миха.
Дзуку даже рот приоткрыл от удивления.
— Почему?
— Природа, Дзуку, везде красива, важно другое — чтобы человек был ей под стать.
— Но где вы найдете места красивее наших? — не сдавался Дзуку.
Вамех невольно рассмеялся.
— Ну и что? — улыбнулся Миха. — Не мы же создали эту красоту. Человек должен гордиться только тем, что создано его руками, плодами своих трудов, которые он оставит после себя… Что ты скажешь на это, Дзуку? — Миха вопросительно поглядел на Дзуку, потом на Вамеха.
— Нет, друг, — возразил Дзуку, — я впервые слышу, что не следует гордиться красотой своих родных мест.
— Родина человека может быть самой красивой, а он может быть последним из людей… Необходимо самому дорасти до окружающей нас красоты. Когда-то здесь обитали длинноголовые, так называемые долихоцефалы, но они ничего не оставили после себя, бесследно исчезли с лица земли, и мы не испытываем к ним ни малейших чувств, потому что не знаем их. А ведь и они жили среди этой прекраснейшей природы…
— Не в этом дело, — устало сказал Вамех. — Время уничтожает все.
— Не совсем так, — запротестовал Миха, — почему же мы с уважением относимся к древним грекам и римлянам, к евреям и египтянам?
— Потому, что знаем их. Слишком малый срок разделяет нас, чтобы мы могли забыть их.
— Нет. Они были творцами и многое оставили потомкам. Вот почему мы помним о них.
— Может быть, до них были другие народы, создававшие не меньше? Кто ответит, Миха, что было раньше? Чем глубже проникаешь в прошлое, тем больше сгущается тьма. Чем больше ты знаешь, тем невежественней кажешься самому себе, потому что все новые и новые загадки возникают перед тобой.
— Цель жизни как раз в том, чтобы разгадать их, пока не останется ни одной.
— Время все меняет, — проговорил Вамех и подошел ближе к брату. Сейчас они забыли о Дзуку.
— Двенадцать тысяч лет назад земля была совершенно иной, — продолжал Вамех. — По-иному располагались моря и материки. Магнитный полюс в то время совпадал с географическим, а сейчас сместился на тридцать градусов. Неожиданная катастрофа изменила облик земли. На месте сибирской тундры шумели непроходимые леса, палило солнце и бродили мамонты, потом произошло что-то неожиданное, все оледенело, вдруг погибли мамонты. А почему? Говорят, существовала Атлантида, еще Платон поминал ее, но внезапно этот материк погрузился в море. Почему, что разрушило его? А ведь не исключено, что все еще может повториться. Чем был вызван всемирный потоп? Случаем, который никто не в силах объяснить. Может быть, народы, существовавшие до этих катастроф, создали величайшую культуру, но что осталось от нее? Время безжалостно и бесконечно, Миха. Не лучше ли ограничиться малым, наслаждаться нынешним днем, минутой, которые отпущены нам, и не думать о вечности?
— Ты прав, всего, разумеется, не охватишь. Но, знаешь, что я скажу тебе, Вамех? Все, что улавливается нашим восприятием, есть реальность, и нет смысла убегать от нее…
Вамех рассмеялся. Он понял, на что намекает Миха, положил руку ему на плечо и ласково заглянул в глаза.
— Ты думаешь, что я бегу от жизни?
— Возвращайся к своей работе.
— Нет, Миха, к археологам я больше не вернусь. Все! — грустно проговорил он, но тут же снова рассмеялся. — Я же сказал: чем глубже зарываешься в прошлое, тем туманнее оно. Я останусь здесь, буду жить в этой деревне, работать в колхозе… Буду наслаждаться физическим трудом, не думая ни о чем на свете. Ни о чем не хочу думать, — спокойно закончил он.
Миха ничем не возразил брату. Скрестив на груди руки, он задумчиво глядел на Дзуку.
Тот молча прислушался к их разговору, не понимая, о чем спорят братья. Ему нравилось, что оба держатся просто и естественно. Разве предположишь, что они долго не виделись? Беседуют так, будто самым важным для них является происшедшее двенадцать тысячелетий назад, а не то, что случилось прошлой весной, когда Вамех и Гурам рыскали в поисках какого-то городища. Ведь тот случай потряс жизнь Вамеха и Миха не меньше, чем потрясла землю катастрофа, налетевшая на нее двенадцать тысяч лет назад. Но они ни словом не обмолвились о том, что наболело. Ведут себя так, словно не было ни несчастья, ни долгой разлуки, наверное, во всем доверяют и полагаются друг на друга. Дзуку было известно все. Поэтому он догадывался, что они давно переговорили обо всем, все выяснили, и теперь им ни к чему снова ворошить прошлое. Интересно, что же будет дальше? Увезет Миха Вамеха или нет? Вернется ли Вамех домой? Если вернется, что станет с Алисой? Дзуку стало жаль Алису, он привязался к ней и уважал ее. О себе Дзуку не думал, друг остается другом, даже если он на другом конце земли и они видятся раз в год по обещанию, но женщина, которую любишь, постоянно должна быть рядом. «Что-то будет?» — думал Дзуку. Его огорчало, что Вамех может уехать, но если так нужно, если так лучше для него, пусть себе едет с богом. Сейчас Дзуку больше всего беспокоило, как Миха встретит Алису? Миха, наверное, уже знает всю ее подноготную. Вамех, надо думать, ничего не утаил. И сам он прошлой ночью рассказывал Миха многое. Дзуку с нетерпением ждал появления Алисы.
…Солнце давно поднялось: когда Алиса приехала из города, Миха и Вамех кололи за домом дрова. Миха со свистом взмахивал топором, одним ударом разваливая огромные чурбаки, по-детски радуясь и хохоча. Вамех старался не отставать от брата. Наточенная сталь топоров вспыхивала на солнце, и щепки летели во все стороны. Дзуку, присев на корточки, с улыбкой наблюдал за соревнованием братьев.
И вдруг Миха, разогнувшись для очередного удара, застыл с топором в руках. Он увидел Алису. Она старательно прикрывала калитку. Потом пошла к дому. Она с утра долго приводила себя в порядок и сейчас выглядела очень привлекательной, хотя даже издали можно было заметить ее бледность и смущение. Вамех стоял спиной к калитке, но, заметив, как оцепенел Миха, обернулся. Алиса, не в силах отвести взгляд от Миха, робкими сбивчивыми шагами направилась к ним. Куда девались ее былые смелость и беззаботность? Дзуку пожалел ее, Миха с силой вонзил топор в колоду, рукавом стер пот с лица и медленно пошел навстречу женщине. Широко шагая — ни дать ни взять Вамех — он встретил ее посреди двора.
— Вы Алиса? — мягко спросил он.
Дзуку видел, как тяжело дышала взволнованная Алиса.
— Да, — послышался ее слабый, испуганный голос. Потупясь, стояла она перед Миха. Дзуку еще сильнее стал переживать за эту женщину, никогда он не видел ее такой беспомощной. Он понимал причину ее волнения. Может ведь все обернуться так, что Миха не поверит Алисе, не поверит той любви, которая заставила ее бросить насиженное место и переселиться в глухую деревеньку? Дзуку-то знал, что Алиса пойдет за Вамехом куда угодно, хоть в преисподнюю. Именно так выразилась как-то Лейла, но и без Лейлиных слов Дзуку был убежден, что Алиса готова душу отдать за Вамеха. Жаль, если Миха отнесется к Алисе так, как относятся к тем незамужним женщинам, которые ничего не требуют от любимых, кроме любви. Когда-то Дзуку ни в грош не ставил Алису, а теперь уважал ее. Как изменилась она, когда связала свою жизнь с Вамехом. Да и сам Дзуку изменился, и Шамиль, и Лейла…
Миха и Алиса стояли лицом к лицу, близкие и чужие одновременно. Потом Миха наклонился, обнял Алису и поцеловал ее в щеку.
— Спасибо вам!
— Что вы! Это вам спасибо, — подняла глаза вконец смущенная Алиса.
6
Целую неделю прожил Миха в деревне. Теперь Алиса не боялась его, как в ту ночь, когда заявился Шамиль и предупредил Вамеха, что его ищет какой-то блондин. Когда Вамех бежал в темноте по крутой тропинке, страх истерзал ее, ей казалось, что счастье рушится, как домик, построенный детскими руками. Ее не обрадовало и то, что приезжий действительно оказался братом Вамеха. Но когда, выйдя из гостиницы, Вамех обнял ее и Шамиля и прижал к груди так, что Алиса чуть не ударилась головой о лицо Шамиля, и застонал, она поняла, как беспредельна ее любовь к Вамеху, потому что она стала счастливой от того, что счастлив он, хотя приезд Миха мог оказаться для нее роковым. Миха олицетворял ту жизнь, от которой против воли оторвался Вамех и которая была неизвестна Алисе. Она ничего не знала о прошлом Вамеха, кроме того происшествия, и кто знал, какими радостями была переполнена его жизнь там, откуда он сбежал. Сколько связано с тем, что было! Она инстинктивно боялась всего, что осталось в прошлом любимого, но смутно понимала, что нужна ему сейчас, в этой жизни, а не в той, которая пока еще принадлежит прошлому. Может случиться, что Вамех смирится и пожелает вернуться к тому привычному, в котором провел столько лет, и шквал, забросивший его сюда, покажется ему кратким и преходящим? В конце концов все смиряются с судьбой, оправдываясь, что выше головы не прыгнешь. Случись такое, она окажется для него обузой. Тогда и жить не для чего. Алиса теперь по-иному относилась к любви. Может быть потому, что, несмотря на все свои сомнения, она верила: Вамех не из тех, кто покорно подставляет шею под ярмо судьбы и послушно плетется на поводу у нее. Некоторые быстро забывают случившееся и приспосабливаются. Но Алиса была убеждена, что Вамех никогда не свыкнется с тем, что произошло, не сможет безмятежно вернуться к прежней жизни. Но тот, кто не может смириться с действительностью, должен либо переродиться, либо погибнуть. Алиса со страхом глядела в будущее. Она не могла разгадать, как оно сложится, и боялась. Боялась она и Миха. Ей казалось, что Миха увезет Вамеха, убедит его забыть все, что произошло, потому что Вамех не виноват в ужасном стечении обстоятельств. Однако у Алисы теплилась надежда, что такого не случится, что Вамех не сможет переступить через прошлое, хотя и отлично понимала, как ему этого хочется — пусть неосознанно, пусть он не признается в этом самому себе, — но ему хочется вернуться домой. Алису пугала та решимость, с которой он кинулся на поиски Миха, когда ни ночь, ни грязь, ни дальняя дорога не смогли остановить его, он один вернулся в деревню, потому что предполагал найти здесь Миха, не задумываясь, оставил Алису и ушел. А она всю ночь проплакала.
Теперь все наладилось. Алиса сидела у открытого окна и смотрела на далекие, красноватые от закатного солнца горы. Ветерок колыхал легкую занавеску. Алиса сидела у окна, не сводя глаз с тропы, сбегающей от ворот к деревне. Она ждала, когда на ней покажутся Миха и Вамех. Она знала, что они скоро вернутся. Они всегда возвращались на закате, а с утра, закинув за плечи ружья, отправлялись побродить по лесу. Целую неделю, изо дня в день, бродили они по лесу, но ни разу не принесли добычи, и Алиса не могла понять, для чего им нужны ружья, для чего таскать такую тяжесть, ведь и без этого ясно, что они хотят побыть наедине. Однажды, спускаясь к ручью, Алиса видела, как пронеслись они по полю на неоседланных конях; неподалеку, на выгоне, постоянно паслись колхозные лошади. Словно мальчишки, с гиканьем промчались они и скрылись из виду. В тот вечер они вернулись поздно, с одним ружьем, второе Миха повесил в лесу на сук, да так и не смог найти. Только после отъезда Миха какой-то парнишка случайно нашел его и принес. Нет, не охота выманивала их из дому, Алиса это прекрасно понимала, но нисколько не обижалась. Она не пыталась помешать их мужскому уединению, пусть поговорят. Как бы там ни было, они — братья, и роднее друг другу, чем Алиса Вамеху. Они беспокоятся друг о друге. Но будущее Вамеха стало отныне будущим Алисы. Как все сложится? Алиса была убеждена, что все идет к лучшему. Она полностью доверяла им. Эта вера успокаивала ее. Она полюбила Миха и радовалась, что у Вамеха такой прекрасный брат, всегда веселый, жизнерадостный, располагающий к себе. Как он просто сошелся с друзьями и соседями Вамеха, никак не подумаешь, что он впервые видит этих людей. Да, Миха — прекрасный человек! И Лейле он тоже очень понравился.
— Как вы нашли Вамеха, как напали на его след? — просила как-то Лейла.
— Совершенно случайно, — весело ответил Миха. — Здесь гостил какой-то поэт, Юлий Цезарь, кажется, который немного знал меня. Он-то и рассказал одному моему знакомому, что в таком-то месте встретился с человеком, очень похожим на меня… Знакомый передал мне, я собрался и приехал.
— Всюду одни случайности, — заметила Лейла, — а вы и вправду очень похожи друг на друга.
— А вот это не случайно, — улыбнулся Миха, — нас одна мать родила.
Все уже знали историю Вамеха. Но Алиса почему-то была убеждена, что Миха по-иному воспринял ту трагедию. Миха вообще многое видел иначе, чем Вамех.
— Что по ту сторону леса? — спросил он однажды, глядя на лесистый холм. Это случилось на второй день его приезда, они стояли во дворе и о чем-то разговаривали, Алиса уже не помнит, о чем.
— Там — длинный хребет, — объяснил Вамех, — а в верховьях ущелья — неприступная гора. На нее еще никто не поднимался. Говорят, там обитает владыка полей.
— Владыка полей? — удивился Миха.
— Да, владыка полей и его дочь, такова легенда.
И Вамех рассказал сказку, которую Алиса слышала тысячу раз и которая почему-то страшно увлекала Вамеха.
— Прекраснее его дочери нет никого, но ни один человек не видел ее. В незапамятные времена какой-то юноша пытался поймать ее, но тщетно. И никто не знает, что произошло с ним потом…
— А что с ним могло быть? Наверное, вернулся обратно, вот и все, — быстро сказал Миха.
— Как знать, — отозвался Вамех, — когда настанет весна, я поднимусь на ту гору и своими глазами увижу, что там есть.
— Не боишься шею себе сломать? — тихо спросила Алиса.
Ей не верилось, что Вамех всерьез собирается лезть на эту страшную и в то же время такую прекрасную гору, но она все-таки боялась.
— А что там должно быть? Обычная гора. Наверное, трудно на нее подняться, вот и сложили легенду, — резонно заметил Миха.
— Кто знает? — покачал головой Вамех.
— Что тут знать, так и есть, — уверенно сказал Миха.
Когда разговор заходил о подобных вещах, Алиса разделяла точку зрения Миха. К тому же она убедилась, что Миха не собирается увозить Вамеха, если тот сам не захочет, и еще больше привязалась к нему.
Сейчас Алиса сидела у окна и с огорчением думала о том, как быстро промелькнула неделя. Завтра утром Миха уедет, а они с Вамехом останутся в деревне. Так решили братья, и Алиса чувствовала себя совершенно счастливой. Они вдвоем будут продолжать жить здесь, близко к земле, освобожденные от тех грехов, которые заставляют болезненно думать о необъяснимых причинах случающегося и мучают, отнимая силы, которые ты должен и обязан ежедневно вкладывать в работу. Здесь жить им, трудиться, снимать урожай, жить изо дня в день, со всей полнотой воспринимая зиму и осень, лето и весну, все времена года, точно так же, как их воспринимает земля — верная мать твоя, в которой ты растворишься в конце концов, но и при жизни ты не должен бежать от нее. Кто знает, может быть, ты будешь жить вечно? Ты не рождаешься и не умираешь, а только видоизменяешься, как и все вокруг. Если внимательно всмотреться в жизнь, в земную жизнь, несомненно ощутишь сладость ее плодов, почувствуешь справедливость ее законов и уже не испугаешься той суровой и беспощадной борьбы, которую наблюдаешь везде и во всем, а проникаешься безграничной благодарностью ко всему земному. Алису радовало, что они остаются здесь. Ей казалось, будто бы она появилась на свет только для того, чтобы полюбить Вамеха. И не было бы предела ее счастью, если бы она смогла поднять на руках плод их любви, носящий частицу ее существа, продолжающий ее жизнь, подобно тому, как новые листья и цветы продолжают жизнь старых, выражая сущность земли, потому что в этом безграничном мире земля и небо, планеты и атомы, животные и люди наделены собственной сущностью, общим предназначением, которому они повинуются до конца. Сейчас Алиса хорошо сознавала это, и ей хотелось покорно и безропотно следовать по течению жизни, этой бурной реки, которая для всех одна, но для каждого — особая, своя, и все же общая. Она хотела жить, как все люди, отдаться простой человеческой участи — отдельной для каждого, проявляющейся в тысячах форм, но всегда находящейся в жестких рамках рождения и смерти. Ее не интересовало, что находится за гранью земной жизни. Она верила, что человек должен трудиться и оставить после себя потомство. Таков нерушимый закон жизни. Она не могла понять, что такое любовь к смерти. Смерть приводила ее в содрогание. Может быть, поэтому ей был неприятен Антон, который не дорожил ни жизнью, ни плотью, занятый только заботой о бессмертии души, думами о вечности. Сам Вамех видел спасение в повседневности, в радостях сегодняшнего дня. Алиса знала, что Вамех верит в вечную изменяемость; но если душа бессмертна, если и вправду она переходит из одной формы в другую, то в ней начисто стирается память о прошлом, и она превращается во что-то новое, и становится совсем не тем, чем была раньше. Каков смысл подобного бессмертия, если тебя нет, если уничтожена твоя личность. Ты уже забыл все, что когда-то было близко тебе и любимо тобой. И если верно, что тебе снова суждено родиться, то ты все равно не повторишься, ты будешь чем-то новым, что не имеет никакого отношения к тебе, не имеет никакой связи с твоим сегодняшним «я». Смерть ставит точку на всем, но тем не менее жизнь мила. Как тебе хочется мирно пройти той дорогой, которой идут все! Что может быть лучше, чем родиться, жить и трудиться на родной земле, оставить детей и, насладившись жизнью, умереть в своем углу, в своем доме, в окружении близких? Прекрасно! Почему же многие во всех отношениях достойные люди падают в начале пути, не испытав усталости, не ощутив зноя и стужи долгой дороги, не познав ни сладости побед, ни горечи поражений. Как таинственно и непостижимо устроено все на этой земле!
Но Алисе не хотелось думать о подобных сложностях. Ей было довольно одного, что они с Вамехом остаются здесь. Она любит Вамеха, и это самая высокая истина. Сколько страхов и тревог натерпелась она за неделю. Теперь она спокойна. Завтра утром Миха возвращается в Тбилиси, а они с Вамехом остаются. Никто не хотел разлучать их. Они остаются вдвоем и начинают новую жизнь. Весна стоит у порога. Сколько еще необходимо, сколько всего предстоит сделать? Скоро начнется пахота, и они должны подготовиться к ней. Все лето проработают они рядом. Алиса с радостью думала о будущем. Придет осень, они соберут урожай. Снова приедет Миха. О, как хорошо, что он нашел Вамеха, как хорошо, что он такой славный…
Слезы выступили на глазах Алисы, и ей захотелось сладко поплакать. Очнувшись, она поняла, что очень долго сидит у окна, что уже наступил вечер. На вершине холма фарфоровым черепком лежала луна. Громкий смех и говор доносились с тропинки. Вамех и Миха возвращались домой.
7
За широкими окнами вокзального ресторана — безлюдный перрон. Идет дождь, многочисленные лужи на асфальте покрыты частой рябью и словно кипят. За перроном — голое полотно железной дороги, на которое надвигается с полей сероватый, рыхлый туман. Поезд давно ушел. Вокзал опустел и притих. Вдали, у водокачки стоит платформа, груженная углем. Надоедливо моросит дождь, мокнет уголь, мокнут шпалы, вдавленные в землю от постоянной тяжести составов, мокнут столбы и земля. По путям между рельсами в поисках поживы трусит лохматый бездомный пес. Нигде — ни души. В ресторане холодно и сумрачно. У окна с отдернутой шторой сидят Вамех и Алиса. Давно, с самого отхода поезда, сидят они вдвоем в пустом и холодном зале ресторана. За окном сыплет дождь. Иногда он приостанавливается, но налетает новый порыв ветра, и мелкие капли снова стучат по стеклу.
Погода испортилась с утра. Под моросящий дождь вышли они из дому, спустились по скользкой тропинке и сели в легковую машину, взятую у кого-то Шамилем. Моросило и тогда, когда они вылезли у вокзала и увидели Дзуку и Лейлу, поджидавших их. Моросило, когда появился поезд. Моросило все время, пока они стояли у ступенек вагона и острили в ожидании отхода поезда, который скоро скроется в серой пелене дождя, увозя Миха далеко и надолго.
Миха стоял с непокрытой головой, в черном пальто и ослепительной белизны сорочке — ее выстирала и выгладила ему Алиса — и, улыбаясь, шутил с Шамилем, Дзуку и Лейлой. Вежливо отойдя в сторону, стояли друзья Шамиля, а отныне и друзья Вамеха, — долговязый Резо, Бухути и еще двое. Вамех тоже был без шапки, он держался непринужденно, весело и с мягкой улыбкой выслушивал шутки Миха, своего единственного и любимого брата. Вамех стоял, будто не замечая дождя, в стареньком дождевике нараспашку, из-под которого виднелась рубаха с расстегнутым воротом. Почему-то Алисе вспомнились проводы Джемала, тогдашняя погода и Вамех, стоявший под проливным ливнем. И сейчас, как тогда, показалось ей, что этот безмерно любимый ею человек, по-прежнему глубоко несчастен, хотя с первого взгляда он, напротив, выглядел уверенным и сильным; раздвинув плечи и улыбаясь, он стоял под дождем, словно не было ни дождя, ни холода, словно Миха не покидает их, а, напротив, только что приехал, и Вамех рад снова видеть брата. Но когда он заговорил, Алису поразил его голос, какой-то незнакомый, надломленный и тоскливый.
— Ты ведь приедешь осенью? — Трепетная мольба слышалась в голосе Вамеха.
Алисе показалось, что и Миха почувствовал эту мольбу, почувствовал и потому улыбнулся излишне жизнерадостно.
— А как же! Раньше приеду.
Тянется нить расставанья, напрягается… Ударил станционный колокол.
— Непременно приезжай!
— Приеду, Вамех.
Дали свисток.
— Смотри, Миха!
— Держись!
Загудел электровоз.
— Прощай, Алиса!
Миха перецеловался со всеми и вспрыгнул на ступеньки. Поезд тронулся.
— Когда ты приедешь? — Вамех, убыстряя шаги, старался держаться рядом со ступеньками вагона.
— Скоро. Скоро приеду, Вамех!
— Прощай!
— До свидания!
Дождь сыплет вовсю. Перрон пуст. Поезда уже не видно.
Дождь шел, когда они покинули перрон и скрылись под навесом. Вамеху захотелось выпить, как загнанному животному хочется припасть к холодной родниковой струе. Никто не захотел составить ему компанию, каждого ждали дела. Все разошлись. Ушел Шамиль, окруженный друзьями, ушли Дзуку и Лейла. Вамех и Алиса остались вдвоем под навесом, сведенные и связанные чьей-то неведомой волей.
И вот они сидят в холодном и сумрачном зале ресторана. Алиса замечает, как хмель одолевает Вамеха. Он что-то бормочет заплетающимся языком. Третью бутылку допивает Вамех. По стеклу сечет дождь, нудный, непрерывный. Алисе уже не хочется сидеть здесь. Но она понимает, что никуда не уйдет. Так будет всегда. До окончания дней своих должна она нести ношу, которая выпала на ее долю, которую взвалила на нее любовь, освободительная и связывающая. Она чувствует, что Вамех несчастен, и от этого несчастна сама, но в то же время и счастлива от сознания, что разделяет его беду. Она понимает, что никогда не покинет любимого, и это возвышает ее, заставляет чувствовать гордость. Это ощущение для нее ново и чисто, оно перечеркивает страх. Она по собственной воле взвалила на себя эту ношу и верит, что будет нести ее до конца, до конца будет верна и чиста, никогда не покинет Вамеха и никогда не устанет. Она ощущает себя иным человеком, переродившимся и сильным.
— Вставай, Вамех, сколько можно пить? — твердо требует она.
Вамех мутными глазами смотрит ей в лицо.
— Хватит, поднимайся, что с тобой?
— Куда мы пойдем? Не видишь, дождь…
— Вставай, как тебе не стыдно, мужчина еще называешься!
— При чем тут мужчина?
— Что с тобой? Сколько ты намерен сидеть здесь?
— Если не нравится, можешь уходить… Ступай куда хочешь.
— И не подумаю.
— Я не тот, кто тебе нужен… Я чувствую это… Лучше уходи…
— Никуда я не пойду. Вставай, пойдем вместе. — Иди, куда хочешь… У меня другая дорога.
— Что случилось? Что с тобой, Вамех?
— Я знаю…
— Что знаешь?
— Тебе известно, что сказал Христос?
— Христос?
— Да, Христос.
— Не знаю и не хочу знать! Хватит, пошли!
— Христос сказал: всякий, совершивший грех, раб этого греха.
ЭПИЛОГ
Пришла весна. Щедрым потоком выбрасывало солнце тепло из недр своих. Ожила земля. Люди пахали землю, бороздя плугами грудь ее. Маки густым кровавым накрапом обрызгали зеленые луга. Почки лопнули и распустились. Зелень обметала ветви деревьев, окрепли молодые побеги. Пчелы прилипли к распустившимся цветам и сосали нектар. Скопившаяся в горах вода безудержными потоками хлынула в долины. Закипели, змеясь по скалам, ручейки. Запестрели поля, зазеленели леса. Распушился мох в тени молчаливых дубов. Птицы вернулись к своим гнездам, и всюду слышалось их радостное щебетанье.
Весна дышала полной грудью, всем овладевала жажда жизни и обновления, но в лесу, между корнями зазеленевшего бука, валялся трупик воробья, замерзшего зимой, и ожившие муравьи облепили его, копошась в провалах глаз. Чуть дальше на солнечной поляне паслись пятнистые олени и нежные косули. Радовались весне осторожные зайцы, прыгая в кустах со своими зайчатами. Жизнь, полная противоречий, кипела в лесу.
За лесом поднимались гордые, суровые горы. Едва заметная тропинка, петляя по склонам, обнаженным после весенних оползней, забиралась все выше и выше к зеленым пастбищам. Зимние лавины завалили дно ущелья глыбами камня и щебнем.
По тропинке идет кто-то в черном. Светлые волосы спадают на лоб. Широко шагая, путник легко, словно привидение, одолевает изнурительный подъем.
Все молчит. Вдали виднеется стадо, разбредшееся по пастбищу, и старый пастух, сидящий на мертвом валуне и потухшими глазами взирающий на мир. Путник долго, очень долго шел до старика, так долго, как это бывает во сне, когда единый миг растягивается до бесконечности. И так же, как случается в сновидениях, когда бесконечность умещается в мгновенье, вспыхнет и отгорит разом, так и путник, наконец, ступает на покатое пастбище. Остророгие быки с угрозой косились на пришельца, насытившиеся тучной травой коровы бессмысленными взглядами провожали чужака. Он подошел к старику, поздоровался:
— Здравствуйте, дедушка!
И, выпрямившись, встал перед ним, весь черный, как день кончины. Он стоял спиной к солнцу, и тень его покрывала всего старика. Старик поднял глаза, посмотрел на незнакомца, задержал равнодушный взгляд на горле, которое пересекал фиолетовый шрам, и проговорил:
— Здравствуй, сынок… Отойди чуточку, ради бога, не засти солнце.
— Солнце заходит.
— Вот и посторонись, дай напоследок погреться…
Пришелец отступил в сторону — теперь солнце освещало морщинистое лицо старика — и присел рядом.
Тишина. Отрешенно безмолвствовали уходящие вниз склоны. В молчании застыли далекие, подпирающие небо хребты. Молчала земля, переливаясь под солнечными лучами, и все вокруг представлялось далеким, давним, забытым и почти нереальным, как миг рождения. Они сидели рядом — старый и молодой — и молча глядели на солнце и землю, общую и единственную для обоих. Оба молчали, старик, по-видимому, не замечал этого молчания, потому что сжился с ним и стал частью его. Все для него было немым, скоро и он сам растворится в полном безмолвии. Все отзвучало для него, и он уже не ждал, что сей мир откроет ему что-то незнакомое. Сейчас он прислушивался к иным, нездешним голосам. Но молодой человек не мог молчать, потому что кровь бурлила в его жилах, а надежда влекла к поискам.
— Сколько вам лет, дедушка?
— Сто, — ответил старик, — сто будет…
Пришелец поднялся.
— Не устали трудиться, дедушка?
— Чего я должен устать, я для труда создан.
Удивительная тишь царила кругом. Молодой человек приготовился идти дальше.
— Куда ведет эта тропинка, дедушка?
— Эта? Вон к той горе.
— Кто-нибудь поднимался на нее?
— Не знаю, не слышал. Там вотчина владыки полей.
— Я хочу подняться туда.
Старик не ответил. Может быть, не расслышал, может быть, не понял или не поверил, а может быть, просто ничего уже не удивляло его.
— Счастливо оставаться! — попрощался пришелец.
— Будь здоров!
И путник зашагал прочь. Он быстро пересек пастбище и вышел к хребту. Глубоко внизу виднелась подернутая дымкой долина. Его было потянуло обратно, туда, в ту долину, захотелось вернуться, потому что он очень любил землю, которая расстилалась у подножия хребта. Но он перевел взгляд на горбатую гору, стоящую впереди, как цель, и она снова повлекла его к себе своими таинственностями, величием и неприступностью. Он ощутил новый прилив сил и упрямо пошел вперед. Вдали, среди сверкающих ледников, заметил он движущуюся ленту реки и решил перейти ее до захода солнца. А солнце опускалось, растекалось по горизонту кровавой горячей полосой. Все выше поднимался он. Редела трава, там и здесь встречались побеги рододендрона. Потом под ногами захрустела галька, и только ее хруст нарушал неподвижную, всепоглощающую тишину, равнодушную, как неотвратимость. Горы молчали. Все выше поднимался он по склону, и прозрачный, снеговой ветер с вершин овевал его.
Глубокая пропасть внезапно разверзлась под ногами, он замер на краю обрыва и заглянул в мрачный провал. Тьма клубилась в нем, а на дне его белела пенная и холодная, как смерть, река. Чувство одиночества пронзило путника. Он обернулся, смерил взглядом пройденный путь и попытался найти старика, но того уже не было видно. Склоны гор тонули в тени, и он понял, как давно оставил пастбище. Сейчас он был совершенно один. Почему? Ведь он мог и не быть один? Но он понимал, что это — судьба, от которой никуда не скроешься. То, что однажды случилось с тобой, повторяется бесконечно, только в различных обличьях; меняется лишь форма, а сущность остается неизменной. Внешние условия меньше влияют на человека, чем его внутренняя сущность. Именно она направляет путь каждого. Судьба — это твоя внутренняя сущность, создающая и определяющая тебя, как личность, данная тебе раз и навсегда и никогда не меняющаяся.
Именно она привела его сюда. Собственная судьба расстелила перед ним этот путь, и было очевидным, что иначе и не могло быть. Он непременно должен подняться на голубую гору, на вершине которой дочь владыки полей порхает с цветка на цветок, с былинки на былинку, присаживается на мгновение и поет божественным голосом. Ему хотелось увидеть ту красоту, тот мир, где царит полная гармония. Странная внутренняя сила толкала его вверх. Именно она вела его от светлой равнины, населенной городами и деревнями, шумом и движением, людьми и жизнью, оторвала от всего, что было дорого ему и что он все-таки решился покинуть. Он глубоко вздохнул и пошел дальше. Камни скользили из-под ног, спуск был крут, и он все ускорял шаги, не в силах остановиться, прыгал с глыбы на глыбу, налетал на кусты, порвал одежду; инстинкт самосохранения управлял им, он прыгал, хватался за ветки кустов, пытаясь задержать хоть на мгновение свой стремительный бег, скользил по осыпи и вдруг, споткнувшись, стремглав полетел вниз, скатился с откоса и распластался на каменистом берегу. Силы оставили его, и ему показалось, что он уже не поднимется, но он превозмог себя и встал. Резкая боль пронзила все тело. Он стоял на берегу реки, оглушенный ее грохотом, и казался себе песчинкой среди этих каменных громад. Но что представляют собой такие горы в грандиозном величии вселенной? Ведь и они обречены на неподвижность. Ощущение некоторого бессилия этих каменных великанов было отрадно ему. Но кто знает, может быть, горы не столь неподвижны, как представляется людям, может быть, их движение происходит в также вековые промежутки, что оно совершенно незаметно нашему глазу? Горы не неизменны, они разрушаются, мельчают, возникают вновь. Вечно только это постоянное видоизменение, но, может быть, и оно подвержено действию какой-либо иной силы?
«Может быть, и царевна цветов — реальность?» — подумал он, наклоняясь к реке и трогая рукой воду. Вода была ледяной. Смеркалось. На том берегу поднималась в небо крутая каменистая стена. Вершины горы не было видно. Вблизи она выглядела не такой голубой и манящей, какой представлялась с равнины. Но раз он пришел сюда — надо подняться. Раз начал, должен выполнить задуманное до конца. Он нашел брод, шагнул в воду, и у него сразу перехватило дыхание. Вода была такой же холодной, как и его цель, оторванная от земли и неба и существующая только в себе самой. На минуту пустой и бесплодной представилась ему вся его затея, но он отогнал это сомнение. Передохнув немного, держась за мокрую глыбу камня, он оторвался от нее, нащупывая ногой скользкие голыши, достиг середины реки, и вдруг смолк гул воды и с берега донесся чей-то голос:
— Вернись!
Он оглянулся, берег был пуст.
— Вернись! — снова позвали его, и он узнал голос Миха, своего младшего брата. Как ему хотелось обнять сейчас Миха, прижать его к груди. С какой радостью он избавился бы от вечного одиночества, которое было его судьбой, его внутренней природой.
— Вернись! — взывали к нему Миха и Алиса. Но как он мог вернуться, как он мог быть не тем, кем был? Он не мог противиться судьбе или своей одержимости, которая толкала его к тому берегу.
— Вернись, вернись!
Он узнал голоса Дзуку, Шамиля, Мейры и чьи-то незнакомые, не различимые в общем зове.
— Вернись, вернись! — Все новые и новые голоса вливались в отчаянный крик. Как он любил всех, кто звал его сейчас, как ему хотелось быть таким же, как они, но судьба или внутренняя сущность тащили его вперед. И он упрямо рассекал водовороты, с каждым шагом приближаясь к безмолвию.
Наконец он вышел на берег. Голоса рассеялись. Что это было? В полном молчании неслась река, бурля и пенясь на перекатах. «Наверное, я оглох», — подумал он.
Он опустился на мокрые камни, откинулся спиной к скале, снял ботинки и вылил из них воду. Потом снова надел мокрую обувь, затянул шнурки и встал. Мгла застлала небо. Кое-где мерцали одинокие, далекие и холодные звезды, и внезапно он забыл обо всем. Всем существом внимал он диковинному безмолвию. Он стоял у порога царства владыки полей. Кем был владыка? Богом? Он этого не знал и хотел узнать.
Он приложил ладонь к холодной скале, наткнулся на трещину и подтянулся на руках. Поднявшись, нащупал ногой выступ, уперся, дрожа от напряжения, поднял руку, ухватился за складку на камне и поднялся еще. Медленно полз он вверх, прижимаясь грудью к безжизненному телу скалы. Через полчаса ему показалось, что сверху доносится пение. Он прислушался, но услышал только, как часто бьется его сердце.
Перевалило за полночь, когда он понял, что на вершину ему не подняться. Внизу ничего не было видно. Он нащупал узкую трещину, запустил в нее пальцы, прижался к стене и замер. Ему вспомнилось детство, высокие, как эта скала, дома, окружающие двор. На широком дворе стоит он, маленький мальчик со светлой челочкой, в коротких штанишках, и слушает бродячих музыкантов. Слепой скрипач, склонив голову, медленно водит смычком, плешивый уродец-гитарист сиплым басом тянет печальную песню, непонятную и странную. Он ясно вспомнил дребезжание гитары, горестный плач скрипки, и та жалость, от которой он чуть не плакал тогда, снова защемила сердце, и он понял, что ему никуда не убежать от жалости и боли, заставлявших его мечтать о прекрасном и гармоничном мире, в котором все было определенно и где царствовало беспредельное добро. Он вспомнил, как бросали мелочь высунувшиеся из окон люди, и он сам, маленький мальчик в коротких штанишках, застенчивый и слабый, простодушный и непосредственный, бегал по двору, подбирал деньги; он вспоминал алчный взгляд гитариста, который механически тянул песню, не отводя глаз от своей шапки, лежащей на земле, в которую светлоголовый малыш ссыпал подобранную медь, и… Он потерял уверенность в том, что когда-нибудь достигнет заветной вершины. Он понял, что никогда не поднимется на нее, потому что нет никакого иного мира, кроме того, единственного, который он оставил внизу.
Оцепенев, прижимался он к скале. Пальцы слабели. Ни в вышине, ни под ногами не видно ни зги. Ночная темень застлала его путь. Опять прошли перед глазами смутные очертания прошлого — скошенные поля, лунные ночи, старый дом с высокой верандой, куда, бывало, родители привозили братьев на лето. Тогда отец и мать были живы, они укладывали их, троих сыновей своих, на этой веранде, где всю ночь было слышно, как лают деревенские собаки… Он вспомнил вкус парного молока, которое приносила им хозяйка, полуденный зной и невысокие холмы далеко за деревней. Все, что любил он, всплыло в памяти… Рассвет в городе, пустые улицы, звон первых трамваев, лица людей, которых он видел и запомнил, голубые вечера и лучи заходящего солнца на поверхности реки… Вспомнил зиму, скрип снега под ногами… Все, чем он был полон, пронеслось перед ним, и он еще отчетливее понял, что никогда не поднимется на вершину. Он не мог подняться на нее, ибо это было бессмысленно. Он изнемогал, и ему захотелось вернуться.
Желание спастись придало ему силы, с отчаянием он глубже запустил пальцы в узкую, острую по кромке щель. Кровь выступила из-под ногтей, шершавый камень сдирал кожу с ладоней, тело налилось свинцовой тяжестью, и он зубами вцепился в холодный выступ скалы. Кровь хлынула из лопнувших губ. Во рту пересохло, и голова закружилась. Ему захотелось опереться на что-нибудь, но верная спасительница — земля, от которой он оторвался, лежала глубоко внизу, и уже не было ему спасения. Горячие слезы хлынули из глаз, он дернулся в последней попытке удержаться, но страшная сила оторвала его от скалы…
Больше мы ничего не знаем о Вамехе Гурамишвили.
1966
Перевод В. Федорова-Циклаури.
ПОВЕСТИ
ЧЕРТОВ ПОВОРОТ
1
Молодой писатель давно уже сидел на обочине пыльного шоссе, ожидая попутной машины в Сванетию. Было очень жарко, и писатель обливался потом. Одет он был в достаточно выгоревшую зеленую рубаху и старые залатанные брюки, на ногах — тяжелые ботинки. Решительно не походил он на писателя серьезного и преуспевающего. Нехитрый багаж его умещался в рюкзаке, лежавшем тут же, на скамейке. По дороге, нещадно пыля, проезжали грузовики, и ни один не ехал к тем синим горам, которые четким силуэтом вырисовывались вдали.
— Ты, браток, в Джвари езжай, там скорее попутную найдешь, — посоветовал писателю сидевший рядом парень, который, очевидно, никуда не спешил, потому что уже больше часа вел беседу о футболе. Парень считал, что зугдидец Гегенава — величайший футболист, и не только во всей Грузии, но и за ее пределами. Он не говорил об этом прямо, но вывод напрашивался сам собой — не только в Грузии, но и во всем мире. — Если и в Джвари не будет машины, вернешься в Зугдиди…
Пожалуй, стоило прислушаться к совету столь симпатичного юноши, который добровольно разделял и скрашивал тягостные минуты ожидания. Писатель остановил полуторку, направлявшуюся в сторону Джвари, попрощался с новым знакомцем и полез в кузов.
Через час он был в Джвари. И едва очутившись там, вспомнил, что в этом местечке работает его институтский товарищ. Но где именно, вспомнить не мог. «Знай, я, в какой организации он работает, повидался бы с ним», — подумал писатель, вылезая из кузова и расплачиваясь с водителем.
— Здесь можно найти машину в Сванетию? — спросил он у шофера.
— Не знаю. Вон у столовой машина стоит, спроси. Я в Цаленджиху еду!
Писатель забросил рюкзак за спину и пошел к грузовику, тяжелые ботинки его с железными подковами на каблуках вдавливались в асфальт, размягченный зноем. Было очень жарко, хотя по тому, как часто солнце скрывалось за тучами и хмурилось небо — там вдали, у самых гор, — можно было предположить перемену погоды.
Писатель заглянул в кабину — никого. А в кузове — на досках, укрепленных между бортами, сидели люди с сумками, корзинами, мешками. Они оживленно переговаривались.
— Куда машина? — спросил писатель, став ногою на обод колеса.
— Не знаю, — ответил небритый, сравнительно молодой мужчина, который сидел поближе и сворачивал самокрутку.
— Как не знаешь! Сидишь в машине, и не знаешь, куда едешь? — вспылил писатель.
Женщины прервали беседу и обернулись в их сторону.
— А вы куда сами-то едете? — спросила молодуха в черном платье.
— В Сванетию, — ответил писатель, — мне надо в Бечо.
— Нет… Эта машина пойдет до Хаиши.
— Ладно, поеду в Хаиши. — Писатель полез в кузов. Он чувствовал, что его появление вызвало какую-то неприязнь, и это его раздражало.
— Ты бы, дорогой, спросил у шофера, может он тебя и не возьмет, — подал голос небритый.
— Возьмет, чего спрашивать! — Писатель уселся рядом с ним и сбросил к ногам рюкзак.
Остальные снова вернулись к своей беседе. Писатель немного знал мингрельский, но они говорили так быстро, что он успевал только удивляться, как они друг друга понимают.
А водителя все не было. Писатель уже начал жалеть, что связался именно с этой машиной. Вон только что из переулка выехала такая же полуторка и свернула на дорогу в Сванетию. Сел бы он на нее, и намного раньше прибыл бы в Хаиши! Нет, путешествие явно не задалось с самого начала! Сейчас уже двенадцать часов, в лучшем случае, если ему в Хаиши сразу попадется машина, идущая вверх, в горы, он доберется до места к девяти-десяти часам вечера. И чего доброго — ночь придется провести под открытым небом, — недовольно думал писатель.
Нужно сказать, что интуиция его не подвела, и в эту ночь ему действительно пришлось идти одному от Бечо до Мазеры и еще выше — к истокам Долры до Чихринской долины…
А шофера все не было. Теперь уже и остальные стали выражать недовольство.
— Куда он подевался? — громко спросил кто-то.
— Обедает, — ответили ему.
— Ничего себе обед, — пробурчал первый.
Еще несколько человек влезли в кузов. Они были рады, что нашли машину, да еще знакомых встретили, но те, истомленные ожиданием, радости их не разделяли и в разговор вступали неохотно.
— Поехали! Хватит! Поехали! — то и дело слышались женские голоса, но непонятно было, к кому они обращались. Скорее всего выражали вслух свое нетерпение.
Наконец появился водитель, низкорослый, лет тридцати. Что мог есть столько времени такой тщедушный человек? Все оживились, зашумели.
— Идет, идет! — радостно твердили женщины, глядя, как шофер неторопливо выходит из столовой. По дороге он еще остановился поболтать с кем-то, потом беззаботно и неспешно направился к машине.
— Слушай, куда ты пропал, мы тут сгорели в этой жарище, — загалдели мужчины, но совсем не сердито, напротив обрадованно.
Улучшилось настроение и у писателя. У самого шофера вид был довольный, веселый. Он стал на подножку и заглянул в кузов. Писатель воспользовался моментом и спросил:
— Друг, а дальше Хаиши ты не поедешь?
— Нет, — ответил водитель и стал шутить с другими пассажирами: — В чем дело, товарищи, откуда вас набралось столько?!
— Джуджгу, дорогой, подожди чуточку. Вардо в магазин побежала, сейчас вернется, — попросила шофера одна из женщин.
— А что ей в магазине понадобилось?
— Да за хлебом пошла.
— За хлебом! — воскликнул Джуджгу. — Фу ты, чуть было не забыл! — Он спрыгнул на землю и так же неторопливо пошел к магазинчику, который лепился возле столовой.
Движение — то же действие, а если человек действует, он не заскучает. Как только машина въехала в ущелье, как только показались лесистые горы по обе стороны реки — по эту и по другую, откуда, несмотря на пыль, поднятую машиной, тянуло прохладой и сыростью, крепким запахом влажной земли, мха и листьев, — у писателя сразу возродилась надежда, что там, в Хаиши, он найдет машину и доберется, куда задумал, вовремя. Он радовался, что видит мутную реку, прихотливо извивающуюся, сильную, волокущую огромные бревна, радовался, что видит кукурузные поля на склонах, а выше, на горах, тропинки, ведущие к пастбищам, — и подсознательно старался все это запомнить получше, чтобы описать, когда понадобится.
А машина тряско и шумно ехала по ущелью Энгури. На подъемах, когда мотор натужно гудел и хрипел, казалось, выбиваясь из сил, писатель не слышал разговора своих спутников, а на ровной дороге он внимательно прислушивался к ним, тем и развлекался. Женщины болтали в основном о покупках, ценах, о делах, которые их ждали дома. Мужчины — о строительстве дороги, которую начали прокладывать по другую сторону реки, — там тянулись остатки взорванных скал.
— Дорога будет что надо, — уверял рыжий длинноусый дядька в синей рубахе навыпуск, с карманами, подпоясанный серебряным пояском, которым обычно перехватывают в талии черкеску.
— Это разве дорога? — подхватил небритый, тот самый, с которым писатель заговорил вначале. — Двум машинам не разъехаться.
— Уча, сынок, — обратилась к нему сидящая впереди пожилая женщина, — это правда, что говорят?..
— Правда, — ответил Уча.
— Горе, горе! — вскрикнула женщина, проводя пальцами по щекам, словно царапая их.
— А что случилось? — всполошились остальные женщины и, приготовившись к причитаниям, приложили ладони к лицам.
— Машина перевернулась, с Чертова поворота сорвалась.
— Горе, горе! — вскричали теперь другие женщины и тоже стали ногтями царапать щеки, но слегка.
— А народу много было?
— Никого, один шофер, — ответил Уча.
— Разбился?
— Насмерть.
— Горе, горе! Женат был бедняга или холостой?
— Двое детей, мальчик и девочка.
— О, горе, горе!
— Отличный был парень, — сказал Уча, который хоть и не знал погибшего, но был доволен тем, что привлек к себе общее внимание.
— Несчастная его жена! Несчастные дети!
Писатель перегнулся через борт и поглядел вниз, туда, где волны реки угрожающе налетали на берег. Он попытался представить себе положение человека, упавшего в эту реку: «Ведь ее не переплывешь, а впрочем, пока долетишь туда с этакой высоты, о скалы разобьешься. А что, если и наша машина сорвется?» Эта мысль порядком испортила ему настроение, и он решил, что глупо думать о том, что может, конечно, случиться, а может и не случиться никогда.
— Когда мы будем в Хаиши? — спросил он Учу.
— Часа в четыре.
— Из Хаиши идут машины в Местию?
— Да кто его знает, когда идут, а когда нет.
Писатель замолчал. Попутчики его некоторое время еще поговорили о погибшем, потом о несчастных случаях вообще и в конце концов перешли на другие темы.
Дорога спустилась со склона в долину, и оглушительный шум реки на время стих. Машина шла мимо кукурузного поля, отделенного от дороги изгородью, в конце поля виднелся амбар, крытый соломой. Солнце пекло нещадно, и тень от деревьев, растущих вдоль дороги, не могла защитить от палящих лучей. Но вот дорога снова вернулась в ущелье, и снова зашумела река. Дорога тянулась вдоль реки, вернее, над ней, над ее быстрым течением, таким грозным, что писатель снова подумал — в случае чего, можно ли выплыть, выбраться из этого водоворота?
Он как раз был поглощен этой мыслью, когда машина внезапно остановилась возле пацхи, крытой тростником. Над крышей вился дымок. Пацха стояла на земле, но балкон, к ней пристроенный, висел над самой рекой. Шофер выскочил из кабины, вошел в пацху и быстро вышел обратно.
— Чего остановились? — спросил писатель.
Шофер о чем-то переговорил с мужчиной, который сидел рядом с ним в кабине, потом они оба вышли на дорогу и начали о чем-то говорить так быстро, что писатель ничего разобрать не мог.
— Почему мы стоим? — спросил он снова.
— Здесь столовая, водитель обедать будет, — ответил Уча.
Писатель взбесился.
— Слушай, друг, ты же только обедал! — крикнул он шоферу из кузова.
— А я снова проголодался, дорогой, — пояснил шофер и невозмутимо продолжил беседу.
Кое-кто из пассажиров выпрыгнул из кузова и пошел в столовую. Начали спускаться женщины. Соскочил и Уча. Был он широкоплеч, с мозолистыми большими руками трудяги, в чувяках и таких же залатанных, как у писателя, брюках. Писатель встал одной ногой на колесо, вторую тоже перенес через борт и спрыгнул.
Камешек, выскочивший из-под его ботинка, угодил в ногу одной из женщин, и она недовольно на него покосилась. Возле пацхи, в тени лежала старая овчарка и поглядывала на прибывших с выражением, не обещающим ничего хорошего.
Писатель вошел в пацху и, прежде чем подойти к прилавку, заглянул в кухню через окошко, вырезанное в стене. Худая женщина в платке мешала большой деревянной лопаткой гоми в котле, висящем над огнем, стены в кухне были закопченные, черные. В самой пацхе, на стене позади прилавка висели нанизанные на веревку сухие круги сулгуни. Пол в пацхе был земляной. Рядом с входной дверью окно, у окна стоял длинный стол с длинными скамейками по обе стороны. Другая дверь выходила на балкон, внизу под балконом протекала река, и создавалось впечатление, что стоишь на палубе маленького пароходика, плывущего против течения к истокам реки. Приятно было глядеть на быструю воду, приятно ощущать на лице ее прохладные брызги.
Балкон был перегорожен занавеской. За нею сидел водитель и еще несколько человек в ожидании обеда. Они о чем-то разговаривали. Писатель снова вошел в пацху. Молодой буфетчик, голубоглазый и светловолосый, резал огурцы и помидоры для салата. Писатель взглянул на ящики с пивом, громоздившиеся в углу.
— Холодное? — спросил он.
— Теплое.
— А что можно поесть?
— Гоми и сулгуни.
— Еще?
— Салат.
— И больше ничего?
— Ничего.
— Давай гоми и сулгуни, и еще салат.
Писатель сел за стол и только тут заметил Учу, который сидел на другом конце длинной скамьи и уплетал гоми с сыром. Когда буфетчик принес еду, писатель попросил у него две бутылки пива, одну оставил себе, вторую протянул Уче.
— Спасибо, — Уча отпил пиво. — Ух, какое теплое…
Писатель ел безо всякого аппетита. Он догадывался, что до вечера ни до какого Бечо не доберется. А от Бечо ему надо было еще долго идти пешком, и перспектива блуждать по горам среди ночи совсем его не вдохновляла. Через открытую дверь он видел овчарку, лениво бредущую по двору, ту самую, что лежала на крыльце, когда они подъехали, и она напоминала ему обо всех злых псах, существующих на этом свете. Вполне возможно, что ночью ему встретится несколько или один из таких псов — и того вполне достаточно. Одним словом, путешествие не сулило никакой радости.
Писатель не съел еще половины гоми, а к салату и вовсе не притронулся, когда перед машиной Джуджгу остановился грузовик, уставленный пустыми ящиками. Из грузовика вылезли трое и вскоре появились в пацхе. Самый высокий из них был в соломенной шляпе, второй — в сванской шапочке, третий совсем без шапки. Пожалуй, он и был шофером — крутил в руках ключи от машины.
— Здравствуйте, — приветствовали они буфетчика и посетителей.
— Здравствуйте и вы, — ответили им дружно.
Шофер сел рядом с Учей, а двое других подошли к буфету.
— Слушайте, неужели это правда, что Кочия… — спросил буфетчик.
— Правда, — вздохнул высокий в соломенной шляпе, снимая ее и отирая пот со лба.
— Бедный, бедный Кочия! — Буфетчик замотал головой.
На минуту наступило молчание.
— Вчера как раз в это время он сюда заехал, — продолжал буфетчик.
— Он случайно не пил? — спросил высокий в шляпе.
— Да нет, что ты! — Буфетчик вышел из-за стойки. — Вот здесь он сидел, — показал он место на скамье рядом с писателем, тот оглянулся, словно надеясь увидеть человека, о котором шел разговор.
— Бардга, неси гоми и сулгуни, крикнул он мне, — рассказывал буфетчик. — Нарезал я ему сыру, салат сделал и поставил, вот здесь, — он ткнул пальцем в стол рядом с тарелкой писателя. Все смотрели на писателя, точнее — на ту пустоту рядом с ним, где вчера еще, в это время, сидел человек. Писатель тоже повернул голову и старался представить рядом человека, которого никогда не видел.
— Ну, как, спрашиваю, Кочия, дела с ткемали, — буфетчик изо всех сил старался восстановить вчерашний разговор с Кочией. Он волновался, наверное, глаза его и сейчас видели перед собой не пустое место на скамье, а живого Кочию, который только вчера именно в это время сидел на этом месте. Поэтому Бардга изображал все до крайности живо и выразительно.
— Ну, как, спрашиваю, Кочия, насчет ткемали, а он мне: да будь оно трижды неладно!
— Так и сказал? — переспросил высокий в шляпе.
— Да, так прямо и сказал: будь оно трижды неладно! Потом он встал вот здесь в дверях. — Бардга подошел к выходу и показал, где вчера остановился Кочия. Все дружно повернули головы за ним и почему-то стали смотреть на земляной пол, словно силились разглядеть там следы человека, стоявшего в дверях вчера. — Бардга, сказал он мне, — сейчас у меня нет денег, расплачусь в другой раз. А я ему: как тебе, говорю, Кочия, не стыдно, что за счеты…
Мужчина в сванской шапке усмехнулся.
— Ты не волнуйся, я за него заплачу, — заявил высокий в шляпе, — но…
— Да ладно, не в этом дело.
— Погиб человек, а теперь и семья его пропала.
Третий, вошедший с ними, как определил писатель, шофер, сидел, ссутулившись, и молчал.
— Эх, бедный Кочия, — буфетчик вернулся от двери к столу, — разве я мог подумать, что такое случится… Вот тут он сидел, сюда я поставил гоми, сюда салат… Лимонад есть? — спросил он. — Нету, — говорю, — есть пиво теплое, целую неделю стоит, — вошедший в экстаз буфетчик выболтал даже профессиональную тайну. — На что мне теплое пиво, сказал Кочия.
— Значит, не выпил?!
— Ни капли.
— Ну, тогда я вообще ничего не понимаю, — развел руками высокий.
— Паршивое дело, — сказал Уча.
— Конечно, паршивое, — подтвердил сван.
— И сильно он разбился? — спросил буфетчик.
— Не говори! — махнул рукой высокий.
— Еще бы, с такой высоты… О господи! — воскликнул Бардга.
— Ну, пошли! — сказал высокий.
Шофер поднялся.
— Вы ведь в Хаиши едете? — спросил у него Уча.
Он кивнул.
— Тогда я с вами, не могу больше ждать.
Писатель тоже вскочил и кинулся к шоферу.
— А место найдется?
— Места нет, если только на ящики сядете…
— Сяду, а что делать.
Писатель расплатился с буфетчиком, потом вышел на балкон, отодвинул занавеску и поискал глазами Джуджгу.
— Скажи, сколько с меня, а то я на другую машину пересаживаюсь…
— Ничего не надо, дорогой, — с достоинством заявил Джуджгу и многозначительно поднял руку. — Счастливого пути!
Но когда писатель ушел, он досадливо подумал: «Ишь ты, какой выискался, на людях деньги предлагает!»
Со стороны писателя это на самом деле было бестактным — предлагать деньги человеку, сидящему за столом в компании, но он, во-первых, очень спешил и, во-вторых, был достаточно зол на медлительного Джуджгу, поэтому над своим поступком задумываться не стал, вернее вовсе не придал ему значения. Он выбежал во двор, вытащил из кузова свой рюкзак и полез в грузовик, заваленный пустыми ящиками. Уча уже сидел там, он взял рюкзак у писателя и помог ему устроиться поудобнее.
Машина двинулась, и очень скоро пацха скрылась из глаз.
Машина въехала в прохладный лес, потом снова вышла на равнину. Там и сям лежали штабеля бревен, обструганных, очищенных от коры и сучьев, валялись щепки и стружки. В воздухе стоял сильный и свежий запах сырого дерева. Потом они проехали мимо пасеки. На ящиках сидеть было очень неудобно, наверно поэтому сван ехал, стоя на ступеньке, ухватившись за крышу кабины.
— Когда мы приедем в Хаиши? — спросил писатель.
— Часов в пять-шесть, — ответил Уча.
— А сколько от Хаиши до Местии?
— Еще часиков пять-шесть.
Дорога была ровной, и трясло не очень. Справа от дороги показалась мельница. Перед мельницей в тени огромного дуба сидели белобородые старики и с интересом смотрели на полуторку. Машина переехала через поток, пересекающий дорогу. Вода была такой чистой и прозрачной, что просвечивали самые мелкие камушки на дне. Потом начинался пыльный проселок, ведущий в деревню, по обе стороны проселка стеной стояла кукуруза.
В огороженных дворах стояли двухэтажные деревянные дома — оды. Из какой-то подворотни выскочил пес и с лаем кинулся за грузовиком. Загорелые ребятишки шумно возились в тени. Деревня оказалась маленькой, на другом конце ее собрались женщины, и даже издали было заметно, что они взволнованы и о чем-то спорят. Машина, подъехав поближе, стала, женщины окружили высокого в соломенной шляпе, как только он выбрался из кабины, и заговорили все разом. Они спрашивали, когда заготовительный пункт заплатит им за ткемали. Высокий отвечал, что скоро. Сван стал снимать с кузова ящики и ставить их на обочину дороги. Там же стояли корзины с ткемали. Высокий наклонился, взял несколько штук, оторвал черенки и снова бросил в корзину.
— Надо отрывать черенки, — стал выговаривать он женщинам.
— Э-э! — зашумели они снова, — ты сначала заплати за те, без черенков, что мы сдали, а потом поговорим о черенках. — Они прыскали, прятались друг за дружку.
— Пересыпьте ткемали в эти ящики, на обратном пути мы взвесим и заберем, — сказал высокий.
— Да, — недовольно загалдели женщины, — вчера нам тоже так сказал шофер и не приехал, вон так и стоят полные ящики…
— Как он мог приехать, если он погиб!
— Что-о?!
— А вот то самое — на Чертовом повороте машина в пропасть сорвалась.
И пошло… Закричали женщины: горе, горе! Высокий со всеми подробностями стал рассказывать об аварии, а женщины не могли представить, что человека, который только вчера проехал здесь и оставил им пустые ящики, нет в живых.
В самом деле, странно, хотя писатель и знал, что в смерти нет ничего странного и необычного. Напротив, было бы странно, если бы люди не умирали. Но все-таки странным и печальным был тот факт, что вчера, на этой самой дороге, среди прекрасной природы проезжал человек, которого сегодня уже нет. А солнце по-прежнему обливает своим жарким сиянием поросшие лесом горы, тянущиеся, покуда достает глаз, и неспокойную реку между горами. И горы, и река выглядят сегодня так же, как вчера, как, может быть, тысячу лет назад, как в те времена, когда они впервые возникли в результате каких-то явлений и изменений в природе, потому что все на этом свете — результат каких-нибудь явлений, действий, сил, условий, которые в свою очередь только суть производные от основной, главной первопричины. Что же она такое, эта первопричина, производящая все остальное? — подумал писатель и окинул взглядом молчаливые зеленые горы, громоздящиеся над рекой, с вершинами, окутанными легкими белыми облаками. Решить этого отвлеченного вопроса писатель не мог и поэтому вернулся к реальности.
— А что все-таки случилось с тем несчастным, как его угораздило? — спросил он.
— Не знаю, да и кто это может знать, — ответил Уча.
Маленькое село со своими обитателями давно уже скрылось из глаз.
Машина поползла в гору. Чем выше поднималась дорога, тем натужнее гудел мотор. Река осталась где-то далеко внизу и уходила все дальше и дальше. Воды ее опять несли бревна, связанные в плоты, — по небольшому притоку Энгури сплавляли лес.
Машину трясло, заносило на поворотах, оставалось только удивляться, что не вываливаются из кузова ящики, прыгающие, перекатывающиеся от борта к борту.
У писателя из нагрудного кармана даже мелочь высыпалась, что отнюдь его не обрадовало: денег и без того было мало. «Небось на рубль мелочи было», — с сожалением подумал он. Время от времени машина останавливалась, сван и Уча сбрасывали ящики. Из лесу кто-то выходил, забирал тару и снова скрывался в чаще. Грузовик был от заготконторы, и сейчас, в сезон сбора ткемали, во всех деревнях поджидали агента с тарой. Машина постепенно освобождалась от ящиков. Писатель и Уча давно ехали стоя, присоединился к ним и сван. Писатель устал от тряски и грохота, расстался с надеждой вовремя прибыть в Хаиши, перестал обращать внимание на пейзаж, который когда-нибудь мог ему пригодиться. Теперь он смотрел вокруг глазами обыкновенного усталого путника, а не писателя, собирающего материал.
Шофер высунул голову из кабины, жадно вдыхая прохладный воздух.
— Ты здесь в первый раз? — спросил писателя Уча.
— Нет, но давно в этих краях не бывал.
— Ты что, геолог?
— Да.
Наш молодой писатель никогда не называл себя писателем. Во-первых, потому что был еще совсем неизвестен, печатался он очень редко. А во-вторых, надеялся стать великим писателем, а до тех пор предпочитал, чтобы его считали кем угодно, только не сереньким, никому не известным писакой. Вот и соглашался он быть и геологом, и железнодорожником, и колхозником, кем придется. С одной стороны, это было даже полезным для него.
— В Хаиши есть гостиница? — спросил он.
— Не знаю, дорогой. По-моему, нет.
Дорога теперь шла под гору. Вот уже несколько часов она то ползла вверх, то спускалась вниз. Теперь дорога пошла под уклон, спустилась опять к Энгури, где машина остановилась. Шофер, сван и высокий заготовитель в соломенной шляпе вышли и стали громко звать какого-то Уджуши и махать руками.
На краю поля, в самом начале леса кто-то обрубал сучья у поваленного дерева. Это и был Уджуши.
Он бросил топор и быстро пошел к машине. От дороги через поле шла тропинка, вела она к узенькому висячему мосту через Энгури. По ту сторону реки виднелся одинокий дом, деревянная ода, с пристроенной сбоку кухонькой, с сараем и амбаром. За домом и перед ним зеленела кукуруза, и никаких следов другого жилья вокруг.
Уджуши подошел, вежливо поздоровался.
— Как дела? — спросил сван.
— У меня все готово, — ответил Уджуши, — ящиков жду.
— Сколько набрал?
— Да килограммов сто, если не больше.
Уджуши производил приятное впечатление — мужественная внешность, хорошая манера разговаривать и держаться.
— А что, вчера Кочия совсем ящиков не оставил? — спросил заготовитель.
— Бедный Кочия, — покачал головой Уджуши, — мне сегодня Коция Гамзардия сказал.
Все замолчали. Шофер попросил у свана папиросу и закурил.
— Беда, беда случилась, — сказал заготовитель.
— Я просто не мог поверить, — сказал Уджуши.
Снова молчание.
— Бедняга Кочия оставил мне четыре ящика, но ткемали оказалось больше, — заговорил Уджуши.
Заготовитель записывал в блокнот количество розданных ящиков.
— Бери, сколько хочешь, — сказал он.
— Трех будет достаточно.
Уджуши поставил ногу на колесо и, подтянувшись, появился над бортом. Он извинился перед писателем.
— Простите, пожалуйста, я хочу ящики взять.
Писатель передал ему ящики.
Мужчины еще некоторое время поговорили об урожае ткемали, о гибели Кочии, потом стали прощаться.
— Приготовь, Уджуши, ткемали, Астамур вечером заедет и заберет, — сказал заготовитель, забравшись в кабину.
— Я буду ждать, Астамур, — сказал Уджуши шоферу.
Астамур кивнул. Машина тронулась. Писатель смотрел, как Уджуши собирает ящики и идет по тропинке через поле к висячему мосту.
Вот оно, место, откуда сорвалась вчера машина. Наконец они до него добрались. Какая прохлада в лесу, какой жуткий гул доносится из темного провала! С дороги реки не видно, а если сильно наклониться, чтобы разглядеть ее, можно поскользнуться и скатиться вниз. Река далеко, но шум так оглушителен, словно она здесь, совсем рядом. Дорога проходит по самой скале, крутой и гладкой, крутой поворот, Чертов, как все его называют. Густые заросли и папоротники делают лес почти непроходимым. Молча стоят огромные ели и клены. Вокруг тишина, земля сырая, хотя дождей нет уже с месяц, и над вершинами деревьев стоит палящее летнее солнце. Оно все равно не проникает сюда и не высушивает пропитанной сыростью почвы. Скала сочится влагой, вода стекает в овраг и там, наверно, сливается с рекой, чей гул, как угроза, выносится наверх. Белые столбики на краю дороги сбиты, здесь вчера опрокинулась машина. Все стоят и молча глядят в темную бездну.
— Вот, отсюда он… — Астамур поковырял ногой землю на самом краю обрыва.
Высокий заготовитель утер выступившие на глаза слезы.
— Бедный Кочия. Безобидный был человек.
2
Было не больше пяти, когда они приехали в Хаиши. Их машина обгоняла автобус, вставший посреди дороги, когда писатель услышал, как его окликнули. Он оглянулся и увидел, что из автобуса ему машут и кричат. Кто, он не разглядел, но все равно обрадовался. Он поспешил остановить машину, попрощался со всеми, сунул водителю деньги и побежал назад к автобусу.
А грузовик покатил дальше, своей дорогой. Отделившись от писателя, он стал независимым, недоступным его взору и восприятию.
Когда человек счастлив, все только и делают, что замечают в нем отрицательные качества, когда с ним случается беда, всем он кажется хорошим. Это общеизвестно, и спорить с этим никто не станет. Но Астамур всю дорогу думал про Кочию плохо.
Всю дорогу, пока машина не въехала в Хаиши, он вспоминал слабости Кочии, дурные стороны его характера.
Что за человек был Кочия? По мнению Астамура, был он слабый, безвольный человек, лишенный самолюбия и чувства собственного достоинства, хотя в общении вежливый, простой, скромный. На деле — скупой и жадный, копейки из рук не выпустит, а на чужой счет покутить не дурак. Астамур был на десять лет моложе Кочии и знал его с детства. Кроме того, что они были двоюродными братьями, они еще и жили по соседству, и дома их стояли бок о бок. В детстве Астамур, конечно, не замечал отрицательных черт Кочии и очень любил его. А впрочем, Кочия тогда был другим. Красивым, стройным. Не такой крупный, как Астамур, но зато с такой тонкой талией, что все восхищенно говорили: вот-вот переломится! Даже женщины ему завидовали. «Мне бы такую талию», — думали многие. Плечи у Кочии были прямые, широкие, ходил он легко, ровно. На белом лице выделялись узенькие черные усы, густые волосы он расчесывал на пробор.
А во время скачек от Кочии и вовсе глаз было не оторвать. Как ладно сидела на нем чоха с архалуком и с кинжалом на серебряном поясе. На конные состязания в Зугдиди собирается вся Мингрелия и Абхазия, иногда приезжают всадники из Имеретии. Но разве они могут сравниться с мингрелами! По бокам дороги, ведущей на ипподром, толпится народ, группу мингрельских конников возглавляет Дараселия — в черной чохе на черном скакуне. Среди зугдидцев — Кочия, башлык лихо накручен на голову. Не знал Кочия равных в «маруле» и в «исинди». Стоя на стременах, криком бодрил он коня, А видели бы вы его в «тарчии»! Быстрый и юркий, как рыба, ускользал он от противника. Однажды его взяли в Тбилиси на состязания, он и там отличился. После выступления его пригласил к себе в ложу знаменитый писатель, сам облаченный в национальный костюм. Он обратился к Кочии с такими словами:
— Твое умение напомнило мне мою неспокойную молодость. Я тоже объезжал жеребят на берегах Техури и Хобисцкали. Помни одно, мой Кочия. У породистого коня три вещи должны быть длинными: уши, шея и передние ноги; три — короткими: репица, спина, задние ноги; три вещи широкими: лоб, грудь, хребет; три — чистыми: кожа, глаза, копыта. Сын мой, Кочия, — продолжал писатель, окидывая гордым взором присутствующих, — арабский книжник и мудрец Абдель-Кадер говорил: лошадь должна быть с высокой шеей и худыми боками, волнистый хвост должен покрывать пространство меж задних ног, уши, подобные джейраньим, и устремленные вперед глаза красят истинного скакуна, грива должна быть густа, ноздри широки и черны изнутри…
С такими словами обратился к Кочии знаменитый писатель, но Кочия забыл его речи и сменил коня на баранку. Но это случилось после, а разговор с писателем состоялся до того, как Кочию взяли в армию.
Когда Кочию призвали, родители его остались совсем одни — он был единственным сыном. Астамур помогал им, как мог. А ведь он был совсем еще ребенок и у него самого на руках оставался больной отец. Но дело не в этом, а в той беззаветной и преданной любви, которую испытывал Астамур к Кочии и его родителям. Пусть Астамур был совсем еще желторотым, но он понимал, что, вернувшись из армии, Кочия должен застать свой дом в полном порядке. И он старался помочь старикам во всем — и пахать, и полоть, и за скотиной присматривать. В мечтах своих Астамур видел Кочию легендарным героем. В бурке и башлыке Кочия летел на черном коне, занеся обнаженную саблю, враги бежали без оглядки, охваченные страхом, а Кочия безжалостно рубил их и крошил, поганых врагов родины. Правда, на фотографиях, которые Кочия присылал домой, не было ни бурки, ни кинжала, но Астамур представлял себе все только так.
Очень часто он рассказывал своим сверстникам про героические подвиги Кочии и гордо сообщал, что Кочия вернется с орденами и медалями, полученными в борьбе с врагом.
— Да, но ведь война давно кончилась, — пробовали возразить ему.
Астамуру такие речи не нравились, и он сердито говорил:
— Там, где сейчас Кочия, война продолжается, только об этом не объявляют, понял?
— Но почему же? Ведь раньше объявляли…
— А потому что — это не твоего ума дело, — отрезал Астамур, неприязненно глядя на особенно недоверчивых.
Прошло три года, и Кочия вернулся, без всяких орденов и наград, но Астамур все равно счастлив был безмерно. А как он ожидал, что Кочия снова сядет на коня и покажет всем, на что он способен! Но Кочия не спешил. Вроде потерял всякий интерес к лошадям и скачкам. А еще заметил Астамур, что ногти у Кочии почернели от какой-то въедливой грязи. Что бы это могло быть?
Кочия рассказывал родным и соседям:
— Жилось мне там привольно. Научился баранку крутить и три года на колесах провел.
— А с питанием как?
— Отлично. Правда, гоми и аджики недоставало, но зимой в мороз нет ничего лучше горячего борща!
Кочия не только машину водить, но и по-русски говорить научился отменно. Вот, например, попросит у него кто-нибудь табачку, а он в ответ, да без всякого акцента: «надо свой иметь!»
Про лошадей Кочия и не вспоминал, на что ему лошадь, когда он шофером стал. Нашел себе работу в Очамчире и стал, как рассказывали, деньги загребать. Говорить — говорили, а так нипочем нельзя было сказать, что много зарабатывает, — копейки лишней не потратит, наверное, копил. А потом Кочия женился. Тогда-то и обнаружил Астамур, что Кочия — человек безвольный и слабохарактерный. Дело в том, что жену ему выбрал отец его, Тагу. Девушка была дочерью его старого приятеля, и Тагу решительно заявил Кочии: «Если ты мне сын, женишься только на этой девушке». Кочия покорился, взял в жены нелюбимую. И это в то самое время, когда в Очамчире у него была настоящая любовь. Астамуру самому нравилась красавица-абхазка, он ее один раз видел, когда Кочия привез ее на концерт в Зугдиди. А женился на другой. Астамур впервые разочаровался в Кочии. Как он мог оставить такую красавицу ради какой-то уродины, которая и двух слов толком связать не может. А та, бедняжка, все глаза себе выплакала — по рассказам самого Кочии. Он рассказывал, а сам скалился. Что, спрашивается, смешного? Астамур постепенно убеждался, что Кочия совсем не тот, за кого он его принимал. Расставшись с возлюбленной, Кочия перешел работать в Гали, а вскоре устроился в Зугдиди. Исполнилось желание его отца. А если на то пошло — что за радость женить сына на девушке, которую тот не любит? Только потому, что хочешь иметь невесткой именно ее? Но ничего не поделаешь, так уж случилось. Тагу придерживался старых обычаев. И никак не мог понять: то, что в прежние времена казалось нужным и красивым, не вяжется с сегодняшним днем. Кочия не сумел проявить характера и настоять на своем — и свадьбу сыграли. Но вскоре Тагу пришлось горько пожалеть о своем упрямстве, и не раз он проклинал день, когда взял в свой дом невестку, у той оказался невыносимый характер. С утра до вечера она не закрывала рта и не давала языку отдохнуть, от всех требовала повиновения. Мужа и свекровь она прибрала к рукам в два счета, а вот со свекром справиться не смогла. И пошло-поехало, ссоры не смолкали в доме. Кочия не мог разобрать, кто прав, кто виноват, не мог решить, чью сторону принять. Иногда он напивался и дебоширил, но наутро снова был рабом жены и покорным сыном. И тогда всем стало ясно, что Кочия — слабый, бесхарактерный и в собственном доме правого от виноватого не отличает. Пошли дети — девочка, мальчик. Кочия замкнулся, отошел от друзей. «Некогда мне, жена, дети», — отговаривался он от приглашений.
«У всех дети», — думал Астамур. Короче говоря, Астамуру не нравилось, как живет Кочия, все больше разочаровывался он в нем.
Эгоистом стал Кочия, пальцем не шевельнет ради друга, ни за какое дело не возьмется без выгоды для себя. Кочия не нравился Астамуру. И несмотря на это, когда Кочия попал в аварию, Астамур ничего не пожалел для него. Кто содержал семью Кочии те шесть месяцев, пока он лежал в больнице? Кто посылал деньги в больницу? Астамур. Ради кого он в долги залез? Ради Кочии. Выйдя из больницы, Кочия сказал: «Вовек не забуду, как ты меня выручил». Но забыл очень скоро. В том же году у Астамура умер отец. Разве помог ему Кочия в трудный час? И не вспомнил, копейки не дал, хотя зарабатывал неплохо и знал прекрасно, что Астамур весь в долгах. Но Астамур выкрутился, не ударил лицом в грязь, отца похоронил, как подобало, и еще раз убедился в том, что на Кочию надежда плоха. Нет у человека сердца, нельзя на него положиться. Астамур вообще не стал бы о нем столько думать, не приходись он ему двоюродным братом.
Потом Астамур угодил за решетку — спьяну задавил корову. Вышел из тюрьмы — хозяйство разорено. Во дворе разгром, виноградник зарос, поле не перепахано, дров, запасенных на зиму, меньше половины осталось. Кто взял? Астамур догадывался, кто это сделал, кто весь лавровый лист продал. А деньги? Как же, деньги пошли на его же, Астамура, хозяйство, ведь Кочия помогал семье брата! Оно и видно, как помогал. Но стерпел и на этот раз Астамур, слова не сказал. А разве не мог Кочия немного присмотреть за двором Астамура, ведь они живут рядом! А Кочия — свое: сделал все, что мог, у меня и своих дел по горло. В том как раз и беда, что свои интересы Кочия ставил выше всего, выше дружбы и любви, выше благородства и доброты. Есть такие люди — для них и чувство собственного достоинства ничего не значит, потому что оно есть качество духовное, а для них нет ни духовного, ни души. «Почему же, — думал расстроенный Астамур, — разве не должно быть на свете бескорыстной помощи, добра, справедливости, самоотверженной дружбы? Ведь все эти свойства возвышают человека, отличают его от животного. А инстинкты — они одни у того и другого».
Обижен был Астамур на Кочию, когда вышел из тюрьмы, и решил — отвечать ему отныне тем же. Но куда там! Попросит Кочия о чем-нибудь, а он отказать не может. Хотел бы — да не может. Вот и пасется корова Кочии во дворе у Астамура, куры Кочии в огороде Астамура копаются. Сено прошлогоднее Астамур Кочии отдал, вместо того чтобы с толком продать на базаре. Всего не упомнишь, всех одолжений, какие Астамур делал Кочии. Астамур был одинок, холост и для родственников ничего не жалел.
Прошло еще два года. И вот позавчера Астамур пришел домой с двумя дружками — накрыли стол под деревом, позвали Кочию. Тот, конечно, обрадовался, любил покутить на дармовщину. Сам он Астамура никогда на кутежи не звал, но Астамур не мог не пригласить брата. Выпили, захмелели, Астамур проводил гостей и попросил у Кочии закурить — он никогда не курил, а сейчас вдруг захотелось.
— Нету у меня, — ответил Кочия то ли в шутку, то ли всерьез.
— Дай мне закурить, только одну, — попросил Астамур.
— Ты же не куришь.
— Дай, я тебе завтра пачку куплю.
— В магазине полно, купи и кури, — Кочия нехотя полез в карман, и тут Астамур плюнул ему в лицо и закричал:
— Тьфу на тебя! Да разве ты человек!
Это случилось на глазах у родителей Кочии, при его жене и детях. Это случилось во дворе у Кочии, вся досада, накопившаяся в душе Астамура против брата, вырвалась наружу. Он размахнулся, чтобы ударить Кочию, но в самый последний момент сдержался. А Кочия смотрел на него, пораженный, растерянный, — видно, никак не ожидал этого от Астамура, но уже понял, что случилось, и когда Астамур замахнулся, он отскочил назад и испуганно съежился. И это случилось на глазах у его детей, и они видели унижение своего отца. Тогда Астамур пошел к себе. А Кочия утирал лицо, жалкий, несчастный, на лоб падали растрепанные седеющие волосы. И Астамур увидел, как постарел Кочия — кожа в морщинах, плечи сутулые, слабые. И только талия по-прежнему тонкая…
Так расстались они позавчера вечером.
— Не я буду, если не отплачу тебе, вот увидишь… — Это были последние слова Кочии.
— Проваливай отсюда, трус, — это были последние слова Астамура.
Больше они не виделись.
Вот о чем думал Астамур всю дорогу. Он думал об этом и сейчас, когда обедал в столовой в Хаиши. Перед глазами стояло лицо Кочии, темное от загара, изборожденное ранними морщинами. Какой он был жалкий, когда стоял, сгорбившись, на своем дворе, оскорбленный, униженный, и смотрел на Астамура не зло и мстительно, а скорее — обиженно и удивленно…
«Не я буду, если не отплачу тебе!»
Чем он мог отплатить, несчастный? На что он был способен?!
Астамур мотнул головой, чтоб отделаться от мыслей, и продолжал есть, но опять задумался.
«Не я буду, если не отплачу!»
Эх, бедняга! Если бы он только умел постоять за себя! Однажды в столовой пьяные шоферы вылили ему вино за шиворот. А ему хоть бы что, обратил все в шутку, да еще дома рассказал, смеясь, словно о чем-то очень забавном.
— Прямо за ворот опрокинули стакан, — смеялся Кочия, — окатили с головы до ног, хорошо, что я в старой одежде был, в рабочей.
Потом Астамуру пришлось поговорить с шутниками, чтобы они впредь не смели издеваться над его братом.
Обедал Астамур и нет-нет да о Кочии думал. С утра он не ел ничего и все равно кусок не шел в горло. Выпил два стакана вина, а аппетита все не было. Купил папиросы и закурил, хотя вообще не курил. Но и это не помогло. Себя не обманешь. Он сидел в столовой и смотрел, задумавшись, в окно, в одну точку. По дороге трусили на лошади двое пьяных. Удивительно, как они держались в седле. Спешившись возле столовой, они, пошатываясь, ввалились в дверь и шумно потребовали вина. Астамур расплатился и вышел, он не любил пьяных.
Он постоял на мосту, ущелье уже скрыли сумерки, было прохладно, почти холодно. И так же непрерывно и оглушительно шумела река. Вершины гор еще освещало солнце. Наверху лес редел, можно было различить отделившиеся от общей массы деревья, а еще выше начинались луга.
Вчера в это время Кочия, наверно, так же стоял на мосту и смотрел на горы. А может, он и не поднимал головы? Тронула или нет Астамура смерть Кочии? Конечно, да. Но не до самого сердца. Уж очень горьким было разочарование. Бедный Кочия! Какой страшный конец его ожидал! А ведь и с Астамуром может случиться то же самое. Он тоже шофер и каждый день гоняет машину по тем же дорогам. Эх, что такое человек, в конце концов! У, всех общая судьба. Все рождаются и умирают. Бедный Кочия! Может, конечно, у него были недостатки, но он был такой же человек, как все, как Астамур. Бедный Кочия! Ничего он в этой жизни не понимал, и все равно его жалко. Жил бы себе, растил детей, старился…
Интересно, почему каждый человек только свой взгляд на жизнь считает единственно верным и всеобъемлющим? Каждый доволен собой и требует, чтобы все ему уподоблялись, становились такими, как он сам. Почему не терпим мы расхождения во взглядах, во мнениях? Ведь в принципе всякая мысль — часть, отражение действительности, на действительность можно иметь миллион точек зрения, и каждый со своей личной позиции может считаться правым. Люди должны стать терпимыми, помогать друг другу и бороться сообща со злом и смертью.
Астамуру не нравился Кочия, но кто, собственно, спрашивает Астамура? Чем Кочия мешал ему? Жил себе Кочия, пусть бы так и продолжал. Отец Астамура, для своего времени человек образованный и начитанный, любил повторять: «Не судите, да не судимы будете».
Только теперь Астамур проник в суть этих слов. Кто дал ему право судить Кочию? Может, иначе Кочия жить не мог, может, он не виноват в том, что родился таким слабым и безвольным. Его ли вина, что он многого не понимал, не понимал добра, оставлял безнаказанным зло. Может, он и сам бы хотел стать другим, да жизнь не давала такой возможности. Ну, и жил бы, как мог. Чего же добивался Астамур, чего требовал от Кочии? Чтобы тот стал точно таким, как он? Поступал бы обязательно так, как Астамур, — великодушно, благородно, по его, Астамура, мнению. Но Кочия так не мог, хотя Астамур именно этого хотел. Господи, пусть бы жил Кочия по-своему. Ведь еще вчера в это время он был живым!
Астамур сел в кабину и отвлекся от воспоминаний. Он в последний раз окинул взглядом окрестности и тронул машину. Сначала он ни о чем не думал, просто следил за дорогой, по которой вчера, как раз в это время, ехал Кочия. Позже, когда Хаиши осталось далеко позади, Астамур снова стал думать о Кочии. Теперь он вспоминал только хорошее. У Кочии было много неплохих свойств. Например, он совсем не был завистливым, никогда не завидовал чужому счастью. Как он радовался, когда Астамура выпустили из тюрьмы, искренне радовался, хотя не стал устраивать кутежа, как это сделали дружки Астамура. А к чему кутежи? Разве брат меньше других обрадовался возвращению Астамура? А разве можно назвать Кочию бездушным? Разве он не плакал, когда хоронили отца Астамура? Астамур чувствовал, что горе его непритворно: ведь он как-никак племянником приходился умершему. Может, женись Кочия на той очамчирской красавице, он был бы счастливее. Может, от этого он потерял веру в себя и гордость. Может, все ему стало безразлично и он потерял интерес к жизни, не согретый любовью и радостью. Может, и не осознавал, но все равно — так оно было. А если и мучился тайком? Кто не ошибается в молодости, а ведь одна ошибка меняет коренным образом все будущее. Почему же Астамур ни разу не подумал об этом? Почему не сказал Кочии пару теплых, душевных слов, не подбодрил его? Ведь ничто так не радует, как доброе слово. Интересно, где теперь та девушка, что любила Кочию? Огорчила ли ее гибель Кочии? Бедный Кочия. Вчера, в такое же время он так же с вдел за рулем и вел машину по этой самой дороге. Сколько километров осталось до Чертова поворота? Должно быть, три. Проезжая здесь вчера, Кочия не знал, что ему осталось жить каких-нибудь полчаса. Он, наверно, смотрел вперед и видел все то же, что сейчас видит Астамур, так же грохотал его грузовик на спуске и он совсем не думал о приближающейся смерти.
Астамур поглядел вниз — в ущелье спустился туман и скрыл реку. Стало темно, и Астамур включил фары. На повороте фары осветили смутные кусты на краю дороги. Пустая машина подъезжала к Чертову повороту. Медленно, но упорно приближалась она к Чертову повороту. Астамура почему-то пугало это место. Ведь вчера, точно в этот час здесь был Кочия.
— Горе тебе, Кочия! — вздохнул он и почувствовал, как слезы набегают на глаза.
Вчера, в это же время, может, чуть позже, а может, чуть раньше, Кочия так же приближался к Чертову повороту. Эх, нехорошо относился Астамур к несчастному Кочии.
«Не я буду, если не отплачу тебе!»
Как же он теперь отплатит!
Астамур нажал на газ и прибавил скорость, чтобы побыстрее проехать мрачное место.
Машина все набирала скорость, и вот он показался, Чертов поворот. Неприятно очутиться здесь одному. Астамур погнал грузовик быстрее — скорее прочь отсюда. Здесь всегда холодно, а сегодня особенно. Вчера, как раз в это время, был тут Кочия и жить ему оставалось считанные минуты. А ведь и с Астамуром может случиться такое же. Конечно, может, но он знает, что не случится.
«Бедняга Кочия», — думает Астамур, и машина летит на предельной скорости, взлетает на крутой поворот, скользит — и вот уже передние колеса в воздухе. В воздухе, а не на земле передние колеса, но растерявшийся Астамур все еще не верит, не верит, что это возможно, он изо всех сил выжимает тормоза, врастает в сиденье, уже обреченный, уже отчаявшийся, но видит только, как с молниеносной быстротой летит навстречу река и в сознании звучит, как последний вопль: неужели?.. Неужели?..
На другом берегу, на пологом склоне горы у костра сидят пастухи-табунщики, готовят ужин. Один — молодой, совсем мальчик, второй — мужчина средних лет.
Вдруг мальчик вскакивает на ноги и кричит:
— С Чертова поворота машина сорвалась!
— Знаю, — старший удивленно смотрит на мальчика.
— Да не вчера, а сегодня, сейчас, вот только что!.. Я своими глазами видел.
— Тебе показалось.
— Честное слово, я сам видел! Светили фары, а потом погасли — и все.
— Не может этого быть, — рассердился старший.
— Почему не может?
— Потому что вчера в это время, на этом месте перевернулась машина… Не может быть, чтобы на одном и том же месте, в один и тот же час, подряд сорвались две машины.
— А почему не может?
1965
Перевод А. Беставашвили.
ПОГОНЯ
1
Последний летний месяц на исходе. Еще жарко, но тушины[45] уже перебираются на зимовку в долину. На поле, приспособленном для посадки вертолета, свалены туго набитые мешки, вьюки и головки сыра, завернутые в овечью шкуру. Вертолета нет вот уже два дня, и о чем-то бесконечно спорят мужчины, собравшиеся возле своей поклажи. На краю поля пасутся лошади. В тени одноэтажного каменного дома прячутся в ожидании вертолета женщины. Окруженные детьми, они коротают время в разговорах и вязании. Одни сидят на камнях или на ящиках, другие стоят, спиной прислонясь к стене. Чуть поодаль, но тоже в тени, прямо на земле сидит Мушни. Он обеспокоен тем, что вертолета нет и воздушный путь перекрыт, но боль в недавно вывихнутом плече порой заставляет забыть обо всем. Он забывает о том, что натворил вчера, о том, что может повлечь за собой его опрометчивость, если он вовремя не уберется отсюда. Ни о чем не дает думать всепоглощающая боль, которая жжет и терзает, как птица со стальным клювом, безжалостно рвет, клюет, словно бы на куски разрывая его тело. Больную руку он засунул под старый потертый пиджак. Синие джинсы, узкие и выгоревшие, заправил в сапоги, на сапогах засохла грязь. Светлые волосы прилипли ко лбу, смуглые, обожженные солнцем щеки запали и покрылись щетиной. Голубые глаза его будто выцвели и устремлены в пространство. Сидит Мушни на земле, чувствует, как правый внутренний карман оттягивает заряженный револьвер, и горько улыбается. Все странное и нелепое должно приключиться именно с ним! Вспоминает Мушни вчерашний день, принесший с собой столько неожиданных забот и хлопот, но о своем поступке не сожалеет. Он сидит усталый, опустошенный, ослабевший от боли и в короткие промежутки, когда боль немного отпускает, успевает подумать: был бы я тушином, женился на тушинке, жил бы себе в маленьком домике, со своей отарой овец, никуда бы не уезжал отсюда…
В это время из финского домика выходит Тапло — ветеринарный фельдшер из Телави. Сюда ее прислали на борьбу с ящуром. Отец ее в свое время был знаменитым силачом и наездником. Поэтому ее все знают и относятся к ней с уважением. Она красивая, высокая, стройная; полная грудь, талия тонкая, ноги упругие, породистые. Ей очень к лицу черное платье. На ногах у нее пестрые вышитые ноговицы, надетые поверх цветных шерстяных носков. Под ними — обыкновенный тонкий капрон — тоже черный. Голова Тапло повязана платком на тушинский манер, волос не видно, только на лоб спадает несколько прядей блестящих и черных. У Тапло высокие брови — дугами, нос маленький, с горбинкой — ястребиный. Она очень похожа на портреты грузинок начала девятнадцатого века, встречающиеся в учебниках истории и некоторых трудах по этнографии.
Выйдя из финского домика, Тапло замечает, что молодой лесник Гио, живущий со своей семьей в этом же домике, седлает лошадь.
— Ты куда собрался, Гио? — негромко спрашивает Тапло. Голос у нее низкий, даже чуть хрипловатый, но к ее внешности он как-то подходит.
Гио протягивает руку в ту сторону, где над ельником, покрывающим противоположный берег реки, — самой реки отсюда не видно, — столбом поднимается дым. Дымный столб этот Тапло видит уже четыре дня, но она не задумывалась, что это такое.
— Лесной пожар, — объясняет Гио.
— Отчего лес загорелся? — спрашивает Тапло, как будто ее это в самом деле очень интересует.
— Молния, неделю тушим, и никак.
— Как вы воду на такую высоту поднимаете?
— А мы без воды, рубим деревья и огонь засыпаем землей. Только мало нас, не справляемся.
— Такие герои, и вдруг не справляетесь!
— Мало нас, рук не хватает.
— А красивые у вас ребята?
Гио смеется:
— Тебе-то что за дело?
— Люблю на красивых парней смотреть.
— Вот узнает твой жених…
— Кто его спрашивает! — Тапло улыбается. — Если встречу кого получше…
Гио знает, Тапло веселая, на язык остра, любит пошутить.
Она идет вдоль серого одноэтажного дома к большой брезентовой палатке, где расположился ветпункт. Она проходит мимо толпы, ожидающей вертолета. Выражение лица у нее строгое, деловое, держится она с достоинством. Хотя пошутить и поострословить она всегда не прочь и характер у нее веселый, с первого взгляда этого не скажешь — так она сдержанна.
Тапло замечает Мушни, сидящего, или скорее полулежащего, в тени, еще выше поднимает брови и проходит с безразличным видом. На самом деле его лицо запоминается ей.
Мушни тоже видит Тапло, провожает ее равнодушным взглядом. Боль на мгновение исчезает. Наморщив лоб, он поднимает глаза к небу. Там никаких изменений. Небо такое же, каким было с утра, — чистое, голубое, с клочьями белых облаков. Время словно к месту примерзло, не движется совсем. Снова грызет его проклятая боль. Как хочется измученному телу покоя, уюта, ласки, как истосковался он по прикосновению теплых женских рук, нежных пальцев. Но усталое сознание не успевает запечатлеть этой тоски и желания, и Мушни не знает, что так приятно поразило его, что заставило на секунду забыть о боли, а вскоре он и вовсе забывает, что на какое-то мгновение почувствовал себя безмятежно.
2
Солнце стало клониться к западу, вокруг разлилась прохлада. На солнце теперь было куда приятнее, чем в тени.
Вертолет не прилетел и сегодня. Толпа начала расходиться. Женщины с детьми потянулись к деревне на ночлег — у всех там были знакомые и родственники. Мужчины оставались с вещами — ночевали они под открытым небом, завернувшись в бурки.
Мушни с трудом встал на ноги. Во рту было сухо, и кружилась голова. Превозмогая слабость, он сделал несколько неуверенных шагов. Остановившись, безрадостным взглядом окинул окрестности. Со всех сторон подступали холодные безмолвные горы, и долина, зажатая между ними, показалась ему тесной, как тюремная камера.
Мушни направился к роднику. Шел он по широкому полю медленно, устало ссутулившись, засунув болевшую руку за пазуху. Безжалостная, острая боль словно отупляла, разгоняя мысли.
Впереди он заметил девушку с пузатым кувшином на плече. Она шла ему навстречу, и кувшин был уже полон. Поравнявшись с ним, девушка, раскрасневшаяся от ходьбы, смело ответила на его взгляд. Усталой она не казалась, но, отойдя немного, поставила кувшин на землю и встала подбоченясь. «Ничего, придет домой и отдохнет», — подумал Мушни и почувствовал, что завидует девушке. Ему стало грустно.
До самого родника преследовала его эта грусть, вернее тоска — вроде какой-нибудь бездушной твари или, напротив, бесплотного духа. Но возле воды печаль рассеялась. Он неловко присел, встал коленями на мокрые камни и жадно приник губами к деревянному желобку. Иссохшее нутро вобрало в себя влагу, насытилось. Холодок воды взбодрил его. Он встал, мокрыми пальцами провел по лицу, по упавшим на лоб волосам. Сначала было приятно, но потом его вдруг зазнобило. Весь день ему было жарко, все тело горело, но лишь просох пот — снова захотелось тепла. Мушни поднялся на холмик и сел на валун, с удовольствием подставив спину последним закатным лучам. Мушни сидел, уставившись в одну точку, и ни о чем не думал.
Под ним был овраг, противоположный склон зарос кустарником, оттуда доносились невнятные голоса. Они перекликались, звали друг друга, но никого не было видно. Мушни догадался, в кустах возились дети — вышли собирать малину. Среди звонких детских голосов выделялся густой бас. Беззаботные мальчишки и девчонки были где-то совсем рядом, и Мушни стало обидно, что он их не видит.
— Дедушка! Деда! — звонко раздавался детский голосок.
Это, наверное, самый маленький отстал от своих и испугался, вот и кричит, как заблудившийся ягненок.
— Де-ед!
Мужской голос отозвался издалека. Дедушка шел на помощь. И Мушни вдруг проникся безграничной любовью к этому невидимому ребенку, всем существом почувствовал его страх и разделил его радость.
— Дедушка! — нетерпеливо звенел детский голосок, и сердце Мушни наполнялось добрым теплом оттого, что совсем скоро дедушка отыщет внучку в коротком платьишке или босоногого внука, приласкает и поведет за руку домой. Мушни даже по-хорошему позавидовал тому счастью, которое вот-вот испытает ребенок при виде спасителя-деда, должно быть еще бодрого и крепкого, надежного. Как приятно без сомнений и колебаний довериться его любви, отдаться его заботам.
У Мушни сжалось сердце, он словно превратился в беспомощного, чувствительного ребенка. К глазам подступили слезы, Мушни радовало, что отставший ребенок был таким счастливым, хотя и не сознавал своего счастья, и печалило, что самому не довелось пережить такое. Захотелось вдруг иметь деда или какого-нибудь близкого человека. Раньше он не испытывал подобных желаний. Мушни очнулся от слез, омочивших щеки. Очнулся, и исчезло, умерло поднявшееся откуда-то из глубины тепло, стремившееся заполнить его и даже перелиться через край. Непроявленная печаль обратилась в горечь и сладкий детский лепет, удалявшийся и терявшийся, гаснувший вдали, как наивная мечта, уже ни о чем не говорил ему, не будил никаких желаний. Он сидел настороженный, затаив дыхание, и чувствовал только, что становится холодно.
Солнце еще ниже склонилось к западу, и на окрестные холмы легла густая тень. Но Мушни был так поглощен собой, что долго ничего не замечал. А когда обнаружил, что давно наступили сумерки, встал и пошел к поселку.
В одном конце длинного каменного дома расположилась столовая. У входа стояли несколько мужчин. Мушни вспомнил, что весь день ничего не ел. Есть не хотелось, он и не вспоминал о еде, пока не увидел столовую и мужчин у двери. Пожалуй, так он и совсем ослабнет, надо хоть немного подкрепиться. Нехотя поднялся Мушни по каменным ступенькам и в дверях обернулся — красивый парень гарцевал на горячем черном жеребце. Мушни загляделся на них, затаив в груди завистливый вздох. Парень то поднимал коня на дыбы, то отпускал узду. Только разойдется скакун, наездник опять натягивает удила, подчиняя его себе. Лошадь, как видно, была чужой, и он приучал ее к себе.
Мушни продолжал думать о всаднике и в столовой. Хороший всадник всегда производил на него впечатление. Может, потому, что сам он был посредственным наездником. Конечно, умей он как следует держаться в седле, вчера не свалился бы с той клячи. В углу комнаты за столом сидела большая компания, и Мушни, заметив ее, досадливо поморщился.
Он попросил чего-нибудь поесть у некрасивого тощего буфетчика, который не показался ему местным. Тот предложил остывшие хинкали.
— Разогрею на сковороде и принесу, — пообещал он.
— Ты, наверное, не здешний, — сказал Мушни, ему было безразлично что есть.
— Почему же? Здешний я, у меня в Алвани дом и семья.
Мушни сел за стол возле самого прилавка. У стены стояли ящики с бутылками кахетинского, того самого, что пила компания.
Мушни сидел у стола и смотрел в открытую дверь на опустевшее поле. Смеркалось. Снаружи доносился громкий разговор, но Мушни не вслушивался, о чем говорят, удовлетворялся звучанием голосов, не вникая в отдельные слова. Сейчас он воспринимал мир только глазами, ибо не мог ничего слышать. Вернее, слышать мог, но не мог выносить смысл из услышанного, внимание его было утомлено и рассеяно. Он только отметил, что снаружи кто-то о чем-то говорит. Потом увидел, как всадник подогнал коня к столовой, спешился и вошел в открытую дверь с плетью в руке. Ворот его просторной, перехваченной ремешком рубахи был распахнут. Маленькие усики и кудрявые черные волосы красили смуглое разгоряченное лицо. Вошедший внимательно посмотрел на Мушни, встретившись с ним глазами, спокойно выдержал его взгляд и направился в угол, где сидела компания. Там сразу заговорили громче и оживленнее, но Мушни опять не понимал, о чем они говорили, просто отмечал про себя, что беседа веселая и непринужденная.
Буфетчик поставил перед ним горячие хинкали. Мушни равнодушно посмотрел на тарелку. Он был голоден — и не мог есть. Только он взял левой рукой хинкали, как его окликнули. Уйдя в себя, словно в берлогу, он не столько расслышал, сколько угадал, что обращаются к нему, и напрягся, как зверь с приближением опасности. Он рывком поднял голову. Только что вошедший парень стоял совсем рядом и, улыбаясь, говорил ему:
— Когда человек один — ему кусок в горло нейдет. Пожалуйте к нашему столу.
Вымученная улыбка искривила губы Мушни, он медленно поднялся и пошел к ним. Отказаться было нельзя, хоть очень хотелось побыть одному. Ему придвинули стул, он вежливо кивнул и молча сел.
Молодой красивый парень, тот самый, что пригласил Мушни к столу, спросил, как его зовут. Мушни ответил.
— Мушни? — повторил горец удивленно. — Вы грузин?
— Да.
— Я что-то такого имени не слыхал.
— Абхазское имя. Объяснения оказалось достаточно.
— А меня зовут Квирия.
Один из мужчин, — самый почтенный, с тушинской шапочкой на седых волосах, с руками и плечами, говорящими о недюжинной силе, — наполнил чайный стакан и поставил его перед Мушни.
— Выпей, племянничек! — Хрипловатый низкий голос его показался Мушни добрым и внушающим доверие.
Мушни поднял стакан, обведя рукой присутствующих в знак того, что пьет за всех, и разом осушил его. Он заметил, что все смотрят с удивлением на то, как он ест левой рукой и левой же рукой поднимает стакан. Но никто его ни о чем не спросил. Только поинтересовались, впервые ли он в Тушетии. Мушни ответил, что впервые. Второй стакан выпили за здоровье Мушни. И снова никто не спросил, кто он и откуда или зачем сюда приехал. И Мушни вдруг показалось, что эти люди знают о нем решительно все. От третьего стакана Мушни захмелел, на какое-то время впал в забытье и пришел в себя от шума. Мгновенно отрезвев, он увидел, что в столовую вошла высокая красивая девушка.
— Иди, Тапло, садись с нами, — пригласил Квирия, но Тапло отказалась.
— Я же вина не пью, — сказала она, но по тому, как непринужденно девушка держалась с мужчинами, было видно, что она в конце концов согласится.
— Да брось! Как это можно, чтобы дети такого отца вина не пили! — гремел седой великан по имени Гота. Он высился над столом и неуклюже размахивал огромными, с добрую лопату величиной, ручищами. «Ну и медведь», — с внезапной теплотой подумал Мушни.
— Вы не потеснитесь немного? — смело, даже с вызовом, обратилась к нему Тапло, глядя на него сверху вниз.
Мушни подвинулся к Квирии, и Тапло, придвинув стул, села. В столовой было уже темно, буфетчик зажег свечу. Тапло подняла наполненный стакан.
— Бог в помочь! — коротко произнесла она и лихо, по-мужски осушила стакан.
— Будь здорова, дочка! — восхищенно воскликнул Гота.
— А с этим юношей вы меня не познакомите? — без всякого смущения, глядя прямо в глаза Мушни, спросила Тапло.
Мушни назвался и протянул ей левую руку.
— Уж не приглянулся ли тебе наш гость? — захохотал Гота.
Тапло тоже рассмеялась.
Мушни решил, что она смеется шутке Готы, но она смолкла, нахмурилась, посмотрела на протянутую к ней руку Мушни и недружелюбно произнесла:
— Я смотрю, в ваших краях вежливостью гнушаются.
Мушни не сразу понял, почему она обиделась. Но все вокруг улыбнулись ему сочувственно, и он догадался.
— Простите, у меня правая рука болит.
— В таком случае прощаю, — насмешливо улыбнулась Тапло. — А что с вами случилось? — Она пожала Мушни левую руку.
Мушни понимал, что она тоже настроена пошутить, но всех остальных всерьез интересовало, что он ответит.
— Я вчера свалился с лошади и вывихнул руку.
— Раз не умеете ездить, не надо было садиться, — съязвила Тапло. Мушни не обиделся.
— Хватит тебе, Тапло! — прервал ее Квирия и мягко опустил руку на плечо Мушни. — Рука все еще вывихнута?
— Теперь уж нет, — ответил Мушни. — Я сам ее вчера вправил. Но здорово распухла и болит. Кажется, у меня температура…
— Я тебя завтра к своей бабушке отведу. Ее мазь по всей Тушетии славится. Она тебя живо вылечит.
Все поддержали Квирию. Мушни поблагодарил. Потом выпили еще по стакану. Мушни чувствовал свинцовую тяжесть во всем теле. Хотел раскрыть глаза и не мог, хотел извиниться и выйти на воздух, но язык не ворочался. Вокруг все качалось и кружилось. И в конце концов исчезло, как исчезают деревья и кусты, поглощенные неожиданным густым туманом.
3
Мушни положил голову на стол и заснул как убитый. Он не слышал, как Гота завел песню:
Мушни не слышал и того, как Тапло подтрунивала над ним: «Не шумите, ребята, человек спит!» Потом компания разошлась по домам — утром всех ждали дела. Не помнил он, как его отвели в темную кладовую и уложили на скрипучую тахту. В каморке было тесно и грязно. На полках и на полу лежали закопченные котлы и кастрюли, по стенам было развешано какое-то тряпье. Мушни не слышал, что говорили мужчины, когда стояли возле тахты и глядели на него, беспомощного, чужого и жалкого своей беспомощностью. Не почувствовал он и того, как после ухода мужчин Тапло осторожно сняла с него пиджак и укрыла. Но боль при этом он ощутил, застонал, заговорил с Тапло, даже как будто узнал ее, но тут же опять погрузился в сон.
Мушни не знал, что люди ушли, повесив на дверь столовой большой замок. Он остался один в темной кладовке. А снаружи звездами блистало небо, изредка срывалось с высоты опрометчивое небесное тело, кинжальным лезвием вспыхивало во тьме и терялось в бесконечности. Холодное молчание гор нарушалось лишь конским ржанием. Но Мушни ничего этого не видел и не слышал. Он лежал, отгороженный от мира четырьмя стенами, обреченный на одиночество. Прожитая жизнь уже успела наложить свой суровый отпечаток на лицо парня, которому на вид было не больше двадцати четырех лет. Правда, врожденная беспечность или свойственная молодости беззаботность смягчали ожесточенное выражение его лица, и тогда сквозь огрубевшие черты проступала надежда, забытая там, в далеком отрочестве.
Сейчас Мушни спал. И ему снилась Тапло. Как будто, взявшись за руки, они шли по огромному бескрайнему полю. Рука девушки источала тепло, которое проникало прямо в душу. И он любил Тапло невероятно и чувствовал, что и она его любит.
А поле все не кончалось, и Мушни казалось, что свобода его бесконечна, как это поле. Мушни спал и был счастлив. Наверное, усталое тело его и душа искали и находили во сне то тепло и заботу, которых были лишены наяву.
4
Когда он проснулся, было светло. В кладовке дурно пахло, утренний свет, проникавший в окно, позволял рассмотреть беспорядочно разбросанную грязную посуду. И Мушни вспомнил, где он находится, только не мог сообразить, как сюда попал и кто его привел. И ему стало стыдно, что он опьянел до бесчувствия, хотя и выпил немного. Это было результатом той ночи, которую он накануне провел без сна, под деревом, и чуть было не замерз. Но стыд постепенно прошел, и он понял, что чувствует себя значительно лучше. Он отдохнул и даже подумал, что, может, и рука прошла. Но поднять ее не смог, боль не позволила. Тогда он вытянулся на тахте и стал глядеть в грязный потолок. Надоедливо жужжали и роились под потолком мухи. Из-за стены доносился мужской голос. Мушни сразу узнал голос тощего буфетчика. Сейчас он, пожалуй, будет относиться к нему презрительно, чего не посмел бы вчера.
Но что поделаешь? Мушни встал с тахты и вдруг очень явственно вспомнил свой сон и как сильно любила они с Тапло друг друга. Какое блаженное и сладкое было чувство! Но теперь, когда рассвело и явь разрушила мир сна, Мушни испытал горькое разочарование, он как будто что-то потерял. И еще понял, что причиной того счастья и сладости, что он испытал, была не Тапло. Эта нежность скопилась в нем самом, и он просто передал ее во сне Тапло, чтобы получить от нее обратно, испытать усладу, исходящую от другого существа. А в действительности все обстояло иначе. Наяву Тапло не была и не могла быть такой, какой придумал ее в своем сне Мушни.
Он взял пиджак и сразу заметил его непривычную легкость. Проведя рукой по карманам, убедился, что револьвера нет. И удивился — выпал, что ли? Заглянул под тахту, вытащил чью-то старую изношенную обувь, принялся искать револьвер, но не нашел. Он никак не мог припомнить, кто снял с него пиджак, кто его этим пиджаком укрыл. На душе было скверно, и он еще пуще рассердился на себя. Потеря револьвера расстраивала, а воспоминание о вчерашнем кутеже стало неприятным вдвойне.
Он толкнул дверь и очутился в том помещении, где они вчера выпивали. Стол, за которым накануне они сидели, еще не был убран. Мушни вышел на крыльцо и увидел залитый солнцем росистый луг. Спустившись по ступенькам, он столкнулся с буфетчиком. У того был деловой озабоченный вид, он и не думал насмешливо улыбаться и только спросил с дружеским участием, как гостю спалось. Мушни ответил, что хорошо, и в свою очередь спросил буфетчика, не находил ли он чего-нибудь в столовой. Буфетчик поднялся по ступенькам, и Мушни последовал за ним. Пиджак он держал в руке, и утренняя свежесть прохватила его порядком.
— А что я должен был найти? — спросил буфетчик.
— Да так… Думаю, может, нашли… — неопределенно ответил Мушни.
— А ты потерял что-нибудь?
— Да.
— Деньги?
— Да нет. Другое.
Буфетчик пошарил глазами по полу.
— Нет, ничего вроде не видел.
Мушни старался перехватить его взгляд. В чудно́м картузе с длинным козырьком небритый буфетчик выглядел пройдохой, но сейчас, пожалуй, он не лгал.
Он направился в кладовку, где спал Мушни, поискал там.
— Документы?
— Да вроде…
— Может, наши ребята взяли. Надо бы их спросить.
— А где я их найду?
— Не знаю, — задумался буфетчик. — Гота и Квирия вернулись чуть свет в отару.
Мушни вспомнил, что Квирия обещал его свести к бабушке — руку лечить, и невольное подозрение кольнуло его. Не то чтобы он подумал, будто Квирия унес револьвер, но ему не понравилось, что парень забыл о своем обещании.
«Никому нельзя верить», — мрачно подумал Мушни.
— Ладно, обойдусь! — проговорил он.
— А может, ты где-нибудь в другом месте потерял, да не помнишь? — На лице буфетчика мелькнуло нечто вроде участливой улыбки. — Знаешь, как ты вчера опьянел?
Нет, нигде больше он револьвера потерять не мог, потому что до того времени, как он пересел к общему столу, все помнится очень ясно, и револьвер тогда был при нем. А, стоит ли об этом думать!
Мушни вышел из столовой и зажмурился от яркого солнца. На траве сверкала роса. Возле каменного здания так же сидели женщины с детишками. Мужчины, сгрудившиеся вокруг поклажи, по-прежнему галдели и шумели. Небо было чистое, без единого облачка. «Слава богу, хоть погода летная», — удовлетворенно подумал Мушни. Он смешался с толпой в надежде встретить кого-нибудь из вчерашних знакомых и разузнать про револьвер. И в то же время, стыдясь своего опьянения, не хотел никого видеть. Возле дощатой будки, выкрашенной белой краской, где продавали билеты на вертолет, Мушни увидел начальника местного аэродрома. На ногах у него были тушинские, связанные из грубой шерсти ноговицы, на голове — форменная фуражка. Мушни спросил, будет ли сегодня вертолет. Начальник уверенно ответил, что будет. И Мушни позавидовал этому человеку: ему-то все равно, летная погода или нелетная. Он ведь никуда не спешит!
Мушни спустился в овраг к знакомому роднику, положил на камень пиджак, по чьей-то милости теперь пустой и легкий, и стал умываться. Растер холодной водой грудь, и хотя по телу пробежал озноб, это прибавило ему бодрости и энергии. Он еще раз попытался поднять больную руку, но не смог.
Вернувшись на летное поле, он заметил среди женщин Тапло и внезапно так разволновался и растерялся, словно все, увиденное ночью во сне, произошло в действительности. Тапло разговаривала с каким-то мужчиной, который стоял к Мушни спиной. Мушни стало стыдно. Он вновь припомнил вчерашний вечер и то, что какой-то отрезок времени совершенно выпал из его сознания. Мучительно теснила сердце мысль о том, что эта девушка видела его в помутившемся разуме. Он ведь ничего не помнил сегодня — как себя вел, что говорил и как оказался в кладовке. Подумав обо всем этом, он совсем смутился и решил обойти Тапло стороной, хотя у нее и можно было бы разузнать, как закончился вчерашний вечер и что-нибудь выведать о револьвере. Разузнать-то можно было, но не стоило. Теперь лишь бы вовремя унести ноги отсюда, а о револьвере беспокоиться нечего. Он только повернулся, чтобы обойти дом и устроиться где-нибудь на краю поля подальше от глаз Тапло, как услышал:
— Мушни!
Это был голос Тапло. Стало приятно, что она окликнула его, сразу увидела и узнала, хотя он этого и не заметил. Он обернулся и вдруг узнал в собеседнике Тапло своего сослуживца, молодого геолога, всего лишь несколькими годами старше Мушни, по имени Ладо, тихого, скромного человека. Мушни обрадовался, узнав Ладо, хотя вряд ли мог услышать от него что-либо отрадное. Когда Мушни подошел, Ладо поздоровался с таким трагическим лицом, что Мушни чуть не рассмеялся и одновременно понял — дела его крайне плохи.
Однако первая мысль, которая пришла ему в голову, была о другом: откуда Ладо знает Тапло? Такой скромник ни за что не заговорит с незнакомой женщиной! Видимо, он знает ее давно. Наверно, оба они не первый раз в Тушетии.
Мушни не любил, когда люди от неожиданности теряли над собой контроль. Но именно так случилось с Ладо. При виде Мушни он раскрыл рот и бросился к нему, позабыв о присутствии посторонних.
— Мушни! Ты еще здесь? А я радиограмму дал… Начальник приказал… Теперь в долине тебя милиция будет ждать, а может, и сюда милиционеров пришлют, с вертолетом. Если бы я знал, что ты еще не улетел, я бы задержал радиограмму. Почему ты здесь?
— Погода была нелетная, — сквозь зубы процедил Мушни. Он покосился на Тапло и заметил, что она слушает очень внимательно, хотя делает вид, что их разговор нисколько ее не интересует.
От Ладо не укрылось, что Мушни разозлился, но он приписал это злосчастной радиограмме, не понимая, что Мушни злится из-за другого: зачем он выбалтывает все при девушке, которой совсем не обязательно знать, что угрожает Мушни?
— Я не виноват, честное слово! — начал оправдываться Ладо. — Я думал, тебя здесь нет. Знал бы, ни за что не послал бы радиограмму…
Мушни усмехнулся. Он вовсе не считал Ладо виновным. Он заранее знал, что так оно все и будет, и теперь со злорадным удовлетворением отметил, что предчувствие его не обмануло.
— Что ты будешь делать? — испуганно прошептал Ладо.
— Ничего. — Мушни был спокоен и смотрел на Тапло. Она еще пыталась сохранить на лице безразличие, но сдерживаемый интерес все равно проступал сквозь ее мнимое равнодушие.
— Ведь тебя арестуют! — не отступал Ладо.
И Мушни вдруг почувствовал, что все, чего ом так остерегался и боялся, безмолвно приближается, надвигается на него и может сегодня уже претвориться в явь. Он растерялся, надежда на благополучный исход исчезала, но придумать что-либо было невозможно, и ему не хотелось больше разговаривать о случившемся. Он молчал.
— Так что же ты будешь делать?
Мушни не знал. Не знал — и все. Нужно время, чтобы подумать и решить, как быть дальше.
— Вообще-то тебе ничего не сделают, — продолжал Ладо. — Ты был прав. Но вот револьвер, пользование оружием…
— Знаю.
— Хотя рана у него легкая, совсем пустяковая.
— Это не имеет значения.
— Да… Что ж ты делать-то станешь?!
— Если бы не рука, придумал бы что-нибудь, а сейчас даже думать не могу, так болит проклятая!
— Между прочим, я вас жду, — вмешалась Тапло. — Квирия велел мне проводить вас к его бабушке.
Тапло говорила сухо и строго, тоном молоденькой учительницы, когда сквозь наставительную интонацию прорывается веселый уступчивый нрав, только для виду прикрытый напускной суровостью.
Мушни совсем был не рад тому, что она оказалась свидетельницей неприятного ему разговора, но не прогонять же было ее?
— Если хотите, я вас провожу, я как раз туда иду.
Мушни обрадовался, что у него появилось хоть какое-то дело, что куда-то нужно идти. Хотелось чем-нибудь заполнить время, чтобы оно шло скорее. Шагая рядом с Тапло через поле, он все думал, как же ему выкрутиться, и ничего не мог придумать. Ему было приятно, что Ладо не считает его виновным, хотя это ничего решительно не меняло. И надежды Ладо на то, что Мушни будет оправдан, поскольку он не виноват, совсем его не утешали, хотя сами по себе тоже были приятны. Теперь уже никакого значения не имело, полетит вертолет в долину или нет. Путь туда все равно закрыт. А совсем недавно не было важней вопроса! Пожалуй, лучше всего идти рядом с Тапло и ни о чем не думать, все равно ничего путного в голову не приходит. Так хоть время идет, а не стоит на месте. Сейчас, как никогда, он нуждался в совете. И, как всегда, был один. Мушни шел, отчужденный и молчаливый, настолько погруженный в себя, что не заметил, как Тапло остановилась возле ветеринарного пункта и заговорила с кем-то. Он продолжал машинально шагать и, только очутившись далеко впереди, сообразил, что идет один.
«Что-то надо придумать?» — преследовала его неотвязная мысль. Но ничего дельного в голову не приходило.
Тапло догнала Мушни.
— У вас что? Женщин уважать не принято? — сердито спросила она.
— Принято.
— Тогда можно было меня подождать.
Мушни извинился.
Тропинка свернула в лес и спустилась в овраг. Оттуда доносился глухой рокот воды. Мушни шел следом за Тапло, и она нравилась ему все больше и больше. Нравилось, как легко она перепрыгивает с камня на камень, как сдержанно и строго разговаривает с ним — будто пожилая опытная женщина. Одета она была все в то же черное платье. На ногах — пестрые вязаные ноговицы. Тапло все больше привлекала его внимание, вызывала все больший интерес. И Мушни незаметно для себя избавлялся от гнетущих забот и поддавался настроению вчерашнего сна. Оживало то чувство, которое он испытывал к этой девушке так недавно, во сне.
Некоторое время они молча шли по щебенистой тропке. Когда дорога стала ровнее, Тапло, шедшая впереди, дождалась его и спросила:
— А вчерашний вечер ты помнишь?
— Помню, конечно, — ответил Мушни, хотя почти ничего не помнил.
Она попыталась скрыть выступившую на лице лукавую улыбку, но Мушни все равно ее заметил.
— Ты всем так с ходу в любви объясняешься?
«Что это я наболтал вчера?» — встревожился Мушни, но выражение лица девушки успокоило его.
— Я объясняюсь тем, кто этого достоин, — он обнял Тапло за плечи.
Она резко отстранила его руку.
— За кого ты меня принимаешь? — крикнула она. — Смотри, не то…
— А что не то? — Мушни улыбнулся.
— А то, что у меня жених есть! — Тапло все-таки не сдержала улыбки, и Мушни осмелел, на лице его появилось выражение уверенного в себе мужчины.
— Осторожнее, братец, — пригрозила Тапло, — а то как бы я тебе вторую руку не вывихнула.
Она ушла вперед.
И все-таки она смеялась. И потом, когда тропинка пошла круто под гору, она долго еще оглядывалась и лукаво улыбалась.
Но теперь она больше не интересовала Мушни. Настроение у него испортилось, и он вернулся к действительности. А что в ней — в этой действительности? С незнакомой девушкой идет он неизвестно зачем в чужое село. Вернется — его задержат. Не арестуют сейчас — успеют сделать это, когда он прилетит в долину. В общем, он в капкане, а еще с женщинами заигрывает. Если бы он знал эту девушку или хотя бы Квирию! Куда делся револьвер? Все молчат, и она молчит. Сама Тапло небось смеется над ним в душе. Да еще рука болит невыносимо. Под гору идти оказалось еще хуже, чем в гору. «Вылечу руку и явлюсь, куда следует, — подумал он твердо, — все равно схватят. — И тут же заколебался. — А если посадят?..»
У ревущей реки они остановились. Впереди был мост, а за ним начинался подъем, длинный и лесистый.
— Болит? — спросила Тапло.
— Болит, — мрачно подтвердил Мушни.
Она почему-то избегала его взгляда и смотрела на другой берег, где не было ничего интересного, кроме столетних сосен.
— Помнишь, как мы с Квирией тебя вчера спать укладывали? — Тапло почему-то упорно возвращалась к этой теме. — Ты, братец, пить совсем не умеешь, я — женщина, и то больше тебя выпила.
— Вы с Квирией? — переспросил Мушни и потом сказал. — Помню.
— А помнишь, что ты мне говорил, когда Квирия ушел? — В глазах ее блестели лукавые искорки.
— Еще бы не помнить: говорил, что люблю тебя.
— Ты опять за свое!
«Сама все время к этому возвращается», — подумал Мушни, а вслух сказал:
— Что поделаешь: полюбил я тебя с первого взгляда!
— Ну, начал!..
— Не я начал, а ты сама…
— Что я сама? — Тапло по-настоящему рассердилась и нахмурила брови.
Мушни разозлился, он вспомнил пропавший револьвер и вспылил:
— А то, что прицепилась: помнишь, помнишь? Ничего я не помню, если хочешь знать!
Тапло посмотрела на него с укоризной:
— Я так и думала, что ты ничего не помнишь. — В голосе ее звучали одновременно и обида, и насмешка. — Потому и спрашиваю.
5
Передохнув немного, они перешли через мост и двинулись в гору. Тапло почти бежала, оставив Мушни далеко позади.
Мушни уже знал, что Тапло — школьная подруга молодой жены Квирии и часто ее навещает. Поэтому сегодня она и оказалась его проводницей. Тапло следовало выбросить из головы, хотя ни одна женщина не нравилась Мушни так, как она.
Может, это сон вчерашний виноват. Но ведь и сон тоже часть нашей жизни, он изменяет настроение, на мысли разные наводит. Правда, сны быстро забываются. Но разве не забывается так же быстро реальное прошлое? Чем же воспоминание отличается от сна? Ничем. Иной сон больше взбудоражит душу, чем любая реальность.
Как сон, вспоминаются теперь Мушни годы, проведенные в России. Три года военной службы. Их часть стояла в маленьком городке на берегу большой реки. Мушни — крутил баранку, в армии шоферскому делу выучился. Ему нравился городок, нравилась река, нравились люди. По воскресеньям, если получал увольнительную, он ходил в клуб на танцы. Стоял у стены и смотрел, как неутомимо кружатся друг с другом беленькие красивые девушки. Они волновали Мушни. Он вслушивался в их звонкие голоса, вглядывался в светлые ясные глаза. Но заговорить не решался и простаивал у стены, пока товарищи танцевали с девушками.
Однажды, в конце вечера, аккордеонист громко объявил:
— Дамы приглашают кавалеров!
Девушки приглашали своих знакомых и поклонников.
И к Мушни подошла какая-то девушка и пригласила его наклоном головы.
Мушни растерялся: во-первых, он не умел танцевать, а во-вторых, всегда подшучивал над товарищами, такими неуклюжими в грубых солдатских сапогах.
— Я не танцую! — отказался он.
— Почему?
— Не умею.
— Я вас научу.
— Трудное дело.
— Совсем нет, было бы только желание.
Девушку звали Таней, и в тот вечер Мушни пошел ее провожать. Таня жила с двухлетней дочкой, год назад она разошлась с мужем. Работала на фабрике.
Два месяца Мушни провожал Таню с танцев домой. И однажды остался у нее. До утра. И на танцы ходить перестал. Как выдастся свободная минута — бежал к Тане в ее уютный домик на самом краю города, на берегу реки. Привык. Если не видел ее долго, тосковал.
Отслужил свой срок в декабре. Что делать дальше? Куда ехать? Воспитавшая его бабушка — да и та не родная — давно умерла, оставив ему в наследство швейную машинку, старинный буфет и пустую комнату. К кому же возвращаться? Кого радовать? И Мушни остался с Таней.
До весны они жили вместе. Мушни работал шофером, счастливый, спешил с работы домой. И хотя просторные заснеженные поля с пирамидами терриконов не были родными, чувствовал он себя здесь своим. Его любили. О нем заботились. У него было все, без чего он так страдал раньше.
Но когда наступила весна, тронулся лед, дрогнул застывший воздух, Мушни загрустил. Потянуло его назад, к прошлому. Подолгу стоял он у реки, скинувшей зимний панцирь, и смотрел на пароходы, идущие на юг. Четыре года не видел он родины.
— Останься, Мушни. — Таня плакала. — Нам так хорошо вместе.
Но Мушни не мог остаться. Он был полон самых радужных надежд. Поедет домой, устроится, выпишет к себе Таню. Ну, а не устроится, вернется обратно.
— Ты не вернешься, — сквозь слезы твердила Таня.
— Вернусь, — успокаивал он ее.
Вот уже два года прошло, а он и не вернулся, и не устроился. И о Тане вспоминал все реже. И не верил, что все то было на самом деле, что Таня верна ему, ждет. Зачем ему на разведенной жениться, да еще с ребенком? Разве девушек мало? Несмотря на это, он не раз порывался поехать к ней, но вновь и вновь становился поперек своему желанию. Что было — прошло. Новая жизнь затянула его.
Первое время Таня часто присылала ему полные отчаяния и мольбы письма, но он не отвечал. Да и какая молодуха будет ждать и хранить верность так долго? Жизнь коротка, каждый старается урвать для себя побольше, и никто ни во что не верит. Любовь? Разве кто-нибудь кого-нибудь любит так, без всякой корысти? Любят потому, что ждут пользы или удовольствия, или еще чего-нибудь. Почему Таня должна любить Мушни? Почему она должна ждать его? Чепуха все. И все прошло, как сон.
Запуталась жизнь Мушни. Начал он работать шофером, бросил, надоело. Полюбил книги, стал мечтать об институте, устроился в геологическую партию. И тут три дня назад повздорил с начальником и ранил его выстрелом в ногу. Теперь, наверно, его засудят. Вот она, реальность. А все остальное — сон. Если бы он успел вовремя отсюда смыться, еще, может, выкрутился бы. Но не успел. А теперь все равно: хочешь — свой вывих лечи, хочешь — сиди на аэродроме и жди милицию. Другого выхода нет.
Тем временем подъем кончился, Мушни вышел из лесу на луг и увидел Тапло, сидящую на валуне. Неподалеку расположились в тени деревьев местные ребятишки. Они посматривали на Тапло и Мушни, девочки не прекращали вязать. За лугом возвышалась лысая гора, а рядом с ней — гора пониже, густо поросшая лесом.
— Идешь, как на прогулке, братец, не торопишься! — крикнула ему Тапло.
Мушни бросил пиджак у ног Тапло и лег на него. Усталый, потный, он посмотрел на девушку снизу, сначала в глаза, а потом оглядел ее всю с ног до головы.
Тапло заерзала на камне и натянула подол на колени.
— Рука болит, сестрица, не могу скакать, как ты, — в тон ей ответил Мушни.
Тапло улыбнулась и поправила волосы. Лицо ее раскраснелось от быстрой ходьбы.
— Если не секрет, скажи, в кого ты стрелял?
Мушни снова пристально посмотрел на нее. И ответил негромко и спокойно.
— Если тебе интересно, скажу. Я ранил очень плохого человека.
— За что?
— За то, что он на старика руку поднял.
— А кем тебе приходится старик?
— Никем.
— Так чего же ты лез?
— Э-э, тебе легко говорить.
— А что теперь делать будешь? — опять спросила Тапло.
— Ничего.
— А если арестуют?
— Пусть.
— Тебе что, охота в тюрьме сидеть?
— Почему бы и нет? Надо попробовать и это.
— Ты можешь серьезно поговорить с человеком?
— Серьезно я могу говорить только о любви. Хочешь? — Мушни засмеялся. Ему казалось, что для женщин нет ничего важнее любви. А сам он теперь считал, что из всех отношений между людьми самые непрочные, ненадежные — это любовные.
— Я тебя серьезно спрашиваю, что ты думаешь делать?
Мушни перестал смеяться и спросил усталым и бесцветным голосом:
— А тебе разве не все равно?
— Нет, не все равно. Мне тебя жалко.
— А ты лучше своего жениха пожалей, у которого будет такая жена, — снова засмеялся Мушни. Он так устал от этого бестолкового разговора, что постарался все превратить в шутку. Говорить с этой девушкой о себе и о своем положении было бессмысленно.
— Разве я буду плохой женой? — кокетливо спросила Тапло. — Если ты так думаешь, то очень ошибаешься.
— Я бы не прочь проверить, но меня посадят, — снова улыбнулся Мушни.
— Как это?
— Да очень просто, — похитил бы тебя.
Тапло, подняв свои тонкие брови, так посмотрела на него, словно перед ней появилось какое-то чудовище, вскочила с камня и быстро зашагала дальше.
— Отдохнул и хватит, идти надо! — крикнула она издали.
6
Долгая мучительная дорога бесследно рассеяла вчерашний хмель. И Мушни почувствовал такой нестерпимый, всепоглощающий голод, что забыл даже о боли в плече, которую все это время подавлял постоянным усилием. Забыл и о грозящем ему впереди.
Забыть — забыл, но все равно был мрачен, когда Тапло привела его, наконец, в дом Квирии. Несмотря на его состояние, бабушка Квирии, старушка лет восьмидесяти, ему понравилась. Такая женщина могла вырастить рано осиротевшего внука. Отец Квирии погиб под снежной лавиной, мать унесла лихорадка. Остался Квирия на руках у бабушки, и та все силы свои отдала внуку: летом поднималась в горы, а зимовала, как и все, внизу, в Алвани. Других мест она не видела, не интересовалась ими, как, впрочем, не интересовалась ничем, не имеющим отношения к ее семье. Лет пять назад, когда Квирия возмужал и крепко стал на ноги, бабушка сразу освободилась от всех забот, — Мушни и сейчас видел, сколько в ней бодрости и сил. Стремление к новому коснулось и ее души — и тогда ей захотелось увидеть поезд. В последнее время только и слышишь, что о машинах, самолетах, поездах. А ей приходилось ездить лишь на лошадях — в горы и обратно. Правда, автомобиль она видела в Алвани, самолет — в Омало, а вот на поезд посмотреть не пришлось.
В один прекрасный летний день бабушка оседлала лошадь и отправилась в Телави. Ехала она не спеша, долго. Приехала под вечер на станцию, откуда только что отошел поезд. А следующий прибывал утром. Старушка смертельно обиделась. Как это — она все дела бросила, в такую даль приехала и — напрасно! Рассерженная, не дожидаясь утра, она пустилась в обратный путь, так и не увидев поезда. По словам Тапло, после того случая бабушка больше не изъявляла желания познакомиться с поездом. Деревенская молодежь по сегодняшний день над ней подшучивает, но ее это мало трогает.
Бабушка Квирии выглядела еще сильной и бодрой. Одета она была по старинке: в длинном темном платье, на голове — мандили[46], на груди — бусы и медный крест. Она увела Мушни в нижнюю комнату просторного двухэтажного дома, сложенного из слоистого серого камня, и велела снять рубашку. В комнате с земляным полом было прохладно и пахло чем-то приятным. На стене висел войлочный тушинский ковер. На длинном столе была аккуратно расставлена чисто вымытая посуда. Мушни сел на табурет и оглядел свое распухшее плечо. Старушка готовила мазь. Тапло стояла рядом, и Мушни было хорошо от ее присутствия, пусть случайного. Получалось, что она заботится о нем, переживает. Ну и ладно, где-то в Кахетии у нее жених, пусть он во всех отношениях лучше Мушни. Сейчас он, Мушни, обнаженный по пояс, сидит с невестой неизвестного ему парня и радуется бессмысленной наивной радостью, чувствует необъяснимое преимущество перед невидимым далеким соперником.
Жены Квирии — Шукруны дома не оказалось. Сегодня утром она ушла проведать родных в соседнее село.
Готовя мазь, старушка рассказывала, скольких исцелило ее снадобье. Она была совсем не похожа на бабушку Мушни, которая воспитала его. Но было между ними что-то общее, невыразимое, но определенное. Может, это был возраст, который накладывает свой отпечаток на самых разных людей и объединяет их? А может, заботливость старушки напомнила Мушни о давно позабытом. Так или иначе, он вспомнил бабушку, ее маленькую комнатку, где под стрекот швейной машинки прошло его безрадостное детство. Бабушка была единственным близким человеком, а потом и ее не стало. К сердцу Мушни подступила печаль — он часто огорчал ее, не слушался; занятый своими делами, был к ней невнимателен. Даже комнатку ее сменил на другую, меньшую, ради доплаты. И в этой новой комнате, где ничего не напоминало о бабушке, он как-то забыл о ней. Бабушка часто ворчала на Мушни, недовольная его поведением, отметками, изводила внука жалобами на свое здоровье, и минутами ему казалось, что он совсем не любит ее. Но все равно, ближе ее никого не было в целом свете. И сейчас, спустя много времени после ее смерти, он ощутил это особенно остро и болезненно. Жаль, что он продал все ее вещи. Правда, тогда ему очень нужны были деньги, но можно было что-нибудь сохранить! Вещи напоминают о людях, помогают нам восстанавливать забытое, будят угасшие чувства. Мушни совсем расстроился. А разве следовало терять увеличенный портрет бабушкиного мужа, который всегда висел на стене над кроватью? Хоть Мушни и не видел никогда старика, но ведь он носил его фамилию… Тот портрет висел в изголовье бабушкиной кровати. Сколько раз задумывался Мушни над судьбой этого человека. Он был железнодорожником, и однажды, задолго до того, как Мушни появился на этот свет, измазал на работе пальто в мазуте. Совсем рядом на пути стояла цистерна с керосином, и он, оказывается, забрался на цистерну, открыл крышку, спустился по узкой железной лестнице внутрь, чтобы вывести керосином мазутное пятно. Голова у него закружилась, а, быть может, захлопнулась крышка, ему стало плохо, и он погиб. Мушни часто думал: куда он лез, куда понес окаянного нечистый, мог ведь он вывести пятно дома! Но кто знает, куда только не занесет человека, если нечистый замутит ему голову!
Все это вмиг ожило в голове Мушни, воспоминания зашевелились, унесли его куда-то назад и вернули к давно забытому детству. Он так явственно почувствовал вкус и запах детства, будто его оторвало от настоящего и забросило в далекое прошлое, а на самом деле он сидел на табурете и бабушка Квирии растирала ему больное плечо. Мазь, словно клей, липла к коже, в открытую дверь было видна освещенное солнцем чужое село, и слышался однообразный стрекот цикад. Плохо быть человеком без роду, без племени, — подумал Мушни.
— Родители у тебя живы? — спросил он у Тапло, которая стояла рядом и держала лоскут, чтобы перевязать ему плечо.
Тапло удивилась.
— А почему ты вдруг спросил?
— Просто так.
Тапло пожала плечами.
— Живы. А в чем дело?
— Ни в чем.
— А у тебя?
— Не знаю, — сказал Мушни и, помолчав, добавил: — Нет.
Странный ответ рассмешил Тапло, она прыснула, прикрыв рот рукой. Потом повторила свой вопрос, притворившись серьезной:
— Все-таки есть у тебя родные или нету?
— Нету, — резко ответил Мушни.
— Не ссорьтесь, дочка, поссориться еще успеете, — сказала бабушка Квирии, кончив растирание. Она взглянула на них с ласковой улыбкой.
— Успеем, как же! Я вовсе не собираюсь с ним свой век коротать! — задиристо ответила Тапло.
— А почему? Парень хоть куда! — Мушни понял, что старушка приняла их за жениха с невестой или просто за влюбленных. И ему стало настолько хорошо, что он даже заулыбался от удовольствия.
Старушка вышла во двор.
В комнате из-за узких окон было темновато. Тапло стояла так близко и так приятно было благоухание ее здорового тела, что Мушни вдруг повернул голову и поцеловал обнаженную выше локтя руку девушки, незамедлительно получив за это звонкую оплеуху.
— Что с тобой, милая! — вскрикнул Мушни и провел левой рукой по лицу. Своим поступком он, однако, был доволен и улыбался. Когда Тапло строго сказала: «Сиди смирно!» — радость объяла его — девушка показалась ему родной и близкой. Она уже закончила перевязку, но почему-то не уходила из комнаты и упорно смотрела на Мушни, вставшего с табурета, смотрела, как, не стесняясь присутствия женщины, он надевает рубашку, левой рукой заправляет рубашку в брюки. Накинув пиджак, Мушни выпрямился и спросил с улыбкой:
— Правда, что у тебя есть жених?
— Какое тебе дело!
Мушни сделал шаг к ней.
— Так просто, хочу знать.
Тапло отстранилась.
— Ты лучше за собой следи!
Эти слова были сказаны с усмешкой, Мушни заколебался, но все-таки обнял Тапло и привлек ее к себе. Но она вывернулась, кинулась к двери, выглянула во двор и взволнованно прошептала:
— Ты что, с ума сошел! Хочешь, чтобы бабушка увидела!
Невидимая, но прочная ниточка протянулась между ними. И когда Тапло вышла из комнаты с таким лицом, будто ничего не произошло, победное чувство овладело Мушни. Он понял, что Тапло превратилась в его союзницу, что между ними возникло нечто такое, о чем не следует знать никому, кроме них двоих. Опасный соперник, жених Тапло, сейчас казался ему окончательно побежденным. Это возвышало Мушни в собственных глазах, придавало ему силы. Выйдя из комнаты, он уселся рядом с Тапло на длинную лавку, и все вокруг показалось ему прекрасным. Он был теперь убежден, что все образуется. Конечно, никто его не арестует. Утреннее решение явиться в милицию самому показалось ему глупостью. Все его существо требовало приволья. Хотелось долго, бесконечно долго смотреть на ясное небо и голубые горы, вместе с Тапло бродить по тропинкам, петляющим вокруг села. Все казалось простым и ясным. Отмахнувшись от опасений и забот, он был полон радости и надежды.
7
Вечером бабушка накрыла стол на балконе. Мушни выпил много водки и пива, поел вареного мяса. Плечо больше не болело, только горело, как обожженное. Но от водки и это ощущение прошло. За хозяйку осталась Тапло, потому что бабушке понадобилось куда-то уйти.
Солнце лениво опускалось за горы, и необъяснимая печаль таилась в наступающих сумерках. Мушни овладела светлая грусть. Ему было жаль, что угасает день, который больше никогда не повторится. И в то же время было отрадно, что он живет, дышит, сидит вместе с Тапло на балконе и впитывает в себя этот багряный закат. Мушни забыл о своем одиночестве и сиротстве. Судьба перестала преследовать его. Она стала добра к нему. Все разумно и справедливо. И ставший естественной частью всего, что он видел и ощущал, и все же свободный и независимый, он устремился куда-то. Ему казалось, что разум его отключился и он соединен с жизнью только посредством ощущений, свободного воображения и фантазии. Ему казалось, что он действует под диктовку самого мироздания и с его помощью постигает истину. Несколько минут он сидел как бы погруженный в блаженное забытье, но вскоре в нем опять что-то распалось, раздвоилось, нарушилась минутная цельность, и все сомнения и противоречия вернулись. Сколько препятствий, сколько трудностей на его пути к счастью и раздолью! Завтра его могут арестовать на аэродроме. А если не арестуют, то сколько горя ему принесет человек, которому он не причинил никакого зла, только потому, что этот человек — жених Тапло. А сама Тапло? Как она далека… Только во сне принадлежала она ему. Но сон прошел, и кто знает, о чем или о ком она сейчас думает?
Мушни, опершись о балконные перила, смотрел на деревню. Стройные ряды каменных домиков. Женщины с вязаньем в руках мирно беседуют. Бегают и резвятся ребятишки. Слышны их голоса.
Пора уходить, но куда он пойдет один? Тапло останется здесь до утра, дождется Шукруну. С горечью вспоминает Мушни свои недавние блаженные мысли, тоска снова наваливается на него, и, словно спасаясь от нее, он встает.
— Эх, надо идти.
— Куда? — спросила Тапло.
Мушни неопределенно повел здоровым плечом.
— Решил в милицию заявиться?
— Не знаю. Подумать надо.
— А что ты думал, когда бежал оттуда?
— Думал в Россию уехать. Там у меня друзья были, когда я в армии служил.
Мушни с удивлением заметил, что откровенен с Тапло и доверяет ей.
— Зачем в Россию? Может, тебя оправдают.
— Как же!
— А разве за побег не хуже накажут?
— Что делать? В тюрьме я не исправлюсь и ума не наберусь. Меня не переделаешь, Если бы я считал себя виноватым, другое дело…
— Значит, ты прав?
— Как тебе сказать? Для кого прав, а для кого — нет…
Мушни обнял балконный столб и медлил, словно ждал чего-то, или хотел еще поговорить.
— Где ты будешь спать? — помолчав, спросила Тапло.
— Где-нибудь устроюсь.
— Хочешь, возьми ключ от моей комнаты.
— Это где же твоя комната?
— А в финском доме. Как войдешь, налево. Там тебя никто не найдет.
Мушни сразу согласился, взял у нее ключ и положил в карман.
— Если я тебя не увижу, ключ будет в дверях, — голос его звучал холодно и равнодушно.
— Как это не увидишь?
— Все может быть. Если бы я знал дорогу, ушел бы в Кахетию пешком, — он говорил медленно, будто советуясь.
— Уж не хочешь ли ты, чтобы я тебя проводила до Кахетии? — пошутила Тапло.
Мушни засмеялся, кивнул и сбежал по лестнице. Спустившись во двор, он, неожиданно развеселившись, крикнул:
— А ты в самом деле отличная девушка! И я бы обязательно тебя похитил, будь мои дела немного получше.
Еще некоторое время он улыбался, пока не понял, что ему вовсе не весело. Он может действительно никогда больше не увидеть Тапло. От этой мысли стало горько. «Еще чего не хватало! — одернул он себя. — Какой-то незнакомой девушке уделять столько внимания. Она небось о нем сразу забыла. И, собственно говоря, почему она должна горевать о нем? Кто он ей?»
Мушни шел той же тропинкой, что и утром, не думая, куда и зачем, не думая, что будет с ним, если его арестуют. Думал только о том что, возможно, никогда больше не увидит Тапло.
8
В августе тушины начинают сеять рожь. Но пахотной земли у них очень мало, основное место в хозяйство занимает овцеводство. Весной отары перегоняют с зимних пастбищ на луга горной Тушетии и оставляют там до середины сентября. Кто летел самолетом из Телави в Омало, наверно, обращал внимание на бесчисленные белые крапинки, усеявшие зеленые склоны изборожденных ущельями гор. Эти белые крапинки и есть овцы.
Ночами столь же многочисленными крапинками звезд усеяно небо над Тушетией.
Сидит чабан у огня, закутавшись в бурку, и смотрит на молчаливые вершины, погруженные в туман. Ни малейшего шороха не улавливает его чуткое ухо. Только беззвучный ветерок играет с пламенем костра. Покой разлит вокруг, и невозможно поверить, что кто-то может мучиться бессонницей, суетиться, страдать. Сидит чабан со своими верными собаками — Басарой и Бролией — и дремлет.
А ниже пастбища, возле леса рассыпался табун. Полночь. Молодой табунщик, поставленный сторожить коней, спит. Стук копыт будит его. Он вскакивает и тотчас соображает, что воры угнали коней. Не раздумывая, садится он на своего любимого жеребца и мчится в погоню, безоружный, в одной рубахе, повинуясь первому порыву или чувству долга. Он охвачен азартом, летит сквозь тьму, только бы догнать конокрадов. Но те ждут погони и подстерегают безумца. Вот выросли как из-под земли две тени, схватили коня за уздечку. Плеть пастуха свистит в воздухе, обрушиваясь на конокрадов, но гремит выстрел, обреченно ржет раненый жеребец, вставший на дыбы, вскакивает в бессильной ярости наездник. Гремит второй выстрел, и пораженный пулей человек, надломленный, склоняется к гриве коня. У того еще достает сил, чтобы донести хозяина до стоянки. Он несется почти так же быстро, как только несся сюда, и останавливается, завидев вышедших ему навстречу пастухов. Он тяжело дышит и смотрит печальными глазами на пастбище. А потом, когда раненого, окровавленного седока снимают с седла и бегом уносят, он опускается на колени, и в миг последнего вздоха умные глаза его остаются открытыми.
9
Ночью Мушни крадучись проник в комнату Тапло. Нащупывая в темном коридоре ключом скважину, он слышал, как колотится сердце. И когда вошел, ему показалось, будто произошло что-то очень важное. Воздух в комнате напоминал запах Тапло и кружил голову. Один в пустой комнате Мушни так живо почувствовал присутствие Тапло, будто она находилась сейчас здесь, затаившись где-то в углу. Потом, когда глаза его привыкли к темноте и он разглядел раскладушку, висящие на стене платья, столик и посуду на нем, ему показалось, что она может появиться посредством необъяснимого, необыкновенного воплощения, как будто образ ее, который он носит в себе, сумеет обрести плоть, и ему отчаянно захотелось, чтобы это произошло. Он вслушивался в каждый шорох, в никем не нарушаемую тишину затемненной комнаты и слышал внутри себя голос Тапло и был готов ответить на тот немой зов, который приманивал его, но на самом деле был всего лишь плодом его воображения.
Его переполняло какое-то нежное, вечно женственное, чистое и ласкающее чувство, проникающее в душу откуда-то извне, издали, чувство, облегчающее все его переживания. Он лежал ничком на постели, прижавшись щекой к подушке, и так явственно, так зримо и мучительно ощущал тело женщины, которая была в эту минуту столь же далека, как неосуществимое желание, будто касался ее. Мысль о том, что на эту подушку опускала свою голову Тапло, возбуждала его фантазию, и он долго не мог уснуть, взволнованный и взбудораженный. Но в конце концов усталость взяла свое, и он заснул.
Разбудил его шум мотора. Он быстро вскочил и увидел, что уже рассвело. В окне виднелись сиреневые в тумане горы. Гул мотора доносился откуда-то издалека, но ясно: Больше месяца он не слышал этого гула, и теперь, услышав вновь, вспомнил, что за длинными хребтами, которые виднелись в окне, существовал огромный, шумный мир, а сам он был загнан в эти горы, как всякое существо, заключенное в рамки своего назначения. Услышав гул, он ощутил минутную радость, хотя прибытие вертолета не сулило ему ничего радостного. Он встал и оглядел комнату. Освещенная солнцем, она показалась ему простой и обыкновенной. Вещи Тапло — платья, чемоданы, сумки — стали понятными, будничными и потеряли ту особенную значимость, которую он приписывал им ночью. Вчера все ему казалось иным, должно быть, оттого, что и сам он чувствовал себя странно, пробираясь во тьме с колотящимся сердцем в комнату девушки. Утренний свет и шум мотора отрезвили его, теперь на всем лежала печать реальности.
Мушни подошел к окну и увидел вдали на небе черную точку, которая неуклонно увеличивалась, уподобляясь диковинной птице. Постепенно приблизившись и с оглушительным шумом описав круг над лесами и оврагами, вертолет опустился на поле, разбросал густую пыль, взревел еще пуще прежнего, — перепуганные лошади отбежали подальше, и вдруг мотор заглох, — сразу стало очень тихо, неизменная вечная тишина гор восстановилась. Внезапная, неосмысленная радость Мушни, овладевшая им при виде вертолета, угасла. Ведь он знал, что не сядет в этот вертолет и никуда не полетит. Теперь он безразлично смотрел на пассажиров, выбирающихся из вертолета. Первыми вылезли из кабины пилоты. Они не были похожи на пилотов из-за своей обычной, штатской одежды. Один из них, повыше ростом, открыл дверь, и наружу вылезли люди с пестрыми хурджинами и мешками. Последними выбрались и смешались с толпой два милиционера.
При виде милиционеров Мушни вздрогнул, сердце у него заколотилось. Их синие кителя магнитом притягивали взгляд. Один из милиционеров был долговязым и худым, другой — низеньким и толстым. Стоя у окна, Мушни так и впился в них глазами. Он этого ждал, но не сегодня же, не сейчас же. Ему казалось, что до их появления пройдет еще много времени. Перебросившись несколькими словами с какими-то людьми, милиционеры направились к столовой. На крыльце стоял буфетчик, глазевший на вертолет. Милиционеры поздоровались с ним и о чем-то заговорили. Отсюда, из окна, все было отлично видно. И он увидел, как милиционеры вместе с буфетчиком вошли в столовую.
«Что делать?» — думал он. Его больше не интересовала толпа на поле. Было ясно, зачем прибыли милиционеры. Следовало бежать отсюда как можно скорее. Но его почему-то влекло на аэродром, именно туда, где подстерегала опасность.
Мушни надел пиджак и вышел из комнаты, оставив ключ в дверях, как обещал Тапло. Боли в плече он не чувствовал. «Прав был Квирия, — подумал Мушни, — мазь помогла».
Он посмотрел на раскинувшееся внизу поле. Утренний туман стлался над оврагами, а роса на траве блестела.
Лошади с поклажей поднимались в гору. Мушни долгим взглядом проводил неторопливо шагающих мужчин. Может, пойти с ними? Там, наверху, деревни. Ему покажут дорогу вниз, и, быть может, он сумеет один, без проводника, добраться до долины. Но почему-то не хотелось уходить отсюда. Что-то держало его здесь и не отпускало. Вдруг ему представилась Тапло, и он понял, что думал о ней еще до того, как увидел ее, что, не сознавая того, давным-давно представлял ее образ, ее лицо, и рассердился на себя за то, что и сегодня не может выкинуть из головы эту девушку. Да куда там выкинуть, она все сильнее притягивала его к себе, заставляя забывать о деле, о грозящей ему опасности. «При чем тут Тапло? — с раздражением подумал он, будто бы оправдываясь перед трезвым рассудком. — Просто нет смысла бродить, переходя от деревушки к деревушке, все равно одному мне отсюда не выбраться, надо искать другой выход». Его потянуло посмотреть вблизи на милиционеров, так преступника притягивает место преступления.
Он стал спускаться. Какая-то часть его противилась этому, а другая словно подталкивала в спину. И Мушни шагал к летному полю, не понимая, что ведет его — страх или, напротив, жажда риска. Вертолет посреди поля походил на птицу с подбитым крылом. Неподалеку на пологом склоне какой-то человек косил траву. Мушни не думал о том, для чего ему нужно увидеть милиционеров. Просто казалось, что, не посмотрев на них, уходить отсюда нельзя. Но встреча с ними, к которой он так стремился, одновременно пугала его. Он шел и по своему желанию и словно бы наперекор ему.
На летном поле Мушни застал толпу отъезжающих с вещами. Вопреки обыкновению, не было никакой суеты и шума. Мушни стоял в стороне от толпы, с утомленным, задумчивым лицом, и смотрел на крохотную ровную площадку, окруженную горами, через которые вертолет вскоре перелетит и опустится в огромную долину, откуда открыты все дороги.
Люди степенно поднимались в вертолет, провожающие стояли группами и тихо беседовали. Мушни медленно направился к столовой, и в это время появились милиционеры. Они вышли из столовой, остановились на крыльце, что-то говоря оставшемуся в столовой буфетчику. Мушни резко повернулся и остановился как вкопанный, он будто примерз к месту. Потом очень-очень медленно сделал несколько шагов, напряженно ожидая оклика, но никто его не окликнул. Он слышал голоса милиционеров — грубый, низкий принадлежал, скорее всего, толстому — и знакомый писклявый голос буфетчика. Мушни было трудно отдалиться от этих голосов, трудно было сделать хотя бы шаг, так и тянуло подойти поближе, узнать, о чем они говорят. Чуть повернувшись, Мушни бросил быстрый взгляд в сторону столовой, но на крыльце никого уже не было. Тогда он повернулся совсем, медленно, как человек, слоняющийся без дела, и увидел, что милиционеры быстро уходят той самой тропинкой, которой он шел с Тапло вчера. Огромная тяжесть свалилась с плеч. Но одно непонятно: почему милиционеры ушли, не проверив, сел ли Мушни в вертолет. А может, они знают, что вертолет все равно осмотрят при посадке? Ведь Ладо предупредил, что там, в долине, тоже объявлен розыск. Значит, им кто-то сказал, что Мушни был вчера в деревне, у Квирии, и они думают, что он все еще там. Тем не менее Мушни испытал невероятное облегчение и даже некоторое разочарование: встреча с милиционерами, которой он добивался с таким напряжением сил, ждал, преодолевая страх, оказалась такой пустяковой.
Дождавшись, чтобы милиционеры скрылись из глаз, довольный полученной отсрочкой, Мушни вошел в столовую. Буфетчик суетился за прилавком. Он не ответил на приветствие Мушни. И только кончив возиться, спросил:
— Ты нашел… то, что потерял?
— Нет, — ответил Мушни, с трудом припомнив, что потерял служебное оружие.
После паузы буфетчик снова задал вопрос:
— Тебя Мушни зовут?
— Да.
— Тебя милиция ищет. — Буфетчик смотрел на Мушни прямо и серьезно. В руке у него был длинный острый нож. — Спрашивали, не знаю ли я такого.
— А ты что?
— Сказал, что не знаю. — Он положил нож и всем туловищем обернулся к Мушни.
— Что им от меня нужно? — спросил тот.
— Не знаю. Тебе виднее.
Мушни понял, что этот суетливый человек все знает, проникся к нему благодарностью и подумал, не спросить ли у него совета, но спрашивать не стоило, все-таки буфетчик был ему чужим. Пока Мушни размышлял, порыв к откровенности рассеялся. Даже если бы буфетчик был близким, не имело смысла открывать ему душу. Кто может разделить твое горе, почувствовать твою боль, как свою?
— Куда они пошли? — спросил Мушни.
— А ты что, не знаешь? — удивленно взглянул на него буфетчик и, встретив растерянный взгляд Мушни, помрачнел: — Ночью Квирию убили… бандиты лошадей угнали, он погнался за ними, — его убили. Все в деревню ушли. И милиционеры тоже.
10
Это было так неожиданно, что Мушни не испытал ни грусти, ни ужаса, безграничное удивление овладело им целиком. Быстрым шагом направился он к деревне, и чем ближе подходил, тем сильнее волновался. Он никак не мог представить себе, что Квирии нет в живых. Того молодого, жизнерадостного человека, с которым он совсем недавно пил вино и разговаривал за столом, больше не существовало. Перед глазами Мушни все время стояла картина, которую он, усталый и измученный, увидел с крыльца столовой: черноусый красавец объезжал коня на поле, окаймленном горами. Как смириться с мыслью, что весь мир продолжал существовать, незыблемый и неуязвимый, а Квирия не видел ни стогов сена, ни зеленых склонов, ни глубоких оврагов, ни этой тропинки, по которой спешит сейчас Мушни, ни синего чистого неба, распахнутого над землей, которое, если долго смотреть на него, иногда внушает тебе мысль, что и ты так же вечен и бессмертен. Мушни никак не мог осознать случившегося. Удивление словно душило способность мыслить. Казалось, что разум покинул его и душа осталась без опоры. Было такое ощущение, будто не на что опереться, не на что больше надеяться, все стало подобно лишенному фундамента дому, который вот-вот развалится. Как горько и обидно, что никогда больше он не увидит Квирию, что человек, которого он видел всего лишь раз, исчезнет из памяти, как сон. Но ведь могло случиться и так, что в будущем они стали бы друзьями. Где-то в глубине души он недавно еще надеялся, что Квирия выведет его на правильный путь и поможет, как однажды уже помог. Теперь это невозможно. Погасла надежда, потерялась возможность получить от жизни то тепло и ту силу, которые существовали вовне, независимо от него, но могли бы стать и его достоянием. Конечно, все это было только возможностью, но Мушни воспринимал все, как потерянную реальность. «Почему я такой невезучий? Только встретил и полюбил человека, с которым мог сойтись и подружиться, как его убили!» Сейчас ему казалось, что он действительно полюбил Квирию, хотя до его смерти он этого не сознавал.
Наконец показалась деревня. Оттуда доносились громкие вопли и причитания. Мушни остановился и огляделся. Все оставалось таким же, как вчера. Ничего не изменилось. Прибавился только женский горестный плач. Мушни оттер пот с лица и пошел к деревне, вернее — навстречу все усиливающемуся плачу, который убедил его в смерти Квирии. И глубокая, искренняя скорбь охватила его, оттеснив собственные волнения и заботы. Все показалось ему мелким, незначительным, — прибытие милиционеров, его страхи, возникшее вчера чувство к Тапло…
Он прибавил шагу и вошел в деревню.
Деревня казалась безлюдной, Мушни никого не встретил по пути к дому Квирии. Леденящий крик словно вонзился в него, и он задрожал, трудно было заставить себя войти во двор. Собравшиеся там люди подтверждали суровую правду случившегося. Мушни вошел, охваченный сильнейшим волнением, и приблизился к покойнику, лежавшему посреди двора на тахте и окруженному женщинами. Он посмотрел на бледное, как миткаль, лицо Квирии, безучастное, равнодушное ко всему. Квирия не слышал причитаний, не видел, как плачут склонившиеся над ним женщины. На груди его лежал обнаженный кинжал, указывающий на смерть от раны, у изголовья на белой шерсти стояла бутылка с водкой и лежал кусок каменной соли. Мушни глядел на Квирию и удивлялся этому внезапному, невероятному и тем не менее — раньше или позже неизбежному — превращению. Потом он поискал глазами бабушку Квирии. Та стояла с застывшим лицом, уставясь на единственного внука. У Мушни сжалось сердце от боли, но он понял, что эту боль вызвала в нем старушка, а не белое лицо ко всему равнодушного Квирии. Слезы сдавили ему горло, и он поднял голову. Над селом плавало круглое белое облако, такое одинокое и беззащитное в бескрайнем синем небе. «Ничто не прочно, ничто не надежно», — подумал Мушни.
Женщины причитали, мужчины стояли в стороне. Среди женщин, столпившихся вокруг покойного, Мушни заметил Тапло. С лицом суровым и строгим она стояла рядом с молодой женщиной, обливающейся слезами. Это, наверное, и была жена Квирии — Шукруна. Мушни хотел было разглядеть ее, но тотчас перевел взгляд на Тапло. Он не думал, что так обрадуется, увидев ее. Ему очень захотелось окликнуть девушку, но он вовремя удержался. Кроме Тапло, он никого не знал здесь, может, поэтому она и показалась ему близкой и родной, в ней для него заключался смысл жизни, и очень хотелось, чтобы она заметила его. Он отошел подальше и встал в тени, падающей от дома.
Мог ли он вчера подумать, что сегодня вернется сюда?! Какой счастливой выглядела вчера бабушка Квирии! У Мушни опять болезненно сжалось сердце: какая-то необъяснимая нелепость в мгновение ока калечит целую жизнь, а человек не ощущает приближения этой минуты, и она настигает его неподготовленным, беспомощным и растерянным. Меняется ли мир после несчастья, приключившегося с одним человеком? На первый взгляд — нет. Но так ли это? Вчера стоял такой же ясный солнечный день, но разве не изменилось ничего за этой завесой, на вид недвижной и непроницаемой? Изменилось и вместе с тем осталось прежним. Как река не теряет своей сути и облика в непрерывном течении, так и жизнь.
Мушни вдруг с силой ощутил и осознал смерть Квирии. И этот внезапный уход, скачок куда-то, в неведомое, был грозен и ужасен.
Он стоял у стены дома и чувствовал себя выбитым из колеи, бессмысленно трепыхающимся в пространстве, наполненном женским плачем. Свести бы счеты с убийцами Квирии, отомстить им без сожаления! Но он так слаб и беспомощен. Болело плечо, хотя не в плече дело. Здесь он всем чужой и не знает, где искать преступников. Никто не просит у него помощи и не нуждается в его сочувствии. Даже милиционеры, толкущиеся здесь, во дворе, не знают, что этот обросший загорелый парень и есть Мушни, которого они ищут. Наверное, они принимают его за пастуха-дагестанца, несколько раз они взглядывали на него, но Мушни даже бровью не повел. Смерть Квирии принесла с собой удивительное спокойствие. Все остальное казалось бессмысленной суетой. Конечно, в тюрьму садиться ему не хотелось, но мысль об аресте уже не пугала его — по крайней мере это будет выходом из того неопределенного, томительного положения, в котором он очутился. Мушни прислушался к разговору, который вели милиционеры.
— Мы сюда прибыли по другому делу, — услышал Мушни голос толстого милиционера и улыбнулся. Он слышал только обрывки фраз.
— Ночью ребята отправились на поиски, еще не вернулись…
— Трудно в горах человека найти…
— Куда они денутся? Коней-то все равно узнают.
— Да нет, следы мы найдем, но… — Это был опять голос толстяка.
— Кто-то из геологов ранил в ногу начальника, мы за ним приехали. Кто же думал, что пастуха убьют? — Это сказал долговязый, рябой.
— Бедный Квирия.
— Эх, отличный был парень…
Никто не обращал внимания на Мушни. Все говорили о Квирии, все были проникнуты жаждой мести. Мушни стоял неподалеку от милиционеров и думал: знай они, кто я, задержали бы немедленно. Собственная дерзость доставляла ему странное удовольствие. Он радовался избавлению от страха и, забавляясь, дразнил судьбу. Он, конечно, не собирался открывать милиции свои имя и фамилию, но и уходить пока не думал. Мушни снова увидел Тапло, она разговаривала с каким-то ладным мужчиной, которого Мушни прежде не замечал.
«Может, это и есть жених? — подумал он. — А таких знакомых, как я, у нее небось целая куча».
Милиционеры строили планы на завтрашний день.
— Сегодня уже поздно. Завтра с утра поднимемся на пастбища. Никуда он от нас не уйдет…
«Это мы еще посмотрим», — насмешливо подумал Мушни и, обогнув дом, стал спускаться к реке. Непонятная обида теснилась в сердце. На кого и почему? Он не знал и не задумывался над этим. Смотрел на быструю пенистую реку, зажатую крутобокими горами, не воспринимая окружающей красоты. Мушни увидел седого великана, с которым познакомился в тот же день, что и с Квирией. Гота сидел на пеньке, одинокий и угрюмый. Мушни вдруг страстно захотелось подойти и заговорить с этим человеком: как будто та возможность, которая угасла со смертью Квирии, могла возродиться иным путем, но кто знает, помнит ли его Гота? Внутреннее чутье подсказывало Мушни, что перед ним добрый и отзывчивый человек. На приветствие он ответил слабым кивком, выдающим глубокую скорбь. Мушни понял, что Гота сразу узнал его и даже как будто обрадовался ему. Сам он с нескрываемым расположением смотрел на могучие плечи седого великана, на его огромные руки, бессильно лежавшие на коленях, и чувствовал, что может держаться с ним просто и откровенно.
Мушни стал расспрашивать о подробностях гибели Квирии. И Гота отвечал ему, как близкому, как другу. Рассказал почти то же самое, что Мушни уже знал от людей, но Мушни все равно слушал очень внимательно и жалел, что Квирия не знает и уже не узнает, как горюют по нему односельчане. Квирия умер, так и не узнав, как привязался к нему Мушни, с первой встречи, с первого взгляда.
— Хороший был парень, — вздохнул Мушни, когда Гота кончил свой печальный рассказ.
— Еще бы! Мы ведь с ним побратимами были. — Схватившись за голову, Гота добавил: — У меня на руках умер…
Гота вместе с Квирией был в ночном, когда бандиты увели коней.
— Поздно услыхали, не успели помочь, — сокрушался он.
— Никуда они не денутся, — сказал Мушни, — только Квирии это не поможет. Вон милиционеры прибыли, займутся ими…
— Да ну их, — махнул рукой Гота, — утром я сам отправлюсь на поиски, и пока не найду…
Со двора снова донесся плач, отчаянный, горький. Мушни испытующе посмотрел на великана.
— Один пойдешь? — спросил он погодя.
— Один.
И вдруг новая мысль молнией сверкнула в мозгу, и, едва успев додумать ее, Мушни поспешил высказаться:
— Если я не помешаю… Если можно… Возьми меня с собой.
Гота поднял голову и посмотрел на Мушни внимательно и испытующе, как смотрят фотографы на своих клиентов.
— Возьму! — уверенно решил он.
— Где мне ждать? — спросил Мушни.
— Где хочешь.
— Тогда я чуть свет буду на аэродроме.
— Ладно, — согласился Гота и вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: — Слушай, парень, я же твое имя забыл.
— Мушни!
11
Когда улеглось первоначальное смятение и все так или иначе свыклись, смирились с гибелью Квирии, оказалось, что надо позаботиться о похоронах. Женщины увели жену и бабушку Квирии отдохнуть. Мужчины вместе с Готой куда-то ушли. Милиционеры обосновались у соседей, где их потчевали водкой. Мушни остался один в опустевшем дворе и не знал, куда деваться. Он совсем не думал о том, что с ним будет завтра. Знал, что пойдет в горы и будет преследовать убийц Квирии. Смятение мешало ему сосредоточиться. В голове путались обрывки мыслей, смутные образы и воспоминания. Мушни, казалось, не замечал, как спускаются сумерки, как скрывается за хребтом вечернее солнце. От водки, выпитой днем с Готой, пересохло во рту, и он решил пойти в столовую и выпить чего-нибудь у знакомого буфетчика. Выходя со двора, небритый, помрачневший, заложив больную руку за пазуху, хотя она уже не так болела, он в воротах столкнулся с Тапло.
— Что ты тут делаешь? — спросила она. Мушни пожал плечами.
— Милиционеров видел? — снова спросила Тапло.
— Видел.
— И что же?
— Ничего.
— Ты что, не знаешь, что они за тобой приехали?! Встал рядышком, как брат родной. Они спрашивали про тебя. Твое счастье, что никто тебя здесь не знает…
Мушни с радостью отметил, что Тапло тревожится за него.
— Хорошо. Я уйду. — Он покорно пошел по тропке, ставшей за эти два дня совсем привычкой. Тапло молча проводила его до конца деревни.
— Что ты будешь делать? — спросила она, когда они остановились.
— За меня не волнуйся, — улыбнулся Мушни. — Если б не гибель Квирии, ты меня здесь больше не увидела бы.
Она только махнула рукой. Печаль делала ее еще краше. Мушни впервые видел Тапло такой и с доброй улыбкой всматривался в изменившееся лицо. Настроение Тапло было знакомо ему и понятно, оно-то и делало ее особенно близкой. И потом, так сильно она еще никогда не нравилась ему. Ее черные большие глаза, высокие круглые брови, маленький сочный рот и голос — сильный, твердый, но в то же время женственный и ласкающий — влекли его невероятно и заставляли забывать обо всем на свете. Было очень жаль, что он ничем не связан с этой девушкой, что расстается с ней и, наверно, никогда больше ее не увидит.
— А тот парень, что разговаривал с тобой, кто он тебе?
— Который это? — нахмурилась Тапло. Когда Мушни подробно описал ее давешнего собеседника, она отрезала:
— Никто.
Потом из деревни выехал какой-то молодец на коне, предложил Тапло подвезти ее, но она отказалась, и он поехал один… Мушни мысленно проследил ожидающий всадника путь, вспомнил аэродром и то, как впервые увидел Тапло.
— Бедный Квирия! — сказал он.
Тапло вздохнула.
Мушни молчал. Молчала и Тапло. Они могли молчать очень долго, но обоим казалось, что надо о чем-нибудь говорить. И Мушни нарушил молчание.
— Ты будешь у Квирии? Там? — Он указал в сторону села.
— Да. А ты?
— Я поднимусь к церкви, отдохну. Завтра с утра у меня есть одно дело.
Тапло не спросила, что за дело у него появилось.
— Хорошо. Ты подожди меня там. Я приду попозже.
Потом она ушла.
Мушни стоял и смотрел ей вслед. Он знал, что она идет в дом Квирии, полный печали. Но думать об этом не мог. Его мысли занимала предстоящая встреча с Тапло. И он был счастлив.
12
Язычники-тушины, сохранившие верность своим идолам, видимо, никакого внимания не обращали на эту маленькую церквушку. Не так уж давно, лет сто назад построенная, она уже наполовину развалилась, двери были сорваны с петель, плиты на полу разворочены, и между ними бурно прорастала трава. И все равно сидеть здесь было удивительно приятно. С гор дул прохладный ветерок и волнами пробегал по зеленой траве. Казалось, что церковь эту возвели не для служб и молений, а для того, чтобы случайные путники могли здесь отдохнуть. Мушни обошел вокруг церкви, оглядел местами закопченные белые стены, потом уселся на землю, прислонившись к стене, и стал смотреть на длинные хребты, сжимающие пространство. Солнце уже зашло, зеленые горы стояли безмолвно, неподвижно, все так затаилось, будто природа скрывала что-то и, владевшая ей одной ведомой тайной, отчуждалась от человека. В верховьях ущелья виднелись вечноснежные вершины, победоносно воздвигнутые в прозрачном воздухе.
«И все-таки ничего не меняется, — подумал Мушни. — Все прочно». Сейчас он был доволен своей участью и дивился вечному непостоянству — присущему людям со времен Адама. Утром, когда он узнал о смерти Квирии, все казалось ему бессмысленным и никчемным, а сейчас, когда он ждал Тапло, все наполнилось глубоким смыслом и значением. Конечно, смерть Квирии оправдать трудно, но кто знает, может, и в ней был заложен смысл, сокрытый от всех, и от Мушни в том числе.
В природе все подчиняется определенным законам. Только жизнь человека, то, что с ним внезапно случается, вызывает ощущение, что мир устроен несправедливо и хаотично. Сколько злодеев сошло в могилу, так и не получив возмездия, в то время как страдают добрые, хорошие люди. Отчего это? — думал Мушни. — От незнания нашего? Ведь без причины ничего не происходит, значит, и несправедливость эта должна иметь свои корни, которых мы не постигаем.
Вот сидит человек, смотрит на вечернее небо, на бледные звезды. Видит землю, просторную и твердую. Как понять, что там, за гранью видимого? Где-то вращается колесо причинности, и, как звенья цепи, одно явление влечет за собой другое. Если внимательно проследить за их чередованием, все можно объяснить. Но так далеко уводит эта цепь причин и следствий, в такую глубину времени и пространства, что теряется из глаз, и в силу ограниченности своей человек не может постичь первопричину, породившую все остальное, и она остается для него загадкой и тайной.
Впечатление это рассеивается в том случае, если допустить, что существует загробная жизнь, где все уравновешивается. Но ведь никто не знает, что происходит на том свете. Все мы — люди, и во всем решительно хотим разобраться здесь, на земле. Наши неутоленные страсти не утолить абстрактным сознанием, что где-то и когда-то каждому воздастся сполна.
Внезапно Мушни ощутил безысходное одиночество. Стало еще темнее, и звезды засияли ярче, и таким тяжелым было это небо с чеканкой звезд, что Мушни почти физически ощутил на своих плечах его давящую тяжесть. Он испугался небытия, исчезновения, а снежные вершины вверху ущелья, белые и холодные, сверкали на темном небе, как символы и полного небытия, и вечности. Разве изменится что-нибудь, если Мушни умрет? Кто узнает о его смерти? Кого она огорчит? Ведь он совсем один на этой огромной земле, где живут миллионы людей. Злость закипела в нем, и ему захотелось разорвать сковывающие его цепи и освободиться, убежать от собственной судьбы, которая, может, и была предопределена, но примириться с которой он не мог. Ему захотелось перемешать все, перебросить свою жизнь в новое русло, ему захотелось взять за руку того, кто будет с ним вместе среди этой темной ночи, среди мрачно вздыхающих гор, под этим тяжелым звездным небом, как надежда и как утешение обреченного. Тут он заметил тень, приближающуюся к церквушке, и от волнения у него перехватило дыхание.
Тапло нерешительно поднималась к церкви, а Мушни вдруг ощутил слабость и удивился себе — никогда еще не терял он самообладания, никогда не позволял своим страстям такого приволья. Когда Тапло подошла, он не смог выговорить ни слова и глухо кашлянул.
— Ты что, простудился?
В голосе ее прозвучала обычная насмешливость. Так же она разговаривала с ним, когда они познакомились и когда вчера шли к дому Квирии. От знакомого тона Тапло он приободрился, пришел в себя, но в то же время ему стало жаль, что недавние волнения ушли, он словно прощался с чем-то очень возвышенным и необыкновенным. «Ничто не прочно, ничто не надежно», — подумал он.
— Какая я глупая, зачем только я пришла сюда среди ночи? — воскликнула Тапло. — Что скажут люди, если увидят меня здесь?
— А кто может тебя увидеть?
— Откуда я знаю.
— Если тебе не нравится, уйдем отсюда, — обиженно сказал Мушни.
— Давай уйдем!
13
Они спустились с холма, пересекли русло высохшей речушки и пошли по дороге, вьющейся посреди поля. В далеком отсюда селе холодно поблескивали огни. Там среди крестьянских домов и старинных башен, чьи силуэты сейчас скрыты непроглядным мраком, в одном из дворов, под небом, усеянным звездами, лежал Квирия.
А сюда ветерок приносил свежий запах скошенного сена. Было прохладно, хотя лето еще не кончилось. Конец августа. Через две недели отары двинутся на зимние пастбища, и здесь станет совсем пусто. Впрочем, и сейчас, этой темной ночью, тут достаточно пустынно и безлюдно. Темень стояла — хоть глаз выколи, только смутно белела извилистая тропка. Тапло и Мушни шли молча. Они миновали лес, близость которого угадывалась по густому веянию хвои, прошли над оврагом, откуда тянуло сыростью и холодом, приблизились к окраинным сараям, выдававшим себя теплым запахом скотины, навоза и сена.
Тапло шла быстро. Временами она останавливалась и затаив дыхание вслушивалась в тишину. Ей казалось, что за ними идут невидимые преследователи. Но ни малейший шорох не нарушал глухого молчания гор, и Тапло догоняла ушедшего вперед Мушни.
Мушни шагал, не оглядываясь, и думал сразу о многом. Он был несколько разочарован и раздосадован, но ведь нельзя требовать от обыкновенной женщины полного соответствия своему представлению.
Стертые темнотой очертания гор делали местность неузнаваемой. Все словно поменялось местами, и то, что днем было ясным, как раскрытая тайна, сейчас казалось загадочным и опасным. Мушни вспомнил, что где-то должен быть родник. Он свернул с тропки и по журчанию воды понял, что не ошибся. Ополоснув лицо, он вернулся к Тапло, которая стояла, вся напрягшись, и во что-то вслушивалась.
— За нами кто-то идет, — прошептала она.
— Ну и что же? — беспечно передернул плечами Мушни.
— Я боюсь.
— Не стыдно тебе? Чего ты боишься? — засмеялся Мушни.
— Не стыдно потому, что я женщина, — словно гордясь этим, объяснила Тапло.
Мушни прислушался к тишине, и ему тоже показалось, что раздался какой-то шум и шорох, похожий на шаги.
Они пошли дальше. Дорога круто спускалась вниз, к реке. Отсюда рева воды еще не было слышно, и тропинка терялась в кромешной тьме, поэтому казалось, что они спускаются в мрачную пропасть. Мушни обнял Тапло за талию, хотя понимал, что ей не труднее, чем ему, идти по крутому кочковатому спуску. Тапло не оттолкнула его, напротив, прижалась к нему плечом, отчего у него дрожь прошла по всему телу. Он ничего не слышал и ни о чем не думал, упиваясь доверчивой близостью девушки. Когда они вошли в лес, Мушни остановился, притянул Тапло к себе и поцеловал в шею.
— Постой! — Не высвобождаясь из его объятий, Тапло опять стала прислушиваться. — Слышишь? — прошептала она.
Мушни едва успел недовольно подумать, что это обычная женская уловка, как вдруг сам услышал в глубине леса звук, похожий на слабое конское ржание. Но он тут же позабыл обо всем, прижал к себе Тапло и получил сильный удар. Боль острой стрелой вонзилась в плечо.
— О-о, — застонал Мушни, согнувшись и схватившись левой рукой за больное плечо. На лбу у него выступила испарина. Он стыдился своего поражения. И стыд был сильнее боли. Когда боль утихла, он снова услышал какие-то голоса в лесу. «Кто это может быть?» — подумал Мушни и пожалел, что он не один. Будь он один, ничего бы не боялся, не обращал бы внимания на шум. А сейчас волнение Тапло передавалось ему.
— Больно? — склонилась она к нему, и он почувствовал на лице ее частое дыхание. — Прости, я не хотела…
— Ничего, — Мушни выпрямился.
— Не люблю ходить ночью, — словно оправдываясь, сказала Тапло.
В лесной тишине можно было расслышать биение собственного сердца. Ни малейшего шороха в папоротниках, ни вскрика ночной птицы. Их окутал пьянящий запах хвои, смешанный с холодным дыханием сырой земли. Теперь уже и Мушни готов был поверить, что только злой дух мог пройти по этой затерянной в ночном мраке тропинке. Непроглядная тьма делала возможным самое невероятное, потустороннее, и Мушни вдруг подумал, что Квирия мертв и душа его, если таковая существует, бродит где-то неподалеку.
— За нами кто-то идет, — прошептала Тапло.
— Глупости, — не очень твердо ответил Мушни.
— Ты не слышишь?
Он прислушался и снова услышал какие-то голоса, смех и цокот копыт. Темнота мешала разобрать, что это был за шум, но казалось, что за ними гонятся. И мучительное чувство неопределенности заглушало способность трезво рассуждать.
— Давай подождем, — сказал Мушни, — может, это просто кто-то идет из деревни.
— Ты с ума сошел! Наоборот, надо опередить их! — воскликнула Тапло и увлекла его вперед.
Они взялись за руки и почти бегом припустили по крутому спуску. Бежали они молча, и только щебенка хрустела под ногами.
— Чего ты боишься, кто тут может быть среди ночи? — попытался успокоить Тапло и самого себя Мушни.
— Не знаю… Кто-то гонится за нами по пятам, как сам леший.
— Леший не по пятам гонится за человеком, а впереди его подстерегает, в засаде.
— И спереди подстерегает и сзади подгоняет туда, где сам затаился.
— Если верить в это, тем более не стоит бежать…
Они замолчали и вскоре подошли к реке, шум которой перекрыл загадочные лесные голоса. Теперь казалось, что они были всего-навсего порождены глухой ночной тишиной. Чем ниже спускались Тапло и Мушни, тем влажнее становился воздух и оглушительнее рокотала река, Они миновали последнюю извилину тропинки и очутились возле самой воды — холодной, пенистой, несущейся по камням. Перешли на тот берег по узенькому мосту, и Мушни предложил Тапло передохнуть. Тапло категорически отказалась.
— Только бы поскорей добраться до дому, больше мне ничего не надо, — сказала она.
— Чего ты боишься, не понимаю, — еще раз спросил Мушни, и тут ему в голову впервые пришла догадка — не его ли боится Тапло? В конце концов находиться ночью в лесу с незнакомым мужчиной женщине не большая радость. Может быть, она для того и придумала каких-то преследователей, чтобы отвлечь его внимание и поскорее выбраться из лесу. Но ведь он и сам слышал чьи-то голоса?
— Ты не меня, случайно, боишься? — осторожно спросил Мушни.
— Тебя?! — искренне удивилась Тапло. — Почему я должна тебя бояться?
— Тогда передохни, куда ты бежишь?
— Не слышал разве, что за нами гнались?
— Не выдумывай, кому нужно за нами гнаться! — Мушни не был уверен, слышал ли он топот и ржание. Может, померещилось?
— Не знаю, кому. Если б знала, не боялась бы, — рассердилась Тапло, и Мушни понял, что ее не переубедить.
По мере того как они поднимались по склону, река затихала, и, когда перед ними раскрылось знакомое поле, наступила полная тишина, нарушаемая лишь треском цикад.
Мушни радовался, угадывая в темноте знакомые места. Здесь он чувствовал себя спокойнее, увереннее, как человек, вернувшийся домой, хотя и не знал, где проведет нынешнюю ночь. Очень привычными показались ему эти дома и поле со сваленной посередине поклажей, ожидающей вертолета. Мушни помнил, где находится родник, где развалины крепости, и это прибавляло ему спокойствия и уверенности, поэтому он теперь шагал рядом с Тапло довольный и умиротворенный.
Проходя мимо столовой, они столкнулись с буфетчиком.
— А-а, Мушни, — узнал его буфетчик.
Мушни обрадовался этой встрече тоже. Видимо, буфетчик шел к себе, но задержался у крыльца, заметив приближающиеся тени.
— Вы откуда? — спросил он, разглядев Тапло. Он как-то слишком пристально вглядывался в их лица. Может, из-за темноты?
Мушни кивнул головой в сторону села, где жил Квирия.
— Эх, бедный Квирия, — вздохнул буфетчик и снова уставился на Мушни, словно ожидая, что тот скажет. Мушни промолчал. После недолгого молчания буфетчик пожелал им спокойной ночи и поднялся на крыльцо.
Свернув с дороги, они пошли по мокрой от росы высокой траве и вскоре очутились перед финским домиком. Мушни с удовольствием вспомнил, как ночевал в комнате Тапло. И стало грустно от того, что они уже пришли. Впрочем, кто знает, может, это к лучшему.
— Ключ в дверях! — сказал он.
Тапло поднялась по ступенькам.
— Заходи! — пригласила она.
14
Пьяные милиционеры колотили в запертую дверь столовой. Обычно в такое время в столовой никого не бывало, буфетчик ночевал в деревне у родственников. Но в этот вечер забили корову, которая сорвалась со скалы и сломала ногу, и буфетчик помогал повару свежевать тушу, Он не сразу услышал стук в дверь. Отложив в сторону длинный окровавленный нож, пошел открывать. Не успел он сдвинуть засов, как в столовую ввалились милиционеры.
— Ты чего в темноте сидишь? — заорал низенький, толстый.
— Давай вина! — Высокий рябой с такой силой хлопнул буфетчика по плечу, что тот чуть не упал.
Развязность незваных гостей разозлила буфетчика, но он нагнал на лицо привычную улыбку и вежливо предложил садиться. Пока буфетчик зажигал керосиновую лампу и откупоривал бутылки, долговязый милиционер затянул песню.
он раскинул свои длинные руки, как крылья, и закачался, теряя равновесие.
подхватил низенький, черноусый, игриво подмигивая буфетчику.
«Принесла вас нелегкая!» — думал тот про себя, ставя на стол стаканы.
Милиционеры стояли посреди комнаты, увлеченные пением.
Все время, пока они пели, буфетчик стоял за прилавком, томясь от безделья, и думал о неосвежеванной корове. Подставив пьяным стулья, он сказал:
— Видно, хорошо покутили…
— Что нам еще оставалось?
— А парня того вы нашли? — словно проверяя, спросил буфетчик, хотя только что видел Мушни.
— Которого?
— Да за которым приехали?
Толстый милиционер вдруг заревел, как зверь, и изо всех сил хватил кулаком по столу. Глаза его налились кровью, и на лице появилась такая злоба, что буфетчик возблагодарил бога, что Мушни в эту минуту здесь нет.
В столовой установилась тишина — пролети муха, ее слышно было бы. Но милиционер закричал опять, прежде чем присутствующие успели ощутить эту тишину.
— Поймаю и своими руками задушу! — заскрипел зубами толстяк, сжимая кулаки. — Вот так задушу! — показал он буфетчику, шевеля пальцами, как будто разминая в руках что-то твердое и неподдающееся.
— Никуда он не уйдет, — добродушно произнес долговязый, он, видимо, был в хорошем настроении и хотел успокоить рассвирепевшего друга.
— Ты думаешь, я ловить его буду? — прервал его толстяк и снова обратил к буфетчику искаженное злобой лицо. — Нет! Ловить его незачем! Я научу его, как надо стрелять!
— Стрелять — это мы умеем! — весело подтвердил долговязый и собрался снова затянуть песню.
— Стрелял в самого главного геолога! — с таким возмущением кричал толстяк, словно не представлял себе более почетной и высокой должности. — Я ему покажу, как надо стрелять! — Он достал из кобуры револьвер и направил его в угол комнаты, будто там скрывался Мушни.
— Выходи! — заорал он в темноту с таким напором, словно обращался к Мушни, которого никогда не видел и бог весть каким себе представлял.
— Выходи, прямо в лоб тебе пулю влеплю, сопляк! — Он встал, сделал несколько шагов к темному углу и нажал курок.
Загремел выстрел. Запах пороха ударил в нос перепуганному буфетчику. Стало тихо.
— Вот так, — опустив револьвер, процедил милиционер. — Ну, а теперь наливай!
Скорее всего выстрел немного отрезвил его и некоторым образом успокоил.
15
Тапло и Мушни тихонько вошли в темную комнату и прикрыли за сбой дверь. Окно было закрыто, ветер колебал занавеску. Мушни заволновался так же, как и вчера, когда вошел в эту комнату один. Сейчас Тапло была с ним, и сердце у него билось учащенно, то ли от сознания, что он здесь, с ней наедине, огражденный от всего мира, то ли от недавней погони — невидимой, но несомненной. Привыкшие к темноте глаза различали кровать, на которой он провел предыдущую ночь. Кровать Тапло. Это сближало их, у них словно бы появилось что-то общее. Мушни с трудом овладел собой и успокоился, только когда Тапло засветила лампу и насмешливо спросила:
— Что ты торчишь в дверях? Садись!
Она достала из тумбочки бутылку водки. И, ловко двигаясь, накрыла на стол. А Мушни сидел и следил, как бесшумно и плавно скользила она. При свете лампы девушка казалась особенно красивой, и он ни о чем не думал, ни о Квирии, ни о милиционерах. Просто наслаждался тем, что происходит сейчас, сию минуту, просто смотрел, как Тапло готовит ужин.
Выставив на стол сыр, соленья, две тарелки, стаканы и бутылку, Тапло вышла из комнаты. Мушни услышал, как она постучала в соседнюю дверь и спросила: «Можно?» В ответ раздались голоса — мужской и женский. Скрипнула дверь, и опять стало тихо. И вдруг эту сплошную, без единой трещины, тишину разбил выстрел, далекий, но резкий, как свист плети. Тревожным воспоминанием ворвался он в сердце Мушни, нарушив установившийся там мир. Мушни вскочил со стула и хотел выбежать из комнаты, но потом раздумал и подошел к окну. Ничего не было видно, только на склоне горел костер. Должно быть, там ночевали пастухи. Сонное поле, убаюкивающий стрекот цикад. Уж не послышался ли ему выстрел? У него так напряжены нервы, что ежеминутно мерещится то погоня, то стрельба.
Снова заскрипела дверь в коридоре, вернулась Тапло. Мушни все стоял у окна.
— Тебе что, воздуха не хватает? — спросила Тапло. Она принесла от соседей хлеб и вареное мясо.
— Стреляют, — сказал Мушни.
— Ты придумываешь? — встревожилась Тапло и тоже подошла к окну. Они стояли рядом, вперив глаза в кромешную ночную тьму, поглотившую все вещное, и из этой тьмы до сознания доходил только прерывистый, словно прыгающий стрекот цикад. Мушни обнял Тапло за плечи, она сбросила его руку и отошла от окна.
— Правда стреляли или ты выдумал?
— Разве я когда-нибудь выдумывал?
— Не знаю. Я тебе не верю.
— Почему?
В это время кто-то затопал по коридору тяжелыми сапогами.
— Гио, это ты? — окликнула Тапло.
— Я. — В комнату вошел молодой чернявый тушин. При виде Мушни он смешался, но вежливо с ним поздоровался.
— Знакомься, Гио, — сказала Тапло, — это товарищ моего брата, прибыл сюда с экспедицией.
Мушни достал из-за пазухи правую руку и протянул ее соседу Тапло. Тот пожал ее так сильно, что Мушни едва не вскрикнул от боли, но сдержался и остался собой доволен, да и давешнее снадобье, видать, помогло. Вместе с тем пришло воспоминание о Квирии и рассеяло его благодушие. Умиротворение, которому Мушни поддался в этом ветхом домике, не вязалось с гибелью Квирии.
— Посиди, Гио, с нами, — пригласила Тапло.
— Нет, мне надо коня проведать.
— Ты не слышал стрельбу?
— Слышал.
— Кто стрелял?
— Не знаю. В последнее время выстрелы что-то зачастили…
Наступило молчание.
— Вчера парня одного убили, пастуха, — сказал Гио, обращаясь к Мушни.
— Я знал Квирию, — коротко отозвался тот.
Снова молчание.
— Садись, Гио, — повторила Тапло.
— Нет, я пойду. Заодно узнаю, кто стрелял. Схожу на аэродром, там всегда народ.
Гио вежливо кивнул Мушни и вышел.
Тапло села к столу, и они приступили к скромному ужину. Тапло вытянула из бутылки пробку и велела Мушни разлить водку. Мушни взялся за бутылку правой рукой, но плечо заныло, и он перехватил ее левой.
— Все еще болит? — спросила Тапло.
— Уже не так.
Тапло подняла свой стакан.
— Давай выпьем!
— Эх, бедный Квирия! Вечная ему память.
Водка была крепкая, приятным теплом пробежала по жилам.
В последнее время Мушни ел от случая к случаю и, хотя выпил совсем немного, почувствовал, как водка ударила в голову.
— Шукруну так жалко, — сказала Тапло.
У Мушни перед глазами стояло окаменевшее от горя лицо бабушки Квирии. Как она глядела на внука, беспомощно распластанного на тахте.
— Как они любили друг друга! — продолжала Тапло.
— Ничего, другого полюбит, — жестко проговорил Мушни.
— Как тебе не стыдно, почему ты так говоришь? — обиделась за подругу Тапло.
— Не сойдет же она в могилу за ним?
— Ты плохо думаешь о женщинах.
— Да нет. Просто природа возьмет свое. Мне, лично, больше всех жаль его бабушку.
— А самого Квирию?
— Его уже нет! Ему теперь все равно, — уверенно сказал Мушни, а сам подумал: действительно, какое значение имеет для Квирии, пойдет он завтра с Готой или нет. Допустим, они поймают бандитов и отомстят им, а что с того? Квирии это не поможет. Живые получат удовлетворение — вот и все.
— По-твоему, значит, верности не существует? — спросила Тапло.
— Почему же, — не согласился Мушни, задетый неприятным подозрением: может, говоря о верности, Тапло имела в виду своего жениха?
— Ты так говоришь, будто женщины не умеют хранить верность.
— Наверно, умеют. Но время залечивает любые раны. Может, Шукруна никогда не забудет Квирию. Но она совсем молода, и ей снова захочется любви.
— Значит, никакой любви не существует.
— А что такое любовь, по-твоему? — спросил Мушни.
— Как что такое?! Любовь — это… это любовь, и все.
— Верно, — улыбнулся Мушни. — Настоящая любовь, — это когда человек забывает о себе. Как ты думаешь, легко забыть себя? И многие ли на это способны?
— Ну, если так рассуждать, — протянула Тапло.
— Ты права, не стоит, — прервал рассуждения Мушни и стал разливать по стаканам водку. — Давай лучше выпьем за тебя. Будь здорова, Тапло!
Тапло посмотрела на Мушни, совсем не удивившись его тосту. А он думал, что Тапло начнет кривляться — зачем, мол, пить за мое здоровье? Тогда бы Мушни стал настаивать, тем самым подчеркивая свое к ней уважение. Но она приняла тост, как должное, просто и с достоинством.
— Будь здорова, Тапло! — Мушни с ласковой улыбкой заглянул ей в лицо. — Желаю тебе счастья. Может, мы больше не свидимся, но я надеюсь, что никогда тебя не забуду.
— Надейся, если хочешь. — Тапло засмеялась.
— Я от души пью за тебя!
— Ты тоже будь здоров! — Тапло легонько стукнула своим стаканом о стакан Мушни, и он увидел в ее глазах такое искреннее расположение и нежность, что сердце у него дрогнуло от неожиданной радости и, не желая выдавать себя, он мигом осушил второй стакан. Выпитая водка снова теплой волной прошла по телу. Он не опьянел, но согрелся и расстегнул ворот. В наступившей тишине легко можно было различить приближающиеся голоса и шум. Мужчины, очевидно пьяные, подходили к финскому домику, горланя и бранясь. Тапло, побледнев, встала у окна и напряглась точно так же, как в лесу, когда ей мерещилась погоня. Пьяные ввалились в коридор. Гио пригласил их в пустую комнату. (В доме было три комнаты: одну занимала Тапло, вторую — Гио с семьей, третья — пустовала.)
— Кто это? — прошептала Тапло.
Через стенку было слышно, как пьяные возились, галдели, угрожали кому-то, но понять бессвязные фразы было трудно, хотя Мушни старательно вслушивался в пьяную болтовню.
Наконец за стеной стало тихо и в коридоре раздались шаги. Тапло выглянула за дверь и позвала Гио.
— Кого это ты привел? — спросила она.
— Да милиционеров, напились и стреляли в столовой.
— А что им тут надо? — испугалась Тапло.
— Переночуют, а утром пойдут искать убийц Квирии.
— Они заснули?
— Храпят.
— Ох, и напугали они меня!
Гио засмеялся, пожелал Тапло спокойной ночи и пошел к себе.
Тапло заперла дверь.
— Слыхал? — повернулась она к Мушни.
Он кивнул.
— Я же говорила, что они идут за нами.
— Ты думаешь, это были они?
— А кто же еще? Я так и чуяла, оттого и боялась. — Тапло прижала руку к груди. — И сейчас боюсь.
— Чего ты боишься? — улыбнулся Мушни. — Видишь, дрыхнут без задних ног.
— А если они узнают, что ты здесь?
— Откуда узнают?
— Вдруг им буфетчик сказал? Он же нас видел.
— Все равно, сейчас они мне не опасны. А утром, пока протрезвятся, меня уже не будет.
— А где же ты будешь? — удивленно подняла брови Тапло.
— Пойду в горы с Готой, помогу ему бандитов найти…
— Помощник! — усмехнулась Тапло. — Ни коня у тебя, ни оружия.
Мушни смотрел на улыбающиеся губы Тапло и думал, как пригодился бы ему завтра потерянный револьвер.
— Ничего, Гота меня обеспечит, — сказал он.
Во всем доме стояла глухая тишина. Лениво, ползком двигалось невидимое время, бледно мерцала керосиновая лампа, и Мушни маленькими глотками отпивал водку. Тапло пить отказалась: «Опьянела, больше не могу». До рассвета далеко. Может, ей надо отдохнуть? Но она бы сказала, не такая уж робкая. Ему здесь было хорошо, и уходить не хотелось. Куда уйдешь? В холодную непроглядную ночь? Тапло достала из чемодана транзистор, забралась с ногами на кровать, закуталась в шаль и сквозь хрип и чужой говор в эфире поймала нежную джазовую мелодию. Они молча слушали музыку, которая отрывала их от этих сумрачных гор и уносила в просторные, сияющие светом залы, где пестрая разноязыкая толпа веселилась и тешилась — каждый на свой лад, — в разных уголках земли, где ночь, где день — люди проводили время, то самое время, которое двигалось и текло повсюду, вовлекая в движение свое и этот деревянный домик, и с ним вместе Тапло и Мушни.
— Устала, — сказала Тапло и выключила транзистор.
Мушни встал.
— Уходишь? — спросила Тапло.
— Говоря по правде, не хочется, — признался он.
— Тогда побудь еще немного.
— Ты, наверно, спать хочешь?
— Нет. Расскажи что-нибудь.
Мушни сел на кровать, у ног Тапло. Она откинулась к стене и оперлась локтем о подушку.
— Что тебе рассказать? — Близость Тапло кружила ему голову, мысли путались, и все существо его подчинялось одному желанию, мучительному, неясному ожиданию.
— Расскажи, кто ты, откуда?
Лампа на столе начала чадить, в комнате запахло гарью и керосином, и наконец огонь погас, и мрак, ворвавшийся снаружи, заполнил все углы.
— Керосин кончился, — шепотом сказала Тапло.
— Я раскрою окно! — Голос не подчинялся ему. Шаря руками по стене, он добрался до окна и, распахнув его, подставил горящее лицо свежему ветерку.
На обратном пути он наткнулся на стул и едва не опрокинул его.
— Иди сюда, — позвала из темноты Тапло. И от шепота ее по всему телу Мушни снова прошла леденящая дрожь. Ослабли ноги и руки, и он забыл обо всем на свете, о том, что кого-то где-то убили, что кто-то кого-то ненавидел и преследовал, что одни горевали и плакали, а другие пили вино и танцевали в сверкающих огнями залах, тогда как кто-то умирал от голода и мечтал о куске хлеба.
Он сел на кровать рядом с Тапло, и дыхание у него перехватило, разум помутился, его словно вырвали из времени и пространства, оторвали от земли. Он обнял Тапло и почувствовал ее тело, ее горячие губы, и ему нестерпимо захотелось покинуть себя, свою плоть и соединиться, слиться с чем-то неведомым, с некоей тайной. Ему казалось, что счастье, наконец, настигнуто, в неукротимом стремлении к блаженству он потерял ощущение собственного «я», и что-то неподвластное ему неудержимо влекло его за собой. Но вдруг что-то холодное и грубое уперлось ему в грудь, и он не сразу понял, что это револьвер. До его затуманенного сознания донесся изменившийся голое Тапло: «Выстрелю, честное слово, выстрелю! Отпусти!..» Но ему было уже все равно.
— Стреляй, если хочешь, — крикнул он. — Стреляй!
16
Ночь текла, как любимая мелодия. Пело все вокруг. Скользящие в небе облака распускались нежными песнями и рассыпались в пространстве. Таяли сладкозвучные звезды и снова сияли в ансамблях далеких галактик! Ветер касался трав и деревьев, словно струн, и дома, стоящие на горных склонах, как завороженные, вслушивались в эту волшебную музыку.
Финский домик скромно стоял в ряду себе подобных, но для Мушни теперь это был самый драгоценный и неповторимый дом на всей земле. Голова Мушни лежала на плече у Тапло, и он шептал:
— Какая ты сладостная… Такой женщины больше нет на свете.
— Я глупая, — говорила Тапло, лаская его. — Я ведь совсем не знаю тебя. Лежу с тобой и не знаю, кто ты.
— Я сам не знаю, кто я такой, и сегодня не хочу знать.
— Как не знаешь?
— Очень просто. Родители меня оставили, когда я был совсем маленьким. Растила меня старушка, я называл ее бабушкой. О родителях своих ничего не знаю — умерли они или живы. Может, у меня братья есть, сестры — не знаю. Я всегда был один. Но теперь счастливее меня нет человека. Я тебя так люблю, что кажется, сердце не выдержит и разорвется. Ты сладостна, как сама жизнь…
— Все пройдет, и ты забудешь меня.
— Никогда! Я буду любить тебя всю жизнь. Скажи мне, у тебя на самом деле есть жених?
— Был. Сейчас уже нет.
— Ты любила его?
— Не знаю. Сейчас не люблю.
— Тапло, почему ты взяла у меня револьвер?
— Я снимала с тебя пиджак и подумала — зачем пьяному оружие?
— А вчера, когда давала мне ключ, почему не вернула револьвер?
— Знала, что еще увижу тебя.
— Ты хотела меня видеть?
— Не знаю. Может, и хотела.
— Ты любишь меня?
— Не знаю. Наверно.
— Скажи, ты будешь моей?
— Разве я не твоя?
— Не сейчас, а всегда?
— Всегда? Не знаю.
— Не знаешь?.. А я так люблю тебя, что не представляю, как буду жить один, без тебя!
— Знаешь, что… Возьми меня с собой.
— Куда?
— Куда хочешь.
— Ладно. Возьму.
— Куда?
— Не знаю. Куда-нибудь возьму.
— Эх, ты никогда ничего не знаешь.
— Ты обиделась?
— Нет.
— Ты же знаешь, в каком я сейчас положении? Вот выкручусь и что-нибудь придумаю.
— Хорошо.
— Жизнь меня не баловала, но я все равно верил в удачу. Почему ты молчишь?
— Светает.
— Да, мне надо идти.
— Не уходи!
— Гота ждет меня.
— Пусть ждет.
— Нельзя. Слово есть слово.
— Тогда ступай.
— Ты такая нежная, такая близкая. Ты сама не знаешь, какая ты! Другой такой женщины нет в целом свете!
— Такой нет, а получше найдутся.
— Для меня — нет. Я люблю тебя больше себя самого.
— Это у тебя пройдет, и ты все забудешь.
— Разве можно тебя забыть?
— Эх!..
— Совсем светло. Я пошел.
— Не надо. Останься со мной.
— Нельзя. Что скажет Гота?
— Пусть говорит, что хочет!
— Я скоро вернусь.
— Как знаешь. Там, в углу, кожанка, возьми с собой, пригодится.
— Ты будешь ждать меня?
— Не знаю…
— Я вернусь, и все будет хорошо. Я верю в удачу…
17
Когда огромный алый диск солнца медленно выплыл из-за ломаной линии хребта и раскаленной сталью засиял в рассветном сизом небе, а потом уменьшился, но засверкал еще нестерпимее, слепя глаза, земля впитала в себя белый ночной туман, и резкие тени гор легли на поле и на залитый утренним светом склон, по которому шагали Мушни и Гота. Деревня уже скрылась из глаз. Река свернула в ущелье, и тишину нарушал только птичий гомон. Рассветный холодок приятно бодрил разгоряченного от быстрой ходьбы Мушни. Он был в кожанке Тапло, и в кармане у него лежал револьвер. Он с трудом поспевал за Готой и чувствовал себя веселым и здоровым, как никогда, несмотря на бессонную ночь.
Мушни шел по тропинке, петляющей по длинному пологому склону, и думал о Тапло. Глядел на цветы, пестрой вышивкой стелющиеся по лугу, и видел улыбающееся лицо Тапло. Вслушивался в оживленный щебет птиц и вспоминал ласковые слова, которые говорила ему Тапло, ее нежный шепот. Погруженный в воспоминания, он тихонько, про себя улыбался, и всем был доволен, и совсем не думал о том, куда приведет его эта прихотливо петляющая тропка. Как прекрасно было вокруг, все казалось таким одухотворенным и трепетным, словно женское дыхание витало над окрестностями, словно сама женственность вдохнула в природу свою душу.
И Мушни, идущий в горы, был совсем другим человеком: счастливым, свободным, гордым. Куда девалась его неотвязная тоска, сомнения, колебания. Жизнь казалась прекрасной и надежной. Шел Мушни и думал, что он почти благодарен всему сущему за то, что оно не оставляет человеческую душу в одном и том же состоянии, за то, что жизнь — цепь непрерывных изменений, где вчерашнее исподволь определяет нынешнее, а нынешнее подготавливает то, что должно случиться завтра.
Сейчас в голове у Мушни вертелась только одна мысль.
«Надо что-то придумать… Увезти Тапло…» Он не мог себе представить того нового счастья, которое было ему суждено, но после того, что случилось вчера, он чувствовал себя обновленным, исполненным надежд. Теперь самым главным в его жизни была Тапло, а все остальное, к ней не относящееся, не трогало и проходило мимо сознания. Вот в таком настроении следовал Мушни за Готой.
Они шли долго. Судя по тому, как палило солнце, наступил полдень. Взгляду путников открылось просторное пастбище. Породистые лошади щипали траву и настороженно поглядывали на пришельцев. Пастухи поднялись навстречу Готе, окинув Мушни недоверчивыми взглядами.
— Это наш, — коротко объяснил Гота.
Разговор шел о Квирии. Пастухи, которые пустились в погоню, вернулись ни с чем. Неудовлетворенная жажда мщения освещала их лица грозным светом. И готовность их к действию заражала Мушни энергией и желанием немедленно что-то предпринять. Мушни сам этому удивлялся, потому что и вправду считал, что самая жестокая расправа ничем не поможет Квирии. Она была заведомо бесплодной — эта наивная попытка самим восстановить справедливость. И все-таки он был готов выполнить все, что ему велят, потому что скопившаяся в нем сила требовала выхода. И потом, он полюбил Квирию, искренне скорбел о нем. Впрочем, этот внезапный подъем сил, тихая радость и готовность к действию были вызваны не только горем, и, когда он думал об этом, мысли его невольно возвращались к Тапло: «Вот покончу с этим делом и заберу Тапло… Надо будет что-то придумать, устроить».
Вооруженные чабаны держали совет: как быть дальше, кому куда ехать, какой перевал перекрыть. Приняв решение, они собрались в путь.
— Этот парень пойдет со мной, — сказал Гота. Никто не спросил, кто такой Мушни, каждый словно знал всю его подноготную. Пока чабаны снаряжали коней, седлали их и взнуздывали, Мушни с удовольствием думал о предстоящем пути. Его не пугали неизбежные трудности, и риск, и опасность. Весь во власти приподнятого настроения, он сидел, наблюдая, как привычно и ловко обращаются с конями тушины. Самый молодой из пастухов, до сих пор стоявший дальше всех, в конце пастбища, подбежал к остальным и сообщил, что снизу едут какие-то люди. Вскоре на тропинке показались два всадника, Мушни издали узнал милиционеров. «Вот привязались», — мрачно подумал он, глядя на их быстрых черных коней. Мушни сидел на земле и скручивал козью ножку из газетной бумаги и табака, которым его угостили. Поверх пиджака он накинул кожанку Тапло, хотя становилось все жарче. Пуговицы на рубашке были расстегнуты, и выглядывала крепкая загорелая грудь. Он даже головы не поднял, чтобы поглядеть на прибывших. Не стоило привлекать к себе внимания. Мушни провел рукой по лицу: «В зеркало бы поглядеть! Небритый, нестриженый. Как только он понравился Тапло?! Мушни представил себе, какое впечатление он произведет на Тапло, когда приоденется и побреется, и невольно улыбнулся. Но прежде следует улизнуть от преследователей, уладить свои дела и забрать Тапло.
«Надо что-то придумать», — опять решил он.
Милиционеры соскочили с коней и поздоровались с пастухами. После обычных вопросов низенький усатый спросил:
— Что это вы до зубов вооружились? Уж не крепость ли брать собираетесь?
— А почему бы и нет? — с вызовом ответил Гота. Толстый милиционер посмотрел на Готу, но взгляда его не выдержал.
— Я знаю, что вы задумали, но предупреждаю вас — доставить их живыми, иначе отвечать придется.
Пастухи молчали. Молчал и Гота.
— Я свое сказал, а там — ваше дело. — Толстый милиционер изнывал от жары, лицо его раскраснелось, и он поминутно вытирал потную шею грязным платком.
Мушни поднялся и отошел в сторону, к оврагу. Куда ни посмотришь — всюду горы, громоздкие, морщинистые. За этими хребтами еще хребты, одни повыше, другие пониже. И где-то за ними голубая, переливчатая, как море, долина. Там, внизу, другая жизнь, не такая замкнутая, как здесь. Но как отсюда выберешься? Конечно, надо и самому постараться, но со вчерашнего дня Мушни крепко уверовал в удачу, — должно же и повезти хоть чуточку! — надеялся на случай, который вызволит его. Он не знал, как поступит и что предпримет, потому что не знание сейчас было главным, а надежда, вера в ту неведомую звезду, под которой родился.
Долго стоял он, любуясь расстилавшимся перед ним простором, и непостижимая бесконечность пространства снова нагнала на него грусть. «Как недолговечен человек по сравнению с этими горами, как мал и слаб! Только любовь может заставить забыть об этом!» — думал Мушни.
Когда он вернулся к пастухам, милиционеров уже не было.
— Сядешь на белого. — Гота любовно шлепнул крутобокого коня.
— Где они? — спросил Мушни, лаская лошадиную холку.
— Уехали.
— Знали бы они, кто я! — Мушни невесело засмеялся.
— А в чем дело?
— Они ведь меня ищут.
— Тебя? — удивился Гота.
— Да.
— За что?
— За то, что я одного человека ранил.
— Ты? — не поверил Гота.
— Я… В начальника своего стрелял. Подлый человек, с деньгами мошенничал. Был у нас в геологической партии один рабочий, пожилой. Так вот он взбунтовался. Я его поддержал. Начальник руку на меня поднял. Старик заступился, тот на него замахнулся. Тогда я не сдержался, полез в драку. Этот подлец погнался за мной с ружьем. Я выхватил револьвер и ему в ногу…
— Ого!
— Теперь милиция меня разыскивает. Специально сюда притащились, и там в долине поджидают, на аэродроме. Я вчера должен был смыться отсюда, да вот Квирия…
— Если он мужчина, чего в милицию доносил? — возмутился Гота. — Подумаешь, ранил, не убил ведь! Пусть сам с тобой счеты сводит.
Мушни улыбнулся.
— А если б я его убил, как бы он жаловался?
— А если виноват?
— Виноват-то виноват, но о чем ты говоришь, Гота? У кого сила, тот и прав.
— Вовсе не так, — рассердился Гота. — Чего тебе бежать! Я бы на твоем месте сам бы явился куда следует.
— Чтобы меня посадили? Я из-за него в тюрьму садиться не собираюсь, — сказал Мушни и вспомнил Тапло. — А сейчас и вовсе дела мои таковы, что являться в милицию мне никак нельзя.
— Ладно, с одним покончим, потом придумаем что-нибудь.
Гота оседлал своего серого и передал Мушни ружье.
— Мы поехали! — крикнул он пастухам и послал вперед коня.
18
Пять дней прошло в бесплодных поисках. Погода испортилась. Солнце выглядывало лишь изредка. С утра моросило, к полудню дождь усиливался, а вечерами густел туман. Небо было обложено серыми тяжелыми тучами. Сентябрь брал свое, и горцы гнали стада в долину. Пустели отсыревшие пастбища, дождевые потоки бороздили склоны и вливались в мутную реку, яростно подмывающую крутые берега.
Пять дней не слезал Мушни с коня, следуя по пятам за неутомимым Готой по скользким тропинкам. Борода у него отросла, щеки запали. Когда он сходил с седла, ноги подкашивались от усталости, и азарт, который вовлек его в эту поездку, улетучился, подобно хмелю. По ночам, становясь на отдых, они собирали хворост и разжигали костер. В огненных языках Мушни мерещилось лицо Тапло, и он рвался к ней, желал ее с невероятной силой. Мушни мало ел, не замечал своей пропотевшей грязной одежды, не беспокоили его задеревеневшие на ветру волосы, колючая борода. Он думал только о том дне, когда вернется в деревню и увидит Тапло. Тапло постоянно стояла у него перед глазами. Он чувствовал себя как человек, отправившийся в дальний путь и забывший запереть дверь своего дома. Шли дни, и с ними росло желание возвратиться. Но каждое утро Мушни первым поднимался с ночлега, где они чутко спали, седлал лошадей и молча ждал Готу. Потом начиналась утомительная, бесцельная езда. Ничто не нарушало ежедневного однообразия. Только однажды они увидели всадников, едущих вдоль берега реки. Они пришпорили коней, почти было догнали их и узнали милиционеров.
— Вот привязались! — усмехнулся Мушни. — Никуда от них не скроешься.
Милиционеры их не заметили и неторопливо продолжали свой путь Кто знает, может, убийцы Квирии так же незаметно откуда-нибудь наблюдали за ними. Трудно в горах найти человека. И все же они искали.
Как-то раз на холме, выплывшем из тумана, повстречалась им овечья отара. Гота спросил чабанов, не проезжал ли здесь кто подозрительный с крадеными лошадьми. Чабаны уже знали о гибели Квирии, но конокрадов не видели. Иногда перед сном Гота рассказывал какую-нибудь охотничью историю. И Мушни начинало казаться, что они и сейчас преследуют зверей. Великодушный и добрый человек был Гота, много повидал он на своем веку, Мушни было приятно его общество. Он с удовольствием слушал его и привязался к нему всем сердцем. Они поднимались порой до самых ледников, куда только могли добраться кони, но и там не было никаких следов. Они были предельно осторожны, об охоте не помышляли, не вскидывали ружья при виде спугнутой птицы. Прочесывали горные тропы, осматривали покинутые стоянки, часами сидели в засаде возле перевалов и перекрестков — и ничего, только шум водопадов. Они в постоянном напряжении ждали чьего-нибудь появления в этих безлюдных горах, под насупленным небом. «Сквозь землю они провалились, что ли?» — бранился Гота. А Мушни до сих пор не мог разобраться, хочет он в самом деле настичь бандитов или нет? С одной стороны, он ждал этой, встречи, потому что убийцы Квирии были достойны возмездия. С другой стороны — те злость и возмущение, которые привели его сюда, в горы, были направлены не против определенных людей, а против той запутанности, которую создает жизнь, а отомстить жизни было невозможно, поэтому это утомительное преследование иногда казалось ему бессмысленным. Он думал о Тапло, и негодование его приобретало окраску грусти, которая не позволяла целиком принять и полюбить жизнь, содержащую много добра.
Так или иначе, он беспрекословно подчинялся Готе, несмотря на то, что все неукротимее стремился к Тапло. Он не собирался возвращаться к ней прежде, чем сам Гота пожелает вернуться, прежде, чем будет исчерпана последняя возможность догнать убийц Квирии.
— Куда они могли исчезнуть? — спрашивал он у Готы.
— Единственный путь — через деревни. Но не думаю, чтобы они решились появиться там с крадеными конями.
— Как знать. Иногда случается самое невероятное.
— Тогда мы напрасно их здесь ищем.
— Значит, смерть Квирии сойдет им с рук?
— Если на свете есть справедливость, не должна сойти… Но не буду говорить, чего не знаю…
И снова мелькали подъемы и спуски, ущелья и пропасти.
Квирию уже похоронили, но они не смогли присутствовать на похоронах. Поиски ничего не дали, у них кончились съестные припасы. Гота решил вернуться, другого выхода не было.
В то утро небо очистилось от туч, и солнце заблистало, выкинуло свои нежные лучи, ласково обволокло вершины далеких гор. Но в узком ущелье, где с оглушительным грохотом неслась река, было холодно и темно, как в подземелье. Мушни и Гота ехали медленно, опустив удила; лошади дорогу знали и шли охотно, предвкушая скорый отдых. Радовался возвращению и Мушни, но чувствовал, как огорчен Гота. Конечно, было бы лучше, если бы они довели до конца дело, которому отдали столько сил и времени. Но разве это поражение могло сравниться с радостью, которая ждала Мушни! Бедному Квирии ничем уже не помочь. Всегда лучше потрудиться ради живого, нежели ради мертвого, несуществующего. По убеждению Мушни, впереди его ждала большая радость, поэтому трудно было упрекнуть его за то веселое расположение духа, в которое он пришел, узнав о конце тяжелых изнурительных поисков. Это не было изменой Квирии. Он сделал все, что мог. Он, конечно, не пожалел бы убийц Квирии, попадись они ему в руки, но иногда он думал о них иначе: кто они такие? Может, у них тоже есть старая бабушка, невеста? Может, они были слепым оружием в руках судьбы, случайным звеном в длинной запутанной цепи?
Молча сидели в седлах Мушни и Гота, и каждый думал о своем. Тучи опять обложили небо, и в ущелье было холодно, но кожанка Тапло не давала Мушни мерзнуть, а образ ее согревал его сердце, как далекая надежда.
Когда они поднялись достаточно высоко и река превратилась в слабенький, еле слышно журчащий ручеек, на противоположном берегу, там, где перевал разрезал хребет и во все четыре стороны расходились дороги, они заметили двух всадников. Они находились на самом гребне горы, и снизу разглядеть их было трудно, тем более что всадники быстро повернули лошадей и исчезли. Гога и Мушни, не сговариваясь, изготовили ружья и поскакали следом. Всадники показались снова, теперь они стали ближе, но все равно разглядеть их было невозможно. Даже разобрать, какого цвета кони, Гота не смог. Только он схватился за бинокль, как всадники снова исчезли.
— Кто это? — спросил Мушни, когда они поднялись на гребень хребта.
— Узнаем, — Гота двинул своего серого по следам неизвестных. Они пустили коней рысью. Летели назад кусты и кочки, возбужденный Мушни старался не отставать от Готы. Он так низко пригнулся к седлу, что конская грива щекотала ему лицо, левой рукой он держал узду, а все еще болевшую правую засунул за пояс. Ветер отбрасывал назад его длинные светлые волосы, которые делали его похожим более на монаха, чем на юношу, полного любви и жажды жизни.
Осилив очередной подъем, они дали коням отдохнуть. Впереди волнообразные линии холмов и пригорков. Спуск, подъем, спуск, — и вот те двое наконец. Как изваяния застыли они на вершине горы. Если это враги, пуля до них не долетит. Гота долго смотрел в бинокль, пока всадники не двинулись вниз, им навстречу.
— Да, — кашлянул Гота, пряча бинокль. — Опять эти милиционеры.
— Что они, следят за нами?! — раздраженно воскликнул Мушни.
— Не знаю.
— Может, узнали, кто я?
— Пока ты со мной, они тебя и пальцем не тронут.
— Кружат вокруг, как коршуны! — Мушни нахмурился.
Гота придержал коня.
— Мушни! — вскричал он своим зычным голосом. — Ты мне по душе. Оставайся со мной. Через неделю я погоню табун в долину. Проведу тебя в Кахетию так, что волосок с твоей головы не упадет… А оттуда все дороги перед тобой, любую выбирай!
— Спасибо, Гота! — сказал Мушни. — Но мне обязательно нужно побывать в деревне.
— Не дури!
— Нет, Гота, не могу. Я должен вернуться туда.
Они мерно покачивались в седлах. Солнце иногда проглядывало сквозь лохмотья облаков. Кругом было тихо и пустынно. Клочья тумана овечьей шерстью стелились по склонам.
— Тебе видней, — сказал Гота. — Если что, позови, и я с тобой!
19
На летном поле все так же был свален багаж. Возле длинного одноэтажного дома толпились отъезжающие. Мушни с удовольствием отмечал знакомую обстановку, знакомые лица. После недели, проведенной в седле, он ступал нетвердо и со стороны походил на пьяного.
День выдался солнечный, ясно синели горы, но во всем чувствовалось дыхание осени. Легкий ветерок приятно холодил распахнутую грудь. Засунув под мышку кожанку Тапло, Мушни шел и радовался, что вернулся сюда. Вот и финский дом, выкрашенный в зеленый цвет. У Мушни даже сердце забилось в предвкушении счастья. Какой дворец сравнится с этим домиком? Вот она, его нерукотворная хрустальная башня, сказка, ворвавшаяся в быль.
Белые отары двинулись в долины. Что же, сентябрь! Счастливого пути, благополучного вам прибытия на зимние пастбища! А как прекрасны женщины, с неизменным вязанием в руках дожидающиеся вертолета. Как идут их загорелым лицам белые платки, какие красивые ноговицы у них на ногах! Скоро появится вертолет, и сказочной птицей взмоет с вами в небо, и благополучно доставит вас на зимние квартиры. На заслуженный отдых, после летней страды. А мужчины ваши сядут на коней и пустятся в путь, известный с дедовских времен, проторенный предками.
А вот и знакомый буфетчик, поговорив с кем-то на крыльце, входит в столовую. Прекрасный человек! Добрый, преданный! Мушни его полюбил, как родного брата. И ему стыдно, что он даже имени его не знает, не спросил ни разу, как его зовут. Он так был занят собой, что никого вокруг не замечал. А судьба так милостива к нему, окружила его такими замечательными людьми. Он ходил, как слепец, и ничего не видел. Теперь-то он прозрел! Никогда не забудет Готу, и буфетчика, и Гио — соседа Тапло.
Тапло? Мушни счастливо заулыбался. Господи, да как он может роптать! Эгоист он, трус малодушный. Брюзжал, когда жизнь готовила ему великое счастье. Он и не мечтал о таком. Но нет, он выбрался, пережил нечто такое, что его возвысило, преобразило, освободило, и он поднялся надо всем прежним и дышит чистым воздухом высей.
Еще издали Мушни заметил, что брезентовой палатки ветпункта нет, — но не придал этому значения. Усталый и голодный, но успокоенный и утвердившийся в себе, он медленно поднялся на крыльцо столовой. Именно отсюда десять дней назад увидел он Квирию. Тогда его терзала боль в плече и ничто не радовало. Как же изменилось все за эти десять дней! Квирии больше нет. А Мушни опять стоит на крыльце, усталый, плечо еще побаливает, но как безгранично он любит жизнь, какой веры исполнена душа, хотя друга, Квирию убили, и он не смог отомстить. Вот она, жизнь, как она многолика и непостоянна! Кто может сказать, сладка она или горька? И сладка и горька одновременно. Для одного такая, для другого — иная. И никто не имеет права обобщать свои взгляды на жизнь и навязывать их остальным. Здесь все имеет значение: где ты родился, в какой стране, когда, в каком окружении, как повернулась твоя жизнь. Сколько людей отжило свое, а сколько еще только появится на свет, и уже для всех них, для умерших и еще не родившихся, жизнь — неотъемлемое свойство в своем добром и злом проявлении. А свойство не может быть сладким или горьким, счастливым или несчастливым. Свойство равнодушно, нейтрально, оно стоит над мнениями и чувствами, как все законы мироздания, как жизнь или смерть.
В столовой не было никого, кроме буфетчика. Появление Мушни его удивило.
— Ты еще здесь? — Он справился, верно ли, что Мушни был в горах с Готой. Мушни подтвердил и попросил у буфетчика бритву и мыло.
— А почему убрали палатку? — спросил он.
— Работе конец. Отару в долину погнали, — ответил буфетчик.
Мушни взял бритвенный прибор и улыбаясь спросил:
— Слушай, а как тебя зовут?
— Тедо.
— Тедо? Отличное имя. Но ты небось не здешний?
— Почему? Здешний, я тебе уже говорил однажды.
— Не помню, — еще шире улыбнулся Мушни. — Тедо! А поесть у тебя найдется?
— Найдется, приготовлю.
Мушни вышел из столовой и спустился к роднику. По дороге он посмотрел на то место, где стоял ветпункт. Из земли торчали колышки, очерчивая четырехугольник палатки. Здесь была Тапло! Ему с невероятной силой захотелось увидеть ее. Надо было сразу бежать к ней. Почему-то казалось, что она ждет его в своей комнате, там, где он ее оставил. Но являться к ней таким обросшим! Нет, Тапло — женщина, ей будет приятно увидеть его выбритым и причесанным. Возле родника никого не было. Мушни разделся, почистил пиджак и брюки, выстирал рубаху, отжал ее и постелил на солнце. Потом вымыл грязные сапоги и искупался сам. Приладив осколок зеркала, побрился, увидел в зеркале, что грудь у него совсем белая, а шея и лицо — коричневые от загара. Ополоснув чисто выбритое лицо, он оделся и почти бегом вернулся в столовую.
— Слушай, да тебя не узнать! — вскричал буфетчик. — Прямо красавец!
Мушни смущенно улыбнулся, вернул бритву и мыло а направился к выходу.
— Ты куда? — удивился буфетчик. — Я тебе обед приготовил.
Мушни остановился на крыльце.
— Что-то я не голоден…
— Каурма сегодня замечательная.
Мушни рассеянно слушал буфетчика.
— Скажи мне, а когда Квирию схоронили? — спросил он.
— Четыре дня назад.
— Не успели, значит… — озираясь, сказал Мушни. — И ветпункт убрали…
— Убрали, — подтвердил Тедо.
— Почему все-таки?
— Я же сказал, они работу кончили. Овец в долину погнали, что им здесь делать? Позавчера все улетели на вертолете.
— Все? — переспросил Мушни, спускаясь по ступенькам.
Теперь щуплый Тедо смотрел на него сверху вниз.
— Все отбыли. Ты куда собрался? Идем, каурмы моей отведаешь — пальчики оближешь.
— Каурмы? — спросил Мушни и остановился. — Ладно… И наконец: — А Тапло тоже уехала?
— Конечно. Что ей тут делать? Значит, нести каурму?
Как слепой, поднялся Мушни на крыльцо, вошел в душную комнату, сел за стол и только тогда осознал, что произошло.
Так вдруг навалилась усталость, такую муку претерпевал каждый мускул, каждый кусочек его тела, что он ни о чем больше не мог думать: надо было снова переносить эту жуткую боль, которая до сих пор забывалась, пряталась невесть где, а сейчас со всею яростью и силой обрушилась на него. И все-таки он не терял надежды и чего-то ждал, бессознательно, не давая себе в этом отчета.
Тедо принес каурму, и Мушни попросил вина. Пил, не притрагиваясь к еде. Он никак не мог поверить в случившееся. Пригласил Тедо за свой стол, но постыдился еще раз спросить о Тапло. А сам Тедо не догадывался заговорить о девушке. Его мысли были так далеки от нее, и потом, в его представлении Тапло никак не связывалась с этим странным парнем.
Мушни пригласил всех посетителей столовой, угощал их вином, пил сам и не пьянел.
А за окном вечерело, солнце опускалось за горы.
В столовой кутеж был в разгаре. По инициативе Мушни сдвинули столы и пили все вместе.
— Запомните! — кричал Мушни. — Меня зовут Мушни! — Он теперь ничего не боялся, требовал вина, произносил тосты за любовь и дружбу, говорил о коварстве судьбы. Спокойные мужчины терпеливо слушали незнакомого парня и только сдержанно улыбались.
— Кутить так кутить! — хрипло воскликнул Мушни. — Тедо, принеси еще вина!
Незаметно все разошлись, и Мушни увидел, что он остался один и притом абсолютно трезв.
— Тедо, сколько с меня?
Денег не хватило. Теперь, если даже захочешь, не улетишь, денег на билет не оставалось. Он достал револьвер и протянул испуганному буфетчику.
— Возьми в счет долга.
— Не надо, Мушни. Что за счеты могут быть между нами?
— Бери, не стесняйся. Он мне теперь ни к чему…
— Ну, если так, — буфетчик положил револьвер в ящик и задвинул его. — Будет память о тебе…
И все-таки Мушни не понравилось, что он взял у него револьвер. Даже горло перехватило от обиды. Стал он еще трезвее и хладнокровнее.
— Тедо, Тапло ничего не велела мне передать? — спросил он сухо. Он больше не любил этого человека. Не таким он оказался добряком!
— А что она должна была передать? — удивился буфетчик.
— Ничего.
— Не знаю, — пожал он плечами, — мне она ничего не говорила.
Вот и последняя искра надежды погасла. Все. Конец.
И вот Мушни направляется к лётному полю. Куда еще ему идти? Все равно куда, лишь бы от людей подальше. Их голоса его раздражают. Он останавливается посреди поля. Над землей висит сумеречная мгла, а на еще светлом небе загораются первые звезды. Тапло здесь нет, и все снова стало чужим. Он опять один. Почему он здесь? Тапло где-то за горами, в неизвестном ему месте. Как она могла быть такой жестокой, вероломной, коварной? А вокруг все темнеет и темнеет. Но природа больше не радует Мушни, и в ней есть нечто женственное — и гибкость, и хитрость, и изменчивость, и красота! И она коварна. Мы забываем об этом, потому что она вместе с тем и прекрасна, а мы любим прекрасное, и то, что любим, всегда кажется нам совершенством. Что такое совершенство? А черт его знает! Может, бог совершенен? Но бога нет, земля оставлена без бога.
И все-таки, как Тапло могла уехать, не передав ему ни слова! Мушни ухмыляется — до чего бессмысленно и непонятно то, что случилось. Потом он идет, куда глаза глядят, густой кустарник преграждает ему путь, ноги застревают в зарослях рододендрона. Мушни поворачивает обратно и вновь идет куда-то. Вдруг он обнаруживает, что стоит перед финским домиком. В дверях стоят, разговаривая, Гио и молодая женщина с ребенком на руках. Мушни здоровается с ними.
— Вы к Тапло, наверное? — вежливо спрашивает Гио.
— Да, — очень спокойно отвечает Мушни.
— Тапло позавчера уехала.
— Вы разрешите мне войти в ее комнату?
— Конечно, она пустая.
Гио идет вперед и ключом открывает дверь.
— Если вы будете ночевать, я могу дать вам бурку. Больше у меня ничего нет, — любезно предлагает Гио.
— Спасибо, не надо. Я немного отдохну и пойду назад, — отказывается Мушни.
— Куда?
— Куда? — переспрашивает Мушни. — В экспедицию. Это моя работа. Постоянного места у меня нет.
— А-а-а, — понятливо тянет Гио. — Хорошо, наверно, в экспедиции…
— Неплохо.
— А я лесником работаю.
— Тоже дело, — Мушни заглядывает в комнату. — Тапло мне ничего не передавала?
— Нет, ничего.
Теперь уже точно — все. Никакой надежды. Но он все же заходит в комнату. В ней так же темно, как в ту ночь. Но она пустая, совсем пустая. Окно открыто, ветер свободно шарит по углам. Тишина. Ни шума, ни голоса. Мушни стелет на пол кожанку Тапло и ложится на нее ничком. Если б заплакать — стало бы легче. Но слез нет. Он не стыдится своей слабости, не прикрывает руками лицо, искаженное страданьем.
Потом Мушни видит дремучий лес. В лесу, пронизанном лиловым таинственным светом, стоит древний храм. Двери настежь. Пусто. Никого не видно. Мушни стоит среди обвалившихся колонн и вывороченных плит. Узкий коридор ведет во мрак, впереди виднеется только огромный черный котел, в нем что-то варится. Мушни испытывает жуткий страх. Он должен успеть выбежать из церкви, пока из мрачного лабиринта не выскочила обнаженная женщина с распущенными волосами. Мушни знает, что она вот-вот появится, но не может двинуться с места. Через открытую дверь виден лес, таинственный, лиловый. Но в лесу стоит такой же черный котел. Мушни видит, как чья-то рука поднимает крышку котла и снова опускает. Потом в дверях появляется обросший бородатый монах и подзывает Мушни к себе. Чего-то испугавшись, сделав несколько диких прыжков, монах скрывается, а Мушни опять не двигается с места. Ужас его оттого так велик, что в длинноволосом чернеце он узнает себя и боится своего двойника. Страх его так огромен, что, снова завидев в дверях отшельника, Мушни издает отчаянный крик и просыпается.
Кто-то трясет его за плечо, а он никак не вспомнит, где находится. Пытается нащупать револьвер, но его нет. В комнате двое — один стоит над головой, как привидение, другой — трясет его за плечо.
— Проснись, парень, чего ты кричишь. Это я, не узнал? — Мушни узнает голос.
— Кто это? — уже успокоившись, спрашивает он.
— Это я, Тедо. Вставай.
— А в чем дело?
— Милиционеры вернулись. Они знают, что ты здесь.
— Кто им сказал?
— Не время сейчас об этом. Вставай!
Мушни с трудом узнает во втором человеке Гио.
— Что дальше? — спрашивает он.
— Беги немедленно. Они вот-вот нагрянут и меня заберут, если тебя тут застанут.
— Куда бежать?
— Куда хочешь. Спрячься где-нибудь… Чего ты стоишь? — раздражается Тедо.
— Куда бежать, где спрятаться? — твердил Мушни.
20
Когда милиционеры вошли в комнату Тапло, в ней никого не было…
Мушни отказался бежать и после ухода Гио и Тедо остался лежать на полу… «Будь что будет, — внушал он себе, напряженно вслушиваясь в тишину. — Чему быть, того не миновать». Но едва в коридоре загромыхали сапоги и настала минута, которой он инстинктивно боялся, как зверь, гонимый охотниками, Мушни, не размышляя, вскочил и выпрыгнул в окно.
Наутро он добрался до пастушьей стоянки высоко в горах.
— Пришел? — спокойно спросил Гота. — Уладил свои дела?
— Уладил.
— Он, наверно, есть хочет, принесите ему чего-нибудь, — распорядился Гота.
И Мушни остался с пастухами.
Он опять разъезжал на том белом коне, на котором разыскивал убийц Квирии, снова носил кожанку Тапло, но старался не думать о девушке. Он хотел забыть ее лицо, как человек забывает сон и все случившееся во сне. И в самом деле, разве все, что минуло, не походило больше на сон, чем на явь! Мушни успокоился, разочарование и печаль уже не терзали его, и он ни о чем не задумывался.
Табун двинулся в долину. В горах стояли погожие дни, и Мушни, как и прежде, отрадно было смотреть на золотистую листву деревьев. Кустарники сбрасывали свои изношенные одежды, каплями крови алел на кустах шиповник. Сияющее осеннее небо обещало ясную погоду. Радовало душу веселое журчание ручейков. Отары овец и табуны с топотом спускались по тропинкам, и что-то изумительно прекрасное, утонченное и чистое проявлялось в осенней природе. Мушни ощущал, как это преображение окружающего очищает и будто шлифует его душу. Он словно бы стал более чутким, словно бы глубже что-то постиг. Теперь, если воображение рисовало лицо Тапло, он обращался к нему с любовью и лаской, старался удержать его перед собой подольше, потому что более не винил Тапло ни в чем. В том, что случилось, была виною не Тапло, а судьба Мушни. И он не роптал на свою участь, примирился с ней. Он понял, что от жизни нельзя требовать полного счастья — его не бывает. Счастье и беда неразлучны, как свет и тень. Он благодарил Тапло за то, что она хоть ненадолго, но внесла отблеск счастья в его сумрачную душу. След того озарения навсегда останется в нем. Он был полон благодарности. Никаких упреков, никакого недовольства. Каждый должен довольствоваться малым. Ты есть то, чем создала тебя природа, и на жизнь надо смотреть именно с этой точки. То, что у тебя в душе, — это твоя сущность, а не качество. Нытье — удел слабых, действительность — это и есть несбыточные мечты, вечная грусть о потерянных возможностях, порой подавляемая тоска по тому, что могло бы свершиться, но не свершилось. Мушни понял все это и теперь трезво смотрел на мир, не страшась и не робея.
Когда одним туманным утром пастухи увидели приближающихся милиционеров, Мушни бежать не захотел. Милиционеры поднимались к ним на своих черных конях. Не было сомнений — они знали, что Мушни скрывается здесь. «Как им удалось пронюхать», — удивлялся Гота, стоя вместе с другими над обрывом и поглядывая вниз. Для Мушни появление милиционеров не было неожиданностью, они в его сознании давно лишились реальности и превратились в символ неизбежного.
— Пока я жив, тебя никто не тронет, — спокойно сказал Гота.
— Э, Гота, не стоит! — отозвался Мушни. Он решил закончить игру в прятки с судьбой. То, что должно случиться, рано или поздно произойдет. Он глядел сверху на всадников, на черных коней, они все приближались, уже можно было рассмотреть суровые лица милиционеров, и даже не расслышал, как Гота крикнул:
— Оседлайте ему Белого, быстро!
Утро было холодное, ущелье затягивал густой туман, черные всадники то показывались из серой мглы, то снова скрывались. Понимая, что эта игра днем позже или днем раньше завершится, Мушни все-таки не захотел покоряться. Поэтому, когда к нему подвели белого оседланного коня, он, ни о чем не спросив, не сказав и слова, ловко прыгнул в седло и посмотрел на пастбище, на разбредшихся лошадей, на своих друзей табунщиков и на хмурое лицо Готы. Трудно было расставаться с этими людьми, с этими горами, прощаться с днями, проведенными здесь. Но бежать необходимо, надо еще раз попытаться прорвать зловещий круг судьбы. Он сидел на коне молча, Гота держал Белого под уздцы и вел за собой через пастбище, а черные всадники становились все ближе.
— Поедешь по этой тропе, — сказал Гота, — все время держи вправо и к вечеру будешь в долине, там оставишь кому-нибудь коня и скажешь, что Гота придет за ним. За Белым присмотрят, не беспокойся. Ну, будь счастлив!
Он ударил коня плетью, и тот понесся. Когда подкованные копыта зацокали по камням, Мушни в последний раз оглянулся и увидел, что черные кони уже поднялись на пастбище.
Безудержно мчится Белый под гору, по каменистой тропе, вокруг стелется, ползет туман, и конь врывается в серую пелену, сливаясь с ней. Подковы стучат по камням, в тумане ничего не разглядеть и Мушни не поймет, куда несет его конь, не конь уже, а исполнитель веления судьбы, как исполняют ее и те черные тени, что мчатся вдогонку за ним. Спустившись к нагорью, Мушни оглядывается и замечает преследователей. Они вонзаются в туман, исчезают и снова выскальзывают из серой мглы, они пока что далеко и похожи на движущиеся точки. «Нет, не догнать вам меня, — с усмешкой думает Мушни, — ваши кони устали, не угнаться им за моим неутомимым Белым». Все еще ноющей рукой он тянет узду вправо и забывает обо всем, прислушиваясь к монотонному цокоту копыт. Конь грудью врывается в заросли кустарника, шорох листвы похож на шум морских волн. Выбравшись из кустарника, Мушни опять посылает коня вправо. Здесь подъем. Внизу мелькают преследователи. «Как призраки, — проносится в голове Мушни, — но я все равно уйду от них». Вновь нагорье, окруженное глубокими оврагами, множество узких тропинок пересекают друг друга, уходя неизвестно куда, как и все пути в этом зыбком мире. Мушни помнит: «Держи все время вправо» — и поворачивает коня, но тот артачится, не хочет подчиняться, Мушни вытягивает его плетью, Белый нехотя покоряется, несется вправо и вдруг взвивается на дыбы у края пропасти. Внизу, в тумане, ничего не видно. Скорей обратно! Показались черные кони, они словно не знают усталости. Опять надвигается туман, все исчезает, и время останавливается. Переплелись тропинки, поди разберись, какая левая, какая правая. Куда гнать коня? Каким путем? Кажется, он сбился с дороги. Мушни то и дело оглядывается — из белой молочной завесы тумана, подобно черным чудищам из моря, выплывают преследователи. Снова отрывается от них Мушни, но он уже потерял направление. Отпустив поводья, он хлопает по шее своего верного испытанного друга и вверяет свою судьбу ему. Теперь все зависит от чутья Белого. Почувствовав волю, конь бодро фыркает и мчится, как ветер. Куда он устремился так самозабвенно? Ничего не понять, все стерлось — и пространство, и время.
Мушни не знает, сколько минут или часов несет его конь. В серой мгле нельзя разобрать, день ли еще стоит или уже надвигается вечер. Пар поднимается от взмыленных боков коня. Мушни сидит в седле расслабившись и даже не замечает, как Белый спускается под гору, пробирается сквозь кустарник и выходит на небольшое каменистое плато. Стоит полная тишина. Уставший конь идет шагом, занавес тумана отступает назад. Покажутся ли они из-за этого занавеса? Молча смотрит на землю хмурое небо, дует ветерок, становится холодно. Пахнет дождем. Конь устало пофыркивает. Туман рассеивается. Вдруг впереди разевает свой огромный зев пропасть, конь останавливается как вкопанный, взрывает копытами землю, вытягивает шею и принимается щипать траву. Мушни привстает на стременах и заглядывает в глубокую пустоту пропасти. Она бездонна, и другого края даже не видно. Мушни оборачивается — позади никого нет. Но он знает, всем существом своим ощущает, что они приближаются. Он спрыгивает с коня и останавливается у пропасти. Теперь можно спокойно ждать их появления. Над пропастью туман, поглотивший все: и скалы, и кустарники, и ощущения, и страхи, и воспоминания. Мушни кажется, что он стоит у огромного окна в какое-то неведомое и бесконечное белое пространство. «Куда бежать? — думает он, — все равно никуда не уйдешь».
1968
Перевод А. Беставашвили.
РАССКАЗЫ
АПРЕЛЬ
Моросило. Потом дождь перестал. Воздух наполнился птичьими голосами. Пел дрозд. Щелкал соловей. — Ст-ст-ст-ст. — Кто это? Кажется, зяблик. Время от времени доносилось пение петухов. Птицы все свистели, чирикали, щебетали.
Во дворе на молодой зеленой травке пятнами инея белели головки клевера. Одуванчики подняли свои желтые шляпки. Садовая калитка распахнута настежь. Листва цветущих деревьев усыпана прозрачными, словно бусы, каплями недавнего дождя. Всюду, куда ни глянь, деревья сомкнулись воедино, до чего все зелено и спокойно. А ведь вчера лило, как из ведра.
Выглянуло солнце. Если бы Бахве стало получше, он вытащил бы на веранду низенькую табуретку, уселся бы на солнышко, погрелся, глядел бы на сад и отдыхал душой. Дождь шел всю ночь, и земля, вероятно, напилась. Да, бедный Бахва! И без того он задыхается, а тут еще такая погода. Хоть бы прояснилось! Э, что толку? Болезнь настолько скрутила Бахву, что ему и солнечная погода не поможет. Ничего удивительного! Возраст свое берет. Когда это было, чтобы солнце вылечивало человека? Хотя болезнь болезни рознь.
А это чья еще собака? Пробежала чужим двором, поджав хвост, и протиснулась сквозь плетень так, что он затрещал. Совсем уже развалился плетень. Встать бы да снести его на дрова и погреться. Но лучше все же сидеть на балконе. Дров и без того достаточно. Не вечно же будет лить? Хорошо все же сидеть на веранде, не думать о делах и смотреть куда-то вдаль, да разве посидишь спокойно?
— Тебро, Теб-ро! — кричит Бахва из своей комнаты.
— Погоди, несчастный, яйца крашу! — откликается Тебронэ из кухни.
Завтра пасха! Встанет он на рассвете. Понесет на кладбище крашеные яйца, положит их у могил родных. В полдень освятят еду. Затеплят свечи, воскурят ладан. Комната пропахнет милым, мирным запахом ладана. Потом выпьют водки или вина, душевно поминая усопших. Покойникам-то это поможет так же, как пожелание добра врагам. Хотя кто знает? Бедный Бахва, ни на минуту его не оставишь без присмотра.
Встать и подойти к нему? Но что сказать, чем утешить, чем помочь? В страданиях и хвори каждый одинок. Соседи вчера советовали привезти доктора, да Тебронэ махнула рукой: «К чему? Чем он поможет? На днях приходил, а какой толк? Пустые расходы!» Может, и вправду Бахве пришла пора умереть?
— Умираю, чтоб вам провалиться, умираю, помогите чем-нибудь! — кричал Бахва.
Бахва лежал в задней комнате. Кровать его была вплотную придвинута к стене. Стены оклеены старыми, местами содранными обоями и побуревшими от времени газетами. На камине — коптилка, смрадно чадящая по вечерам. Бахву одолевает удушье. Присев на кровати, он откинулся на подушки, веки покраснели, мутной пленкой подернулись глаза, лицо стало восковым, ежом ощетинилась седая колючая борода. Он настолько исхудал, что кажется, будто на скелет натянули мятую кожу. Бессмыслен, беспомощен, безнадежен его взгляд.
Тебронэ покрасила яйца, испекла кулич. Сгорбленная, с повязанной головой, вышла она из кухни и поднялась по лестнице на балкон.
— Теб-роо!
— Что тебе, безбожник? Отвяжись, тысяча дел у меня.
— Нашла время, умираю я! — лихорадочно скрипя зубами, злится Бахва, стонет, охает, заходится в кашле.
— Что мне с тобой делать, и шагу ступить не даешь?!
— Сядь рядом, помоги хоть чем-нибудь!
Тебронэ отвечает сурово, все уже надоело ей, но скрытые ласка и беспокойство все равно проскальзывают в голосе. Сколько лет прожили они вместе? Много, очень много. Пять десятков. С балкона видно, как в углу сада резвится теленок. Такой милый, пухленький, пушистый, что хочется прижать его к груди и поцеловать в самую мордочку. По переулку кто-то проехал на велосипеде. А Мамии до сих пор нет. Знает же, что с отцом, куда он запропастился?
Пятьдесят лет. Немалый срок — пятьдесят лет, полвека. Пятьдесят лет назад жили они в Артвини. Там же отдали земле своего первенца. Давно заросла травой его могила. Воспаление легких унесло младенца на тот свет. Вовремя не распознали болезнь, лечили от золотухи, а когда хватились, было уже поздно. Война шла тогда, первая мировая война. Бахва служил телеграфистом. Потом турки захватили Артвини. Там жило много армян. В первый же день перебили всех армян, не успевших скрыться. Погнали на берег Чорохи и, как рассказывали, побросали со скалы в реку. Во всяком случае, такие слухи дошли до Батуми. «Мы так бежали из Артвини, что все до последней рубашки растеряли и остались в чем мать родила», — вспоминала иногда Тебронэ. Мамия родился позже, когда они уже нашли пристанище в Батуми. Потом турки подступили к самому городу. В нищете и голоде жили все, чай с изюмом пили, сахара и в глаза не видели. Ни керосину, ни одежды — ничего нельзя было достать. В лаптях ходил народ. Из Батуми подались в эту деревню, да тут и осели. В тот год и умер отец Бахвы.
Вспыльчив был Бахва, себялюбив, но Тебронэ все сносила, все терпела. Уж очень он красив был в молодости. До сих пор стоит на комоде их фотография тех лет. Бахва там в мундире чиновника почтового ведомства. По снимку и то видно, что он был высоким, представительным. Черные усы закручены кверху по тогдашней моде. Красивые губы слегка раздвинуты в улыбке. Тонкий овал лица, светлая кожа, брови, как нарисованные, густые волосы с пробором волнообразно зачесаны. Рядом стоит Тебронэ в длинном платье, с кружевным зонтиком в руках. И на снимке она щуплая и невзрачная. Такая-то и должна была переносить все. Что говорить, вспыльчив был Бахва и нетерпелив, зато красив — глаз не отведешь.
— Чичико, помоги! Дайте хоть эту неделю продержаться, а там видно будет, — жалко умоляет Бахва.
— Не отчаивайся, возьми себя в руки, все исправится…
— Умираю я, чтоб вам провалиться, умираю!
Качается открытая на веранду дверь, душераздирающе скрипят ржавые петли.
Снова выглянуло солнце. Подсыхает. Ах, как зелено вокруг! Но пахоте надо бы еще дождя. А-а, вот и Мамия явился, спрыгнул с велосипеда у калитки. Шатается. Опять пьяный? Да, конечно, снова под градусом, нашел время напиваться. Мамия распахнул железную калитку. У калитки стоял огромный платан.
Чичико спустился вниз, подошел к Мамин и взял велосипед.
— Как он? — спросил Мамия.
— Так себе. — Чичико сплюнул. — Деньги получил?
— Нет, — еле ворочает языком.
— Что теперь?
— Теленка зарежу и продам. Надо избавиться от этого долга…
Месячный бычок, осторожно переступая копытцами, вытягивал шею и обнюхивал Мамию.
Эх, бедный Бахва! Может быть, для кого-то он и был плох, но Чичико никогда не обижал, жалел сироту, заменил ему отца. Чичико вырос в семье Бахвы, который приходился дядей его отцу, а когда отец погиб, приютил ребенка и стал заботиться о нем. Да и Тебронэ не меньше Бахвы любила его. Потому-то и считал Чичико эту семью родной. Если умрет Бахва, разве он будет чувствовать себя так свободно здесь? Мамия ведь пропойца… А Бахва всегда ласково относился к Чичико. Как славно он рассказывал: начнет вспоминать старину — заслушаешься.
Бедный Бахва!
Однако Чичико не столько думал о смерти Бахвы, сколько вспоминал ту последнюю неделю перед отъездом в армию. Лето стояло в разгаре. Необычайно урожайным был тот год для ткемали, и Мамия вместе с родителями Жужуны повезли продавать его в Россию. А Жужуну оставили на попечение Тебронэ. Вот было времечко! До чего хороша выдалась та последняя неделя перед самым его отъездом. Когда недавно он подъезжал на поезде к родным местам, ему наивно верилось, что та неделя, прерванная уходом в армию на целых три года, продлится снова, и все, что он оставил три года назад, ожидает его в своей неизменности. Но в доме переменилось все. На следующий же день по приезде Чичико Бахва слег и с каждым днем все больше и больше ослабевал…
Жужуну Чичико не встречал. А спросить, где она и что с ней, не решался, и все вокруг, словно сговорившись, даже случайно не произносили ее имени.
Фигурка у нее была, как выточенная, длинные белокурые волосы, зеленые глаза, и кожа цвета созревшей пшеницы. Впервые обняв Жужуну, он почувствовал, как от нее пахнет мукой и мятой, и от этого аромата свежесмолотой теплой муки, сена и парного молока голова у него вдруг закружилась, и он, привыкший к парам мазута и машинного масла, вздрогнул, и ноги у него подкосились. Пылкая была она, горячая. Настолько горячая, что страстность ее замечалась сразу же, по походке — она ходила, немного выгнувшись в талии, выставив крутую и плотную грудь и покачивая бедрами. Чичико в то время работал в депо и жил вблизи от работы в белом, оштукатуренном трехэтажном общежитии, и поэтому редко наведывался домой, хотя до деревни было не более десяти километров. Ему не хватало времени, тем более что он тогда ухаживал за одной русской женщиной, уже в летах. Однако именно в ту зиму она навсегда переселилась в Россию. Семья же Жужуны недавно появилась в его деревне. Чичико почти не знал Жужуны, хотя слышал, что как-то вечером деревенские мальчишки застукали ее вместе с Бучунией на берегу Цхенисцкали. Кто такой Бучуния, было известно каждому. Сейчас он в тюрьме. Бог знает, правдой ли было то, что о нем и о Жужуне болтали люди? Хотя что тут невероятного?
Стояла жара. На Жужуне было тонкое ситцевое платьице. В тот первый день она помогала Тебронэ по хозяйству, напевая, прохаживалась по двору босиком, вызывающе косилась на Чичико, соблазнительно поблескивая глазами, и беспрестанно смеялась.
А что было потом?..
Чичико спал тогда на переднем балконе второго этажа, Тебронэ и Бахва — в той комнате, позади, где теперь умирал Бахва, а Жужуне постелили в «зале». Тебронэ почему-то заперла все окна на задвижки, оставив открытым только одно, выходящее в сад, откуда всегда тянуло свежестью. Все уже легли, а Чичико сидел на тахте, прислушиваясь к стону горлицы и далекому кваканью лягушек. В этот час Жужуна и пробралась наверх, на балкон, на цыпочках подошла к тахте и села рядом с Чичико. «Что-то не спится мне». Они долго беседовали — шепотом, чтобы не разбудить стариков. Ночь была темной и безлунной, где-то очень далеко заливалась лаем собака. Они шептались, и Чичико никак не мог отважиться, хотя был уверен, что девушка пришла к нему не только поболтать. Но едва Жужуна шепнула, что ей пора уходить, хочется спать, как Чичико, набравшись духу, неожиданно, безо всяких околичностей, сгреб ее, вдохнул теплый запах муки, сена, парного молока, и словно притронулся руками к тому ожиданию, которым была наполнена девушка. Он уложил ее на постель, стянул ситцевое платье, обнажив ее, вернее, если уж говорить по правде, она сама скинула платье, сама оголилась, Чичико только и оставалось, что помогать ей; он прильнул к открывшемуся телу, к плотным грудям, но… девушка напрягла ноги, переплела их, словно балерина в танце, сжала, и когда Чичико украдкой потянулся к ее бедрам, перехватила его руку и страстно выдохнула:
— Не смей!
— Почему?
— Потому!
— Не бойся…
— Не смей, говорят!
Так они препирались до утра. Не уговорил он ее! И все же остался доволен. Доволен и опустошен. Он никак не мог взять в толк, чего боялась Жужуна и что она, в таком случае, делала с Бучунией на берегу Цхенисцкали? Так и не понял, девушка ли Жужуна или уже знакома с мужской лаской?
Перед самым уходом в армию он словно прозрел; да, сплоховал в ту ночь, не хватило ему упрямства, настойчивости, настырности. Довольствовался крохами. А кто довольствуется крохами, тот никогда ничего не достигнет. Сам не вырвешь, никто не поднесет. Некоторые, по слабости, и крупицу удачи считают полной победой, подберут тысячи оправданий, успокоят себя, обманут, иногда даже сами поверят, что достигли желаемого, нашли все, что искали. Так во всем. Такова участь слабых. И Чичико проявил слабость, оплошал, за что и корил себя в течение всех трех лет…
…На другой день он подстерег ее в поле. Высокая кукуруза уже выбросила метелки. Он повалил Жужуну на траву, на краю поля, под тополями, и там, на траве, среди ольховых кустов, ограждающих поле, валялись они, целуя друг друга в губы. Ослепительно сияло солнце, с пастбища доносилось мычание коровы, запах влажной травы и сырой земли щекотал ноздри. Он видел, как со стебля, пробивавшегося сквозь рассыпанные, словно солома, волосы Жужуны, переползла к ней на мочку уха божья коровка… но и в тот день удовольствовался немногим.
Ночью девушка уже не поднялась к нему на балкон. Он долго ждал ее, потом переполз через перила, спустился вниз по столбу, прокрался за дом и встал у окна, выходящего в сад. Но прикрытое окно оказалось еще и запертым. Он постучал. Никто не отозвался. Чичико разозлился, горло словно обожгло прихлынувшей кровью, и он постучал сильнее, уже не думая об осторожности, не помня о Бахве и Тебронэ, был готов выбить, высадить окно, зверем ворваться в комнату и разорвать эту дуру, запирающую окна.
Захотелось как-то унизить девушку, но это было невозможно, и тогда та давешняя встреча в поле, которая отдаленной сладостной песнью грела ему сердце, представилась иной. Теперь он вспоминал не божью коровку, похожую на рубин, которая переползла со стебля на мочку девичьего уха, не рассыпанные, как солома, волосы, а задранное чуть не до горла платье, легкий пушок на животе, скрещенные колени, шероховатые волосатые голени и огрубевшие ступни, беспощадно освещенные солнцем, и все то, что убивало и стирало недавние блаженство и нежность. Он еще припомнил запах чеснока, которым разило изо рта девушки, и она теперь представлялась ему отвратительной. Стоило Жужуне подойти к окну и вызывающим шепотом бросить ему, что она все равно не откроет, как у него от злобы запрыгала нижняя челюсть и он выругался.
— Открывай, шлюха, а то ворвусь, башку оторву!
Он и вправду готов был вломиться к ней, но, к счастью, тут его словно окатили ледяной водой. Проснулась Тебронэ и крикнула из комнаты:
— Ты спишь, Жужуна?
— Сплю, тетя.
Стремглав он сбежал с лестницы, завернул за угол, поднялся на балкон и затаился на тахте, разбитый, потерпевший провал. Все три года мучила его эта неудача.
На следующее утро его вместе с другими новобранцами отправили служить в Россию.
Теперь вот он вернулся. И все равно до сих пор с огорчением вспоминает о том, выпущенном из рук случае, мечтает довести до конца то, что начал и не завершил. Скоро неделя, как Чичико демобилизовался. Стоит он сейчас во дворе, облокотился о красноватый колодезный сруб и смотрит на дом, в котором умирает Бахва. Потом вытягивает из колодца, выложенного замшелыми камнями, ведро с водой и жадно пьет. Снова щелкают дрозды, бесконечно свистят коростели, щебетуньи-ласточки описывают в воздухе круги, и когда кажется, что вот-вот разобьются о землю, круто взмывают ввысь. Скоро заявится удод и пройдется по плетню, дятел долбит дерево, а с зарей взлетит с поля жаворонок и зальется, трепеща в выси неба, словно подвешенный на ниточке. Вечером на ветку липы сядет малиновка и отрывисто засвистит. Весна, медвяный аромат разлит в воздухе!
Едва стемнело, как соседи пришли навестить больного, недолго молча постояли у постели Бахвы, потом пустились в разговоры. Мужчины закурили, женщины расселись на низеньких скамеечках, одергивая на коленях платье. Некоторые устраивали рядом детей. Говорили о полевых работах и погоде, о базаре, иногда вспоминали и о болезни Бахвы. Бахва стонал, метался в постели, ему не хватало воздуха. Окно было закрыто, и от табачного дыма и чада в комнате нечем было дышать. Сорокалетняя Веричка принялась описывать свою торговую поездку в Россию, в тот город, где ее сын проходил действительную службу.
Говоря в нос, Веричка с удовольствием рассказывала, как навестила сыночка.
— Ему там неплохо. Возмужал. И «наколки» себе сделал, вот ведь как! На правой руке — женщина голяком, а на левой по-русски написано: «Не забуду мать родную», — лицо ее сияло воодушевлением и радостью.
Понемногу все разошлись. Остался один Шалико. Больной все метался. Шалико сидел на скамеечке, с глупым упорством уставясь в одну точку где-то над изголовьем больного. Шалико был женат около семи лет, но успел обзавестись пятью детьми. Длинноносый и длинношеий верзила, он разительно напоминал лицом сову. Короткие, квадратные усики, словно почтовая марка, были прилеплены над верхней губой. Над ним постоянно насмехалось все село за то, что его нареченная сбежала за день до свадьбы. Спуталась с каким-то бродячим чонгуристом и только через месяц заявилась домой. Где она таскалась, так никто и не узнал. Однако Шалико все равно женился на ней, полностью простив. Возможно, из-за того, что и полушки не имел за душой, а нареченная была единственной дочерью зажиточных родителей, но не удалась ни лицом, ни статью. А может быть, не это заставило его жениться, а иное — то, что он не знал женщин и, кроме этой, другой не нашел. Теперь у него уже пятеро детей.
Наконец, поднялся и Шалико. Чичико проводил его до ворот. Ночь была темной. Чичико повернул обратно. Квадраты окон оранжево светились. Во тьме приземистый дом напоминал покинутый всеми и обреченный корабль.
Удивительно, как любил он спать в «зале». Сколько помнится, эти покоящиеся на балках доски всегда пахли сыростью. В углах висела паутина. В ларе скреблась мышь. За стеной не умолкал таинственный и неясный шорох ночи, привычный с детства, и Чичико, так долго мечтавший о родном уюте, уже давно бы заснул мирно и беспечно, если бы спокойствие не нарушалось тревогой больного, оставленного наедине с болезнью. Чичико слышал, как метался Бахва, как он задыхался в кашле, потом доносилось дыхание, похожее на свист или стон, потом всхлипы, и сон Чичико окончательно развеялся. Бахва всхлипывал, Тебронэ успокаивала его, а Мамия преспокойно храпел в своей комнате.
— Не хочу умереть, поддержите чем-нибудь, разве вы не люди? Бабка, где Мамия? Сдох, что ли, этот проклятый? Успеет еще наваляться в земле, знает ведь, что умираю я… Антихристы, помогите еще хоть день протянуть, а там… — всхлипывая, в отчаянье кричал Бахва, но слова его безнадежно тонули в равнодушном течении непроглядной ночи, которая не только не принесла облегчения больному, но и наполнила его паническим ужасом перед близким уже величайшим испытанием, его, задыхающегося, заключенного в закопченной, прокуренной и смрадной, беспросветной, как могила, комнате.
Чичико понимал, что Бахва отходит, однако подняться было лень. Что ни говори, малодушный человек Бахва. Малодушный, нетерпеливый, выдержки — ни на грош. Стоило, бывало, ему рассердиться, никого не пощадит, зверем глядел. Нижняя челюсть затрясется, зубы оскалятся, и осыплет он, как из пулемета, первыми пришедшими на ум словами. Иной раз сам жалел о выпаленных под горячую руку словах, хотя бил и швырял все, что попадало под руку, тарелку ли, топор ли. Когда врачи стали настаивать, чтобы Бахва бросил курить, стал прятаться: то в уборной затаится, то в саду и украдкой смолит табак, словно наносит вред не себе, а Тебронэ и Мамии, которые даже трубку прятали от него, только бы не дать ему закурить. А Бахва все старался делать им наперекор. Нет, чтобы перетерпеть. И сейчас ни с кем не считается, уж заполночь, а он все никак не хочет угомониться и другим покоя не дает, будто кто-то в состоянии принять на себя его болезнь.
— Успокойся, несчастный, потерпи немного, скоро рассветет, — слышится голос Тебронэ. Вот она ни на минуту не теряет терпения и бодрости. И за больным присматривает, и о семье заботится, а Бахва — неблагородный, неблагодарный и малодушный. Хотя, кто знает, возможно и сам Чичико малодушен, коли ему, настроившемуся спать, не дают уснуть мучения больного. Так и дергают по нервам. Самое настоящее малодушие! Сна как не бывало, но все равно трудно заставить себя покинуть теплую постель. Да, конечно, в нем и в Бахве одна кровь, и от него он унаследовал и малодушие. Тут Чичико вдруг подумал, что и ему не хватает именно тех качеств, за отсутствие которых он корит Бахву. Кто знает, встретит ли он тяжелое испытание более достойно, чем Бахва? Выдержкой их род никогда не отличался. Поэтому он и удивляется терпению и постоянной бодрости Тебронэ. Тебронэ — других кровей женщина. Вот теперь он совсем расстроился, услыша, как мечется Бахва. Видимо, вместе с малодушием досталось ему от предков и мягкосердечность.
Чичико поднялся, натянул остывшую одежду и вышел из комнаты на балкон. Расшатанные половицы заскрипели под ногами, он остановился, опустил руки на перила и долго стоял так, уставясь в безмолвное ночное пространство. Где-то сверкнула молния, на мгновение осветив деревья. Моросило. Влажный воздух был тяжел. И вдруг Чичико вспомнил Жужуну, которую ожидал, затаив дыхание, вот на этом самом балконе три года назад. В ту ночь каждый шорох, принесенный легким ветерком из сада, заставлял напряженно застывать и казался шагами девушки, и так продолжалось до тех пор, пока он не вышел из себя, не потерял голову, не спрыгнул вниз и не побежал к закрытому окну, выходящему в сад. А теперь было только одно — слабо потрескивал дождь, словно кто-то лущил кукурузный початок. Что-то волшебное было в шелесте капель, падающих на молодую листву, дранку и шифер, нахлынувшие воспоминания таяли бесцветным ночным туманом, будто бы испытание, подкрадывающееся к семье, лишало прошлое всякого значения. Он приоткрыл дверь другой комнаты — здесь Мамия отсыпался после пьянки, вошел, отыскал по храпу в темной холодной комнате с застарелым запахом айвы и табака тахту, на которой скрючился Мамия, накрытый с головой одеялом, постоял над ним и пошел дальше. Потянул на себя тонкую, оклеенную обоями скрипучую дверь, — сразу обдало керосиновым чадом, — переступил порог и увидел освещенную коптилкой кровать, задвинутую в угол, и откинувшегося на подушки Бахву, бесчувственного и неподвижного. Тот уже не метался, обессилевший от боли и отчаяния, и впал в забытье. Чичико опешил. «Сегодня ночью умрет», — промелькнуло у него в голове, и он удивился, что вот так, сразу подошло время кончины человека.
— Встал, Чичико? — ласково спросила Тебронэ.
Она сидела у изголовья больного. Бахва дремал. Острый кадык поднимался и опадал с дыханием. Услышав голоса, Бахва раскрыл запавшие глаза и стал жадно вглядываться в стоящего у кровати Чичико.
— Кто ты? Не узнаю, — прохрипел он.
— Это я, дядя, Чичико.
— Эх, за врача тебя принял! — И он снова смежил веки, тяжело и хрипло задышал. «Кхм, кхм», — все откашливался он, силясь отдышаться. Потом снова открыл глаза и бессмысленно уставился в стену.
— Надо было врача привезти, — шепнул Чичико Тебронэ и сел на скамеечку у ног больного. Жаль Бахву! Он жалел его, но смердящая постель и гниющее тело старика вызывали в нем отвращение.
— К чему? Сам видишь — все уже кончено.
— Может, отойдет?
— Куда там! Ему теперь ничто не поможет.
Тебронэ встала, поправила подушку. Забота ее была излишней, Бахва и так лежал удобно. Но Тебронэ приподняла его, усадила, а затем уложила по-новому. На Бахву напал сильный кашель, но он отдышался все же.
— Лучше тебе? — крикнула Тебронэ ему в ухо.
— А?
— Лучше тебе, спрашиваю?
— Да, — безразлично ответил Бахва и снова уставился в стену. Старуха присела на краю постели и погладила его по лицу.
— Погляди на меня. Куда ты смотришь?
Безучастный взгляд старика стал более осмысленным, и в оцепеневшем теле появились признаки жизни. Бахва повернул к Тебронэ голову, это была уже не голова, а череп, и принялся разглядывать ее, будто возвращаясь издалека, с трудом пробираясь сквозь мглу, и словно все здесь представлялось ему непонятным. Понемногу сознание его прояснилось, и он проговорил прерывисто, но отчетливо:
— Только вот какой-то конник проехал…
— Что?
— Взнуздал меня уздечкой, но я не пошел за ним…
Он шарил рукой по одеялу, словно отыскивая что-то. Иногда закусывал губы, дыша по-прежнему учащенно и хрипло. Нос заострился и побелел. Он то и дело приглаживал пальцами ноздри и усы, со стороны можно было подумать, что прихорашивается. Пламя ночника покрывало копотью побеленный камин, и веерообразные тени скользили по стенам, оклеенным ветхими обоями. Теперь между этих стен витала тень смерти. У кровати стояла банка, полная мокроты. В пространстве, между окон — маленький столик. На противоположной стене — старинный, привезенный еще из Артвини гобелен. На гобелене светловолосая девушка в длинном кисейном платье, стоящая у колодца, протягивала ведро воды спешившемуся гусару, а за ними — одинокая избушка. Сколько раз эта картина настраивала Чичико на мечты. Особенно пленяло его непривычное одеяние гусара. Необычный мир захватывал его. Столь же необычной была и история, рассказанная Бахвой, история о единоборстве прославленных борцов Нестора Эсебуа и Кула Глданели, которая в детском воображении Чичико странно сливалась с изображенным на гобелене, словно те два богатыря схватились на опушке леса, вытканного на гобелене, в присутствии всадника и светлой барышни у колодца. Теперь все это потеряло былую таинственность. Иная тайна, тупая и грубая, лишенная мечты, одним махом вытеснила давний призрачный мир. Чичико даже самому себе не хотелось признаваться, что ему противно хилое тело Бахвы, но у него не было сил побороть свое отвращение, хотя он ясно помнил время, далекое, светлое время, когда он любил обладателя этого тела, когда Чичико часто представлял себя непобедимым Нестором Эсебуа, а Бахву, стоящего на коленях на зеленой траве перед домом, — Кулой Глданели: он упорно наскакивал на Бахву, а тот со всей серьезностью возился с ним до тех пор, пока не валился на землю от приступа смеха, и Чичико, оседлав грудь Бахвы, торжествовал свою победу. Добрым был Бахва! Старался баловать Чичико. И силой не обидел его бог, и трудолюбием… И сейчас, когда Чичико видел немощное, одряхлевшее тело Бахвы в старой привычной обстановке, в нем оживали сладкие детские воспоминания, которые тут же заслонялись тенью смерти. Очень не хотелось принимать близко к сердцу мучения Бахвы: он старался, глядя на корчившееся тело, не вспоминать ничего, что было так дорого несколько лет назад. Это ему удавалось, он жалел Бахву, но жалость была скорее обязанностью, чем искренним чувством. Чичико терпеливо ждал неизбежной развязки, все представлялось естественным, и выдержка не покидала его. Сидя на скамеечке, он спокойно смотрел на Бахву и ждал его кончины. Бахва, который долго смотрел на какую-то точку на стене, повернул к Тебронэ свою голову-череп, долго не узнавал жену, потом слабо потянулся к ее руке.
— Не убивайся… Все обойдется! — пробормотал он, еле шевеля губами.
— Тебе не лучше…
— Со всеми встречусь там. Мать — там, отец — там, сестренки… А что мне еще?..
— Куда это ты собрался? На тот свет? — ласково улыбнулась Тебронэ. — Эх ты, дурачок. Что ты несешь?
За несколько часов больной неузнаваемо изменился, было ясно, что он уже не жилец на этом свете. От сидения на низкой скамеечке у Чичико разболелась спина, дремота одолевала его. Он встал и вышел в дощатую пристройку. И снова поймал себя на малодушии: бросил Тебронэ, не вынес бдения около больного. Твердости недостает ему, самой обычной твердости, которой недоставало и три года назад, когда он уламывал Жужуну, — он понимал это, и ему плохо, грустно и тоскливо от того, он и это понимал, — что в нем не хватает чего-то, было ясно, что нет в характере какой-то нужной жилки, и он был недоволен собой. Окна завешены темнотой. Похолодало. Одно из разбитых стекол заклеено бумагой, сквозь нее просачивалась прохлада. Узкая комнатка навсегда пропиталась запахами лука, солений. Остывшая в железной печке зола словно всосала остатки тепла и еще больше выхолодила комнату. Когда-то здесь был балкон, потом его обшили досками, и получилась комната. Из щелей между досками тянуло холодом. Чичико прилег на скамью и накрылся старым пальто Бахвы, пахнущим горьковатым потом. Бахва лежал за стеной, и Чичико слышал, как он дышит. Хотелось спать, дрожь пробегала по телу, и временами дремота наваливалась на Чичико. Он пытался думать о чем-нибудь приятном, хотя бы о Жужуне, но это никак не удавалось. За стеной хрипел Бахва. Кашлял, иногда разговаривал сам с собой.
— Что тебе надо? Уйди, оставь меня… Хочешь забрать сейчас же? Зачем ты пришел?! Повремени чуток, нехристь! — обращался он к кому-то.
— С кем ты разговариваешь? — спрашивала Тебронэ.
Голос жены вторгался в видения Бахвы.
— А?
— С кем, спрашиваю, разговариваешь?
— Отец приходил. Сидел вон в том углу.
— Что твоему отцу здесь могло понадобиться, несчастный? Отец твой давно на том свете. Ты что, ума лишился?
— Не знаю. Приходил ведь…
У Бахвы, находившегося на перевале из одного мира в другой, сознание расслоилось, и какая-то часть души беспрепятственно блуждала в безграничных просторах. В ларе снова заскреблась мышь. Где-то далеко-далеко глухо выла одинокая собака. В изъеденных досках тикали жучки. Наполненная звуками, тянулась ночь, и не было ей конца. Чичико не мог преодолеть тяжести сна. Отдалялись и глохли голоса из-за стены, из комнаты умирающего. Бахве являлись усопшие. Покойники собирались в этот дом, окутанный тьмой, и Бахва, пока еще находившийся здесь, уже пребывал среди них. Он так же естественно беседовал с невидимыми призраками, как и со своей женой, которая, как сиделка, коротала с ним ночь. Он разговаривал с матерью, умершей, когда Бахва был еще ребенком, с отцом, ушедшим в мир иной, когда сам он уже был семейным человеком, с сестрами и близкими, с друзьями и соседями, в разные годы переселившимися на тот свет, и в то же самое время внимал Тебронэ, голосу земли, на которой он пробыл таким недолгим гостем и которую оставлял теперь после бесчисленных мытарств и страданий, пройдя сквозь безграничное горе и радости, познав трудности и тяготы, покидал все, что раньше имело для него значение, а сейчас полностью теряло его, рассыпалось на крупицы, исчезало, словно кучка песка под ветром, растворялось среди земли и воздуха.
Утро с шумом врывалось в сознание. Вслед за пеньем петухов закудахтали куры, запищали цыплята, загоготали гуси, залаяли собаки, замычала скотина. Хаотичная разноголосица помогала солнечным лучам прогонять ночные тени, и утро наполнило светом сознание Чичико так же ясно, как и всю деревню. Он ощутил, что уже рассвело, и хотя ему хотелось поспать еще и, казалось, не хватит сил разомкнуть слипшиеся веки, он все-таки пересилил себя, стряхнул сонливость, и изо всех щелей ударили в его открытые глаза тонкие снопы солнца, в которых мелькали золотистые пылинки. Вместе с шумом утренняя прохлада заполняла комнату, но поразительно, необычайно тихо было в доме. Уж не умер ли Бахва? Звуки проснувшейся деревни и тишина, охватившая дом, отличались друг от друга, как жизнь и смерть. Чичико встал и пошел к Бахве. Бахва спал. Конечно, он не умер! Если бы он умер, Чичико тут же разбудили бы или он сам проснулся бы от причитаний Тебронэ. Нет, жив еще! Голова запрокинулась, щеки ввалились, испарина покрыла лоб, лицо измучено и отрешено, он с хрипом втягивает тяжелый, Застоявшийся воздух закупоренной комнаты. Спит или уже отходит?
Чичико вышел на балкон. Может быть, в самом деле отходит? Лучше не принимать этого близко к сердцу. Надо крепиться! В конце концов, все мы дети смерти, всем нам уготован такой конец. Какой толк распускать нюни? Холодная вода приятно бодрила. Чичико стоял у умывальника, подвешенного к балконному столбу, и брызгал на лицо водой. Трава, покрывавшая двор, резала глаза своим блеском. Полнеба затянули белые, похожие на сугробы облака, а ниже их плыли другие, грязноватые, как расчесанная кудель. Чистый воздух тек по гортани, словно холодный нектар. Подобно пробудившемуся младенцу, было прекрасно и невинно апрельское утро, но перед кухней, крытой осокой, валялась окровавленная голова месячного бычка. Мамия, сидящий перед кухней на низенькой табуретке, ловко орудуя длинным, отточенным ножом, свежевал теленка. Мамия — ветеринар. Он умело сдирал шкуру — в этом ветеринары не уступают мясникам. Окровавленными руками он жадно копался во внутренностях, швыряя негодные куски урчащим кошкам. Бурая корова, привязанная к дереву, беспокойно мычала и дергалась, вытягивая шею. Внутри у Чичико что-то оборвалось, и он медленно, невесело спустился по лестнице, подошел к Мамии и прислонился плечом к стене кухни. Увлеченный делом Мамия с довольной улыбкой глянул на него и подмигнул.
— Хе-хе. Ну как, выспался?
Зычный голос, похожий на голос Сандро, заставил Чичико обернуться в сторону переулка. Так и есть, это ржал Сандро, никто другой в деревне так не ржал. Расхлебенил ворота и попер прямо к дому. Вышедшая с огорода с квашней в руках Тебронэ встретила его посреди двора.
— Как Бахва, не поднимается? — раскатисто пробасил Сандро.
— Уснул, наконец! — ответила Тебронэ.
— Его теперь, кроме восемнадцатилетней, никто не поднимет.
Сандро расхохотался, довольный собственной шуткой. Во всей деревне не сыщешь человека веселее и беспечнее Сандро. И выпить он не дурак, и пошутить. На работе особенно не надрывается, но и лодырем его не назовешь. Под шестьдесят, поди, ему. Лет двадцать пять назад Сандро взбрело в голову отправиться на заработки в Осетию. Он бросил семью и поехал, да дорогой его застала война, так и пересел он в солдатскую теплушку, не простившись с домашними. Вернулся в полном здравии, даже царапины не получил за четыре года. А дома его встретили двое сирот. Жены уже не было. За мальчиками присматривали родственники. Росли дети в нужде и нехватках — голодное было время. Но Сандро недолго горевал и спустя год привел в дом молодую красотку. Соседи и близкие осуждали его за поспешность, за то, что жена слишком молода, — не для семьи, мол, такая, где ей детей на ноги поставить! Некоторые были склонны обвинять во всем покойницу, она, мол, хвостом вертела, пока муж кровь проливал, а он, узнав все, теперь вот женился сразу. Может быть, в самом деле все так и было? Что тут удивительного? И точно, не заменила мачеха родной матери, да и у Сандро до детей руки не доходили. Так и росли они сами по себе, без заботы и ласки. Сандро этого не замечал. Не верится, что Сандро не любил их, дети по нему с ума сходили, особенно младший, но недаром, видимо, говорили, что папаша, кроме как о самом себе, ни о ком не беспокоился. Видимо, человек жил только сегодняшним днем. Возможно, что он начисто лишен способности помнить прошлое, как животное, которое вырастит детеныша, а потом даже не узнает его. Может, так и надо, кто его знает. Человек — самое неестественное животное изо всех. Это уж точно. Скорее всего Сандро любил детей, но заботу о них предоставлял только судьбе. Лет пятнадцать прошло, как младшего, черноглазого, шустрого мальчика, который особенно был привязан к Сандро, унесла река. Выловили его неделю спустя. Но горная река настолько изуродовала его, что только Сандро смог опознать сына по ногтям и родинке на лопатке. Заплакал тогда Сандро, завыл жалобно. И на похоронах, заходя в комнату, где лежал покойник, прислонялся к стене и ревел. А выйдя, подсаживался к людям и пил вино. Как раз в те дни спилили высокие тополя за домом, ободрали кору и сложили у забора с обеих сторон двора. Пришедшие на поминки устраивались на молочных, не успевших обветриться бревнах. Поминки удались на славу, вина и лобио было вдоволь. Народ остался доволен. Отпустит кто-нибудь шутку, а Сандро тут как тут, заливается смехом. Добрый был он, мухи не обидит, только не способен на переживания. После этого старшему опостылела семья, и он пропал куда-то. Только через несколько лет узнал Сандро, что сына его видели матросом на пароходе, но он и это пропустил мимо ушей. Будь другой на месте Сандро, не оправился бы, а этот все так же весел и беззаботен. Сейчас пришел одолжить топор у Мамии. Мамия показал, где он лежит. Сандро забрался на кухню и вышел оттуда с топором. Синяя выцветшая косоворотка подчеркивала его худобу, седые усы были коротко подбриты. Широкий нос. Голубые глаза.
— Вчера вечером здорово поддали, — похвастался он.
Мамия насторожился.
— Едва ты успел уйти, как я заглянул в контору. Ну, Бучуния и привязался ко мне, затащил на мельницу, и трахнули мы по четверти.
— Бучунию уже выпустили? — спросил Чичико.
— Выпустили.
— Чье вино было? — заинтересовался Мамия.
— Меки.
— У Меки отличное винцо.
— Немного кисловато.
— И мы неплохо нализались. Бригадир пригласил.
— Бучуния тоже не скупился, едва до дому добрался, — засмеялся Сандро.
— Образумился все-таки парень? — спросил Мамия.
— После женитьбы, кажется, в норму вошел.
— Женщина всем впрок. — Мамия осклабился.
— Вот и я твержу, притащите к Бахве восемнадцатилетнюю, через пару дней вскочит как миленький, — захохотал Сандро.
— Пусть ваши враги так же вскочат, как он, — тихо вставила Тебронэ и вздохнула.
— Как он, не полегчало?
— Всю ночь глаз не сомкнул. К утру успокоился. Уснул, кажется.
— Не беспокойтесь, все обойдется.
— Пасха сегодня, Сандро. Загляни к обеду. — Мамия подмигнул Сандро.
— Мне тутовник надо подрезать. Кончу и забегу.
— Ты ведь не откажешься от телячьих шашлыков?
— Иф! Куда там! Теленок отличный.
Сандро посмотрел на тушу.
— Набрал жирку… Белый, чисто снег, — с восторгом похлопал по туше Мамия и ухмыльнулся, безмерно довольный похвалой.
— Хорош, ничего не скажешь.
— Да, неплох. Значит, жду тебя, Сандро!
— Приду.
— Чичико, сынок, ты собираешься на кладбище?
— Да, тетя. Уложи снедь в авоську.
Вот показалось и кладбище, обнесенное каменной стеной. Издали оно похоже на густой остров леса. Когда-то его покой страшил Чичико. Этот куцый клочок земли, сумрачный от теней древних лип, представлялся ему чем-то непостижимым и таящим опасность, словно неведомая страна, находящаяся где-то за тридевять земель и населенная чужими людьми. Ведь тогда Чичико не знал ни одного из тех, что покоились под тяжестью, могильной земли. Правда, некоторых он раньше видел, о других кое-что слышал, но все это как-то проходило мимо его сознания. Кроме мелких случайных воспоминаний или незначительных случаев, в голове не хранилось ничего. Как-то Тебронэ взяла с собой Чичико на похороны соседа, умершего молодым. Гроб почему-то стоял не в комнате, а посреди двора перед домом. Лето выдалось жаркое. Сидевшие у гроба женщины громко причитали и отгоняли ольховыми прутьями мух. Мухи садились на лицо покойника, ползли по нему, забирались в нос и уши. На нем были новые импортные туфли. Все внимание маленького Чичико приковалось к этим мухам, ползающим по восковому лицу, к красивым туфлям, которые особенно запомнились ему. Может быть, он тогда жалел, что их, ни разу не надеванных, закопают в землю?
Или вот еще один случай. У другого соседа умер сын. Чичико помнил, как однажды этот парень мыл в речке коня. Вот и все. Только и запомнилось: конь по грудь в воде, и мускулистый юноша, поливающий мутной водой круп коня. Разумеется, Чичико слышал разговоры о том, что кто-то избил этого парня, он стал харкать кровью да так и не поправился. Но сколько бы Чичико ни вспоминал о нем, перед глазами вставало лишь одно: мутная речушка, конь с набухшими, очевидно, от старости ноздрями и голый веселый юноша с густыми волосами.
Или взять Гиви, сверстника Чичико, отданного родителями в «ремеслуху». Помимо Гиви, в семье было еще четверо ртов, а война только кончилась, все жили впроголодь, где тут было прокормить такую ораву? Через год Гиви вернулся домой. Тринадцатилетний подросток подхватил плеврит, перешедший в чахотку. В месяц осунулся, пожелтел как свеча этот неуклюжий, застенчивый, похожий на медвежонка, толстяк. С самых детских лет отличался он необычайной стеснительностью, вечно ходил с опущенной головой и страшно робел, когда с ним заговаривали взрослые. На первый взгляд он казался крепким, да организм не смог справиться с болезнью. Уход ему был необходим, усиленное питание, а родителям приходилось считать каждый кусок. Целыми днями лежал Гиви на балконе, а когда ребята собирались играть в мяч, он, бывало, спускался и просился в команду — никак не мог смириться со своей болезнью. Чичико легко отбирал у него мяч, отталкивал. Жалел ли он Гиви? Нет, не жалел. Хотя знал от старших, что тот обречен, но все равно не испытывал ни капли жалости и даже всячески сторонился его. Избегал потому, что тот носил в себе что-то непонятное, страшное, опасное, а вовсе не из-за боязни заразиться, хотя Бахва и предостерегал его. Нет! Ужас той обреченности, которая стала судьбой Гиви, был непостижимым для детского ума, но именно эта непостижимость — невидимая и неизвестная — заставляла Чичико сторониться товарища.
Теперь многое изменилось. На кладбище покоились люди, которых Чичико хорошо знал, которых любил, и именно факт их кончины избавил смерть от тумана таинственности, она стала такой же будничной и близкой, как завтрашний день. Чичико больше не пугали темная тишина вековых лип, обвитые плющом кресты, вросшие в землю могильные плиты — они лишились покрова странности и инородности. Могилы уже не вызывали жгучего любопытства, Чичико знал, что смерти никто не минует, и этой мыслью заслонялся от боязни умереть. Коль суждено умереть, так лучше быть погребенным в родной земле, над которой опрокинулось родное небо, знакомое всем и движением облаков, и расположением звезд, и это небо не пугает оставшегося наедине с вечностью, а успокаивает и вселяет неведомую надежду.
Да, теперь многое изменилось.
Солнце скрылось за облака. Сразу посвежело, но теплый пар продолжал подниматься от земли, и несмолкаемые трели полевых птиц наполняли все окрест. Вьющиеся розы, горящие тысячами бутонов, оплели на домах столбы балконов. В палисадниках распустилась сирень. Пепельные осины с серебристыми листьями качали макушками, выстроившись вдоль дороги. Влажные опавшие листья пружинили под ногами, порой заборы скрывались за буйными зарослями бузины и волчьей ягоды. Вдоль канав курчавился подорожник. В переулке от недавнего дождя дорогу развезло, запах навоза смешивался с густым ароматом садов, огородов, с острым запахом мяты, блоховника, шафрана и петрушки.
Но стоило закончиться переулку, как дорога вырывалась в безграничное пространство, сплошь подернутое зеленями. В безмолвной неподвижности простирался воздух, пахнущий вспаханной землей и молодой травкой. Вдали, за пашней поднимался частокол тополей. Сквозь их изумрудную листву просвечивали красные черепицы крыш. Там, вдоль реки, тянулись села. Еще дальше виднелась мельница с черными обнаженными стропилами. Скот пасся на берегу ручья, и когда Чичико миновал мостик, — мутный ручеек, журча, пробирался в зарослях ольхи и пропадал почти сразу, — до кладбища было уже рукой подать, на сером небе четко поднялась старая обезглавленная церковь. Людьми, пришедшими на кладбище, овладело непонятное праздничное настроение, хотя причиной, собравшей их здесь, была смерть — ужасная участь близкого, когда-то ввергавшая их в безмерное горе и слезы. Но сегодня все муки и горе были забыты. Дети с шумом бегали между могилами, споря, разбивали крашеные яйца. Мужчины пили за ушедших. Вино есть вино, за что бы его ни пили, за здравие или за упокой. Люди кружком сидели у еды, разложенной возле могил, хмельно и весело беседуя о повседневном бытии. Пили и за будущее. Поистине надо совсем лишиться разума, чтобы, находясь на кладбище, ожидать грядущий день с надеждой и верой. Но вино брало верх, смерть изгонялась с погоста. Говорят, что только желающий себе зла доверяется этому миру, но какой прок сидеть сложа руки? Разве не правы люди? Что им остается делать? Только старухи в траурных платьях и платках выделялись своей печалью. Подперев лицо руками, они не сводили глаз с безграничных просторов земли. Некоторые из них сидели у могил своих детей, и кто знает, может быть, в глубине души неясно осознавали то невольное и тяжелое преступление, в котором виновны перед своими детьми, к чьим могилам пришли в этот день, которым дали жизнь, а вместе с ней обрекли на тысячи мук и страданий, завершившихся наконец смертью. По пословице, с родителями не расквитаешься, даже если поджаришь для них яичницу на ладони. Но кто знает, а не иначе ли? Может быть, сам родитель во веки веков не искупит перед детьми своей вины? Может быть, это смутное ощущение вины и есть инстинкт, заставляющий человека до скончания дней безвозмездно служить ребенку? Ведь дети никогда не бывают столь преданны родителям, даже самый черствый и эгоистичный человек чувствует иногда тягостную вину за все беды, выпавшие на долю его детей, и пытается забыть об этом или откупиться. Так думал теперь Чичико, который никогда не чувствовал благодарности к родителям. Он остановился у могилы матери, вытащил из сетки две бутылки вина, расстелил тут же бумагу и выложил на нее красные яйца и кулич. Свернув сетку, сунул ее в карман. Ему было двенадцать, когда умерла мать, а отец погиб еще раньше, он даже его лица вспомнить не мог, как ни старался. Узнав о гибели мужа, мать слегла и больше не вставала. Все заботы перешли к Чичико. Ему приходилось подниматься с петухами и отправляться в поле вместе с Бахвой, погонять волов или разбивать мотыгой тяжелые комья земли. Когда он вечером возвращался домой, у него уже не было ни сил, ни желания поиграть. Мать умерла, и Бахва устроил его в ремесленное училище. Сколько нужды и унижений пришлось хлебнуть Чичико за годы учебы. Однажды во время игры в футбол Бучуния так заехал ему в нос, что кровь хлынула струей, а он даже не решился дать сдачи, молча повернулся и побрел к общежитию, изо всех сил сдерживая слезы. Кто знает, может быть, он злился не столько на Бучунию, сколько на самого себя, на свою собственную трусость? Но с того дня Чичико жестоко возненавидел Бучунию. Он и завидовал смелости своего врага, и скрежетал зубами от ненависти. А Бучуния даже думать забыл о том пустяковом случае. Они выросли. Бучуния относился к Чичико дружелюбно, но проходили годы, а Чичико все не мог избавиться от своей неприязни. Воспоминания, убеждавшие его в собственной никчемности, камнем лежали на сердце. Слишком стеснительным и робким был он, вот и помыкали им. И когда Чичико задумывался о себе и своей жизни, то недовольство собой выливалось в недовольство родителями. Чем они одарили его, что завидного получил он от жизни? Пропади она пропадом, такая жизнь! Правда, и на его долю выпадали счастливые минуты, вроде тех, когда Бахва рассказывал о единоборстве Нестора Эсебуа и Кула Глданели или на траве перед домом боролся с Чичико. Но это было давным-давно, и счастливые минуты так редки… Вся жизнь — сплошные заботы, суета, нужда. Просвета нет. Поэтому-то две-три отличные от других минуты представляются счастьем и навсегда западают в душу. Обманываешь себя, потому что иного пути нет, и стараешься забыть, что ничто не вечно. Напрасно говорят, будто человек создан для счастья. Какое там счастье, будь доволен, что тебе не выпал еще худший жребий…
— Подохнуть мне, если это не Чичико! — Хриплый голос вывел Чичико из размышлений, он поднял голову и увидел Бучунию — хмельного, расплывшегося в улыбке, шагающего прямо к нему. Не очень приятно было встретиться с ним здесь, но, отвечая на приветствие, Чичико успел подумать: какие только мысли не придут в голову на кладбище!
Потом они пили вино. Двух литров, как это всегда бывает, оказалось мало, тем более что Бучуния был не один, а с рыжим Како и Наполеоном Амбросиевичем. Чичико, Бучуния и Како — одногодки, а Наполеону Амбросиевичу уже перевалило за шестьдесят. Высокий, чуть сутулый, с бронзовым морщинистым лицом и поредевшими волосами на голове, Наполеон Амбросиевич разговаривал басом, размахивая руками, словно провинциальный трагический актер. Может быть, в молодости он увлекался театром, кто знает? Или врожденный артистизм придавал его лицу такое трагикомическое выражение? Во время войны Наполеон Амбросиевич попал в плен, бежал, командовал партизанским отрядом в горах далекой Италии. Документы, подтверждающие его заслуги, он всегда носил с собой в нагрудном кармане и, когда считал нужным, давал их почитать собеседнику. Но бывало и так, что на все расспросы о его прошлом он только махал рукой: кому, мол, это сейчас интересно?
— Прошлое — ерунда! Я за будущее! — провозглашал он и хихикал. Трудно было понять, шутит он или в самом деле думает так, потому что он частенько прикидывался дурачком. Вернувшись с войны, он запил. И раньше не отказывался от стаканчика, но после плена и лагеря отдавал предпочтение водке, хотя и вином тоже не гнушался. Пил он беспробудно. Чичико не довелось видеть его трезвым. Но в питье Наполеон Амбросиевич был крепок. Он любил ходить в гости. Выпьет как следует, пошутит, вернется домой и заляжет спать. Чтобы скандалить, такого за ним не водилось. У него были уже взрослые дети, но даже это не удерживало его дома. Семье, вероятно, не по нраву было пьянство отца. А посторонние любили общество Наполеона Амбросиевича. Что они теряли? Собеседник он был хоть куда, остроумный и остроязычный. Ведь развлекаясь и болтая с чужими, человек отдыхает, не открывая себя. А домашним воспоминания Наполеона Амбросиевича уже оскомину набили.
Двух литров вина явно не хватало. Бучуния вытащил новенькую десятку и послал за вином какого-то мальчика. Тот мигом притащил большую бутыль. Пока мальчишка бегал, Бучуния завел беседу с Чичико. Давно они не виделись. На первый взгляд Бучуния заметно изменился — в нем появилась степенность, но во всем остальном он оставался прежним, и Чичико это сразу подметил, едва они разговорились. Неловкость и скованность не оставляли Чичико, хотя он понимал, что его сверстник не блещет умом. Понимать-то он понимал, но скованность все не проходила, и он почему-то не мог смотреть в глаза Бучунии. Как ни принуждал себя открыто взглянуть на него, ничего не мог с собой поделать. Взгляд Бучунии словно давил, пронизывал, подчинял себе и заставлял отводить глаза. С детства сохранил Бучуния этот взгляд уверенного в себе человека, и Чичико вновь ощутил его. Сколько воды утекло с тех времен, но ничто не изменилось. Несмотря на теплоту и явную расположенность, с какой Бучуния встретился с Чичико, тот стеснялся своего сверстника так, словно в глубине души не считал себя достойным уважения. Чем он хуже Бучунии?! Наверное, чем-то хуже! Чичико было не по себе от давящего чувства своей подчиненности. Может быть, ему казалось так оттого, что они нахально пристроились у могилы его матери и пили вино, купленное на деньги Бучунии? А, да купи Чичико вино на свои, все равно в нем не утихло бы ощущение зависимости! Как ни обернись дело, Бучуния будет вертеть им, как захочет! И Чичико потянуло уйти домой. Хотелось плюнуть на все и уйти, но ему было совестно бросить компанию. В этом-то и выражалась его покорность. Надумай уйти Бучуния, кто бы его удержал? Никто! Но Чичико не осмеливался даже заикнуться о своем желании и продолжал выпивать, несмотря на то, что ему было не до выпивки, хотя бы потому, что дома умирал Бахва. Бучуния был тертый калач и держался, как человек, видавший виды. Рассуждал он смело и, как к равному, обращался к Наполеону Амбросиевичу. Чичико тоскливо подумал, что он бы не осмелился так разговаривать со стариком, постеснялся бы разницы в возрасте. Чего-то не хватало в его характере. Того, чем Бучуния был наделен с избытком.
Они пили, разговаривали. Настроение Чичико не улучшалось, он словно исполнял тягчайший обряд. Он слушал других и молчал. Наполеон Амбросиевич сидел выпрямившись, как и подобало старому воину, и почему-то оправдывался.
— Что делать, господа, я — человек маленький, и не обременяет ли кого-нибудь мое присутствие? — декламируя, спрашивал он с непринужденной серьезностью.
— Что вы, что вы, Амбросиевич! — успокаивали его.
— Вы — молодые, ныне ваш черед заботиться о мире, — пронзительным басом взревел вдруг Наполеон Амбросиевич, выкатив глаза. Обведя всех орлиным взором, он тут же снова размяк и захихикал (шутил он или говорил всерьез?), — хе-хе-хе, еще стаканчик пропущу и… все! Не стану вас больше беспокоить!
— Какое там беспокойство! — прервал его Бучуния, подливая ему вина. Они выпили за родителей Чичико, затем за безвременно и в свое время ушедших родственников и соседей. Тосты провозглашал Бучуния.
— Помянем их, ребята, в чем провинились эти люди? — с беззаботным вызовом спросил он, словно кто-то осмелился обвинить усопших, и пристально оглядел всех. И тут Чичико понял, в чем он уступал Бучунии. Тот ни о чем не думал, ни к чему не присматривался, заботился лишь о развлечениях, и ничто, кроме собственного удовольствия, не интересовало его.
— Хороший тост, царство им небесное!
— Вечная память!
— Примечательнейший тост! — вставил Наполеон Амбросиевич. — Вы дельные ребята, по всему видно. И меня не обойдете воспоминанием, когда я покину эту юдоль… Ладно, отбросим сие. — Он взмахнул рукой, словно муху, отгоняя от себя некстати пришедшие мысли о смерти. — Memento mori[47], — выкрикнул он слова, слышанные, вероятно, еще в Италии, и залпом осушил стакан. — Прекрасное вино, в жизни не доводилось пить подобного!
Бучуния заржал.
— Небось в Италии вам не давали вина, Амбросиевич?!
— Куда годится итальянское вино? Нашей «изабелле» оно в подметки не станет.
— О, душа ты человек, Амбросиевич! — вздохнул Бучуния. Ответ старика почему-то растрогал его. Он обнял Амбросиевича. — Не будь я Бучуния Джгамадзе, если не устрою тебе пира с шарманкой, вот увидишь!
— Ой-ей-ей, ты — Джгамадзе? — удивился Наполеон, хотя ничего удивительного в фамилии Бучунии не было.
— А ты как думал! — приосанился Бучуния.
— Тогда откуда у тебя столько денег? — хихикнул старик.
— Трудовые, дядя! Разве переводятся деньги у каменщика в наше время? Видишь, весь мир строится? Каждый норовит двухэтажный дом отгрохать.
— Ну-ну, — согласился Амбросиевич, — а ты чего ждешь, почему себе не выстроишь?
— Я человек компанейский, что зарабатываю — все пропиваю, — гордо заявил Бучуния. Како засмеялся, засмеялся так, словно подтверждал: прав Бучуния, он парень что надо.
— Клянусь богом, Бучуния ни копейки домой не уносит. Что ни заработает, все на друзей тратит, — похвалил друга Како.
— Молодец, сынок! — одобрил Наполеон Амбросиевич, поднял голову и покосился на Бучунию. — Тебе что, заботиться не о ком, что ты так деньгами швыряешься?
— Хе-хе, — гордо ухмыльнулся Бучуния, — моя жена знает, каков я. Иначе бы она за меня не пошла. — Нотки горделивости прозвучали в его голосе.
— Жена, сынок, простит безденежье на первых порах, но потом… — хитро засмеялся Наполеон Амбросиевич и подмигнул всем. — Если же в чем другом недодашь…
— Не беспокойся, все додам, — оскалился Бучуния, но улыбка выдала его сомнения. Интересно, почему он засомневался?
Следующий тост подняли за Наполеона Амбросиевича, хвалили его, превозносили до небес. Вокруг слонялись люди. Наполеон Амбросиевич хихикал и наклонял голову, выражая признательность.
— Недостоин я, недостоин…
Но охмелевшие парни не скупились на слова. И Чичико захотелось сказать что-то теплое и значительное, но он никак не мог собрать разбегающиеся мысли. Зато он с такой силой чокнулся с Наполеоном Амбросиевичем, что того шатнуло и вино выплеснулось, но стакан тотчас же наполнили. Бучуния спросил:
— Сможешь выпить еще, Амбросиевич?
— Разумеется, почту за честь. Ради чего же я здесь?!
— Не знаю, что-то…
— Не извольте волноваться. Как говорится, все пропьем, но флот не опозорим! Наливай!
Пьянка продолжалась. И когда настал черед выпить за Чичико, пожеланиям не было конца. Все уже изрядно набрались, и Чичико, поддавшись хмелю, слушал сладкие пожелания, принимая за чистую монету каждое слово. Бучуния напомнил об их детской дружбе, и Чичико почувствовал, что Бучуния совсем не противен ему, он уже не помнил о своем разбитом носе, и если вначале заставлял себя пить, то сейчас был доволен и ни о чем не жалел.
Прекрасный выдался день, прохладный. Не умолкая, пели птицы.
— Теперь пойдем в столовую и там продолжим! — заявил Бучуния. Он обнял Чичико и Наполеона Амбросиевича и повел к выходу. Хорошее настроение не покидало Чичико, сила и надежды переполняли его, хотелось совершить что-то особенное. Радость распирала его, когда он, окруженный пьяными собутыльниками, шагал под ручку с Бучунией. Потом это радужное настроение и приятные мысли привели к думам о женщине. Чичико потянуло увидеть Жужуну. Потянуло с той силой, с какой тянет человека, запертого в темной душной комнате, на волю, на свежий воздух. И стало совершенно ясно, что все эти три года, проведенные вдали от родных мест, его поддерживала одна мечта — снова увидеть Жужуну. Он не подозревал, что эта мечта с такой силой овладела его душой. Теперь ни болезнь Бахвы, ни то, что давно, еще до ареста Бучунии, его застукали с Жужуной на берегу Цхенисцкали, не имели никакого значения. Захотелось припасть к телу Жужуны, ощутить запах теплой муки и мяты. Все — будущее, пьяные, весенний облачный день, все радовало его, все виделось прекрасным, и внутреннее спокойствие, надежда и умиротворение не покинули его даже тогда, когда они ввалились в столовую, хотя у него не было никакого желания снова пить. Прислонившись в узкой комнатушке к деревянной стене, он смотрел в окно на деревню, утопающую в зелени, на пыльную дорогу, на прохожих, на далекие дома, на клячу, пасущуюся у канавы, не слышал ни слова из того, о чем галдели вокруг, он был где-то далеко, в мире своей сладкой мечты, грустный и счастливый одновременно. Пьяный Бучуния дико вращал глазами и требовал вина. Наполеон Амбросиевич дремал стоя, как лошадь. А Чичико был бесконечно далек от них, странная и приятная надежда что-то нашептывала ему, и он всем существом внимал этому шепоту, верил, что трехлетнее терпение его будет вознаграждено, что все исполнится тотчас, как он покинет эту столовую и выйдет на улицу, на свежий воздух. Но в это время:
— Бучуния, на минуточку, тебя спрашивают. — Молодой буфетчик просунул голову в дверь.
— Кто? — спросил Бучуния, даже не повернувшись.
— Жена.
Бучуния нахмурился, словно рассердясь, но не мог сдержать довольной ухмылки.
— Пусть войдет.
Буфетчик исчез, и в комнату вошла Жужуна. Да, эта женщина в синем платье, вошедшая к ним, и впрямь была Жужуной. Чичико не верил своим глазам. Да, Жужуна! Самоуверенная, улыбающаяся и недовольная. Но откуда, когда? То есть…
— Здравствуйте!
— Чего ты тут потеряла, чего пришла? — спросил Бучуния.
— Шла домой, вот и зашла по пути, что здесь такого?
По-прежнему напористая, ничуть не стесняется, как и тогда, когда пробралась к нему на веранду, сославшись на бессонницу. Она всегда знала, чего хочет, и, по-видимому, не умела терпеть и ждать. Жужуна одарила Чичико такой улыбкой, словно родного брата встретила.
— Как жизнь, Чичико? Давно приехал?
Ни капли волнения. Полное спокойствие, сдержанность. А Чичико и слова не может выдавить. Все напряглось в нем, и сердце забилось. Даже улыбнуться по-человечески не сумел.
— Ничего, скоро неделя…
— Я домой не собираюсь, — сказал Бучуния, — Амбросиевич, познакомься, моя вторая половина.
Наполеон Амбросиевич словно протрезвел от голоса Бучунии, поднял голову и стал разглядывать Жужуну.
— Ты что, лучшей найти не смог, что ли? — совсем по-лошадиному заржал Наполеон Амбросиевич и протянул Жужуне руку. Жужуна растерялась, порозовела, но Амбросиевич бросился оправдываться. — Не обижайся, милая, я люблю пошутить… Я ведь человек маленький… из партизан… Кто бы этому недотепе преподнес женщину лучше тебя? — Амбросиевич кивнул на Бучунию и снова повернулся к Жужуне. — Ты что, безродная, дочка? Зачем ты связала свою жизнь с этим сумасбродом и пьянчужкой?
Бучуния так и таял от шуток Наполеона Амбросиевича, особенно когда его назвали пьяницей, просиял весь и залихватски заорал буфетчику:
— Вина!
— Бучуния, хватит с тебя, — строго сказала Жужуна, — весь день пропадаешь, не стыдно тебе? Мыслимо ли столько пить?
Жужуна изменилась, налилась, отяжелела. В лета вошла…
— Не твое дело!
…Но все такая же зеленоглазая, пылкая. До чего знаком ее строгий голос. Когда-то и ему, припавшему к окну, она так же отрезала: «Все равно не открою. Не пущу». И сейчас, обращаясь к Бучунии, словно повторяла те же самые слова, которыми когда-то осадила Чичико. Не забытые им слова. Бесящие. Распущенные волосы сейчас собраны в узел на затылке, грудь выглядывает в вырезе платья. «У нее же была родинка у соска», — вспомнил Чичико и вспыхнул. Он стоял молча, словно язык проглотил, и чувствовал себя чужим, незваным гостем, бесцельным и никчемным созерцателем жизни. Происходящее не зависело от него. Запертой оказалась та комната, в которую ему хотелось проникнуть. И никогда, никогда не откроют ему двери. Он стоял у стены, словно в ловушке, опустошенный и всем чужой.
Он не помнил, как вышел из столовой. Одноэтажный дом с широкими окнами — это и была столовая. Чичико не помнил, когда он вышел оттуда, наверное, сразу после ухода Жужуны. Наверно, поэтому он так долго смотрел на дорогу. На дороге не было ни души, только шуршали листвой пепельные осины да у переулка грызлись набежавшие на дорогу собаки. Все происходило словно во сне. Выпитое вино и неудовлетворенность затмили рассудок Чичико, действовал и двигался он, как лунатик. Шатаясь, он повернул назад, зашел во дворик при столовой, заваленный всевозможным барахлом, порожними бочками и ящиками, уткнулся лбом в забор и помочился. Пожилая уборщица вышла из двери столовой, волоча за собой ящик, и швырнула его в общую кучу. Но Чичико даже не попытался спрятаться, хотя слышал ее голос и стыдился. «Ничего, ничего», — пробормотал он и посмотрел на серое небо. Большой и светлый день охватил всю землю, далекие леса и поймы, а Чичико было душно, дышалось тяжело, и он, застегнув брюки, расстегнул ворот рубахи. Бучуния, Наполеон Амбросиевич и рыжий Како продолжали выпивать. Чичико слышал, как они галдят.
— Чичико! — звали они. Но Чичико больше не пошел к ним. Покачиваясь, опустив голову, побрел он по дороге. Все сегодняшнее потеряло всякое значение, да и будущее не сулило ничего утешительного. Мечта о счастье — самообман. Пусть дураки верят в него и воображают себя счастливыми. Чичико уже не проведешь. Что из того, что он безбожно пьян? Ни в коем разе он больше не даст обмишулить себя. Пусть другие прикидываются счастливыми, пусть обманываются. Нет, его на мякине не проведешь. «Верно, Чичико?» — громко спросил он себя и довольно рассмеялся.
Дорога среди рощ, прямая как стрела, шла в бесконечность и там терялась. Чичико никак не мог припомнить, куда она ведет? С обеих сторон шевелятся зеленя. Обкромсанные тутовые деревья словно нарочно натыканы среди полей. Выглянуло солнце. Омытая дождем, чуть пожелтевшая под солнцем молодая травка местами прикрыта тенью. Солнце снова скрылось. Снова все посерело. Чичико нравилось, что день пасмурный. Он свернул в переулок. Ноги не слушались, воздуху не хватало. Вдали над чьей-то усадьбой поднимался дымок. Чичико не понимал, куда он идет, что это за переулок, такой узкий от разросшихся ольховых кустов, заменяющих изгороди. На дальнем пастбище замычала корова. Мычание напомнило о парном молоке, о сладостном запахе теплой муки и мяты. И Жужуны захотелось так, как хотелось ее утром и в полдень, когда, после кладбища, он стоял, прислонившись в столовой к стене, и думал об этой женщине, которая, — теперь уже и сомневаться не приходилось, — привела в полное смятение его душу три года назад. Чичико не мог не думать о ней, не мог одолеть своего непоборимого желания. Каким же колдовством привлекала его эта женщина? Он не мог справиться с желанием, родившимся из воспоминаний о былых усладах, и вдруг почувствовал, как легко рассудок его уступает крику разбушевавшейся плоти.
Он решил пойти к Жужуне. Часом раньше такой шаг показался бы ему подлым, но теперь, когда он решился, все представлялось другим, казалось естественным. Таким же естественным, как его неодолимое желание. И, решившись, он осознал, что доволен собой так, словно с лихвой рассчитался с Бучунией, словно именно Бучуния был виновен в том, что Чичико всю жизнь мучился от своей робости, стеснительности и малодушия и поэтому всегда опаздывал, ни разу не достигнув желаемого. «Смелей надо, смелости мне не хватало», — взбадривал себя Чичико. Он припомнил, что домик Бучунии расположен в конце переулка в самом тупике, на отшибе, и если там закричат, даже ближайшие соседи ничего не услышат, что было очень ему по душе. Сам рок, облачившийся в страсть, вел туда Чичико. Может быть, не стоит? Нет! Нет! Еще не все потеряно! Ни за что не хотелось уступать Жужуну кому бы то ни было, хотя другой на его месте давно бы на все махнул рукой. Но Чичико не из таких. Даром, что ли, промечтал он о ней целых три года?! Он же не умалишенный, чтобы целых три года видеть перед собой одну и ту же женщину. И, помимо этого, Жужуна сама улыбнулась ему: «Как жизнь, Чичико? Давно приехал?» А что она должна была еще сделать? Не на шею же ему броситься при всех? И сомневаться нечего, ей приятно было встретиться с Чичико. Раз уж ему не удалось забыть Жужуну, ничего удивительного в том, что и она думала о нем и, возможно, жалела кое о чем. Может быть, она зашла в столовую именно потому, что узнала: Чичико выпивает с ее мужем. Сейчас она обрадуется, увидев его, тем более что Бучуния захлебывается в вине и ничего не соображает. Самое время явиться к ней.
Пожалуй, подло все же так вот, по-воровски, когда Бучуния там веселится… А стоит ли терзаться? Если это «подло — не подло» остановит его, он вообще ничего не получит. Для других все средства хороши, лишь бы достигнуть желаемого, чего же ему быть исключением? Сколько раз самолюбие, гордость, совесть, честь и всякая такая чепуха останавливали его на полдороге и оставляли на бобах. Иногда чрезмерная гордость — прикрытие робости и трусости. Сейчас — самое время: и смел, и пьян! Чтобы чувствовать себя человеком, ему всегда нужно было хоть немного выпить. Теперь уж он даст волю своим страстям и желаниям. Какое блаженство переступить порог, перед которым вечно отступал! Какая безграничная свобода! К чертям совесть и честь! Что может быть слаще такой свободы, когда замолкает совесть, когда существует только твое желание и ты поддаешься ему, не удерживая себя?!
Вот и усадьба Бучунии. Устав, Чичико немного передохнул, прислонившись к стволу дерева, растущего у тропинки. На таком дереве, — он слыхал от Бахвы, — повесился Иуда. Чичико почему-то стало нехорошо, когда он это припомнил, но прозелень вокруг переливалась неземным светом и нежные фиалки усеивали чистую лужайку. Интересно, дома ли Жужуна? Как она его примет? Время ли думать о когда-то свершившихся глупостях! Главное тот миг, которым ты живешь сейчас, а все остальное дребедень! Может, именно теперь необходимо, нужно прийти к Жужуне, хотя такой поступок все еще не кажется ему достойным. Однако сколько раз бывало, что кто-то делает человеку добро, а оно оборачивается злом. Бедняга Лука, дядя Бучунии, веселый, острый на язык человек, он так любил вино, выпивал ежедневно. И вот однажды жена, желавшая Луке добра, подсыпала ему какого-то зелья, от которого, по словам знахарки, он должен был отвратиться от вина. Несчастный отравился и умер. Так доброе намерение жены было обращено во зло: не лучше, чтобы Лука остался жить и по-старому выпивал? Ладно, бог с ним, с Лукой!
Передохнув, Чичико направился прямо к дому Бучунии. Он старался ни о чем не думать, чтобы сомнения снова не одолели его. Вокруг — ни души. Только слышатся бесконечные птичьи трели. Он развязно пнул ногой калитку — чего стесняться, все равно хозяина нет дома. Не знакомое ему раньше опьянение придавало силы, опьянение насильника, опьянение, делавшее его наглым и лихим, вызывающее свирепость, бог знает против кого направленную. Перед домом цвели тюльпаны. Дворик был ухожен и чист. Чичико прошел мимо балкона и заглянул в окно. Посреди комнаты стоит стол, накрытый скатертью. На стене висит увеличенная фотография родителей Бучунии. Птицы не переставали петь. Чичико обошел дом. На проволоке было развешано белье: женские трусики, мужские рубахи и подштанники. Чичико зачем-то подтянул сапоги, шагнул и нечаянно сбил табуретку.
— Кто там? — послышался из комнаты женский голос.
Чичико выпрямился. Из дому вышла Жужуна и удивленно уставилась на Чичико. Руки в мыльной пене. Потное лицо. Промокший передник. Запах стирки. Она вытерла руки передником.
— В чем дело, Чичико? — почему-то встревожилась она. И именно этот встревоженный возглас снова зажег в Чичико ту страсть, которая чуть было не погасла от запаха мыла и одного вида потного лица Жужуны.
— Хочу что-то сказать тебе, — бессмысленно засмеялся Чичико и схватил ее за руку.
— Пошел прочь! — нахмурившись, отбросила его руку Жужуна. — Ты что, спятил?
Чичико пошатнулся.
— Чего ты дурака валяешь! Что я, тебя не трогал, что ли?
— Кого трогал, того и трогай! Убирайся вон!
Чичико удивился. Он совсем не ожидал такого оборота. На мгновение в душе что-то шевельнулось, то ли совесть, то ли что-то другое, похожее на нее, и его потянуло уйти. Но он тут же представил, каково ему станет, ему, ушедшему ни с чем. Он вдруг кинулся к женщине, обхватил ее за талию, но получил быструю оплеуху. Уламывая женщину, Чичико совершенно забыл, чего он хотел, к чему стремился. Голова гудела от ее ударов, кровь текла из носу, он размахивал руками и безжалостно избивал рыдающую женщину. Зачем, для чего? Он не понимал. Что-то злило его, с чем-то сражался он, готовый убить, уничтожить, вырвать что-то из сердца, и неистово махал кулаками, пока не задохнулся. Опершись о столб, он вытер руками нос. Голова кружилась, в глазах темнело. Рыдающая Жужуна валялась у плетня и шипела, как змея:
— Бессовестный! Негодяй! Бучуния убьет тебя, тебе от него не скрыться…
Как необходимо было Чичико, чтобы кто-нибудь пожалел его сейчас, хотя он и понимал, что ничья жалость ему не поможет. Он был один, один на один со своим позором. Он понимал, что эта чужая женщина стала его врагом, он ненавидел ее, но еще больше ненавидел самого себя. Хотелось уткнуться лицом в землю, зарыться в нее, не видеть ничего, происходящего на ней. Руки дрожали, ноги подкашивались, его мутило. За что только наказал его бог? За что затмил его рассудок? Зачем привел сюда? И вдруг:
— Что здесь происходит?! — загремел голос Бучунии.
— Что здесь происходит, спрашиваю? — вопил Бучуния, неожиданно выросший в дверях дома.
Чичико увидел налитые кровью глаза Бучунии — как он прошел в дом? — пену на его губах, искаженное бешенством и хмелем лицо и обернулся к побледневшей, неузнаваемо изменившейся Жужуне. Жужуна кинулась в ноги Бучунии, обхватила их, не давая ему шагнуть, и Чичико понял: надо бежать. Он повернулся и засеменил. Вдогонку летел звериный вопль Бучунии: «Пусти!», истерический крик Жужуны: «Бучуния, не смей!», затем в комнатах что-то разбилось, что-то грохнулось на пол, и Чичико почувствовал опасность.
Выскочив со двора, он, спотыкаясь, побежал переулком. Его преследовал вопль, не предвещавший ничего хорошего. Крик женщины бил в спину. Чичико оглянулся на бегу и увидел за забором Бучунию, который держал в одной руке ружье, а другой отрывал от пояса руки Жужуны, в конце концов он отшвырнул ее, бросился к калитке, споткнулся, упал, вскочил и побежал снова. И вдруг Чичико расхотелось убегать. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, стыд жег его, колени подкашивались, и жизнь показалась мерзкой. Он обреченно повернулся лицом к Бучунии и где-то за ним увидел далекие горы. Они вздыбились там, далеко, куда едва достигал взгляд, словно синяя гигантская волна, поднявшаяся над равниной, готовая вот-вот рухнуть и смести все. Потом грохнул выстрел, горы исчезли, показались таинственные врата, суровые стражи которых посторонились, пропуская идущую к ним тень — кто это был? — и проломленная грудная клетка придавила что-то там, внутри тела, и изгнала дух наружу, в бесконечное, бескрайнее пространство. Опустошенное, обессмысленное тело снопом повалилось на усеянную апрельскими фиалками траву.
1971
Перевод В. Федорова-Циклаури.
РАСПЛАТА
Всякий, кому попадались на глаза эти ребята, а они ходили всегда вместе — впереди рослый, с каштановой челкой до бровей, следом маленький крепыш, белолицый, рыжий и веснушчатый, — всякий невольно подмечал, что они братья. Мальчики были совершенно не похожи: ни лицом — старший был смугл, ни походкой — младший торопился за братом, косолапя и переваливаясь, как медвежонок, а брат шагал спокойно и ровно; и все же они были отмечены неуловимой общностью черт, какой наделены все родные по крови; и всякий, видевший их на базаре в тот день, сразу догадывался, что эти двое — братья. Некоторые даже знали их. Знали, что ребята круглые сироты и живут с бабушкой. Старуха слишком плоха от старости и забот, и дети целыми днями слоняются по улицам.
Худой, костлявый мужчина, сидевший на ящике перед столовой и наблюдавший рыночную толчею, сразу узнал старшего. Когда-то, давным-давно, когда отец этого парня был еще жив, они были знакомы. И однажды, встретив их на прогулке, он купил ребенку мороженое. Вот и все.
Перед столовой, между пустыми ящиками и бочками, шныряли голодные собаки, принюхиваясь к земле и доскам в надежде поживиться. Мальчики остановились возле двуколки, груженной полосатыми арбузами; выпряженные кони были привязаны уздечками к ее колесам, и торбы с овсом висели у них на мордах. Оглобли двуколки задраны к небу; поклажа перевесила, и арбузы грудой сползли на землю. Белая кляча в серых подпалинах смачно хрустела овсом. Под двуколкой валялись прелые арбузные корки, темнело колеблющееся облачко мух. Мальчики стояли, не сводя глаз с однорукого продавца в длинном зеленом фартуке, со сверкающим ножом в руке. Сноровисто работал инвалид: подхватывая арбуз, крепко прижимал к боку культяпкой и одним поворотом ножа вырывал сочную малиновую пирамидку. Ребята с интересом следили за продавцом. А человек перед столовой сидел и прикидывал, не купить ли ребятам арбуз — эти были первые, только что появились, и, конечно, влетит в копеечку… Тем временем старший обернулся и заметил мужчину, сидящего перед столовой. Мальчик вгляделся в него, тот встал, преисполненный решительной щедрости, но через несколько шагов передумал. «Эти пострелы все равно не помнят меня, где уж им догадаться, что я был другом их отца», — размышляя так, он завернул в столовую, попросил буфетчика налить стакан водки и выпил. Недовольный собой, повертел стакан, поставил на стойку и вздохнул:
— Эх!
Вот и все.
Ребята вышли с базара и остановились у палатки шапочника. Палатка стояла у самых ворот, на прилавке сияло круглое зеркало, в которое гляделись покупатели. По стенам на гвоздиках развешаны только что сшитые кепки, и от них — свежевыутюженных — резко пахло паленым. На краю тротуара сидела цыганка и, оголив вялую, нечистую грудь, кормила ребенка. Головы женщины и ребенка были покрыты одинаковыми желтыми платками. На шее цыганки перезванивали тускло мерцающие медяки, в ушах — большие золотистые кольца. Когда цыганка вертела головой, заманивая прохожих: «Погадаю, погадаю», — кольца раскачивались. Женщина кормила ребенка и курила дешевую папиросу. Люди проходили мимо гадалки по тротуару, одни, нагруженные провизией, спешили домой, другие шли на базар. С базара неслись гвалт и шум. Длинноусый цыган, наверное, муж цыганки, в папахе, с массивным перстнем на пальце, раскладывал на земле длинные цепи, привезенные на продажу, мешал людям ходить. Хотя и без него тут и шагу нельзя было ступить, чтобы не налететь на кого-нибудь.
Старший мальчик подошел к прилавку и повертелся перед зеркалом. Младший до зеркала не доставал, он ухватился за прилавок, подтянулся, заглянул в зеркало и спрыгнул. Тем временем старший купил папиросы, и они пошли от базара по длинной асфальтированной улице. Лужи, оставшиеся от недавнего дождя, еще не успели высохнуть, хотя вода испарялась на глазах. День был облачный, но иногда проглядывало солнце и жгло немилосердно. По краям улицы тянулись кюветы, а за ними плотные ряды туи, ограждающие дворы, в глубине дворов стояли дома. Впереди мальчиков семенили, хрюкая, свиньи с треугольными рогатками на шее. Не доходя до белого каменного дома в конце улицы, мальчики свернули вправо и молча продолжали путь. Они ни разу не заговорили между собой, им не о чем было говорить. Шли друг за другом, словно связанные невидимой нитью: впереди старший — в коротких трусах и выцветшей майке, младший плелся за ним — в широких, вероятно чужих, трусах; они шли вместе, но как будто не замечали друг друга, каждый думал о чем-то своем. Так часто ходят братья, особенно в детстве.
Они шли. Шли, и вдруг с балкона двухэтажного дома, фасадом выходящего на улицу, донеслись шум и детские крики. Братья подняли головы и увидели на балконе мальчишек, почти ровесников старшего, которые обливали друг друга водой. Девочка чуть постарше громко кричала, умоляя не брызгать на нее. Но ее никто не слушал. Старшего почему-то раздражал крик девчонки. У железных ворот этого дома стояла толстая женщина в долгополом халате с пустым ведром в руке, и, когда братья поравнялись с ней, она слащавым голосом попросила старшего:
— Мальчик, ради бога, сходи за водой!
Тот, не останавливаясь, снисходительно процедил:
— Если бы бог был…
В спину ему понеслись проклятия:
— Чтоб ты провалился, окаянный! Откуда только такой выискался!
Потом он услышал, как она пересекла тротуар, шаркая шлепанцами, подошла к колонке, остановилась и тем же слащавым голосом обратилась к младшему:
— Сыночек, помоги мне…
Старший обернулся. Он увидел, как толстуха сунула мальчику ведро и тот покорно, хотя сам был ненамного больше ведра, обхватил его и потащил к крану. Старший подскочил к брату, вырвал ведро, швырнул в канаву, хлопнул брата по затылку и погнал вперед.
— Идешь и иди! — заорал он.
— Ах ты бандит, хулиган! — заголосила старуха.
— Своих деточек заставь таскать! — не остался в долгу старший. — Хочешь, чтоб пацан надорвался!
И пошел не оглядываясь. Крики женщины становились все тише. Он смотрел на грязные пятки брата и в глубине души смутно чувствовал удовлетворение от того, что разгадал эту дармоедку. «Ее от жратвы так разнесло, а не от болезни», — заключил он.
Кончился асфальт, дома и дворы. Пыльная дорога тянулась между полями. Старший снова шел первым, а младший плелся за ним. Справа от дороги стаяла заброшенная кузница — осевшая хижина, с которой сползла камышовая крыша. Вокруг валялось старое бесполезное железо. Чуть дальше вдоль дороги выстроились пепельные осины, шелестящие на ветру. Мальчики миновали кузницу, высокие осины остались позади. Потом они вышли к реке. Старший остановился на мосту и стал разглядывать воду. Река была мутная и желтая. Младший остановился неподалеку. Он смотрел на брата, который задумчиво уставился на волны, и с нетерпением ждал, когда они пойдут дальше. Он знал, что сейчас нужно свернуть вправо и пойти по тропинке, которая выведет прямо к пляжу. На пляже с утра до вечера полно детворы. Те, что приходили сюда спозаранку, оставались до полудня. В полдень они последний раз окунались, вылезали на берег и, прыгая на одной ноге, старались избавиться от воды, попавшей в уши. Потом одевались и уходили. Пока они собирались, на песке уже лежали двое-трое мальчишек, пришедших позднее. После их ухода приходили еще несколько парней. Так было всегда. Теперь эти купались и валялись на солнце. Потом уходили. Не успевали они уйти, как возвращались те, что были здесь с утра. В это время солнце склонялось к западу, вода меняла цвет, удлинялись тени деревьев. К вечеру эти ребята одевались и уходили совсем. Вместо них приходили другие и купались долго-долго, пока совсем не темнело и вода не становилась холодной. Тогда поднимались и эти, лениво одевались и шли по домам, чтобы завтра снова прийти сюда. Так было каждый день: своеобразная очередность, за которой никто не следил, которую никто не устанавливал, все осуществлялось само по себе. Пляж никогда не пустовал. В полдень здесь было полно тринадцати-четырнадцатилетних подростков. Ребята постарше купались ниже, где река была шире и глубже, а здесь был некий подготовительный класс, где учатся плавать, чтобы потом перейти купаться к старшим. И вот так изо дня в день, от воскресенья до воскресенья, из месяца в месяц, в течение всего лета, пока не наступали холода, мальчики собирались здесь и развлекались. Они болтали о тысяче разных разностей, о том, у кого сколько деревьев в саду, кто сколько поймал рыб или настрелял из рогатки птичек. Болтали о драках, о кино, о старших парнях, о девочках; этот разговор был самым интересным, особенно тогда, когда они голые лежали на песке, а солнце припекало спины. И вот один, лежащий вместе со всеми, начинал рассказывать, как накануне он спрятался в кустах у развалин мельницы и подглядел, как купались девочки. Остальные, затаив дыхание, с напряженной улыбкой жадно слушали его, стараясь не пропустить ни слова, но и ничем не выдать своего любопытства. Рассказчик подробно выкладывал все увиденное, слушатели боялись шелохнуться, чтобы не помешать ему, но в конце концов кто-нибудь не выдерживал и дрожащим, срывающимся голосом спрашивал:
— Они были совсем-совсем без ничего?
— Голые! — раздавалось в ответ, и рассказ обрывался.
И в тот же миг мальчишки вскакивали, словно папуасы, подстерегшие врага, оглушительно крича, прыгали в воду, ныряли, смеялись, делали в воде стойку, обдавали друг друга брызгами. А утомившись, затихали, выбирались на берег и ложились на песок. Теперь можно было спокойно греться на солнце. Лежали и курили.
Так было каждый день, и младший знал, что и сегодня будет так же. Ему хотелось на пляж. Разговоры о девочках его не интересовали. Сам он еще не научился плавать, но очень любил смотреть, как ныряют и плавают. Он ждал брата, а тот, опершись о перила, наблюдал, как течет вода, а потом неожиданно повернул назад и скрылся в прибрежных камышах. Малыш не ожидал такого, потому что к пляжу нужно было идти по тому берегу. Но он, не мешкая, вернулся назад и поспешил за братом. Он боялся ходить здесь и старался побыстрее нагнать его. Холодное месиво противно протискивалось между пальцами, ноги скользили. Каждый шаг сопровождался сочным чавканьем. Они шли, скользя по грязи, а когда выбрались на сухое, старший наступил на колючку, и, пока он выцарапывал занозу, младший ушел вперед. Он пролез между кустами, пробрался сквозь осоку, которая почти скрывала его, и остановился у самой воды. На противоположном берегу он увидел ребят, они только что искупались и теперь обсыхали. Река и здесь была мутная и желтая. Прямо над водой наклонились ивы. Длинные безвольные ветви плавали в грязной воде, ударяясь о камни, застревая в тростниках.
У самого берега ноги засасывал ил. Из-за него все и купались только на том берегу. Мальчики лежали на песке нагишом, облепленные песком, и смотрели сюда, на этот берег, где только что появился рыжеволосый парнишка.
— Скорее, скорей, Рыжик пришел, Рыжик! — закричали ребята и повскакали. Они вперегонки принялись лепить комья из мокрого песка и бросать в малыша. И пока он, пригнувшись, пытался скрыться за деревьями, один ком угодил ему в спину. Он смолчал и спрятался в осоке. В это время на тропинке появился его брат, бесшумно возник из высокой травы. Ком песка угодил ему в грудь, и в тот же миг ребята на том берегу застыли.
— Нодар, — закричал старший брат, — сейчас намылю тебе шею!
— Честное слово, не в тебя целил, — раздался с того берега писклявый голос Нодара, тощего и длинного подростка.
— Все равно.
— Да не в тебя метил… чего ты! — отчаянным голосом крикнул Нодар и сел на песок. Остальные напряженно молчали. Тут из укрытия вылез младший и запустил камнем на тот берег. Камень попал в кого-то, и пострадавший взвыл.
— Перестань швыряться, рыжая зараза, — загалдели мальчишки.
Малыш бросил еще раз, но промахнулся.
— Резико, скажи ему, чего он кидается, — заныли на том берегу.
— Перестань, — приказал старший.
— А чего они дразнятся?!
— Так ты и есть рыжий, как же тебя прикажешь звать?!
Старший пошел вперед. Остановился у самой воды.
На голой спине от частого купания и многократных солнечных ожогов кожа шелушилась. Малыш встал рядом. Он тоже был в одних трусах. Лет шести-семи, крепкий, голубоглазый и румяный. Все тело в царапинах, на груди грязные потеки, особенно заметные на белой, нежной коже, ноги до самых колен заляпаны грязью. Мутные илистые капли стекали длинными полосами по ногам.
— Резико, курево добыл? — закричали с той стороны.
Теперь Резико стоял прямо и мокрыми руками растирал грудь.
— Добыл, — коротко бросил он и вошел в воду.
Обрадованные мальчишки запрыгали, начали кувыркаться по песку. Им было лет по тринадцать-четырнадцать.
Когда Резико вошел в воду — левой рукой подняв над головой пачку папирос, чтоб не намокли, а правой отгребая, чтобы держать равновесие и не свалиться, — сидящий на берегу Нодар молча схватил одежду и, как был нагишом, бросился наутек.
— Не пускайте Нодара! Держите! — крикнул из воды Резико, но было уже поздно. Нодар мчался изо всех сил, и никто бы не догнал его. Несколько ребят припустились было вдогонку, но скорей для виду: они были убеждены, что не поймают. Очень скоро погоня вернулась обратно, а голый Нодар продолжал удирать во все лопатки.
Резико выбрался на берег, бросил на песок папиросы, спички и сказал в сердцах:
— Таким разиням и давать бы не стоило…
Снял мокрые трусы и разостлал на камнях.
Ребята потянулись к папиросам, распечатали пачку и закурили. Резико стоял над ними и следил, как на том берегу его маленький рыжий брат пробирается среди зарослей рогозы. Там была трясина, колдобины с вечно вонючей водой, ни на минуту не смолкая, квакали лягушки и среди травы и грязного кустарника водились разнокалиберные красные змеи. Малыш направлялся к протоке, где русло сужалось и было не так глубоко, рыжие волосы его мелькали над осокой. Вот он вышел на открытое место. Резико наблюдал, как осторожно, с опаской входит малыш в воду, потом возвращается, выходит на берег и бежит выше, туда, где помельче. Вот он снова боязливо входит в воду, доходит до середины реки — течение здесь быстрое, и вода хлещет его по плечам — проходит самое глубокое место, выскакивает на берег и мчится к ребятам. Резико садится и закуривает.
Никто не заметил прихода малыша, он подошел и устроился на камне неподалеку ото всех.
— Сними трусы и расстели на солнце, — приказал ему Резико.
Теперь и остальные обернулись и увидели мальчика.
Он сидел тихо. Старался быть совсем незаметным, но в то же время прямо сиял от радости, что находится здесь. Один из ребят вытащил папиросу и протянул ему:
— На, затянись, Рыжик. Что, не хочешь?
— Он не курит, — сказал Резико.
— Я не курю, — подтвердил Рыжик.
Вот и все.
Так проводили время ребята, купались, выходили на берег, обсыхали, снова бежали к воде и снова загорали. К полудню выкурили все папиросы и проголодались. Часть компании разбрелась по домам, а остальным было лень идти.
— Мировые арбузы были сегодня на базаре… — вспомнил Резико, сплевывая по привычке.
— Не врешь?
— Каждый пуда по два…
— До чего я люблю арбузы, — вздохнул толстый мальчик. — Наши еще не поспели…
— Мы тоже только облизнулись, — успокоил его Резико.
— У Нодара арбузы что надо, они каждое воскресенье загоняют на рынке по целой арбе…
— Ну? — встрепенулся Резико и поднял глаза на низкорослого, обритого наголо парнишку, который это сказал. Задумался. Ребята продолжали болтать. Рыжик купался поодаль в одиночестве, потому что плохо плавал, а где купались все, ему было с ручками. Когда ребята спускались к воде, он всегда уходил подальше и купался один. Когда все выходили на берег, он присоединялся к этой ораве и вместе со всеми катался по песку.
Резико сидел и думал. Ребята болтали. Рыжик вылез на берег и лег на солнце. Припекало. Делать было нечего. Резико уже надоело здесь, он натянул трусы и сказал:
— Кто любит арбузы и умеет бегать, за мной…
И даже не обернулся, пошел по тропинке. Рыжик, как был мокрый и перемазанный, поспешил за ним, натягивая на ходу трусы.
Ребята всполошились:
— Ты куда, Резико?
Резико не ответил, не замедлил шага, он шел, насвистывая и сбивая прутом гроздья бузины. Тогда двое ребят — тот, который говорил, что любит арбузы, и второй, наголо обритый, — оделись и поспешили за Резико.
Резико остановился у моста, подсекая прутом траву. Ребята подбежали, а он, не обращая на них внимания, продолжал насвистывать и махать прутом.
— Куда тебя понесло? — поинтересовался толстяк.
— Ты оставайся, — сказал Резико, — где тебе бегать?
— Мне-то? — оскорбился толстяк. — А ну, погляди…
И он помчался изо всех сил к реке и сразу же обратно.
— Видал, как я умею? — похвастался он, еле переводя дух.
— Ладно, айда, — смилостивился Резико. — Если словят, смотри, надают по всем правилам.
— Не бойся, не поймают.
— Тогда пошли на бахчу Нодара, у них арбузов навалом.
Толстый был добряк и, видимо, почувствовал угрызение совести.
— На бахчу Нодара? — заколебался он.
— Ага.
— Он же наш товарищ!
— Другой раз не будет швырять песком в друзей, — ответил Резико.
Толстый хоть и был добряк, но любил поесть, поэтому и не стал возражать.
— Ладно, пошли, — согласился он.
Они поднялись на дорогу и перешли мост. Позади них в пыли брел Рыжик. Резико остановился, оглядел брата.
— А ты шагай домой! — распорядился он.
— Я тоже хочу арбуза…
— Давай домой, я притащу тебе.
— Не хочу, я сам, — огрызнулся малыш.
— Иди, говорю! — Резико замахнулся прутом.
Малыш отступил.
— Вот увидишь, все бабушке скажу, что куришь, — пообещал он.
Резико словно взбесился. Он знал, что брат ни за что не скажет бабушке, он никогда не ябедничал, а если и проболтается, Резико все равно не боится, но эта угроза взбесила его. Он подскочил и прутом ударил малыша по ногам.
— Ой, мамочка! — вскрикнул ребенок, неловко подпрыгнул и упал.
— Значит, скажешь? — спросил Резико со злобной улыбкой.
Рыжик плакал. Он попробовал было убежать, но Резико догнал его, взмахнул прутом и снова стегнул по ногам.
— Скажешь? — мстительно повторил он.
— Ой, мамочка! — обреченно вскрикнул Рыжик и снова упал.
Резико вспомнил, что у них нет матери и вообще никого нет ни в каком краю земли. Он ощутил щемящую жалость к брату, единственному родному существу, и вдруг неожиданный гнев так перехватил гортань, что он не мог продохнуть. Он не знал, кто виноват в этой внезапно нахлынувшей ненависти и злобе — брат ли, он ли сам, или кто посторонний, — но он дико ненавидел кого-то, ненавидел невыносимую злобу, которую испытал сейчас, неистово махая прутом, старался отогнать эту тяжесть и горечь и… бил своего брата.
— Скажешь, скажешь, еще скажешь?! — хрипел он.
Мальчик пытался спрятать окровавленные ноги, кричал, корчился, старался уползти.
— Не скажу, не скажу, ой, мамочка!..
Растерянные, перепуганные товарищи с трудом остановили Резико и отобрали прут. Резико стоял бледный, его трясло. Словно из-под земли доносился до него отчаянный крик брата:
— Ой, мама, ой, мамочка!..
Но мамы не было, и крики напоминали эхо, доносящееся из страшного темного ущелья. Малыша некому было защитить, и не хватало силенок, чтобы защитить себя, он просто бежал по дороге и захлебывался в плаче.
Резико оттолкнул товарищей, догнал брата. Догнал, стиснул ладонями его голову, повернул к себе, уставился в это залитое слезами несчастное и единственно любимое лицо и почувствовал, что больше не может, не выдержит тяжести, что придавила душу. Плач ребенка ожесточал его, и он, задыхаясь, сдавленным шепотом прошипел:
— Заткнись, не реви, придушу!
Лицо Резико перекосилось, он со всей силы сдавил голову Рыжика, и тот внезапно затих. Дрожащий, подчинившийся, полный животного ужаса, смотрел малыш на бледное, страшное лицо брата и старался не плакать. Он не плакал уже, только судорожно всхлипывал. Соленые слезы сами собой бежали по грязным щекам. Малыш безнадежно смотрел куда-то вдаль, Резико разжал руки, отпустил его, пнул в последний раз и сквозь зубы процедил:
— Пошел домой!
Рыжик покорно повернулся и пошел. Он шел, не поднимая головы, спотыкаясь, нетвердо переступая грязными, окровавленными ногами по пыльной дороге.
А Резико с приятелями пошли дальше.
За ровными зелеными полями поднимался лес. На полях пасся скот. Откуда-то издалека доносились ясные звонкие трели птиц. Резико любил ходить здесь, но сейчас ничто не интересовало его, глухая, затаенная боль бередила душу. Он шел по тропе среди полей, но его не радовала ни сочная зелень, ни то, что он вдоволь наелся арбузов. Как только друзья оставили его, он свернул к полям и почувствовал, что ему очень плохо. Возбуждение, принятое им за радость, не оставлявшее его ни тогда, когда он ел арбузы, ни потом, когда вместе с приятелями возвращался с бахчи, теперь прошло. Он медленно брел среди открытых полей, которым не было конца, а темная зеленая линия деревьев скрывала далекую грань между небом и землей.
Солнце освещало землю. Резико свернул с полей и пошел берегом. Вышел к пляжу, где всегда можно было найти ребят, но сейчас там никого не оказалось. Резико огорчился, что не застал никого: ему не хотелось идти домой. Он вернулся, но пошел не тропинкой, а пересек поле напрямик, направляясь к старой кузнице, около которой всегда шелестели высокие пепельные осины, а еще дальше начиналась дорога. Он почти подошел к кузнице, когда заметил, что от реки бежит какой-то парень и машет рукой. Резико, решив, что нужно подождать его, сел на камень. Потом, узнав бегущего, он встал и вышел на дорогу, босой, с коричневыми пятнами от сладкого арбузного сока на груди. Знакомый нагнал его, спросил:
— Где ты был, Резико?
— А что?
— Не знаешь?
— Нет.
— Так вот, Омари чуть не утопил твоего брата.
Резико словно окаменел.
— Он спихнул его в воду там, где мы всегда купаемся, а Рыжик, оказывается, и плавать-то не умеет, так мы с Нодаром еле вытащили его.
Резико вспомнил, что даже куска арбуза не захватил он брату.
— Потом Омари отобрал у него рогатку да ка-ак пнет. Разве можно так? Маленький ведь. Заревел Рыжик и пошел домой.
Резико глубоко вздохнул и шагнул вперед.
— А что мы могли, ты же знаешь, где нам до Омари?
— Какой это Омари? — спросил Резико тихим, полным ненависти голосом и только теперь поглядел в лицо тому, с кем разговаривал.
— А тот здоровый, что у школы живет.
— А-а, — сказал Резико.
Омари было лет семнадцать-восемнадцать, он был высокий, сильный и ловкий. На поляну за старой церковью, окруженную столетними дубами, вечерами приходили парни сыграть в футбол, но никто не играл так, как Омари. Лучше его никто не умел нырять. Омари взбирался на самую макушку ивы и оттуда бесстрашно и весело стрелой летел вниз, в реку, а едва успев вынырнуть, хохотал во все горло. Резико нравились веселый нрав и сила Омари, но сейчас он всем своим существом ненавидел его смех, его ловкость, его самого. Эту ненависть он ощущал почти осязаемо, так же как голой ступней землю.
— Конечно, разве вам сладить с Омари, — ответил Резико.
— Где уж нам, — согласился парень.
Они распрощались, и Резико отправился домой.
Он проходил по знакомым улицам, мимо знакомых домов, по знакомым мостикам, но ничего не замечал вокруг, ни на что не обращал внимания. Всю дорогу он видел только окровавленные ноги брата, его жалкое, сморщенное, несчастное лицо, и все сильнее растравляла сердце ненависть и боль. Он подошел к дому, думая только об одном: о, с каким удовольствием он избавился бы от этого, если бы это было в его силах, но Резико был бессилен перед тем, что уже свершилось. Ничего нельзя было изменить. Случившееся сегодня мучило, озлобляло его, во всем Резико винил Омари, хотелось вцепиться в него, бить, рвать. Только месть могла вернуть ему всегдашнюю бодрую, беззаботную легкость, когда жизнь не давит тебе на плечи, а, наоборот, легко носит по земле, по полям, по улицам, когда все вокруг прекрасно и любимо, когда будущее так же светло, как сегодняшний день, и когда ты принадлежишь не только самому себе, не только собственной грусти, а этим улицам, по которым ты ходишь, этому базару, на котором ты любишь толкаться, тем деревьям, что красиво и пышно цветут; ты принадлежишь веселому и вольному щебету птиц, потому что это радует тебя; ты принадлежишь поездам, что стучат по рельсам: ты любишь смотреть на них, подойдя к насыпи, провожаешь взглядом зеленые вагоны, которые тащит малиновоглазый паровоз, а вокруг разворачиваются спелые нивы и мощной, необъятной грудью мерно дышит земля. Все это самое большое счастье, и нет ничего горше, чем потерять его. А сейчас все это потеряно для Резико.
Он вошел во двор и увидел брата, одиноко играющего в песке. Резико, подбоченясь, встал над ним.
— Ты куда дел рогатку? — спросил он.
Рыжик перестал играть, поднял голову и со страхом посмотрел на брата. Встал, попятился, испуганный, растерянный, заранее виноватый, и от этого Резико стало еще горше.
— Что, Омари отнял?
Рыжик кивнул. Резико увидел его глаза, покрасневшие от слез, его распухшие, посиневшие, грязные ноги, опустился на корточки и заглянул в глаза брату.
— Он бил тебя?
Ребенок снова кивнул. Резико неловко улыбнулся, неуклюже провел ладонью по его волосам.
— Ничего, не бойся, вот увидишь, что я с ним сделаю…
И тут малыш заплакал. Он закрыл лицо ладонями, перепачканными песком, опустил голову и разревелся. Резико майкой вытер ему ноги, отвел руки от лица и, указав на синяк под глазом, спросил:
— Болит?
— Не-е-ет! — плакал малыш.
— Ладно, не плачь! Я тебе новую рогатку срежу! — пообещал Резико, но тому уже не хотелось новой рогатки.
Он в самом деле совсем не жалел о ней, не помнил побоев и плакал потому, что ничто так не трогает, как сочувствие. Резико встал и повторил:
— Будет тебе, не плачь! Вот увидишь, что я с ним сделаю!
Он вышел со двора с затаенным горем в душе, с одним-единственным желанием — найти Омари и отомстить ему. Он шел мстить.
Дом Омари стоял в глубине двора. Новенький дом. Новые железные ворота. Резико не переносил вида железных ворот, потому что железными воротами начиналось то кладбище, на котором похоронены его отец и мать. Железные ворота напоминали Резико о смерти.
Он стоял на улице, худой, в коротких трусах, в выцветшей майке, которую оттягивали набранные холодные камни, смотрел во двор, усаженный фруктовыми деревьями, смотрел на этот чистенький, ухоженный двор и чувствовал сытость и благополучие этой семьи.
— Омари! — громко позвал Резико.
Крепкие железные ворота, перед ними новый бетонный мостик через канаву, выбеленные подрезанные деревья во дворе и ровная асфальтированная дорожка через весь двор до самого дома. Резико еще сильнее начинал ненавидеть Омари, и эта ненависть отгоняла страх, хотя Омари сильнее и старше, и Резико это знал.
— Омари! — снова крикнул Резико.
— Его нет, сынок, — ответила мать Омари. Она вышла из дома и подошла к воротам. — Зачем он тебе, сыночек?
Эта седая красивая женщина ласково смотрела на Резико, и ему нравился теплый, заботливый голос, нравился фартук, от которого вкусно пахло кухней, и вообще нравилось все, хотя она и была его врагом. Он считал ее врагом, но тем не менее не испытывал к ней ненависти, как к Омари, ненависти, ощущаемой столь же явственно, как холод камней за пазухой. Резико удивился этому странному чувству к малознакомой женщине, но это продолжалось мгновение, а потом мать Омари стала чужой и далекой.
— А где он? — грубо спросил Резико.
— Я его к тетке послала, сынок, всего минут пять, как он ушел, — ласково проговорила мать Омари. — Если поспешишь, нагонишь его, вряд ли он успел перейти железную дорогу.
Резико улыбнулся про себя и повернул назад.
За железнодорожным полотном проходила ухабистая аробная дорога и начинались кукурузные поля. Резико часто бывал здесь, когда ходил к знакомым в соседнюю деревню или ставил силки на перепелов. Он каждую осень ловил здесь перепелов, но сейчас даже не вспомнил об этом. Резико перешел железную дорогу, миновал будку стрелочника и стал подниматься в гору. Отсюда он оглядел поля и увидел идущего человека. Кроме этого человека, на всем этом бескрайнем просторе полей не было ни души. Смеркалось, и на всем неоглядном пространстве до самого опускающегося неба нет ни одного человека, кроме Резико и идущего, и тот, что шел впереди, был его врагом. Резико сбежал с холма, припустил по дороге, достал из-за пазухи камень, издали бросил его и попал в спину Омари. Испуганный Омари обернулся и увидел Резико.
— Ты что, спятил? — закричал он.
Но в этот же миг другой камень ударил его в грудь. Тогда Омари кинулся на Резико и одним ударом сшиб с ног.
Сначала Резико ничего не видел, потом открылось небо и растерянное, удивленное лицо Омари смотрело с небес на Резико. Резико оперся на локти, привстал, выпрямился и заметил, что еле-еле достает Омари до плеча. Но теперь не время думать об этом, он размахнулся и справа ударил Омари в лицо, потом ударил слева и снова хотел правой, но тут Омари двинул его. Резико пошатнулся, однако устоял, и к злобе, которая весь день кипела в душе, прибавились новая сила и злоба, новая ненависть; ему удалось еще раз влепить Омари правой, но тот ответным сильным ударом свалил его на землю.
— Чокнутый ты, что ли, чего хочешь от меня? — закричал Омари, утирая льющуюся из носа кровь. — Хочешь, чтобы я придушил тебя здесь?
Он стоял над Резико и смотрел на него с удивлением и возмущением. Резико сидел на земле, волосы в беспорядке прилипли ко лбу. Сквозь потные пряди с отвращением смотрел Резико прямо в глаза Омари.
— Чего хочу? — процедил Резико, встал, размахнулся, но Омари был начеку и отпрянул. Потом, вцепившись в волосы противника, рванул его голову вниз и несколько раз ударил коленом в лицо.
Омари отпустил мальчика, отпрыгнул в сторону, чтобы не выпачкаться в крови, Резико рванулся за ним, весь окровавленный, готовый драться еще, но ударить не удалось — Омари снова сбил его с ног. На какое-то время Резико снова ослеп, а когда открыл глаза и увидел небо, еще более потемневшее, угрюмое, чужое и опасное, то испугался своего одиночества, испугался оттого, что не знал, долго ли пролежал без памяти, не знал, где Омари, скрылся или сторожит; он поднял голову и увидел Омари, который ушел довольно далеко, но постоянно оглядывался. Резико обрадовался. Сегодня во второй раз обрадовался, увидев врага. Он встал и потащился за Омари.
Они шли по пустой дороге, окруженные кукурузными полями. Дождя не было, солнце зашло, темнело, и грусть объяла траву и землю. Резико не думал о брате, не жалел его, не было жаль и себя, но чувствовал, что жгучая ненависть не заглушила захлестнувшую его душу боль, когда он избил брата. Кому он теперь мстил? Омари, самому себе? Жизнь часто поворачивает так, что, как бы ты ни бился, ничего не можешь изменить. Резико был не в силах это понять. Но все ополчало его против Омари, и он шел за ним, постепенно нагоняя, и старался собрать все свои силы для новой драки. Наконец Омари надоело спиной ощущать врага, и он остановился.
— Чего ты от меня хочешь, чего ты привязался? — завопил он.
Резико был доволен, что Омари остановился. Теперь появилась возможность догнать его, не расходуя даром силы. Он весь подобрался, медленно, напряженно надвигаясь на Омари.
— Скажи, что тебе от меня надо? — надломленным голосом спрашивал Омари пятясь. Резико подошел совсем близко, прыгнул, размахнулся, но ударить не смог, Омари успел увернуться. Потом они столкнулись, сплелись и долго били друг друга: Резико молча, с остервенением, Омари — истерически крича. Резико шатало от ударов, но он шел напролом и смотрел врагу в глаза, а того уже мутило от страха и отчаяния; и Резико, худой, избитый, в крови, со спутанными волосами, исцарапанными плечами, но уверовавший в победу, наступал и наступал, несмотря на боль и удары. Они долго били друг друга кулаками, ногами, локтями, головой и наконец оба выдохлись. Усталость приглушила злобу. Враги стояли в двух шагах один от другого, в синяках, тяжело дыша, и смотрели друг на друга исподлобья. Было совсем темно, и ночь в этом пустынном поле была страшна, как последние минуты жизни. Они стояли друг против друга, а вокруг расстилалась нестерпимая темнота.
— Слушай, объясни, что ты от меня хочешь? Что ты прицепился ко мне? — со слезами в голосе спросил наконец Омари.
— Почему ты топил в реке моего брата?
— Какого брата?
— Такого. Рыжика.
— Рыжика?
— Да, Рыжика.
— Я совсем не топил, я просто бросил его в воду.
— Зачем бросил?
— Я не знал, что он твой брат.
— Не знал! А чужого, значит, можно? Я тебя придушу сейчас!
— Кого это ты придушишь, собака?!
— Уверен, что не придушу?
Резико медленно наступал, Омари пятился.
— Я тебе говорю, не доводи меня! — просил Омари, и голос его звучал все отчаяннее. — Отстань, а то убью.
Резико, не слушая, ударил его головой в грудь. Омари пошатнулся, но все-таки успел пнуть Резико ногой и отскочил.
— Отвяжись! — закричал он.
Резико по-прежнему в упор смотрел на него, и ничего нового не выражало его лицо.
— Я не знал, что он твой брат! — вопил Омари.
Резико стоял перед ним чуть пригнувшись, готовый броситься снова.
— Если бы я знал, что он твой брат, я бы его пальцем не тронул! — слезы закипали на глазах у Омари. — Хватит, прости!
— Прощения просишь, — сказал Резико.
— Да! Прошу! Извини! — всхлипывал Омари. — А то убью, отвяжись!..
— На коленях попросишь, тогда отстану…
— Не встану на колени.
— Встанешь.
— Не встану! — заорал Омари.
— Встанешь, — повторил Резико.
— Не встану, не встану, не встану… Не встану на колени! — кричал Омари и вдруг заплакал. Он бил себя по лицу кулаками и ревел. — Не встану, отстань, отстань, а то убью!
Резико стоял и смотрел. Он понимал, что все кончилось. И удивлялся, что радость не приходила. Наоборот, душа ныла еще сильнее, и он не знал отчего. Так уж случилось, и он не мог понять, что еще делать. Он стоял растерянный и смотрел на ревущего Омари, который бил себя кулаками по лицу и кричал:
— Говорю тебе, отстань!.. Отстань, а то убью!.. Убью, говорю!..
Было темным-темно. Откуда-то издали донесся гудок паровоза, и снова тишина. Медленно шел Резико домой, дома его ждали бабушка и маленький брат, которого он утром избил беспричинно, а потом и чужие добавили. Снова гнетущая тяжесть на душе. Победа, одержанная ненавистью, не принесла облегчения. Месть не изменила ничего. Все осталось по-прежнему. От этого щемило душу, и Резико понуро брел в густой темноте. Не совсем ясные, мучительные думы не давали покоя, но пока еще не сознавал Резико, что существует беспричинная несправедливость, когда жизнь иной раз тащит тебя туда, куда тебе не хочется, заставляет делать то, чего бы ты никогда не стал делать по своей воле. И после всего совершенного насильно остается в твоей душе вечная боль, от которой никогда не избавишься. Она будет карать тебя вечно. Поэтому не вреди никому, кто такой же, как ты сам.
Резико был еще ребенком и, конечно, не думал именно так, это ему еще предстояло осмыслить. Не мог он постигнуть сущность того, что его угнетало. Он возвращался домой, а мир вокруг был бескрайний и черный, как безутешная тоска.
1963
Перевод В. Федорова-Циклаури.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ЖАЖДА
Гурам Гегешидзе — ИДЕИ И ГЕРОИ
Гурам Гегешидзе принадлежит к тому поколению грузинских писателей, что начало свой путь в литературу в шестидесятых годах. Путь этот известен: сначала студенческий альманах, выпускаемый в стенах Тбилисского государственного университета, затем молодежный журнал «Цискари», щедро отдавший им свои страницы. Почти все вещи Гегешидзе, вошедшие в эту книгу, написаны именно в шестидесятые годы — исключение составляют лишь рассказ «Апрель», созданный в 1971 году, и роман «Гость» — последнее по времени произведение, переведенное на русский язык, увидевшее свет в 1979 году на страницах журнала «Литературная Грузия».
Приход «шестидесятников» в литературу знаменовал собой начало новой, современной грузинской прозы… Различен возраст этих писателей, различны биографии, творческая манера и сам стиль, но есть, бесспорно, нечто общее, объединяющее внутренний, духовный облик их книг. Они оперируют понятиями философскими и этическими, и поиск их лежит в сфере человеческой мысли и духа… Каждодневное, будничное здесь часто только место, отправная точка поиска. Сеть забрасывается в глубину, она ворочает донные камни, шарит там, где может, должен быть обретен всеобщий, важнейший смысл бытия, — привлекает, влечет к себе то, что определяет, в ы с т р а и в а е т цепь дней человеческой жизни, дает ей гармонию или дисгармонию, порядок или хаос.
Не как живет человек, а з а ч е м, что определяет его бытие, судьбу? Какие силы влекут индивидуум — песчинку в бескрайнем, громадном мире, и какова мера влияния самого человека на них? Что движет им в его жизненном пути? Жажда счастья, истины или просто слепой случай, столь могущественный подчас? Не тщетны ли и бессмысленны любые усилия в таком пути, коль все равно неизбежен Стикс, река мертвых, хоронящая в своих черных водах — без разбору — грешных и праведных, глупцов и мудрецов, отважных и слабых духом?
Вот какие вопросы характерны ныне для прозы Грузии, и Гурама Гегешидзе волнуют они же… Ж а ж д а а б с о л ю т о в — так бы я это назвал. Сейчас это тот самый фактор, что ощутимо формует суть и лицо грузинской прозы, определяет поле авторского анализа. Такой пафос глубоко благороден и — исключительно труден. Он требует — прежде всего! — мысли. Живой, пытливой, не боящейся «проклятых вопросов» и смело заглядывающей туда, куда простому «бытописательству» вход заказан, ибо ему там просто нечего делать.
Подобный интерес закономерно создает прозу, которую определяют и ставят в определенный «интеллектуальный», как принято сейчас говорить, ряд уже один ее словарь и проблематика… Жизнь, смерть, судьба, любовь, добро, зло. Эти слова, как видим, обозначают понятия, существенные и важные для каждой человеческой индивидуальности, а вовсе не для одних только персонажей, героев какого-либо литературного произведения. Они обращены к категориям — и обобщающим, философским, и глубоко индивидуальным! — без которых немыслимо с а м о п о с т и ж е н и е и с а м о о п р е д е л е н и е личности в потоке действительности, жизни.
В этом стремлении, тенденции, если угодно, — основа, суть «интеллектуальной» прозы», а также присущая ей художественная структура. Очень часто она притчеобразна, почти сразу дающая понять читателю, о чем, р а д и ч е г о написана вещь, каков «вектор» ее главной, пронизывающей все повествование мысли. В такой прозе ощутимо, как точно заметил Анатолий Бочаров в статье «Пути творческого воображения» («Дружба народов», № 12, 1978), «…главенство нравственного, философского тезиса, в большей мере извлекаемого сознанием, чем постигаемого через переживание…». Критик говорил тогда о произведениях Тимура Пулатова, Гранта Матевосяна, Чингиза Айтматова, Сергея Залыгина…
Я же хорошо ощущаю главенство такого «тезиса» и в прозе Гурама Гегешидзе. Он всегда идет от него и — ради него; без такого главенства, апеллирующего к понятиям: жизнь, смерть, судьба, любовь, добро, зло, — его проза немыслима. Они — важнейшие вехи, по которым, вдоль которых движутся и развиваются произведения Гегешидзе. Вспомнив слова Белинского о Герцене, можно сказать и о Гураме Гегешидзе: «Главная сила его… в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта…»
Без такой содержательной и организующей все повествование основы просто не было бы романов «Грешник» и «Гость», ни повестей «Погоня» и «Чертов поворот», ни рассказов «Расплата» и «Апрель». В них, словах этих, ощутима постоянно напряженная, беспокойная мысль, жаждущая последней, «окончательной», самой важной для человека истины. Эта напряженность мысли закономерно придает тексту естественную, изнутри идущую остроту, преисполненную сменой, смешением надежды и отчаяния, тревоги и покоя, веры или безверия… Как сказано у Гегешидзе: «Кто силен, кто более остро воспринимает происходящее, в том скорее происходит перелом, чем в том, кто покорно следует за однообразным течением жизни… Сильный и одаренный человек легко меняется…»
Такая проза не располагает к безмятежному чтению-отдыху… Даже сам пейзаж ее, как правило, далек от покоя. «Пустое, безлюдное поле простиралось вокруг, и на всем пространстве его не виднелось ни одного строения. За поворотом дороги тянулся лес… Поднималась белая церквушка, а далеко от нее чернели в сумерках столбы, выстроившиеся вдоль железнодорожного полотна. Огромное траурное небо пролегло над головой из конца в конец земли…» («Грешник»).
Одиноко, пустынно и — тревожно. В этой пустынной и настороженной тишине нет покоя. Есть чуткое, затаившееся ожидание, готовое взорваться криком, выстрелом — любым мгновенным и решительным действием, круто перекладывающим руль сюжета, мгновенно взвинчивающим его до острой, драматической ситуации.
В «Грешнике» так и происходит — Вамех Гурамишвили, приехав в небольшой южный городок, мгновенно меняет весь его налаженный, устоявший уклад, вскрывает и обостряет все противоречия, не выплескивающиеся — до его появления — на поверхность. Вамех тут — словно камень, брошенный сильной рукой в тихий пруд… Далеко и мощно расходятся круги, колеблется, изменяется застоявшееся в спокойной воде отражение, и жители городка, видя это, начинают понимать, что привычное, постоянное еще не означает нормы, что оно может быть и неправильным, суетным или жестоким.
Кто же такой этот Вамех, столь внутренне значительный не только для окружающих, но, бесспорно, и для самого Гурама Гегешидзе, для внутренней сути, идейного поиска его книг?.. В мятущемся, напряженном, не знающем покоя сознании Вамеха есть, пожалуй, два постоянно существующих «центра». «Человек может привыкнуть ко всему, кроме несправедливости», и «наверное, существует какая-то закономерность, не познанная до сих пор».
Закономерность, способная всегда объяснить, почему в этом мире происходит то или иное, отчего на долю одного выпадает покой и счастье, а другого — вечная боль и душевное смятение… Сам Вамех безусловно относится к последним, поскольку неустанно казнит себя за невольное убийство старшего брата. Была ночь в горах, был нечаянный выстрел и страшный его результат. С тех пор Вамех — грешник, и грех его — тяжкий, непоправимый, неискупаемый.
Вамех не дорожит жизнью — она уже не способна приносить радость после невольно содеянного им, — но крайне остро чувствует судьбы и беды окружающих. Отсюда его рыцарство, постоянное стремление оградить, защитить слабых, унижаемых и его бесстрашие. Все эти черты героя позволяют Гегешидзе, ведя повествование, задаваться то и дело вопросами, вообще глубоко характерными для всей его прозы в целом, пробиваться к тому, что глубоко и существенно не только для Вамеха, но для каждого из нас.
Вот пример, и, право, характерный…
Вамех тяжело ранен. «Он не чувствовал тела, как своего, но разум, который сейчас словно существовал отдельно и самостоятельно, пока еще принадлежал ему, разум здраво воспринимал все, что происходило, и необычайность происходящего воспринималась, как необычайное… Потом он сполз на землю, свалился в пыль и почувствовал ту грань между душой и телом, тот промежуток, который, вероятно, ощущают только на пороге смерти».
Эта холодноватая точность наблюдений может задеть, даже шокировать, показавшись бесстрастием естествоиспытателя, наблюдающего за экспериментом. Но такое суждение будет опрометчивым и ложным — здесь налицо скорее бесстрашие. То бесстрашие ищущей «конечную» истину о человеке мысли, которая заглядывает даже в самый таинственный угол нашей души — миг угасания жизни, перехода из бытия в ничто. Отсюда и четкое разделение, демаркационная черта, разграничивающая плоть и разум, сознание. Мысль же человека (и, конечно, самого Вамеха) постоянно кружит около этой «конечной» тайны, притягивающей, как магнит: «…думал о смерти, ибо… был человеком», — сказано у Гегешидзе… Мнится, что именно там — последняя истина. Отсюда — и страстность интереса, и выбор того, что волнует: душа, судьба, смерть…
Действие, фабула романа только стягивает, крепит эти «опорные пункты», эти основополагающие для каждого живущего вопросы, и потому «Грешник» развивается по жестко выдерживаемому сценарию. Здесь вряд ли можно говорить о вольном, необузданном артистизме, и здесь так сильна, упорна твердая поступь мысли, жаждущей, ищущей «конечной» Истины о человеке.
Самое, по-моему, ценное в «Грешнике» то, что подобная истина познается предельно честно, безо всякого лукавства и поддавков. Рассказ о Вамехе — рассказ об и с п ы т а н и и р е а л ь н о с т ь ю, жизнью… Об ее тепле и силе, о том, что она, лишь одна она способна даровать человеку счастье. Ибо счастье — это любовь и доброта, даримые близкими тебе людьми. Когда есть это, то есть покой души… Конечно, если она только не надорвалась, не задохнулась в разреженных высях философски отвлеченного, якобы высшего Добра и высшей Любви. Они, как ни горько, бесплодны, поскольку иссушают и медленно губят душу, маня ее недоступным, недостижимым.
В «Грешнике» Гурам Гегешидзе произвел суровый и трудный опыт — он соразмерил, соотнес глубоко интересующие, влекущие его перо и ум высшие, «конечные» истины и мир реальный. Мир, полный света, жизни, судеб окружающих людей, связанных с Вамехом тысячами нитей… Реальный мир оказался сильнее — отказ от него в пользу отвлеченного и Высшего погубил героя, принес ему смерть… Разорвав реальные связи, презрев их, Вамех обессилел, словно Антей, оторванный от земли.
В начале романа сквозь городок, в котором остановился Вамех, то и дело проносятся поезда… Это, если угодно, метафора. Метафора, предопределяющая и «подсказывающая» финал романа. Нити, связывающие отдельное человеческое со всем остальным, с миром. Вамех не разглядел их, а если разглядел, то — еще хуже! — не оценил по достоинству. Он, вслед за ибсеновским Брандом, мог бы воскликнуть: «Все иль ничего! Вот мой закон». В словах этих много величия и гордыни, притязания и вызова ума, но мало, опустошительно мало — для самого же Бранда! — души, живущей нерушимой связью с ближними. И что же?.. Судьбу Бранда трудно назвать счастливой, Вамеха — тоже. Он дважды грешник. Невольный убийца брата и отступник жизни, что и принесло ему гибель.
Его смерть — последний неопровержимый аргумент в незримом диспуте, ведущемся на страницах «Грешника». Смерть эта воистину ставит последнюю точку в упорном споре, решая его в пользу жизни. Потому дерзкий, парадоксальный эпиграф из Важа Пшавела: «Смерть, да будь благословенна, жизнь тобой красна» я склонен читать здесь как утверждение: уход в небытие вносит последнюю, окончательную ясность в жизнь и судьбу человеческую… Смерть такова, какой была предшествовавшая ей жизнь. Она логически замыкает цепь, запаивает последнее звено, определяя свой рубеж мерками и сутью предыдущего. В этом смысле она — неотрывна от жизни. Она — последняя, все проясняющая истина. «Жизнь тобой красна»…
В финале романа Вамех пытается подняться на неприступную вершину, где обитает, согласно легенде, владыка полей. «Кем был владыка? Богом? Он этого не знал и хотел узнать». Цель, сколь высокая, столь же и отвлеченная… Во имя ее Вамех оставил, отринул все, что связывало его с жизнью, бросил любимых им людей. Поднимаясь на вершину, он переходит вброд поток — «вода была такой же холодной, как и его цель, оторванная от земли и неба и существующая только в себе самой…». Вамех слышит голоса — то взывают к нему, моля вернуться, его близкие, но тщетно…
И что же? Начав последний, самый крутой подъем, герой вскоре понимает, что «никогда не поднимется на нее (вершину. — И. Ш.), потому что нет никакого иного мира, кроме того, единственного, который он оставил внизу».
Гегешидзе, всегда идущий до конца, и здесь верен себе. О Вамехе сказано: «Он не мог подняться, ибо это было б е с с м ы с л е н н о» (подчеркнуто мной. — И. Ш.). «Бессмысленно»… Точное слово. Исчерпывающее. Оно замыкает круг страданий и поисков Вамеха, грешника и рыцаря, надорвавшегося в непосильных и — что самое горькое! — бесплодных поисках и притязаниях. Героя мучила жажда недостижимого…
Изо всех произведений, включенных в эту книгу, «Грешник», при всей своей внешней реалистичности, наверное, все-таки наиболее условен, выстроен как философема и притчево заострен. Он захватывает главные «плацдармы» в поисках этого писателя, метит и словно бы первооткрывает их. В «Грешнике», на мой взгляд, есть «почтя весь» Гегешидзе; остальные вещи подхватывают и разрабатывают отдельные аспекты этого романа.
Так, в повестях «Погоня» и «Чертов поворот» явствен мотив рокового с л у ч а я, круто изменяющего линию человеческой судьбы, причем то, что составляет фабулу «Чертова поворота», просто присутствует в тексте «Грешника» как поведанная одним из персонажей романа история. В ней удивляет, поражает своей фатальностью, какой-то предопределенностью свыше гибель двух шоферов, двоюродных братьев, свалившихся в пропасть на одном и том же крутом повороте шоссе, в один и тот же час, с разрывом в одни сутки… Роковая сцепленность двух смертей на одном и том же Чертовом повороте плохо укладывается в обыденное, трезво логическое сознание, и пастухи-табунщики, случайно видевшие, как ухнула с шоссе в реку вторая машина, с жаром обсуждают происшествие. Один, «мужчина средних лет», не желает верить увиденному — не может быть, только вчера здесь слетела в бездну машина, только вчера!.. Другой, «совсем мальчик», оспаривает сомнения старшего, задавая бесхитростный, типично «детский», но куда более близкий к истине риторический вопрос, в котором в общем-то есть уже и ответ: «А почему не может?»
Он, конечно, прав, этот мальчик… Ведь как доказывает проза Гурама Гегешидзе, жизнь щедра на самые невероятные случаи, самые странные совпадения. Значит ли это, что утеряны, недействительны все критерии, что нет надежного мерила, неразменной, нескудеющей истины, способной служить надежным ориентиром в человеческой деятельности?.. Ни в коей мере! Как мы уже успели убедиться, говоря о романе «Грешник», для Гурама Гегешидзе и его героев наибольшей, подлинной ценностью является, пожалуй, все-таки любовь. Не страсть, не любовный восторг и томление, не опьянение души чувством, а простая, каждодневная, надежная поддержка и помощь друг другу, позволяющая верить в жизнь и одолевать крутые ее повороты.
Без такой любви человек внутренне страдает и ожесточается (ярчайшее подтверждение тому — рассказ «Расплата», о котором речь еще впереди). Отвергнув ее, такую любовь, человек теряет единственно истинную, надежнейшую точку опоры в этом мире и гибнет в конце концов, как Вамех в «Грешнике»… Говоря коротко, переоценить такую любовь невозможно, а презреть ее — величайший, непростительный грех, разрушающий в человеке человеческое.
Потому в повести «Погоня» главный герой ее Мушни, поставленный волею случая (опять случай!) в положение загнанного, преследуемого, — он, защищая справедливость, ранил начальника геологоразведочной партии, — ощущает редкие минуты счастья, покоя лишь тогда, когда чувствует людскую доброту и поддержку… В эти моменты сквозь его огрубевшие черты «проступала надежда, забытая там, в далеком отрочестве».
Как важно для Гегешидзе это свободное, вольное проявление истинного, изначального человеческого «я», ломающего роковое стечение обстоятельств, нелепо сложившейся судьбы!.. Ведь таким же, вспомним, был и Вамех в «Грешнике»! Ведь и он, скользя в пропасть, почти уже срываясь с вершины, где обитает владыка полей, вдруг вспомнил детство свое и себя, «со светлой челочкой, в коротких штанишках», мечтающего о «прекрасном и гармоничном мире, в котором все… определенно и где царствовало беспредельное добро»… Все мы — родом из детства, и семена его, посеянные и взошедшие с годами в человеческих душах, никогда не истребимы до конца, до полного своего исчезновения. Они многое значат в нашей судьбе, хотя, к сожалению, не все. Иногда человеческую жизнь определяет случай, непререкаемое стечение жизненных фактов (предмет, как видим, очень интересующий Гурама Гегешидзе!), и оно, сцепление это, часто бывает всесильным, могущественным. Об этом как раз вся повесть «Погоня».
В ней ведь не только Мушни страдает, мечется от неразумного, запальчивого своего выстрела, случайного, в сущности… В ней — так же случайно, необъяснимо (за что?!) гибнет молодой пастух Квирия, убитый конокрадами, Тот самый Квирия, предельно открытый и мужественный человек, которого Мушни, увидев, полюбил сразу — как и бабушку этого парня, как и прекрасную, гордую Тапло… И вот судьба отнимает у Мушни эту любовь, эту связь с людьми, столь нужную, необходимую в его положении.
«Он (Мушни. — И. Ш.) посмотрел на бледное, как миткаль, лицо Квирии, безучастное, равнодушное ко всему. Квирия не слышал причитаний, не видел, как плачут склонившиеся над ним женщины… Над селом плавало круглое белое облако, такое одинокое и беззащитное в бескрайнем синем небе. «Ничто не прочно, ничто не надежно», — подумал Мушни».
Эта картина, это «одинокое и беззащитное» (!) облако подчеркивают (у Гегешидзе, кстати сказать, пейзаж вообще почти всегда активно «работает» на сюжет, на внутреннее сиюминутное состояние героя) постоянную, «сквозную» для писателя мысль о непостоянстве, «текучести» жизни. В ней трудно найти вечно надежное — то, что казалось незыблемым вчера, сегодня рушится… Из всех таких изменений самое ошеломительное, конечно, — смерть. К ней трудно привыкнуть, с ней невозможно примириться. В ее неопровержимости, в вечном праве на добычу есть, бесспорно, нечто оскорбляющее человеческие душу и разум. Она — сильнее всех помыслов, воль и стремлений, конечна и неоспорима. Тупо неоспорима… Потому так часто прикованы к ней мысли героев Гегешидзе, желающих познать Истину о человеческом бытии. В подобном поиске смерть никак не обойти; она — слишком весомый фактор для каждой жизни и судьбы.
«Мушни вдруг с силой ощутил и осознал смерть Квирии. И этот внезапный уход, скачок куда-то, в неведомое, был грозен и ужасен…
В природе все подчиняется определенным законам. Только жизнь человека, то, что с ним внезапно случается, вызывает ощущение, что мир устроен несправедливо и хаотично… Так далеко уводит… цепь причин и следствий, в такую глубину времени и пространства, что теряется из глаз, и в силу своего невежества человек не может постичь первопричину, породившую все остальное, и она остается для него загадкой и тайной».
«Первопричину»… Мы выше уже говорили о жажде героев Гурама Гегешидзе абсолютной, «конечной» истины. Не одно ли это и то же, и не о том ли думает Мушни, потрясенный внезапной, как гром среди ясного неба, смертью Квирии, заставившей героя вновь (в который раз!) усомниться в разумности, гармоничности мира?.. Собственно, именно Гармонии, прежде и более всего, ищут герои прозы Гегешидзе, определяя ее для себя как последнюю, главную истину — помните, Вамех в «Грешнике» говорил о «закономерности, не познанной до сих пор»? Гармонии жаждут они, и эта жажда сушит им губы и гортань, точно у путника в знойный день на безлюдной, белой от солнца дороге. Жажда, вечная жажда по Великому Порядку, в котором на первом, верховном месте будут стоять Любовь, Правда и Справедливость, воздающие каждому по его делам и помыслам, отводящие смерть от невинного и карающие гибелью злодея.
Эта жажда прекрасна и мудра, поскольку она неотделима от н е р а в н о д у ш и я к людям… Вот уж чего нет, так нет в этой прозе — равнодушия. Она — вся! — словно заряжена каким-то внутренним электричеством, напряженна, и внешнее спокойствие ее — это спокойствие выдержки и воли, когда боятся опрометчиво расплескать до краев наполненный сосуд. В нем — вечно бьющаяся, бесстрашная мысль, не боящаяся «бездн»; воля, упрямая в своем стремлении, словно сжатая сталь пружины, и жажда, великая жажда Гармонии в земном, всем нам отданном мире, которым мы — так часто! — столь неразумно распоряжаемся…
Мушни, безуспешно преследующий в горах вместе с пастухом Гота конокрадов, убивших Квирию, пытается, в сущности, тем самым хоть немного приблизить приход подобной гармонии, восстановить, отомстив, справедливость. Но он и сам — преследуемый, за ним по пятам движется погоня, дабы покарать за выстрел у геологов… Две случайности, два выстрела, два преследования, две жизни, сложившиеся так и не иначе по воле и силе обстоятельств.
Мушни, столь долго боровшийся, ощущает наконец ее, эту силу. Он достигает пропасти, пути далее нет, а погоня — все ближе. «Над пропастью туман, поглотивший все: и скалы, и кустарники, и ощущения, и страхи, и воспоминания». Последняя черта… «Мушни кажется, что он стоит у огромного окна в какое-то неведомое и бесконечное белое пространство. «Куда бежать? — думает он. — Все равно никуда не уйдешь».
Мушни понимает, что обречен. Он воспринимает возникшую ситуацию как метафизическую. Погоня здесь — только перст Судьбы, ее исполнитель. Не случайно в этом, последнем в повести абзаце про преследователей вдруг сказано «они» (а до этого мы имели возможность прекрасно их рассмотреть, был подробный до мелочей портрет), и местоимение это выделено жирным шрифтом… Гегешидзе, как и всегда, до конца, до неопровержимой однозначности ставит акценты, выводя напряженную, ищущую свою прозу к последнему выводу, последней ясности… Он не любит многозначительностей в финалах. Для него это — излишняя и ненужная роскошь. Слишком много сил было затрачено в поиске, в погоне за истиной о человеке в этом многоликом, текучем, быстро изменяющемся мире, чтобы еще и финал был многозначен!.. Н е п о т р у д а м; это было бы просто несправедливо.
Вот и в «Расплате» повествование выходит в финале своем к окончательной неопровержимости вывода, венчающего все, «подводящего черту»… Жестокость зла и пагубна, ибо она нравственно опустошает и унижает человека, способная посеять в его душе лишь тоскливую мучительную пустоту.
В рассказе этом — двое детей-сирот, живущих у бабушки, и Резико, старший из них, всегда старается быть защитой и опорой младшему. Это — норма, так должно быть, но норма вдруг смещается, почти исчезает, и изгиб этот страшен, дик и непонятен, если посмотреть со стороны, извне, чужими глазами. Еще бы — Резико, сам Резико жестоко избил своего младшего брата. Почему?!
«Резико вспомнил, что у них нет матери и вообще никого нет ни в каком краю земли. Он ощутил щемящую жалость к брату, единственному родному существу, и вдруг неожиданный гнев так перехватил гортань, что он не мог продохнуть. Он не знал, кто виноват в этой внезапно нахлынувшей ненависти и злобе — брат ли, он ли сам, или кто посторонний, — но он дико ненавидел кого-то, ненавидел невыносимую злобу, которую испытывал сейчас, неистово махал прутом, стараясь отогнать эту тяжесть и горечь, и… бил своего брата».
Злоба обездоленного, обойденного судьбой (опять — судьба!) ни за что ни про что. Злоба, не имеющая выхода, замыкающаяся и задыхающаяся в себе самой, себя же обреченно ненавидящая за то, что она есть, пришла вдруг… Психологически это очень точно, убедительно и — очень страшно. Человек, способный испытать ее, несущий в себе т а к о е, — уже сильно душевно травмирован, если не искалечен. Приступ внезапного бешенства Резико не что иное, как закономерный, лишь дремлющий в его душе до поры до времени результат мирской неустроенности, обделенности. Ведь все, почти все сызмала имеют то, чего Резико непоправимо и навсегда лишен — любви и тепла близких. Старших, родителей, к которым можно прислониться, найдя у них защиту и поддержку. Одиночество, злое, горькое, ненавидящее себя самое и готовое излиться в любой момент. И все это — в мальчишеской, еще детской судьбе…
Собственно, одной подобной идеи, одного ее неожиданного и очень острого поворота — Резико, избивающий искренне им любимого младшего брата, — было бы уже достаточно для создания психологически острого, резкого и драматического рассказа… Но Гурам Гегешидзе идет дальше — мы видим Резико в бешенстве и злобе во второй раз, и теперь они излиты на обидчика его младшего брата, некоего Омари.
Резико полон решимости мстить. В этой готовности, конечно, есть желание просто защитить братишку, да так, чтобы другим неповадно было. Но есть, бесспорно есть, и стремление к самоочищению, искуплению собственной недавней жестокости и, конечно, та постоянная в Резико злоба обездоленного, о которой мы уже говорили.
И первое, и второе, и третье выводят в конечном счете рассказ к проблеме страстно утверждаемого гуманизма. Подлинность и вечная неподдельная ценность, необходимость его — для самого Резико, для его маленького братишки, для Омари, для всех людей и судеб! — очевидны в «Расплате». В этом смысле рассказ — словно призыв к тому лучшему, самому ценному, что должно, обязано быть в каждой человеческой душе!.. Ибо иначе она — пуста, горька и обездоленна.
Да, Резико готов мстить, и намерение это продиктовано вроде бы самыми благими мотивами. Но… Что же возникает в итоге? Смотрите: по пустынной вечерней дороге влекутся две фигуры. Одна — это Омари — стремится уйти, оторваться, другая — Резико — догоняет, догоняет с мрачным и молчаливым упорством. Когда это происходит, сыплются удары, жестокие, страшные, и вновь Омари пытается уйти, и вновь Резико следует за ним.
«Они шли по пустой дороге, окруженные кукурузными полями. Дождя не было, солнце зашло, темнело, и грусть объяла траву и землю. Резико не думал о брате, не жалел его, не было жаль и себя, но чувствовал, что ненависть, которая продолжала распалять его сейчас, не заглушила ту боль в душе, что мучила его после того, как он избил брата. Кому он теперь мстил? Омари, самому себе? Жизнь часто поворачивает так, что, как бы ты ни бился, ничего не можешь изменить. Резико был не в состоянии разобраться…
…Усталость приглушила злобу. Они стояли в двух шагах один от другого, избитые, в синяках, и ночь в этом пустынном поле была страшна, как последние минуты жизни. Они стояли друг против друга, отторгнутые от… любимых мест, оставленные наедине со своими страстями и судьбой, а вокруг расстилалась нестерпимая темнота».
Применительно к этому отрывку почти кощунственно звучит слово «пейзаж», хотя он здесь явно присутствует, более того — ощутимо «работает» на ситуацию… Кощунственно — настолько глубока и страшна психологическая подоплека изображенного.
Один — более слабый — нападает и мстит, не сознавая толком, кому и за что, другой — более сильный, поскольку он старше, — закономерно, в ы н у ж д е н н о обороняется, жестоко избивая того, кто и так несправедливо обойден, повержен судьбой. И оба платят, р а с п л а ч и в а ю т с я (вспомним название рассказа!) за глухую, непробиваемую стену неизбежного отчуждения двух разных людей, разно сложившихся судеб…
Одни в черном, ночном поле (а драка началась еще до наступления тьмы), и эта ночь, густым покровом окутавшая землю и двух маленьких людей, разделенных, но и связанных узами непоправимого одиночества, полнейшего непонимания одного другим, давит им на плечи, душит своей тьмой.
Пейзаж?.. Философская, «притчевая» ситуация и фигура? Боль за человека, за его обездоленность, одиночество — так уж сложилось! — среди иных, окружающих людей?.. И первое, и второе, и третье, но тесно «впаянные» друг в друга в неразрывном и страшном синтезе, причем боли — больше всего, я думаю.
Ибо тяжелее всех расплата самого Резико… Он будет нести свою ношу и дальше, по всей своей судьбе и жизни. Ведь вот он, финал.
«Резико стоял и смотрел. Он понимал, что все кончилось (Омари нравственно сломлен в этом неравном поединке, он бьется в истерике, так как не понимает, не понимает, чего нужно этому, словно взбесившемуся Резико. — И. Ш.). И удивлялся (Резико. — И. Ш.), что радость не приходила. Наоборот, душа ныла еще сильней, и он не знал отчего… Месть не изменила ничего… Он возвращался домой, а мир вокруг был неоглядный и темный, как безутешная тоска».
Вновь Гегешидзе ставит окончательный, не подлежащий пересмотру и переосмыслению акцент, избрав для этого на сей раз заведомо болевой, глубоко ранящий, западающий в память и душу «плацдарм» — жизнь подростка, ребенка. Он словно — сам же! — ищет исток, начало судеб и характеров многих своих «странных» героев — Вамеха, Дзуку и Шамиля из «Грешника», Мушни из «Погони»… Они одиноки в потоке жизни, среди окружающих их людей. Одиноки до тех пор, пока не найдется в мире родная им, все в них п о н и м а ю щ а я душа, готовая, способная растопить в этом понимании холод непознанности, обособленности… Но такое, увы, бывает нечасто.
Те же, кто, обретя подобный дар, отринут его, как Вамех, — совершат тяжкий грех. Против себя, против близких своих, против главного «Закона вечности», если вспомнить Нодара Думбадзе… Закона, согревающего и объединяющего людей, дающего им покой и счастье.
Вне его — немыслима, невозможна человеческая любовь.
Об этом — «Апрель», рассказ удивительный, прекрасный, жестокий и справедливый (да, да, именно так — справедливый!), преисполненный противоборства жизни и смерти, прекрасного и безобразного, низкого…
Умирает старый Бахва. Он пожил на свете, много видел вёсен, цветущих, благоуханных апрелей, и вот он, последний. Пришел…
«— Чичико, помоги! Дайте хоть эту неделю продержаться, а там видно будет, — жалко умоляет Бахва.
— Не отчаивайся, возьми себя в руки, все исправится…
— Умираю я, чтоб вам провалиться, умираю!
Качается открытая на веранду дверь, душераздирающе скрипят ржавые петли».
Утверждаю: одного этого маленького, в несколько строк отрывка достаточно, чтобы понять, с прозой какого класса, уровня имеем мы тут дело… В «Апреле» вообще (как и в «Расплате») «чисто художественный» дар Гегешидзе, его умение видеть и раскрыть перед нами мир — в нужном, искомом ракурсе и с необходимой «подсветкой» — выразились, на мой взгляд, особенно ярко.
Удивительно все в этом, только что приведенном отрывке точно и очень — неоднослойно… Смотрите: умирает человек, хочет жить, до бешенства, до крика, а ему говорят: «Не отчаивайся», говорят: «Возьми себя в руки» (!). Как им, живым (а Бахва уже одной ногой в могиле, от постели его — уже смердит), здоровым, понять Бахву?.. Пропасть между ними, пропасть, и никакой мост через нее не выстроить, не перебросить! Никому еще и никогда это не удавалось… А мир — стоит, а жизнь — идет, ничуть ни в чем не меняющаяся от того, что вот уходит человек, навсегда ее покидает. Покидаешь? Покидай! Скрипят ржавые петли, качается верандная дверь.
Апрель, солнце, свежесть, роса на листьях, на траве и — торопящаяся к Бахве смерть, несущая мрак, тление, небытие.
Этот контраст между всегда прекрасной, всегда мудрой, вечно живой природой и бренностью людского бытия, безобразным, отталкивающим его концом усугубляется, подчеркивается еще и нравственным, моральным несовершенством человека.
Чичико, сирота, выросший в доме Бахвы, намерен взять от жизни «свое», стать, наконец, ее хозяином. Слишком долго был он глупо робок, пора образумиться… Есть Жужуна, она всегда ему нравилась, так в чем же дело?
«Теперь уж он даст волю своим страстям и желаниям. Какое блаженство переступить порог, перед которым вечно отступал! Какая безграничная свобода!.. Главное тот миг, которым ты живешь сейчас, а все остальное дребедень!»
Но Жужуна почему-то поднимает крик, Жужуна сопротивляется, и прибежавший на ее вопли муж хватается за ружье, гонится за Чичико… Эта ситуация — на грани комического: муж, жена, неудавшийся любовник, но проза Гегешидзе не была бы его прозой, если бы она не сломала, не подняла бы одним махом, единственным поворотом мысли и сюжета (ведь сюжет — это прежде всего развитие характера!) сложившуюся ситуацию до уровня философского и нравственного драматизма.
Да, Чичико убегает. Но… «И вдруг Чичико расхотелось убегать. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, стыд жег его, колени подкашивались, и ж и з н ь п о к а з а л а с ь м е р з к о й. Он обреченно повернулся лицом к Бучунии и где-то за ним увидел далекие горы. Они вздыбились там, далеко, куда едва достигал взгляд, словно синяя гигантская волна, п о д н я в ш а я с я н а д р а в н и н о й, готовая вот-вот рухнуть и смести все. Потом грохнул выстрел, горы исчезли…» (подчеркнуто мной. — И. Ш.).
Для меня несомненно, что горы здесь — знак расплаты, мести за нежелание героя быть человеком, за отступничество и самопредательство… Недаром их синяя волна высится «над равниной», то есть — над плоским, примитивным и прагматически животным сознанием, которому Чичико дал полную волю. Он, правда, почувствовал в последний свой миг, что жизнь ему мерзка, но расплата была уже неотвратима… Так кончается «Апрель», и мы видим в нем все те же, прежние, уже знакомые нам черты прозы Гурама Гегешидзе.
Страсть к познанию мира и места, роли человека в нем. Его долга, совести и чести, его «можно» и «нельзя». Его активного, пытливого самопостижения, очевидного, бесспорного в Вамехе из «Грешника», Мушни из «Погони», несчастном Астамуре, шофере из «Чертова поворота», сорвавшемся в пропасть вслед за братом, и в Тархудже из романа «Гость»…
Он тоже хочет знать истину о себе и о жизни, пытается найти причину, исток людских поступков, суждений, симпатий и антипатий, желаний и страстей. Этот непрерывный «поток сознания» Тархуджа заполняет все страницы «Гостя», определяет и движет роман. Действия в прямом смысле слова здесь немного — оно вытеснено либо ретроспекцией, экскурсами памяти Тархуджа в прошлое, либо чередой сегодняшних его мыслей и чувств.
Коротко говоря, Тархудж — идеальный и чуткий «фиксатор» окружающего его бытия, но он чувствует себя гостем в родном городе и вообще в этом мире, ибо с некоторых пор предпочитает всему уединение и покой маленькой деревушки. Он словно олицетворяет человеческое сознание, работающее вхолостую, отрицающее и не желающее действий…
Что ж, это — тоже какая-то позиция и какой-то результат, открытый, д о б ы т ы й опытом прежней и активной, горячей жизни. Тархудж п р и ш е л к нему, он не был дан ему изначально, с рождения. Но это — печальная и какая-то бесплодная мудрость, отрешенная, самозамкнувшаяся и потому — словно бы болезненная…
Я вспоминаю других героев Гегешидзе, прошедших перед нами, резких, порывистых, круто вламывающихся в жизнь, ищущих в ней Гармонии не только для себя. Их путь и поиск лежит через мысль, неотделимую от действия, мысль беспокойную и бесстрашную… Она — «неистовое стремление к непостижимому», как определил сам Гурам Гегешидзе…
Игорь ШТОКМАН